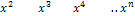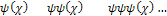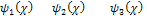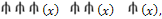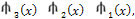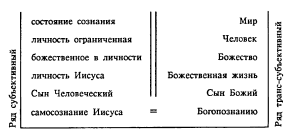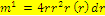Сочинения в четырех томах
Том 1
Жизнь и судьба
Священник Павел Александрович Флоренский, выдающийся богослов, философ и ученый, один из замечательных представителей русской культуры «серебряного века», родился 9 января 1882 года возле местечка Евлах Елисаветпольской губернии. Он был крещен в Тифлисской Давидовской Мтацминдской церкви с именем в честь святого апостола Павла. Святитель Филипп и апостол Павел стали его особыми покровителями.
Сведения о древних предках П. А. Флоренского по отцовской линии отрывочны. Известно, что род отца происходил из Малороссии и, вероятно, в XVII веке поселился на костромской земле. До середины XIX века Флоренские принадлежали к духовному сословию. Иоанн (конец XVII — начало XVIII в.) диакон Афанасий Иванов (1732–ок. 1794) — диакон Матфей Афанасьев (р. 1757) — дьячок Андрей Матвеев (1786–ок. 18261829) — Иван Андреевич Флоренский (1815–1866) — Александр Иванович Флоренский (1850–1908) священник Павел Александрович Флоренский.
Дед, Иван Андреевич Флоренский, окончил Луховское Духовное училище, затем Костромскую Духовную Семинарию. «Дед мой, — писал П. А. Флоренский в 1910 году, — блестяще окончил семинарию и был послан в Академию, но тут задумал, по любви к науке, уйти в Военно–Медицинскую Академию. Сам Митрополит Московский Филарет уговаривал его остаться и будто бы пророчил, что если примет монашество, то будет митрополитом. Но дед все же пошел по своему пути, на нищету и разрыв с отцом. Мне порою и является мысль, что в этом оставлении семейного священства ради науки — τό
πρώτον ψενδος[1] всего рода, и что пока мы не вернемся к священству, Бог будет гнать и рассеивать все, самые лучшие попытки».
[2]По отцовской линии П. А. Флоренский наследовал как духовные склонности (это сказалось и в том, что в его лице род вернулся к священству), так и научные. Род Флоренских «отличался всегда принципиальностью в области научной и научно–организаторской деятельности. Флоренские всегда выступали новаторами, начинателями целых течений и направлений — открывали новые точки зрения, новые подходы к предметам» (из письма 27 апреля-13 мая 1935 г.).
Отец П. А. Флоренского, Александр Иванович (1850— 1908), начав трудовую деятельность с инженера–путейца, в конце жизни стал помощником начальника Кавказского округа путей сообщения.
Предки матери, Ольги (армянское имя Саломия) Павловны Сапаровой (1859–1951), происходили из Гюлистана (Карабах). В XVI веке они были карабахскими меликами, одного рода со знатными Мелик–Бегляровыми. Из-за чумы, опустошавшей Карабах, а также теснимые шушинским ханом, карабахские беки бежали в село Болнисс Тифлисской губернии. Со временем почти все Мелик–Бегляровы вернулись в Карабах, но некоторые остались в Грузии и в дальнейшем смешивались и с грузинскими родами. По семейному преданию фамилия Сапаровых происходит от грузинского слова «щит», «защита», и это прозвание данная ветвь Мелик–Бегляровых получила за военную услугу Грузинскому царству. Таким образом, по материнской линии П. А. Флоренский оказался связан и с Арменией, и с Грузией. От рода Сапаровых он унаследовал предрасположенность к яркому ощущению красоты материи и конкретного мира.
Детские годы П. А. Флоренского прошли в Тифлисе и Батуме, где отец строил военную Батумо–Ахалцыхскую дорогу. «Место моего рождения Евлах, — писал отец Павел, — где преизобилующая природными богатствами и обременительная избытком роскоши жизни степь стеснена двумя снеговыми горными группами… В этой двойственности природы, меня воспитавшей, я склонен видеть наглядное выражение собственной моей двойственности, в которой север и юг через кровь исторически самую молодую и самую древнюю, напряженно противостоят друг другу, не только не смешиваясь, но и, напротив, возбуждая друг друга к более крепкому самоопределению».
[3]Кроме старшего Павла в семье было еще шесть детей. «Отчасти по недостаточной обеспеченности, отчасти по убеждению родителей, семья жила очень замкнуто и серьезно: развлечения и гости были редким исключением, но зато в доме было много книг и журналов, на что урезывалось от необходимого. Уровень семьи был повышенно–культурный, с разносторонними интересами, причем предметом интересов были знания технические (отец), естественнонаучные (дети) и исторические (отец, мать и отчасти все). Люди, с которыми соприкасались мы, были по преимуществу сослуживцы отца или товарищи его по гимназии. […]
Относительно моего интеллектуального развития правильный лишь формально ответ был бы совсем неверен по существу. Почти все, что приобрел я в интеллектуальном отношении, получено не от школы, а скорее вопреки ей. Много дал мне отец лично. Но, главным образом, я учился у природы, куда старался выбраться, наскоро отделавшись от уроков. Тут я рисовал, фотографировал, занимался. Это были наблюдения характера геологического, метеорологического и т. д., но всегда на почве физики. Читал я и писал тоже нередко среди природы. Страсть к знанию поглощала все мое внимание и время. Я составил себе стенное расписание занятий по часам, причем время, назначенное классам и обязательному посещению богослужения, окружил траурной каймой, как безнадежно пропавшее. Но и его я пользовал для своих целей».
[4]Разность вероисповеданий родителей, а также преклонение перед человеческим знанием явились причиной того, что П. А. Флоренский не получил в семье навыков церковной жизни. «О религии у нас никогда не говорилось ни слова, ни
за, ни
против, ни даже повествовательно, как об одном из общественных явлений, разве только более–менее случайно проскакивало слово о культе дикарей или каких-нибудь египтян, но и то очень отрывочно. Чем ближе к Церкви было какое-либо понятие, тем менее оснований могло ему быть упоминаемым в нашем доме: терпелась, и то еле–еле, лишь религиозная археология, умершая настолько, что можно было твердо рассчитывать на ее религиозную бездейственность»
[5]. «Воспитанный в полной изоляции от представлений религиозных и даже от сказок, — писал впоследствии отец Павел, — я смотрел на религию как на нечто вполне чуждое мне, а соответственные уроки в гимназии вызывали лишь вражду и насмешку»
[6]. «В церковном отношении я рос совершенным дичком. Меня никогда не водили в церковь, ни с кем не говорил я на темы религиозные, не знал даже, как креститься»
[7].
В 1892 году П. А. Флоренский поступил во 2–ю Тифлисскую классическую гимназию, здесь же учились В. Ф. Эрн (1881–1917), А. В. Ельчанинов (1881–1934) и Д. Д. Бурлюк (1882–1967). Гимназию П. А. Флоренский окончил в 1900 году первым учеником с золотой медалью.
В конце гимназического курса, летом 1899 года, Флоренский пережил духовный кризис: открывшаяся ограниченность и относительность физического знания поставила перед ним вопрос об Истине абсолютной и целостной. Именно тогда П. А. Флоренский сделал самостоятельней шаг к религиозному мировоззрению.
Приход П. А. Флоренского к вере в Бога совершился под влиянием Божиих призывов, о которых он подробно рассказал в своих «Воспоминаниях». Однажды, когда Павел спал, он ощутил себя заживо погребенным на каторге, в рудниках. Это было таинственное переживание тьмы кромешной, небытия, геенны. «Мною овладело безвыходное отчаяние, и я сознал окончательную невозможность выйти отсюда, окончательную отрезанность от мира видимого. В это мгновение тончайший луч, который был не то не зримым светом, не то — не слышанным звуком, принес имя — Бог. Это не было еще ни осияние, ни возрождение, а только весть о возможном свете. Но в этой вести давалась надежда и вместе с тем бурное и внезапное сознание, что — или гибель, или спасение этим именем и никаким другим. Я не знал, ни как может быть дано спасение, ни почему. Я не понимал, куда я попал, и почему тут бессильно все земное. Но лицом к лицу предстал мне новый факт, столь же непонятный, как и бесспорный: есть область тьмы и гибели, и есть спасение в ней. Этот факт открылся внезапно, как появляется на горах неожиданно грозная пропасть в прорыве моря тумана. Мне это было откровением, открытием, потрясением, ударом. От внезапности этого удара я вдруг проснулся, как разбуженный внешнею силой, и, сам не зная для чего, но подводя итог всему пережитому, выкрикнул на всю комнату: «Нет, нельзя жить без Бога!»»
[8]В другой раз Павел пробудился от духовного толчка, который был так внезапен и решителен, что юноша неожиданно для себя выскочил ночью во двор, залитый лунным светом. «Тут-то и произошло то, ради чего был я вызван наружу. В воздухе раздался совершенно отчетливый и громкий голос, назвавший дважды мое имя: «Павел! Павел!» — и больше ничего. Это не было–ни укоризна, ни просьба, ни гнев, ни даже нежность, а именно зов, — в мажорном ладе, без каких-либо косвенных оттенков. Он выражал прямо и точно именно и только то, что хотел выразить — призыв… Так возвещаются вестниками порученные им повеления, к которым они не смеют и не хотят дополнить от себя ничего сверх сказанного, никакого оттенка помимо основной мысли. Весь этот зов звучал прямотою и простотою евангельского «ей, ей–ни, ни»…
Я не знал и не знаю, кому принадлежал этот голос, хотя не сомневался, что он идет из горнего мира. Рассуждая же, кажется наиболее правильным по характеру его отнести его к небесному вестнику, не человеку, хотя бы и святому»
[9].
Эти призывы завершились кризисом юношеского научного мировоззрения и обретением веры в Бога как Абсолютную и Целостную Истину, на которой должна строиться вся жизнь.
Первым душевным порывом после происшедшего переворота было желание уйти в народ, возникшее отчасти под влиянием чтения Л. Н. Толстого, которому в то время молодой Флоренский даже написал письмо. Родители настояли на продолжении образования, и в 1900 году П. А. Флоренский поступил на физико–математический факультет Московского университета. Среди его учителей знаменитые ученые и профессора: Б. К. Млодзеевский, Л. К. Лахтин, Н. Е. Жуковский, Н. В. Бугаев, Л. М. Лопатин, С. Н. Трубецкой. В эти годы юный П. А* Флоренский начинает писать научные и философские работы, пронизанные критикой эволюционизма, позитивизма, рационализма. Наибольшее влияние на него в этот период оказал один из основателей Московского математического общества, Н. В. Бугаев. Свое кандидатское сочинение «Об особенностях плоских кривых как местах нарушений прерывности» Флоренский предполагал сделать частью большой работы общефилософского характера «Прерывность как элемент мировоззрения», синтезирующей философские и математические идеи.
Помимо занятий математикой П. А. Флоренский слушал лекции Л. М. Лопатина на историко–филологическом факультете, принимал участие в философском семинаре С. Н. Трубецкого, самостоятельно изучал историю искусства. Его собственное научно–философское мировоззрение складывается как идеалистическое и конкретносимволистское.
Во время учебы в университете П. А. Флоренский подружился с поэтом А. Белым (сыном Н. В. Бугаева), а через него познакомился с литературно–символистскими кругами (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Д. С. Мережковский, 3. Н. Гиппиус, А. А. Блок). Символизм привлекал П. А. Флоренского творческим выходом из бездушного рационализма, тем более что и сам он писал стихи (см. сборник «В вечной лазури», 1907). Но почти сразу же обнаружились глубокие личные и идейные расхождения П. А. Флоренского с большинством из символистов. В символистах его отталкивала всеядность, неопределенность или ложность духовных основ. П. А. Флоренский искал опоры в духовной жизни и в марте 1904 года познакомился со старцем епископом Антонием (Флоренсовым), который жил тогда на покое в Донском монастыре. П. А. Флоренский с юношеским пылом просил его благословения на принятие монашества, но опытный епископ–старец посоветовал ему поступить в Московскую Духовную Академию для продолжения духовного образования и испытания себя. Это вполне соответствовало устремлениям П. А. Флоренского, который писал матери 3 марта 1904 года: «Оставаться при Университете я не думаю, даже если бы меня оставляли…. Произвести синтез церковности и светской культуры, вполне соединиться с Церковью, но без каких-нибудь компромиссов, честно, воспринять все положительное учение Церкви и научно–философское мировоззрение вместе с искусством и т. д. — вот как мне представляется одна из ближайших целей практической деятельности»
[10].
П. А. Флоренский окончил Университет блестяще, как один из самых талантливых студентов. Однако, несмотря на лестное предложение Н. Е. Жуковского и Л. К. Лахтина остаться в Университете, несмотря на нежелание и молчаливый протест родителей, он в сентябре 1904 года поступил в Московскую Духовную Академию. С тех пор вся жизнь его оказалась связанной с Троице–Сергиевой Лаврой, у стен которой он прожил почти тридцать лет. Неудивительно, что он духовно сроднился с Лаврой, а основатель Лавры преподобный Сергий стал одним из его покровителей.
«Есть… тонкое очарование Лавры, — писал П. А. Флоренский, — которое охватывает изо дня в день, при вживании в этот замкнутый мир. И это очарование, теплое, как смутная память детства, уродняет душу Лавре, так что все другие места делаются отныне чужбиной, а это — истинною родиной, которая зовет к себе своих сынов, лишь только они оказываются гденибудь на стороне. Да, самые богатые впечатления на стороне скоро делаются тоскливыми и пустыми, когда потянет в Дом Преподобного Сергия. Неотразимость этого очарования–в его глубокой органичности. Тут-^не только эстетика, но и чувство истории, и ощущение народной души, и восприятие в целом русской государственности, и какая-то, трудно объяснимая, но непреклонная мысль: здесь, в Лавре именно, хотя и непонятно как, слагается то, что в высшем смысле должно называть общественным мнением, здесь рождаются приговоры истории, здесь осуществляется всенародный и, вместе, абсолютный суд над всеми сторонами русской жизни. Это-то всестороннее жизненное единство Лавры как микрокосма и микроистории, как своего рода конспекта бытия нашей Родины, дает Лавре характер ноуменальности. Здесь ощутительнее, чем где-либо, бьется пульс русской истории, здесь собрано наиболее нервных, чувствующих и двигательных, окончаний, здесь Россия ощущается как целое»
[11].
Духовный облик отца Павла Флоренского сложился под благодатным покровом Преподобного Сергия, и потому и в творчестве своем, и в личной жизни он всегда прибегал к молитвам печальника земли Русской. Отсюда — глубокая связь жизни и творчества отца Павла с русской церковностью, русской культурой, русским народом.
Почти сразу после поступления в Академию П. А. Флоренский пишет Д. С. Мережковскому, представителю «нового религиозного сознания», что их отношения зависят от того, «как мы относимся к исторической Церкви». «Я должен быть в Православии и должен бороться за него. Если Вы будете нападать на него, то, быть может, я буду бороться с Вами».
В некоторых воспоминаниях говорится о том, что П. А. Флоренский в 1905–1906 годах участвовал в деятельности «Христианского братства борьбы» (В. Ф. Эрн, А. В. Ельчанинов, В. А. Свентицкий, А. Волжский, С. Н. Булгаков, тифлисский священник Иона Брихничев). Дело было скорее так, что, когда друзья–однокашники пригласили П. А. Флоренского к участию в социальноутопической деятельности, он, юношески сочувствуя их пафосу, отозвался положительно, но реального участия в объединении не принял. Нашумевшая же проповедь «Вопль крови», произнесенная П. А. Флоренским 12 марта 1906 года в академической церкви против взаимного кровопролития и смертного приговора лейтенанту П. П. Шмидту, оказалась полной неожиданностью не только для академического начальства, но и для его друзей. За эту проповедь П. А. Флоренский был заключен в губернскую тюрьму на Таганке, где пробыл около недели. Впоследствии, в 1927 году, отец Павел свидетельствовал, что им двигали не политические, а нравственные побуждения. В юные годы для П. А. Флоренского более характерным и определяющим было обращение к опыту народному. Вместе с академическим другом С. С. Троицким П. А. Флоренский ездил в село Толпыгино Костромской губернии (ныне Ивановская область). В этом селе они проводили духовные чтения, проповедовали в храме, собирали фольклор
[12], организовали библиотеку.
Но главным устремлением периода учебы в Академии (1904–1908) для П. А. Флоренского было познание духовности, не отвлеченно–философски, а жизненно. В 1904 году П. А. Флоренский поступает под духовное руководство иеромонаха Гефсиманского скита Исидора (ум. 1908), духовного отца старца Варнавы. Пастырский облик и пути руководства епископа Антония и иеромонаха Исидора были различными, но именно их взаимодополнение и совокупность способствовали воцерковлению П. А. Флоренского. Епископ Антоний был исключительно образованным иерархом, он прекрасно знал светскую, особенно античную, культуру, разбирался в науках, считал необходимым готовить особых апологетов, которые занимались бы миссионерством в секуляризованном обществе. Иеромонах Исидор был необразованный простец из крепостных крестьян, его характерные черты — исключительная терпимость и любовь, видение начатков естественного добра даже в нецерковной среде. Было и то, что единило обоих старцев и давало возможность совместного их руководства: глубокая церковность, духовная опытность и рассудительность, черты юродства.
П. А. Флоренский встречался также со схиигуменом Германом и другими старцами Зосимовой пустыни. Во время поездки в Оптину пустынь 7 сентября 1905 года П. А. Флоренский в скиту беседовал со старцем Анатолием (Потаповым) на волновавшую его тему: «Спрашивал я у о. Анатолия насчет законности занятий философией и наукой и объяснил, что мой вопрос по поводу предъявляемых мне тезисов «философия или Христос»! О. Анатолий советовал познакомиться с Иоанном Кронштадтским или написать ему свои вопросы; молиться при всяком деле и испрашивать благословения и призывать Василия Великого, Иоанна Златоустого и Григория Богослова, и еще Тихона Калужского. «Это помогает», — сказал он».
Ответ старца Анатолия был по–оптински мудр и опытен. П. А. Флоренский через собственный духовный опыт и подвиг должен был прийти к Истине и раскрыть ее секуляризованному миру. Это мы и находим в позднейших лекционных курсах и выступлениях отца Павла: «Философия каждого народа до глубочайшей своей сущности есть раскрытие веры народа, из этой веры исходит и к этой же вере устремляется. Если возможна русская философия, то только — как философия веры православной»
[13] (1912). «Философия высока и ценна не сама в себе, а как указующий перст на Христа и для жизни во Христе» (1914)
[14] «А основная задача, которую нужно поставить мне, по свойствам моего образования, это по преимуществу «кафартика», т. е. очищение ума от ложных предпосылок и догматов современности, от ложной науки и ложной философии, чтобы чистым оком ума учащиеся научились взирать на область духовную, благодатью открываемую. Могу заниматься я и другим, но в интересах дела, думаю, полезнее всего заниматься мне именно вышесказанным; я считаю, что вовсе не столь нужно научить системе того или другого философа, как выпрямить самые понятия и тем облегчить путь («уровнять пути») грядущему в душу Христу» (1918).
[15]Очевидно, что данные основополагающие мысли отца Павла — свидетельство глубокой укорененности его творчества в жизни Церкви.
Кандидатское сочинение П. А. Флоренского «О религиозной Истине» (1908), которое стало ядром магистерской диссертации (1912) и книги «Столп и утверждение Истины» (1914), было посвящено путям вхождения в Православную Церковь. «Живой религиозный опыт как единственный законный способ познания догматов»
[16] — так отец Павел выразил главную мысль книги, выстраданную жизнью. «Ведь, церковность — вот имя тому пристанищу, где умиряется тревога сердца, где усмиряются притязания рассудка, где великий покой нисходит в разум»
[17] Книга «Столп…» написана как опыт теодицеи, т. е. оправдания Бога от притязаний человеческого рассудка, находящегося в греховном, падшем состоянии. В речи перед защитой магистерской диссертации отец Павел говорил: «Разум перестает быть болезненным, т. е. быть рассудком, когда он познает Истину: ибо Истина делает разум разумным, т. е. умом, а не разум делает Истину истиною… Эта самоистинность Истины выражается, — как вскрывает исследование, — словом
ομοονσί а, единосущее. Таким образом, догмат Троичности делается общим корнем религии и философии, и в нем преодолевается исконная противоборственность той и другой»
[18].
Самая глубокая оценка «Столпа…» принадлежит ректору Московской Духовной Академии епископу Феодору· «Как огласительное слово для стоящих «во дворе церковном», — писал епископ Феодор, — а так просит смотреть на его книгу сам автор (5 стр.), книга выполнена прекрасно. Сделана полная апология христианской веры как единственной истины и сделана тем путем и в той сфере мысли, в какой полагают последний резон всякой истины поклонники человеческого рассудка, и все сказано на родном для них языке рассудка, логики и философии. […]
Как Теодицея, книга отца Павла может удовлетворить самый требовательный вкус, изощренный в философии и богословии. Раскрывается вся премирная глубина христианства, его необходимость для человека, освещается светом христианства и уясняется им высший смысл жизни и бытия мира и все частное и основное в христианстве, с необыкновенной ясностью, выявляется в своем высшем смысле и единстве. Не знаю, есть ли на Западе чтолибо подобное, но в русской литературе подобного опыта Теодицеи нет, и в этом смысле книга отца Павлаявление исключительное. […]
Как труд богословско–философский, книга автора от начала до конца православна. Автор ниспровергает господство в жизни рассудка и его претензии на монополию истины, утверждает духовный подвиг, утверждает и защищает Церковь, открывает ложь ересей древних и новых по их существу, осуждает «новое религиозное сознание» современной интеллигенции, хлыстовство, хилиазм, культ плоти; исповедуя грех как причину зла, он в благодати Святого Духа утверждает силу, препобеждающую грех и обновляющую тварь. […]
Книга отца Павла высоко научная; трудно сказать, в какой области научного знания автор не проявил себя специалистом в этой книге. Он прекрасно знает античную философию и античный мир; в совершенстве изучил новую философию, показал себя филологом и математиком, проявил громадную начитанность и в святоотеческой литературе, в литературе богословской, иностранной и русской. […] Но автор везде остается свободным от подавляющего влияния этого научного багажа, он везде творец и хозяин. Читая книгу автора, чувствуешь, что вместе с ней растешь духовно, а не только приобретаешь знание в какой-нибудь области: да до нее и нужно дорасти, чтобы понять»
[19].
Для самого отца Павла «Столп…» — лишь один из первых этапов богословского творчества, в котором он осмысливает ради пользы других свой приход в Церковь. При этом отец Павел ценил не столько «пройденный путь, [который] делается уже ненужным», сколько цель пути: «Мне же еже прилеплятися Богови благо есть, полагати о Господе упование спасения моего»
[20]. Православность «Столпа…», свидетельствованная епископом Феодором, относится не к догматической точности каждого положения книги, а к ее духу, к тому, к чему призывает книга.
Как автор «Столпа…» и ряда других работ отец Павел завершил становление онтологической школы Московской Духовной Академии (протоиерей Феодор Голубинский — В. Д. Кудрявцев–Платонов — А. И. Введенский — архимандрит Серапион Машкин — священник Павел Флоренский). На основании защиты магистерской диссертации 19 мая 1914 года священник Павел Флоренский был утвержден в степени магистра богословия и звании экстраординарного профессора Московской Духовной Академии. В 1914–1915 годах за магистерскую диссертацию «О духовной Истине» отец Павел был награжден премиями митрополита Московского Филарета и митрополита Московского Макария.
В 1908–1919 годах отец Павел преподавал в Московской Духовной Академии историю философии. Тематика его лекций обширна: Платон и Кант, мышление еврейское и мышление западноевропейское, оккультизм и христианство, религиозный культ и культура и др. Он стремился выделять и развивать те моменты исторического процесса, мысли, которые имеют особо важное значение для богословия, и указывал на религиозные следствия, содержащиеся в том или другом течении мысли
[21]. В этом отец Павел был близок к традиции Климента Александрийского и таких отцов Церкви, как Афанасий Великий, Григорий Нисский, Иоанн Дамаскин.
Оценивая вклад отца Павла в историю философии, один из лучших знатоков античной культуры, А. Ф. Лосев, писал, что Флоренский «дал концепцию платонизма, по глубине и тонкости превосходящую все, что когданибудь я читал о Платоне…. Его имя должно быть названо наряду с теми пятью–шестью именами, которые знаменуют собой основные этапы понимания платонизма во всемирной истории философии вообще»
[22]. Исследования П. А. Флоренского сводились к выяснению тех общечеловеческих корней платонизма, через которые он оказался связан с религией вообще и философским идеализмом.
Хотя отец Павел жил уединенно, он был одним из наиболее любимых профессоров Академии. Вот как вспоминал чтение его лекций С. А. Волков: «Как сейчас помню обстановку его первых лекций. Самая большая аудитория переполнена. Стоят в проходах, вдоль стен, сидят на подоконниках, толпятся около двери. И этоминут за десять до звонка. Но вот звонок. Вскоре появляется Флоренский. Бочком пробирается, почти «протискивается» сквозь тесную толпу и выходит к столику перед студенческими скамьями. Сзади — большая доска. (На кафедру Флоренский никогда не поднимался.) Кругом толпа, настороженная, внимательная, сотнями глаз устремленная на лектора, сотнями ушей готовая ловить каждое его слово. Тишина. Я различаю, наконец, его фигуру. Среднего роста, слегка горбящийся, с черными волосами, падающими до плеч и слегка вьющимися, с небольшой кудрявящейся бородкой и с очень большим, выдающимся носом. […] Черная простая ряса и серебряный наперстный крест, как у рядового сельского священника. Никогда на нем я не видел магистерского креста. Движения как бы скованны, фигура чаще бывает полу наклонена, нежели выпрямлена. Наконец, голос звучит несколько глухо, и слова падают отрывисто. Не было в нем ни величественности позы жестов, ни эффектности звучания голоса, ни витийственной плавности фраз, чем щеголяли некоторые профессора. Речь лилась откуда-то изнутри, не монотонно, но и без риторических ухищрений и декламационного пафоса, не стремясь нарочито к красивости стиля, но будучи прекрасной по своему органическому единству, где содержание и форма сливались в нечто целостное».
Его речь «можно было слушать часами без всякой усталости. И только потом, когда Флоренский кончил говорить и исчез, когда загудела пчелиным роем вставшая и тронувшаяся к выходу студенческая толпа, только тогда уж невольно почувствуешь, как закаменело все тело после непрерывного сидения и внимания в течение двух астрономических часов. […] Дело в том, что Флоренский, несмотря на глуховатый тон голоса, живописал словами, и не только живописал, но и создавал некое музыкальное звучание в душе. Так что не только ум, но и все существо бывало очаровано им и покорено ему. Никогда я не слыхал такой речи, никогда ни у кого не читал, чтобы кто-нибудь из мыслителей говорил так».
[23]Юношеский замысел синтеза церковности и культуры нашел свое отражение и в журнале «Богословский вестник», редактором которого отец Павел был в 1912 — 1917 годах: «Орган высшей Церковной школы, «Богословский вестник», самым положением своим призывается к неуклонному служению, методами и орудиями науки, интересам Святой Церкви. Раскрывать нетленные сокровища Сокровищницы Истины и углублять понимание их в современном сознании, уяснять вечное и непреходящее значение церковности, показывать, что она есть не только момент и факт истории, но и непреложное условие вечной жизни — такова прямая, положительная задача этого служения Церкви. Но положительная задача неизбежно связывается с задачею отрицательною — с борьбою против расхищения духовного достояния Церкви, с расчисткою церковных владений от всех чуждых природе ее сил, покушающихся на ее собственность и на самое ее существование».
[24]Если говорить о вкладе П. А. Флоренского в русскую философию и в богословие, то необходимо помнить, что его самобытное творчество отмечено противоречивостью: оно несет на себе одновременно и печать времени, и проникновение вперед на многие десятилетия. На творчестве отца Павла Флоренского отразилось его собственное постепенное духовное становление, и поэтому он сам никогда не претендовал ни на безошибочность и законченность своей мысли, ни на всеобщность признания, а подразумевал обсуждение, развитие, уточнение, исправление. Но, писал он о своем творчестве, «я хотел именно Православия и именно церковности. Я хотел и хочу быть верующим сыном Церкви» (из письма к епископу Феодору (Поздеевскому) от 7. XI. 1913 г.)
[25].
Для П. А. Флоренского путь к церковности лежал через тяжелые личные испытания. Духовник, епископ Антоний, не благословлял его принять монашество, а он не хотел жениться, боясь «на место Бога поставить на первый план семью». Из-за этого П. А. Флоренский не мог «привести в исполнение свои заветные планы — сделаться священником»
[26] По воспоминаниям А. В. Ельчанинова, П. А. Флоренский в 1909 году находился в состоянии «тихого бунта» и лишь молитвы духовника укрепляли его. И духовник не ошибся. П. А. Флоренский встретил девушку, с которой не только смог соединить свою жизнь, но которая впоследствии оказала большое духовное влияние на него самого. Это была Анна Михайловна Гиацинтова (1889–1973), происходившая из крестьянской семьи Рязанской губернии. Обстоятельства, приведшие П. А. Флоренского к покорности духовнику, были необыденными. «Я женился, — писал П. А. Флоренский, — просто потому, чтобы исполнить волю Божию, которую я усмотрел в одном знамении». Во время прогулки под начавшимся проливным дождем на болоте П. А. Флоренский в тоске и отчаянии плакал и не мог прийти к определенному решению. «Я машинально, сам не помню зачем, нагнулся и захватил рукой какой-то листик. Поднимаю его и вижу, к удивлению своему, четырехлистный трилистник — «счастье». Тут сразу ударила меня мысль (-и я почувствовал, что это не моя мысль -), что в этом знамении — воля Божия. При этом вспомнилось, что с самого детства я искал четырехлистный трилистник, ошаривал целые лужки, разглядывал множество кустиков^ но, несмотря на все старания, не находил желанного».
[27]По воспоминаниям всех близко знавших ее, Анна Михайловна являла исключительно высокий и светлый образ христианской супруги и матери. Ее простота, смирение, терпение, бодрость, верность долгу, глубокое понимание духовной жизни открывали современникам красоту подвига христианского брака. В семье отца Павла и Анны Михайловны было пятеро детей. Дети стали для отца Павла даром Божиим, ниспосланным для укрепления в самых тяжелых обстоятельствах. Близко знавшая семью в 20–е годы Е. К. Апушкина вспоминает: «Как хорош он был среди детей ко мне, в их семье в Загорске было так хорошо, словно я сама была маленькой девочкой. Еще не зная Анны Михайловны, я уже знала, как любит ее Павел Александрович. Он весь был полон ласки и нежности, когда произносил слово «Анна». Помню раннее утро. У стола стоят Павел Александрович и Анна Михайловна. Его рука лежит на ее руке. Он посмотрел на меня с улыбкой и сказал: «Елена Константиновна, посмотрите, как я Анну ругаю». О, если бы все люди так ругались. Живя по несколько дней в семье Павла Александровича, я не слышала ни сердитых окриков, ничего плохого. Анна Михайловна стала для меня примером в жизни, в отношении к детям, к людям. Лучшего женского образа я не встретила в жизни»
[28].
Таинство брака не только совершенно обновило П. А. Флоренского, но и открыло возможность принять таинство священства. 23 апреля 1911 года ректор МДА епископ Феодор рукоположил П. А. Флоренского во диакона, а на следующий день–во священника. Отец Павел был посвящен ко храму в честь Благовещения Пресвятой Богородицы села Благовещенского (в 2,5 км к северозападу от Лавры). С праздника Воздвижения Честного Креста Господня 1912 года до 4 (17) мая 1921 года отец Павел служил в домовом храме во имя равноапостольной Марии Магдалины Сергиево–Посадского приюта сестер милосердия Красного Креста.
О том, как благодатно воспринял П. А. Флоренский рукоположение в священный сан, свидетельствует его письмо В. В. Розанову 11 мая 1911 года: «…все это время у меня, несмотря на усталость, на волнения, на тревогу за Анну (близко время ее), на кучу дел, такой праздник звенит в душе, такое торжество, словно настал день 7–й, словно наступила Вечная Пасха. Какой-то невыразимый, неосязаемый, непонятный для меня самого внутренний мир низошел в душу, в сердце, во все тело.
Внешне — я все тот же: и сержусь, и раздражаюсь, и недоволен. А в глубине души достигнутое, завершенное, окончательное, словно свило гнездо свое и высиживает птенцов. Я вернулся к предкам, и теперь, за несколько дней этих, я так привык к своему положению (при полной, поразительной для всех неумелости в деле службы), к рясе, к алтарю, к престолу, ко всему, что ни есть в церкви, что мне диким и непонятным кажется, как же это было раньше: не верится, чтобы могло быть иначе. Вся психология перевернулась. Вы поймите, Василий Васильевич, что это значит — почувствовать на себе руку епископа, непосредственно соединенного, телесно, физически с другим Епископом… С Апостолами, с Самим Христом. Ведь на себе чувствуешь не
иносказательно, а буквально руку Христа Самого. Впрочем, все это рассуждения. А факт тот, что посвящение, самый акт возложения руки ошеломил меня (дважды), ударил в пот, довел почти до потери сознания окружающей обстановки и дал что-то новое: cns realissimum — для меня, cns quasi nihil–для других».
[29]Современников поражала глубина раскрытия дара священства в отце Павле. Протоиерей Сергий Булгаков вспоминал: «Однако все, что может быть сказано об исключительной научной одаренности отца Павла, как и об его самобытности, в силу которой он всегда имел слово свое, как некое откровение обо всем, является все-таки второстепенным и несущественным, если не знать в нем самого главного. Духовным же центром его личности, тем солнцем, которым освещались все его дары, было его священство. В. В. Розанов, который, однажды узнав отца Павла, затем не мог уже от него оторваться, как от источника жизни… в качестве самого существенного его определения… сказал: «Он есть
icpcvs (именно по–гречески), священник. И это было именно так».
[30]В первые годы священства отец Павел стремился к приходской пастырской деятельности: против совета духовника он пытался получить сельский приход, в 1915 году уехал на фронт как полковой священник военно–санитарного поезда. Однако постепенно отец Павел подчинился воле духовника епископа Антония, который настаивал на том, что его главное призвание в священстве не приходское пастырство, а апологетическое просветительство и учительство.
По воспоминаниям протоиерея Сергия Булгакова, отец Павел «извне был скорее нежного и хрупкого сложения, однако обладал большой выносливостью и трудоспособностью, отчасти достигнутой и огромной аскетической тренировкой. Я был свидетелем этой его аскетической самодисциплины, как и его трудового научного подвига: обычно он проводил ночи за работой, отходя ко сну лишь в 3–4 часа пополуночи, но при этом сохраняя всю свежесть ума в течение дня, и то же можно сказать и о его пищевом режиме. И все это было в нем не только голосом его духовной стихии, но и делом железной воли и самообладания. Слабый от природы, в те годы, когда я знал о нем… он, насколько я помню, вообще никогда не болел, ведя жизнь, исполненную аскетических лишений»
[31].
Отец Павел производил впечатление необычайной «силы, себя знающей и собою владеющей», которая заключалась в даре проникновения в суть вещей. Но эта сила сдерживалась в общении с людьми «полной простотой, естественностью и всяческим отсутствием внутренней и внешней позы».
Священство отца Павла, писал С. Булгаков, не имело для себя примеров «в истории русской интеллигентской общественности. Последняя еще знает отдельные случаи принятия священства, связанного с переходом в католичество в аристократическом и светском конвертитстве, но отнюдь не в сермяжном, мужицком православии. Можно сказать, что отец Павел своим примером впервые проложил этот путь в наши дни именно для русской интеллигенции, к которой он исторически, конечно, все-таки принадлежал, хотя всегда и был свободен от «интеллигентщины», враждовал с нею.
Он, своим рукоположением, фактически делал ей известный вызов, конечно, вовсе о том не думая. По этому же пути, но уже после отца Павла, пошли люди известного духовного и культурного склада. Они идут с ним и вслед за ним, сами -то сознавая, а иногда и не сознавая. До сих пор священство являлось у нас наследственным, принадлежностью «левитской» крови, вместе и известного психологического уклада жизни, но в отце Павле встретились и по–своему соединились культурность и церковность, Афины и Иерусалим, и это органическое соединение само по себе уже есть факт церковно–исторического значения».
[32]П. А. Флоренский имел широкий круг друзей и знакомых, каждый из которых оказывал влияние на атмосферу русской культуры начала XX века (епископ Феодор, Ф. К. Андреев, С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн, М. А. Новоселов, Вл. А. Кожевников, Ф. Д. Самарин, В. В. Розанов, Вяч. И. Иванов, С. А. Цветков, Е. Н. Трубецкой, Г. А. Рачинский, П. Б. Мансуров, Л. А. Тихомиров, А. С. Мамонтова, Д. А. Хомяков, протоиерей Иосиф Фудель). В. В. Розанов, который был в гуще и петербургских, и московских кругов, лиц и связей, едкий в своих оценках, тем не менее писал об отце Павле: «Это — Паскаль нашего времени. Паскаль нашей России, который есть в сущности, вождь всего московского молодого славянофильства, и под воздействием которого находится множество умов и сердец в Москве и в Посаде, и в Петербурге. Кроме колоссального образования и начитанности, горит самым энтузиазмом к истине. Знаете, мне порою кажется, что он–святой: до того исключителен… Я думаю и уверен в тайне души, — он неизмеримо еще выше Паскаля, в сущности–в уровень греческого Платона, с совершенными необыкновенностями в умственных открытиях, в умственных комбинациях или вернее в прозрениях»
[33].
Особенно близко П. А. Флоренский был связан с «Обществом памяти Вл. С. Соловьева», с новоселовским «Кружком ищущих христианского просвещения» и издательством «Путь».
Революция не явилась неожиданностью для П. А. Флоренского. Более того, он много писал о духовном кризисе возрожденческой цивилизации, часто говорил о надвигавшемся крушении России из-за потери духовных и национальных устоев.
Но «в то время, когда вся страна бредила революцией, а также и в церковных кругах возникали одна за другою, хотя и эфемерные, церковно–политические организации, отец Павел оставался им чужд — по равнодушию ли своему вообще к земному устроению, или же потому, что голос вечности вообще звучал для него сильнее зовов временности… Потому он не был потрясен и тем изменением отношения Церкви и государства, которое наступило после революции. Он оставался внутренне свободным от государства, от которого ни до, ни после революции он ничего не искал, одинаково чуждый всякого раболепства, как перед начальством сверху, так и снизу. Можно сказать, не боясь парадокса, что отец Павел прошел через нашу катастрофическую эпоху, духовно как бы ее не заметив, словно не обратив внимания на внешнюю ее революционность. Это равнодушие выражалось и в его лояльности «повиновения всякой власти», парадоксальном священнокнутии»
[34]. Это свидетельство можно подтвердить словами самого Флоренского из «Автобиографии» 1927 года: «По вопросам политическим мне сказать почти нечего. По складу моего характера, роду занятий и вынесенному из истории убеждению, что исторические события поворачиваются совсем не так, как их направляют участники, я всегда чуждался политики и считал, кроме того, вредным для организации общества, когда люди науки, призванные быть беспристрастными экспертами, вмешиваются в политическую борьбу. Никогда в жизни я не состоял ни в какой политической партии»
[35]. Конечно, нельзя представлять дело так, будто Флоренский был столь наивен, что не понимал, какие испытания ему и Церкви предстоит претерпеть в условиях нового общественного порядка. Фигура известного священника, профессора Московской Духовной Академии и редактора крупнейшего богословского журнала не могла не вызывать самых различных, в том числе и злобных, оценок в обществе, где только что формально было провозглашено отделение церкви от государства, а на деле начато одно из самых жестоких и планомерных гонений на верующих, вплоть до их полного физического уничтожения «как контрреволюционного класса». В «Автобиографии» 1927 года, накануне своей первой ссылки, П. А. Флоренский писал: «Хотя в порядке личного сочувствия, мне не может быть не жаль людей, попадающих в связи с вопросами религии в тяжелые условия, но в порядке историческом считаю для религии выгодным и даже необходимым пройти через трудную полосу истории, и не сомневаюсь, что эта полоса послужит религии лишь к укреплению и очищению»
[36]. Данные убеждения привели отца Павла на позиции действительной политической лояльности к советской власти при непрекращающемся идейном противостоянии.
Почему же отец Павел не эмигрировал вместе со значительной частью русской интеллигенции и духовенства? Думается, лучший ответ на это дал все тот же С. Н. Булгаков, вполне испытавший горечь насильственного изгнания: «Сам уроженец Кавказа, он нашел для себя обетованную землю у Троицы Сергия, возлюбив в ней каждый уголок и растение, ее лето и зиму, ее весну и осень. Не умею передать словами то чувство родины, России, великой и могучей в судьбах своих, при всех грехах и падениях, но и в испытаниях своей избранности, как оно жило в отце Павле. И, разумеется, это было не случайно, что он не выехал за границу, где могла, конечно, ожидать его блестящая научная будущность, и, вероятно, мировая слава, которая для него и вообще, кажется, не существовала. Конечно, он знал, что может его ожидать, не мог не знать, слишком неумолимо говорили об этом судьбы родины, сверху донизу от зверского убийства царской семьи до бесконечных жертв насилия власти. Можно сказать, что жизнь ему как бы предлагала выбор между Соловками и Парижем, но он избрал… родину, хотя то были и Соловки, он восхотел до конца разделить судьбу со своим народом. Отец Павел органически не мог и не хотел стать эмигрантом в смысле вольного или невольного отрыва от родины, и сам он и судьба его есть слава и величие России, хотя вместе с тем и величайшее ее преступление».
[37]В течение целого ряда лет отец Павел продолжал церковную деятельность. 9 (22) марта 1918 года он был приглашен принять участие в работе отдела Поместного Собора Русской Православной Церкви о духовно–учебных заведениях по вопросу о типах пастырских училищ. В этом выразилась высокая оценка высшей церковной властью ученой и педагогической деятельности отца Павла. В 1917–1919 годах еще продолжалось чтение лекций в Академии. После закрытия Академии в ТроицеСергиевой Лавре она продолжала неофициальное существование в Москве, сначала в Даниловском, затем в Петровском монастырях и на частных квартирах. Отец Павел был в числе немногих профессоров, кто поддерживал существование Академии в 20–е годы. Кроме того, с 1917 года он читал циклы религиозно–философских лекций в различных московских обществах, по существу развивая академические курсы. Сохранился целый курс лекций отца Павла в Московской Духовной Академии за 1921 год.
Священник Павел Флоренский был одним из первых среди лиц духовного звания, кто, служа Церкви, стал работать в советских учреждениях. Никогда при этом он не изменял ни своим убеждениям, ни священному сану, записав себе в назидание в 1920 году: «Из убеждений своих ничем никогда не поступаться. Помни, уступка ведет за собой новую уступку, и так — до бесконечности». До тех пор, пока это было возможно, то есть до 1928 года, отец Павел во всех советских учреждениях работал, не снимая подрясника, тем самым открыто свидетельствуя, что он — православный священник. Это странное сочетание советского учреждения и «ученого попа» более всего и поражало секуляризованный мир в 20–е годы, вызвав целый ряд маловразумительных воспоминаний, испещренных ошибками.
Вопрос о том, участвовать или нет в культурном строительстве после 1917 года, отец Павел решал исходя из того, что он ощущал нравственный долг и призвание в сохранении основ духовной культуры для будущих поколений. В письме к наследнице имения Абрамцево А. С. Мамонтовой от 30 июля 1917 года отец Павел писал: «Все то, что происходит кругом нас, для нас, разумеется, мучительно. Однако я верю и надеюсь, что, исчерпав себя, нигилизм докажет свое ничтожество, всем надоест, вызовет ненависть к себе и тогда, после краха всей этой мерзости, сердца и умы уже не попрежнему, вяло и с оглядкой, а, наголодавшись, обратятся к русской идее, к идее России, к святой Руси· Все то, что Вам дорого в Абрамцеве, воссияет с силой, с какой оно никогда еще не сияло, потому что наша интеллигенция всегда была на /
2, /з, Ли так далее нигилистичной, и этот нигилизм надо было изжить, как надо бывает болезни пройти через кризис. Я уверен, что худшее еще впереди, а не позади, что кризис еще не миновал. Но я верю в то, что кризис очистит русскую атмосферу, даже всемирную атмосферу, испорченную едва ли не с XVII века».
[38]Убеждая других «не оставлять корабля», с которого пролеткультовцы стремились сбросить духовные ценности, отец Павел сам показал в этом пример. 22 октября 1918 года он вошел в Комиссию по охране памятников искусства и старины Троице–Сергиевой Лавры и был назначен ученым секретарем и хранителем Ризницы. Кроме него в Комиссии состояли Ю. А. Олсуфьев, И. Е. Бондаренко, Н. Д. Протасов, М. В. Боскин, П. Н. Каптерев, Т. Н. Александрова–Дольник, С. Н. Дурылин, С. П. Мансуров (впоследствии священник), М. В. Шик (впоследствии священник).
В результате деятельности Комиссии было описано огромное историко–художественное богатство Лавры и спасено от разграбления церковное и национальное достояние неизмеримой духовной и материальной ценности. Комиссия подготовила условия для осуществления декрета «Об обращении в музей историко–художественных ценностей Троице–Сергиевой Лавры» от 20 апреля 1920 года, подписанного Председателем Совнаркома В. И. Лениным.
Отцу Павлу принадлежит совершенно особая роль в сохранении мощей Преподобного Сергия, когда в 1920 году они оказались в ведении Сергиевского музея и предполагалось их перемещение «в один из московских музеев», то есть уничтожение. В эти же годы отец Павел одним из первых развивает идею «живого музея», требуя сохранения каждого предмета в той среде и связях, при которых он возникает и живет. Отстаивая идею живого музея, отец Павел считал необходимым для Церкви и духовной культуры России сохранить именно как действующие монастыри Троице–Сергиеву Лавру (явление русской идеи) и Оптину пустынь (могучий соборный в России возбудитель духовного опыта) и делал для этого то, что было тогда ему возможно. Конечно, в условиях 20–х и тем более последующих годов попытка сохранить монастыри как живые очаги духовной культуры–с признанием за их современными насельниками творческой преемственности и родства с их духовными предками — была обречена, но это была жертвенная попытка, исполненная любви и благодарности к истинным стражам духовной культуры.
В 20–е годы, в самый разгул кампаний по вскрытию мощей и изъятию и уничтожению икон, П. А. Флоренский пишет работу «Иконостас», в которой показывает духовную связь между святым, его нетленным телом, мощами, и иконой. В работах «Иконостас» и «Обратная перспектива» отец Павел отстаивает онтологическое превосходство иконы над светской живописью и ее общекультурную ценность. Во время массовой кампании переименования (городов, улиц и даже личных имен и фамилий), конечной целью которой было разрушение исторической и религиозной преемственности, отец Павел пишет работу «Имена». В этой работе раскрывается духовный смысл наименования как выявления сущности личности и предмета, как способа познания типов, законов духовной реальности.
В 1921 году П. А. Флоренский был избран профессором Высших художественно–технических мастерских (ВХУТЕМАС). В период зарождения и расцвета футуризма, конструктивизма, техницизма он отстаивал ценность и значимость общечеловеческих форм культуры, наполненных духовным смыслом. Он был убежден, что деятель культуры призван раскрыть существующую духовную реальность. Другой взгляд, согласно которому художник и вообще деятель культуры сам организует что хочет и как хочет (субъективный и иллюзионистический взгляд, на искусство и на культуру), в конечном итоге ведет к обессмысливанию и разрушению культуры и человека (см. работы «Анализ пространственности и времени в художественно–изобразительных произведениях», «Обратная перспектива», «Иконостас», «У водоразделов мысли»). Однако П. А. Флоренский был решительно против того, чтобы представлять культуру саму по себе как первичный и самодовлеющий мир ценностей. В пределах самой культуры нет критериев выбора. Нельзя, оставаясь верным культуре, принимать одно и отвергать другое. Для определения ценностей нужно выйти за пределы культуры и найти критерий, высший по отношению к ней. Таким критерием отец Павел полагал религиозный культ как единство небесного и земного, умного и чувственного, духовного и телесного, Бога и человека («философия культа»). Оставаясь замкнутыми в культуре, мы будем вынуждены принимать ее всю целиком и должны тогда обожествить ее и считать критерием всех ценностей, кроме того, в ней самой мы должны обожествить себя как деятелей и носителей культуры. Поскольку культура ядром своим и корнем имеет религиозный культ, постольку в деятельности литургической отец Павел видел сердцевину всей деятельности человека вообще, которая подчинена единой цели — очищению человека от грехов для жизни вечной.
В целом ряде работ 20–х годов отец Павел развивает мысль о том, что культ человека (человекобожие), не ограниченного в деятельности и правах высшими, надчеловеческими духовными ценностями религиозного культа, неизбежно приводит в области культуры к разрушительному смешению добра и зла, в области искусства–к культу крайнего индивидуализма, в области науки — к культу оторванного от жизни знания, в области хозяйства–к культу хищничества, в области политики — к культу личности. Отец Павел отстаивал перед секуляризованным миром духовную значимость православной культуры как лучшего выражения общечеловеческих ценностей. Без такого осмысления невозможно было бы в 20–е и последующие годы бороться за физическое сохранение монастырей, храмов, икон и утвари для последующей жизни Церкви.
Задача культуры — борьба с законом падшего мира, который отец Павел определял как закон энтропии, всеобщего уравнивания, смерти — Хаос. Миру противостоит закон эктропии, жизни — Логос. Культура свою задачу может осуществить только раскрывая высшие ценности религиозного культа. Совершенно очевидно, что отец Павел в доступной для того времени форме на философском языке говорит о том, что в борьбе Христа (Логос) и антихриста (Хаос) культура должна быть на стороне Христа.
[39]С середины 20–х годов отец Павел, не прекращая своего религиозно–философского творчества, переходит на исследовательскую работу в систему Главэлектро ВСНХ РСФСР. Он избрал прикладную физику, отчасти потому, что это диктовалось практическими нуждами страны в связи с планом ГОЭЛРО, отчасти потому, что довольно скоро стало ясно: не только служить как священнику или сохранять духовную культуру, но и заниматься теоретической физикой, как он ее понимал, ему не дадут. П. А. Флоренский создал отдел материаловедения в Государственном экспериментальном электротехническом институте, сделал ряд открытий и изобретений в различных областях науки и техники. Из научных работ того времени выделяются обобщающим характером книги «Диэлектрики и их техническое применение» (1924), «Карболит. Его производство и свойства» (1928), «Курс электротехнического материаловедения» (1932), статьи в Технической энциклопедии (1927–1933).
«В научном облике отца Павла, — писал С. Н. Булгаков, — всегда поражало полное овладение предметом, чуждое всякого дилетантизма, а по широте своих научных интересов он является редким и исключительным полигистром, всю меру которого даже невозможно определить… Здесь он более всего напоминает титанические образы Возрождения: Леонардо да Винчи и др., может быть, еще Паскаля, а из русских же больше всего В. В. Болотова»
[40]. Авторитет П. А. Флоренского как ведущего специалиста в области электротехники был столь велик, что после ссылки 1928 года он не только продолжал возглавлять отдел материаловедения ГЭЭИ, но и был назначен помощником директора Всесоюзного энергетического института по научной части (1930), избран в члены президиума бюро по электроизолирующим материалам Всесоюзного энергетического комитета (1931), включен в Комиссию по стандартизации научно–технических обозначений, терминов и символов при Совете Труда и Обороны СССР (1932). П. А. Флоренский участвовал в первой (1929) и второй (1931) всесоюзных конференциях по электроизолирующим материалам.
Занимаясь громадной научно–технической и организационной деятельностью, П. А. Флоренский в 20–е годы продолжал обдумывать пути синтеза математического, физического, художественно–философского и религиозного мышления. В 1929 году он пишет В. И. Вернадскому о существовании пневмотосферы — особо стойких вещественных образований, проработанных духом и вовлеченных в круговорот духовной культуры.
[41]В связи с работой в системе Наркомпроса и Главэлектро, а также потому, что его личность вызывала интерес, П. А. Флоренскому приходилось встречаться с целым рядом государственных, партийных и общественных лиц. Рассказы о таких встречах носят преувеличеннолегендарный характер. По воспоминаниям разных лиц, отец Павел встречался с В. Куйбышевым, Л. Троцким, Н. Бухариным. Можно предполагать, что он встречался также с А. Луначарским, Н. Троцкой, Е. Пешковой; с Л. Каменевым он был знаком, так как учился в одной с ним гимназии.
Та систематическая травля, которой П. А. Флоренский подвергался в течение 15 лет (1918–1933) за свою культурную и научную деятельность, может быть понята и оценена только в связи с тем, что конечный смысл этой деятельности был религиозный, или, как тогда писали, «идеалистический», и эта деятельность справедливо оценивалась как продолжение служения Церкви. Начало травле отца Павла было положено в 1918–1920 годах, когда деятельность Комиссии по охране Лавры пытались представить как контрреволюционную попытку создания «православного Ватикана». Следующим поводом для «критики» явилось преподавание во ВХУТЕМАСе: Флоренский обвинялся в создании «мистической и идеалистической коалиции» с В. А. Фаворским. Наиболее же жестокой травле П. А. Флоренский был подвергнут за истолкование им теории относительности в книге «Мнимости в геометрии» (М., 1922). В этой книге он из теории относительности выводит возможность конечной Вселенной, когда Земля и человек становятся средоточием творения. «Земля из ничтожной пылинки мироздания превращается в центр Вселенной, ибо является и астрономическим и духовным ее центром», — говорилось в единственной положительной рецензии.
Совершенно очевидно, что судьба отца Павла была предопределена его верой в Христа и саном священника Православной Церкви, религиозно–философским мировоззрением и тем своеобразным положением, которое он занимал в обществе. В мае 1928 года ОГПУ провело масштабную операцию в Сергиевом Посаде и его окрестностях: арестовало и перевезло в Бутырки большую группу верующих — служителей церкви и мирян. Это был удар по церкви, уже основательно обескровленной, и по остаткам дворянского сословия, в том числе высшей аристократии, которые спасались возле Троице–Сергиевой Лавры, как во все времена спасались люди в храмах от последней погибели.
Перед этим прогремела «артподготовка»: газеты и журналы печатали из номера в номер обличительные, гневные памфлеты и фельетоны об окопавшихся в Сергиевом «черносотенцах под Москвой!», о том, что «Троице–Сергиева Лавра — убежище бывших князей, фабрикантов и жандармов!», «Шаховские, Олсуфьевы, Трубецкие и др. ведут религиозную пропаганду!»* Общественное мнение было подготовлено. Заработали «органы», машина ОГПУ.
Никакого обвинения заключенному П. А. Флоренскому предъявлено не было. 25 мая он дал такие показания на допросе: «Фотокарточка Николая II хранится мною как память Епископа Антония. К Николаю я отношусь хорошо, и мне жаль человека, который по своим намерениям был лучше других, но который имел трагическую судьбу царствования. К соввласти я отношусь хорошо и веду исследовательские работы, связанные с военным ведомством секретного характера. Эти работы я взял добровольно, предложив эту отрасль работы. К соввласти я отношусь как к единственной реальной силе, могущей провести улучшение положения массы. С некоторыми мероприятиями соввласти я не согласен, но безусловно против какой-либо интервенции, как военной, так и экономической. Никаких разговоров с кем-либо о тех мероприятиях, с которыми я не согласен, я не вел».
[42]Дело «прокручивалось» быстро и «скопом»: 8 июня судьба всех арестованных, содержавшихся в Бутырках, была решена. В протоколе заседания Особого совещания при коллегии ОГПУ Флоренский идет под номером 25: «Из-под стражи освободить, лишив права проживания в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе, Ростовена–Дону, означенных губерниях и округах с прикреплением к определенному месту жительства, сроком на три года».
14 июля отец Павел отправляется в Нижний Новгород, выбранный им как место жительства.
Ссылка была недолгой. По ходатайству Е. П. Пешковой последовало новое постановление Особого совещания: «Досрочно от наказания освободить, разрешив свободное проживание по СССР». Уже в сентябре он вернулся домой.
Обстановка в Москве в это время была такая, что отец Павел говорил: «Был в ссылке, вернулся на каторгу».
В феврале 1933 года П. А. Флоренский был вновь арестован. Предъявленное обвинение ставило ему в вину участие в контрреволюционной организации, состоявшей из монархиствующих и кадетских элементов и пытавшихся создать республиканское правительство, опирающееся на Православную Церковь. Следствие сопровождалось применением мер физического воздействия на арестованных для получения вымышленных показаний.
26 июля 1933 года П. А. Флоренский был осужден особой тройкой на 10 лет исправительно–трудовых лагерей и 13 августа отправлен по этапу в восточносибирский лагерь «Свободный». 1 декабря 1933 года он прибыл в лагерь и был определен работать в научноисследовательском отделе управления БАМЛАГа. Вскоре, 10 февраля 1934 года, он был направлен в Сковородино на опытную мерзлотную станцию. Это случилось благодаря одному (неизвестному нам) человеку, который вспоминает: «Меня судьба столкнула с Флоренским при весьма скорбных обстоятельствах. Было известно, что С. Булгаков эмигрировал, а Флоренский преподает гдето математику и ходит на лекции в рясе–так в 20–е годы говорили в Москве. И вот в 1934 году, когда я работал в плановом отделе на строительстве дороги в «Свободном», пригнали этап. Просматривая список, наткнулся на фамилию «Флоренский». Сначала — никаких ассоциаций: все, что с ним было связано, все кануло в вечность, все это было в другом мире. Смотрю–математик. Только, когда он вошел, догадался, что это тот самый Флоренский. Спросил его об этом, он коротко подтвердил. Я пытался расспрашивать (что-то насчет Москвы и его участи), но он отмалчивался, был угрюм и явно не хотел разговаривать с посторонним человеком. Мне это было понятно. Я устроил его на метеостанцию в пос. Сковородино, надеясь как-то оградить от общелагерной жизни». Здесь, на станции, П. А. Флоренский проводил исследования, которые впоследствии легли в основу книги его сотрудников Н. И. Быкова и П. Н. Каптерева «Вечная мерзлота и строительство на ней» (1940).
В конце июля и начале августа 1934 года благодаря помощи Е. П. Пешковой в лагерь смогли приехать жена Анна Михайловна и младшие дети: Ольга, Михаил, Мария (в это время старшие сыновья Василий и Кирилл были в геологических экспедициях). Семья приехала не только для свидания. Поступило предложение Чехословацкого правительства договориться с правительством СССР об освобождении П. А. Флоренского и выезде его в Чехословакию. Однако для начала официальных переговоров необходим был положительный ответ самого отца Павла. Он ответил решительным отказом, просил прекратить все хлопоты и, сославшись на апостола Павла, сказал, что надо быть довольным тем, что есть.
Во время пребывания семьи в Сковородино, П. А. Флоренский был помещен в изолятор лагеря «Свободный», а 1 сентября отправлен со спецконвоем в Соловецкий лагерь. Сам он так описал этот перевод в письме из Кеми 13 октября 1934 года: «Дорогая Аннуля, весьма беспокоюсь о вас, т. к. 2 месяца не знаю ничего, а к тому же вы были в дороге. Писать мне было нельзя, да и нечего, т. к. я не знал ничего определенного. 16 авг. выехал из Рухлово, — с 17 по 1 сент. сидел в изоляторе в Свободном, с 1 по 12 ехал со спецконвоем на Медвежью гору, с 12 сент. по 12 окт. сидел в изоляторе на Медв. горе, а 13 приехал в Кемь, где нахожусь сейчас. По приезде был ограблен в лагере при вооруж. нападении и сидел под тремя топорами, но как видишь спасся, хотя лишился вещей и денег; впрочем, часть вещей найдена, все это время голодал и холодал. Вообще было гораздо тяжелее и хуже, чем мог себе представить, уезжая со станции Сковородинской. Должен был ехать в Соловки, что было бы неплохо, но задержан в Кеми и занимаюсь надписыванием и заполнением учетных карточек. Все складывается безнадежно тяжело, но не стоит писать.
[43] Никаких общих причин к моему переводу не было, и сейчас довольно многих переводят на север».
[44]Несчастья, обрушившиеся на П. А. Флоренского, не обошли стороной и его уникальную библиотеку, в которую к тому времени влились собрания книг В. В. Розанова, профессоров Академии И. Корсунского, И. Беляева, Ф. Андреева, а также много книг, подаренных самыми разными деятелями культуры. Узнав об этом в лагере, Флоренский весной 1934 года писал начальнику строительства БАМЛАГа: «Вся моя жизнь была посвящена научной и философской работе, причем я никогда не знал ни отдыха, ни развлечений, ни удовольствий. На это служение человечеству шли не только все время и все силы, но и большая часть моего небольшого заработка — покупка книг, фотографирование, переписка и т. д. В результате, достигнув возраста 52 лет, я собрал материалы, которые подлежат обработке и должны были дать ценные результаты, т. к. моя библиотека была не просто собранием книг, а подбором к определенным темам, уже обдуманным. Можно сказать, что сочинения были уже наполовину готовы, но хранились в виде книжных сводок, ключ к которым известен мне одному. Кроме того, мною были подобраны рисунки, фотографии и большое количество выписок из книг. Но труд всей жизни в настоящее время пропал, так как все мои книги, материалы, черновые и более или менее обработанные рукописи взяты по распоряжению ОГПУ. При этом взяты книги не только мои личные, йо и моих сыновей, занимающихся в научных институтах, и даже детские книги, не исключая учебных пособий. При осуждении моем, бывшем 26 июля 1933 года ППОГПУ Московской области, конфискации имущества не было, и поэтому изъятие моих книг и результатов моих научных и философских работ, последовавшее около месяца тому назад, было для меня тяжелым ударом […], уничтожение результатов работы моей жизни для меня гораздо хуже физической смерти»
[45].
15 ноября 1934 года П. А. Флоренский был направлен в Соловецкий лагерь. Его определили работать на лагерном заводе йодной промышленности, где он занимался проблемой добычи йода и агар–агара из морских водорослей и сделал более десяти запатентованных научных открытий и изобретений. Сначала он жил в общих бараках «Кремля» (так называли монастырь), затем в 1935 году его перевели в Филиппову пустынь (1,5 км от монастыря). Здесь, на месте пустынных подвигов своего покровителя, святого Филиппа, отец Павел проходил последние испытания перед тем, как предстать Богу в мученическом венце.
«Позавчера мне минуло 54 года, — писал он 24 января 1935 года. — Просматривая свое сердце, могу сказать, что никакого нет у меня гнева и злобы, пусть каждый радуется, как может». «Свет устроен так, что давать миру можно не иначе, как расплачиваясь за это страданиями и гонением. Чем бескорыстнее дар, тем жестче гонения и тем суровее страдания. Таков закон жизни, основная аксиома ее. Внутренно сознаешь его непреложность и всеобщность, но при столкновении с действительностью в каждом частном случае бываешь поражен, как чем-то неожиданным и новым» (из письма от 13 февраля 1937 года).
Летом 1937 года началась реорганизация Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН) в Соловецкую тюрьму (СТОН). П. А. Флоренский был вновь переведен в общие бараки, находившиеся на территории монастыря. «В общем все ушло (все и все), — писал он в одном из последних писем от 3–4 июня 1937 года. — Последние дни назначен сторожить по ночам в б. йодпроме произведенную нами продукцию. Тут можно было бы заниматься (сейчас пишу письма, например), но отчаянный холод в мертвом заводе, пустые стены и бушующий ветер, врывающийся в разбитые стекла окон, не располагает к занятиям, и ты видишь по почерку, даже письмо писать окоченевшими руками не удается… Вот уже б час. утра. На ручей идет снег, и бешеный ветер закручивает снежные вихри. По пустым помещениям хлопают разбитые форточки, завывает от вторжения ветра. Доносятся тревожные крики чаек. И всем существом ощущаю ничтожество человека, его дел, его усилий».
В конце июня 1937 года в Соловецком лагере производятся массовые расстрелы заключенных на Секирной горе. «В одну из тех ночей исчезли из лагеря (примерно 17–19 июня) П. А. Флоренский и Л. С. Курбас» (сообщение И. Л. Кагана)
[46]. А. Г. Фаворский, который в октябре — ноябре 1937 года виделся с П. А. Флоренским в лагере, писал: «Ваш дедушка Флоренский на Соловках был самый уважаемый человек — гениальный, безропотный, мужественный философ, математик и богослов. Мое впечатление о Флоренском, да это и всех заключенных мнение, бывших с ним, — высокая духовность, доброжелательное отношение к людям, богатство души. Все то, что облагораживает человека».
[47]25 ноября 1937 года П. А. Флоренский постановлением особой тройки УНКВД по Ленинградской области был приговорен к высшей мере наказания «за проведение контрреволюционной пропаганды». 8 декабря он был расстрелян
[48].
П. А. Флоренский был реабилитирован дважды — в 1958 и 1959 годах–ввиду отсутствия «доказательств виновности в антисоветской деятельности» и «за отсутствием состава преступления».
В одном из последних писем Флоренского с Соловков к сыну Кириллу от 21 февраля 1937 года подводится итог его многогранной деятельности: «Что я делал всю жизнь? — Рассматривал мир как единое целое, как единую картину и реальность, но в каждый момент или, точнее, на каждом этапе своей жизни, под определенным углом зрения. Я просматривал мировые соотношения на разрезе мира по определенному направлению, в определенной плоскости и старался понять строение мира по этому, на данном этапе меня занимающему признаку. Плоскости разреза менялись, но одна не отменяла другой, а лишь обогащала. Отсюда — непрестанная диалектичность мышления (смена плоскостей рассмотрения), при постоянстве установки на мир, как целое».
В столкновении двух типов культуры (возрожденческого и средневекового) были заложены трагические начала жизни и творчества П. А. Флоренского. Свое собственное мировоззрение он считал соответствующим стилю исторического русского средневековья ХІѴ–ХѴ веков. Сложившись как мыслитель и ученый при сопряжении культур светской и церковной, П. А. Флоренский предупреждал о гибельности бездуховного пути культуры. В то время, когда Флоренский писал об этом, казалось невероятным, что уже XX век приведет культуру, да и все человечество к возможности самоуничтожения.
Трагична не только судьба Флоренского, трагично время, в которое он жил, культура, которая оказалась неспособной вместить в себя такого мыслителя, священника и ученого. «Оглядываясь назад, я вижу, что у меня никогда не было действительно благоприятных условий работы, частью по моей неспособности устраивать свои личные дела, частью по состоянию общества, с которым я разошелся лет на 50, не менее, — забежал вперед, тогда как для успеха допустимо забегать вперед не более, чем на 2–3 года» (из письма от 2 апреля 1937 года с Соловков).
И все же Павел Александрович Флоренский верил, что чаемое им время настанет. «Я научился благодушию, — писал он в 1924 году, — когда твердо узнал, что жизнь и каждого из нас, и народов, и человечества ведется Благою Волею, так что не следует беспокоиться ни о чем, помимо задач сегодняшнего дня. Ну и самая история убеждает вдобавок, что мировоззрение уже вступило на новый путь и что потому «моему» принадлежит победа, которая будет достигнута и без меня, так что мое личное участие в этом деле есть обстоятельство третьестепенное. Немного раньше, немного позже, немного так, немного иначе — но волновавшие меня ощущения будут выражены и определят собою характер будущего знания. Теперь я в этом уверен»
[49].
Игумен Андроник (Трубачев Л. С.)
Флоренский П. А. [Автореферат]
Биографические сведения
Родился 9–го января 1882 г. в м[естечке] Евлах Елизаветпольской г[убернии], где отец его строил тогда Закавказскую ж[елезную] д[орогу]. Детство провел в Тифлисе и главным образом в Батуме. Учился во 2–й Тифлисской классической гимназии и окончил там курс в 1900–м г. Дальнейшее образование получил на физико–математическом факультете Московского университета, по математическому отделению. В 1904 г. окончил здесь курс, специализировавшись по чистой матема тике, и был оставлен при кафедре. Кандидатское сочинение писал на самостоятельно намеченную тему «Об особенностях плоских кривых, как местах нарушений непрерывности»; это сочинение предполагалось сделать частью работы общефилософского характера «Прерывность, как элемент мировоззрения». В университете Флоренский] работал преимущественно в атмосфере идей теории функций действительного переменного и Н. В. Бугаева и под дружеским покровительством Н. Е. Жуковского. Параллельно с занятиями математикой и физикой шло изучение философии на историкофилологическом факультете у С. Н. Трубецкого и Л. М. Лопатина. В 1904 г. Флоренский] поступил студентом в Московскую Духовную Академию и с этого времени поселился в Сергиевском Посаде. В Академии он занимался дисциплинами, необходимыми ему в разработке общего мировоззрения, — философскими, филологическими, археологическими, историей религии, и отчасти продолжал работы математические. Будучи на IV курсе, был избран на кафедру истории философии, которую затем занимал с осени того же 1908 года в качестве и [сполняющего] должность] доцента, а с 1911э[кстра]о[рдинарного] профессора], по защите на степень магистра диссертации «О духовной истине».
Лекции его и семинарии были посвящены преимущественно вопросам истории мировоззрения. Параллельно с занятиями философскими Флоренский] работал и отчасти преподавал в области математики и физики. В 1911 г. принял священный сан, не занимая приходской должности. С 1911 по 1917 г. Флоренский] редактировал академический орган «Богословский Вестник», которому старался придать исторический характер и в котором опубликовал ряд документов, освещающих историю мировоззрения и школы в XVIII и XIX вв. С 1917 г. Флоренский] читал лекции физического и математического характера в педагогическом Сергиевском институте и разработал курсы по методике геометрии, энциклопедии математики и др. Вместе с тем, состоя сотрудником Музейного отдела, он разрабатывал методику эстетического анализа и описания предметов древнего искусства, для чего привлек данные технологии и геометрии. В результате этих занятий был написан ряд докладов и составлен ряд описей, изданных лишь частично.
Мировоззрение
Свою жизненную задачу Флоренский] понимает как проложение путей к будущему цельному мировоззрению. В этом смысле он может быть назван философом. Но в противоположность установившимся в новое время приемам и задачам философского мышления, он отталкивается от отвлеченных построений и от исчерпывающей, по схемам, полноты проблем. В этом смысле его следует скорее считать исследователем. Широкие перспективы у него всегда связаны с конкретными и вплотную поставленными обследованиями отдельных, иногда весьма специальных, вопросов. Вследствие этого, развиваемое им мировоззрение строится контрапунктически, из некоторого числа тем миропонимания, тесно сплоченных особою диалектикою, но не поддается краткому систематическому изложению. Построение его — характера органического, а не логического, и отдельные формулировки не могут обособляться от конкретного материала. Руководящая тема культурно–исторических воззрений Флоренского] отрицание культуры, как единого во времени и в пространстве процесса, с вытекающим отсюда отрицанием эволюции и прогресса культуры. Что же касается до жизни отдельных культур, то Флоренский] развивает мысль о подчиненности их ритмически сменяющимся — типам культуры средневековой и культуры возрожденской. Первый тип характеризуется органичностью, объективностью, конкретностью, самособранностью, а второй — раздробленностью, субъективностью, отвлеченностью и поверхностностью. Ренессансовая культура Европы, по убеждению Флоренского], закончила свое существование к началу XX в., и с первых же годов нового столетия можно наблюдать по всем линиям культуры первые ростки культуры иного типа.
Свое собственное мировоззрение Флоренский] считает соответствующим по складу стилю ХІѴ–ХѴ вв. русского средневековья, но предвидит и желает другие построения, соответствующие более глубокому возврату к средневековью. Основным законом мира ФлоренскийJ считает второй принцип термодинамики — закон энтропии, взятый расширительно, как закон Хаоса во всех областях мироздания. Миру противостоит Логос — начало эктропии
[50]. Культура есть сознательная борьба с мировым уравниванием: культура состоит в изоляции, как задержке уравнительного процесса вселенной, и в повышении разности потенциалов во всех областях, как условии жизни, в противоположность равенству — смерти.
Всякая культура представляет целевую и крепко связанную систему средств к осуществлению и раскрытию некоторой ценности, принимаемой за основную и безусловную, т. е. служит некоторому предмету веры. Первые преломления этой веры в неотъемлемых функциях человека определяют углы зрения на области, связанные с этими функциями, т. е. на все бытие, как оно соотнесено с человеком. Эти углы — категории, но не отвлеченные, а конкретные (сравни каббалу);
[51] проявление их действием есть культ. Культура, как свидетельствуется и этимологией, есть производное от культа, т. е. упорядочение всего мира по категориям культа. Вера определяет культ, а культ — миропонимание, из которого далее следует культура.
Натуралистическому этическому монизму при метафизическом дуализме Флоренский] противопоставляет этический дуализм при метафизическом монизме; отсюда — борьба с пронизавшими все общество испарениями манихейства, гностицизма, богумильства и проч[ее].
[52]Та же позиция Ф [лоренского] и в теории знания. Иллюзионизму, субъективизму и психологизму он противополагаеі реализм как убеждение в транссубъективной реальности бытия: бытие непосредственно открывается знанию. Восприятия не субъективны, а субъектньт, т. е. принадлежат субъекту, хотя и лежат вне его. Иначе говоря, в знании сказывается подлинная расширенность субъекта и подлинное соединение его энергии (в смысле терминологии XIV в.) с энергией познаваемой реальности. Но с другой стороны, в противоположность общелринимаемой или общежелаемой единой, замкнутой в себе системе знания (французский и особенно германский стиль мысли) Флоренский], примыкая к стилю мысли англо–американскому и в особенности — восточному, считает всякую систему связною не логически, а лишь телеологически и видит в этой логической обрывочности (фрагментарности) и противоречивости неизбежное следствие самого процесса познавания, как создающего на низших планах модели и схемы, а на высших — символы. Языки символики есть одна из существенных проблем теории знания.
Строение познающего разума выше логики и потому содержит основное противоречие двух конститутивно присущих ему тенденций; приблизительно одно и то же, назвать ли его бытие и смысл, остановкою и движением, конечностью и бесконечностью, законом тождества (разумея законы тождества, противоречия и исключенного третьего) и закон [ом] достаточного основания. Так как без совместного наличия обеих тенденций не может разум действовать, то всякое действие разума существенно антиномично, и все построения его держатся лишь силою противоборствующих и взаимоисключающих начал. Непреложная истина — это та, в которой предельно сильное утверждение соединено с предельно же сильным его отрицанием, т. е. — предельное противоречие: оно непреложно, ибо уже включило в себя крайнее его отрицание. И поэтому все то, что можно было бы возразить против непреложной истины, будет слабее этого, в ней содержащегося отрицания. Предмет, соответствующий этой последней антиномии, и есть, очевидно, истинная реальность и реальная истина. Этот предмет, источник бытия и смысла, воспринимается опытом.
Мировоззрение Ф [лоренского] сформировалось главным образом на почве математики и пронизано ее началами, хоть и не пользуется ее языком. Поэтому для Флоренского] наиболее существенным в познании мира представляется всеобщая закономерность, как функциональная связь, но понимаемая, однако, в смысле теории функций и аритмологии
[53]. В мире господствует прерывность в отношении связей и дискретность в отношении самой реальности. Неприемлемое позитивизмом и кантианством как нарушающее непрерывность, тем не менее закономерно и соответствует функциям прерывным, многозначным, распластывающимся, не имеющим производной и проч[ее]. С другой стороны, дискретность реальности ведет к утверждению формы или идеи (в платоноаристотелевском смысле), как единого целого, которое «прежде своих частей» и их собою определяет, а не из них слагается. Отсюда — интерес к интегральным уравнениям и к функциям линий, поверхностей и проч [ее]; отсюда же, в другую сторону, — пифагорейский уклон и стремление понять число как форму. А в связи с представлением о многослойности реальности и недоступности одних слоев другим (условная трансцендентность–стремление дать наглядную модель мнимостей.
[54]В отношении пространства и времени у Флоренского] — своеобразный атомизм. Борьба с кантовским понятием пространства и сознание условности и недостаточной гибкости не–евклидовских проективных пространств направили интерес Ф [лоренского] к пространствам не–проективным и к топологии
[55]. Именно на этой почве в значительной мере сложились его эстетические взгляды (курсы лекций по «анализу пространственности в изобразительном искусстве», читавшиеся в Высш[их] Худ [ожественных] Мастерских).
[56]Флоренский] видит в математике необходимую и первую предпосылку мировоззрения, но в самодовлеемости математики находит причину ее культурного бесплодия: направляющие импульсы математике необходимо получать, с одной стороны, — от общегр миропонимания, а с другой — от опытного изучения мира и от техники. Собственные занятия Флоренского] направлены в обе эти стороны, причем предметом техники служит электротехника, преимущественно электрические поля и их материальные среды. Учение о полях, расширительно, связывается с задачами геометрии, натурфилософии и эстетики, а материаловедение — с гистологией материалов, как областью применения учений о множествах и теории функций.
Наконец, следует еще упомянуть о занятиях языком: отрицая отвлеченную логичность мысли, Флоренский] видит ценность мысли в ее конкретном явлении, как раскрытия личности. Отсюда — интерес к стилистическому исследованию произведений мысли. Кроме того, отрицая мысль бессловесную, Флоренский] в изучении слова видит главное орудие проникновения в чужую мысль и оформления собственной. Отсюда — занятия этимологией и семасиологией.
Сочинения
По внешним и отчасти внутренним обстоятельствам Флоренский] не напечатал большей части своих работ, напечатанное же представляет чаще всего случайные заметки или экскурсы из больших сочинений. Из ненапечатанного назовем: «У водоразделов мысли», «Философия Культа», «Анализ пространственности в изобразительном искусстве», «Число как форма», «Автобиография», «Об особенностях плоских кривых, как местах нарушения прерывности», «Материалы по изучению языка и быта Костромской губернии», «Жизнь и личность А. М. Бухарева», «Жизнь и личность Архим[андрита] Серапиона Машкина», «Лекции по энциклопедии математики» (в частности, новый подход к вопросам топологии), «Первые шаги философии», «Словарь графических символов» (обширная работа, сделанная с А. И. Ларионовым), «Технология диэлектриков», «Пористость изоляционного фарфора и метод измерения и подсчета поверхности неправильных тел», «Электроинтегратор», «Гидростатический и электростатический приборы для решения алгебраических и трансцендентных уравнений», «Древнерусские названия драгоценных камней», «Об оценке качества продукции», «Заливочные составы для кабельных муфт» и др. Кроме того, он читал часть курса по вопросам творчества.
С 1919 г. Флоренский] устанавливает более тесную связь с техникой, читает ряд докладов во Всерос [сийской] Ассоциации] Инженеров, в Русск[ом] Обществе Электротехников и в других обществах, печатает ряд статей в «Электричестве» и др[угих] технических журналах. Служба его с этого времени в ВСНХ, сначала при заводе «Карболит», затем в Главэлектро. Там и тут он занят преимущественно вопросами, связанными с электрическими полями и диэлектриками. С 1921 г. Флоренский] читает лекции в Высших Художеств [енных] Мастерских и разрабатывает курс по анализу пространственности. Вместе с тем он ведет экспериментальные работы в Государственном] Эксперим[ентальном] Электротехническом] Институте, а с 1924 [г.] состоит там же заведующим вновь организованной лаборатории Испытания Материалов. С 1924 [г.] избран членом Центр [ального] Электротехнического Совета и работает в области нормализации в МОКЭНе. Параллельно этому идет экспериментальная и литературная работа в связи с деятельностью в Особом Совещании по Улучшению Качества Продукции.
О суеверии и чуде
Чтобы статья моя могла быть понята в желательном смысле, необходимо отчетливо уяснить себе точку зрения, с какой я веду свое рассуждение, и с самого начала принципиально согласиться или не согласиться с нею. Ввиду этого я остановлюсь на ней настойчивее даже, чем, быть может, это требуется, и заранее скажу о той задаче, которую себе ставлю.
Никто или почти никто, думаю, не будет возражать против мнения, что суеверное представление у известного лица о предмете или явлении возможно лишь постольку, поскольку у него в данный момент на него же нет научного или истинно–религиозного взгляда.
Чтобы установить смысл слова
суеверие, я обращаюсь к сознанию, стоящему на довольно высокой ступени развития, но пока еще
не имеющему научных или религиозных взглядов и, особенно, не имеющему гносеологии. Вот почему я вполне утвердительно говорю о явлениях вроде вампиризма, первоначально реальных для такого сознания. Придет ли оно к отрицанию или утверждению их
после научного образования, мне нет дела. Я хочу наблюдать явления в их чистом виде; меня, как автора этой статьи, совершенно не касается вопрос о реальности спиритических и т. п. явлений; существенен лишь бесспорный
психический факт — тот именно, что существуют спириты, существуют люди, верующие в чудеса, существуют оккультисты и поклонники демонолатрии.
[57] Делать оценку всех этих воззрений я отказываюсь; важно то, что имеются данные сознания известного направления. Они и составляют мой фундамент.
Большинство слов, связанных с каким-нибудь сравнительно отвлеченным понятием и пущенных в житейский обиход, обычно постигает одна судьба: они стираются, обесцвечиваются, и в конце концов их начинают употреблять почти без какого-нибудь определенного, уловимого содержания. Кажется, яснее всего проявилась эта участь над словом, много значащим для составления взгляда на мир, — словом суеверие. Кстати и некстати употребляется оно теперь обществом, особенно с оттенком порицания. Моя задача — фиксировать расплывшийся облик этого слова, очертить туманную границу его применения.
Чтобы показать, как неопределен смысл этого слова, приведу несколько наудачу взятых определений, причем расположу их в порядке, ведущем к раскрытию истинного смысла слова. — «Суеверие, — говорится в «Meyer’s Conversations Lcxikon», — есть состояние доверия, веры в сверхъестественные происшествия, которые не соответствуют, или уже более не соответствуют вере большинства, или над нею возвышаются».
[58] Тут суеверие определяется вполне условно — верою
большинства. Но ведь употребляют это слово, вовсе не производя статистических изысканий; да и «большинством» кого именно вера в данное явление делается суеверием? Небольшая группа лиц ведь называет некоторые воззрения крестьянства суевериями, но где же тут большинство? В своей переписке с Гуго Бокселем
[59] Спиноза, среди града насмешек по адресу верящих в духов, разобрав аргументы Бокселя в пользу существования духов, замечает: «Однако, оставив все это (т. е. аргументы), я должен в заключение сказать, что как эти, так и все им подобные основания никого не могут убедить в существовании духов и привидений, — разве только тех, кто зажимает уши перед доводами разума и отдается во власть
всяческого суеверия, которое настолько враждебно здравому смыслу, что для унижения авторитета философов готово верить всяким сказкам старых баб»
[60]. Спиноза тут
один выступает против
всей народной массы и легиона авторитетов, называя
суеверием (хотя и просто в смысле вздорности, нелепости) верование не большинства даже, а всех поголовно. Особенно хорошо видно, как одинок он был в этом своем мнении, из письма Бокселя (LIX): «…не защитники, а противники существования духов выказывают недоверие к философам, потому что
все философы, как древние, так и новые, разделяют убеждение в существовании духов. Об этом свидетельствует Плутарх в своих сочинениях о воззрениях философов и о гении Сократа. О том же свидетельствуют стоики, пифагорейцы, платоники, перипатетики, а также Эмпедокл, Тиреец, Максим, Апулей и др. Из современных также
никто не отвергает привидений»
[61]. Правильно или неправильно употребляется значение слова у Спинозы–не в том дело; так или иначе, но мы видим, как неопределенно значение этого слова и как мало значит большинство для выяснения понятия суеверия.
Точно так же в определении суеверия, которое мы разбираем, ссылка на сверхъестественность событий ничего не поясняет, так как признание сверхъестественности события зависит от точки зрения лица, высказывающего мнение, что данный человек суеверен. А между тем отчетливо чувствуется, что когда мы видим в ком-нибудь суеверие, то мы не считаем своего суждения относительным, но считаем его объективно–ценным, как считаем объективно–ценным суждение свое о поведении. Хотя и в том, и в другом случае мы допускаем возможность ошибки, но гипотетически, при условии строгой продуманности и знании всех обстоятельств, мы не считаем свое суждение зависящим от случайных взглядов, как не считает судья своего приговора субъективным.
Если мы возьмем определение суеверия из словаря Litlr6 (Diction, dc la langue fran$aisc), то по нему оказывается, что «суеверие есть основанное на боязни или невежестве чувство религиозного почитания, вследствие которого часто приходят к созиданий) себе ложных обязанностей, к вере в химеры и упованию на бессильные вещи».
[62] Очевидно, и тут понятие
суеверия делается неопределенным вследствие ссылки на условные (обусловленные точкою зрения) признаки, как-то: ложные обязанности, химеры, бессильные вещи. Все это находится в зависимости от личных (случайных для самого явления) взглядов лица, высказывающегося о суеверности того или другого человека, и понятно, что об одном и том же случае мнения могут быть прямо противоположные, и притом оба противника будут правы по определению Littr6. Но зато в определении Littr6 указан важный
новый момент: именно тот, что суеверие есть некоторое
чувство, притом типа чувств религиозных. Littrc не определяет ближе характер этого чувства, но он все-таки старается определить суеверие
по содержанию чувства, по предмету суеверных фактов психики, а не по
форме их, которая, как будет видно далее, и есть объединяющий признак этих фактов. Важно не то, по поводу чего у нас есть некоторое чувство (так как предмет чувства случаен), не то, как оно проявляется вовне (заклинания etc), а то, как субъект суеверия, суевер, относится к своему представлению. — Неудачность определения Littrd, таким образом, заключается в стремлении искать существенный признак суеверных фактов на почве их содержания и в непризнании собственного, особого элемента у суеверного настроения духа.
Вполне сознательно проводит до конца тот же метод Леман
[63]. Ограничиваясь исключительно материальной стороною факта, он дает такое определение: «Суеверие есть каждое мнение, не пользующееся признанием в какой-либо религии или стоящее в противоречии с научным взглядом на природу в какое-либо определенное время»
[64], — определение, как увидим, верное, точнее —
не неверное, так как оно в сущности ничего не определяет и сводит понятие суеверия на пустое место, не имеющее никакого собственного содержания. Леман говорит только о том, что не есть суеверие; сокращая его определение, мы придем к бессодержательной, очевидно, формуле: «…суеверие не есть ни религия и ни наука», — формуле, конечно, бесспорной, если только принять, что суеверие и религия или суеверие и наука не синонимы.
Систематическое употребление слова суеверие с почти произвольным значением ввело в самое понятие, связанное с этим словом, столько различных признаков, так неопределенно расширило объем этого понятия, что очистить его, оформить мы не в состоянии. Из существующего понятия мы не имеем права устранять какиенибудь признаки; да и, с другой стороны, эти признаки походят на головы змеи или гидры, которые беспредельно вырастают вновь и вновь по мере их отсечения; удалив один посторонний понятию признак, мы ничем не гарантируем себя от внезапного появления десяти других в другом словоупотреблении. Единственное, что можно сделать, это вовсе отказаться от существующего понятия и только сохранить самое слово (звук) суеверие.
Мы должны сами построить
новое понятие взамен старого, выработать его признаки и дать его затем конструктивным определением. Этому выработанному
нами понятию мы
условно дадим название «
суеверие», символизируем его прежним словом; бояться двусмысленности тут нечего: у нас нет
двух смыслов слова, так как прежний мы вовсе уничтожили и выкинули вон, по крайней мере до конца исследования. Когда это создание нового понятия будет сделано, мы можем психологически мотивировать поставленное условие — называть выработанное понятие именно суеверием, а не как-нибудь иначе. Эта мотивировка будет заключаться в доказательстве того, что новое понятие есть, так сказать, центр расплывшегося, как пятно, старого понятия: новое понятие является как бы типом целой кучи прежних, объединенных под словом
суеверие — и в то же время оно исторический prius
[65] смысла этого слова.
Мы исходили из определений, основывающихся на содержании внешнего проявления суеверия, на содержании результатов суеверного чувства (известных убеждений, действий etc), и пришли к мысли, что те внешние формы духовной деятельности, в которых только и можно искать существенного признака суеверия, сами по себе еще не характерны для него, его не определяют.
Всякий раз, когда получается подобное явление: когда определенное понятие, представляющееся ясным, не может быть определено анализом известной части его содержания и, по мере исследования, тает и испаряется, — это обстоятельство уже наводит на мысль обратиться к другой, оставшейся части признаков, чтобы там искать существенного. В подобных случаях часто оказывается, что там и лежит главный признак, несводимый к другим и неразложимый, — некоторое первоявление в духе. Так, например, стараясь определить понятие нравственности через исследование внешних ее проявлений, мы теряем самое понятие о нравственности как таковой; обращаясь же ко внутренней стороне, мы находим специфическую, несводимую сторону деятельности сознания, которая и характерна для явлений нравственности.
Итак, не видя характерного для суеверия признака во внешних проявлениях его, обращаемся ко внутренней стороне этого явления, ибо оно имеет две стороны: внешнюю — суеверные действия, то есть волхвование (волшебство, магия) и внутреннюю — служащую причиною внешнего обнаружения.
Одним из основных фактов сознания, если вглядеться в каждое проявление его, является противоположение должного и недолжного в воспринимаемом сознанием. Мы производим оценку явления, поступка, действия и т. д., — будет ли эта оценка этическая, эстетическая или касающаяся истинности, разумности явления и вещи. Но если мы делаем оценку, то это самое уже включает в себя мысль об намерении некоторой мерой, именно идеей должного и, следовательно, о наличности такой идеи.
Данный поступок не хорош–это значит, что он не удовлетворяет идее должного поступка, что он должен быть иным. Получая мысль и имея свою мысль, свое суждение, мы сознаем их как нечто истинное или неистинное в данном отношении, мы измеряем каждую мысль идеей должной мысли: ложная мысль это та, которая не соответствует идее должного, лишена права на существование. Должность и недолжность совместимы, даже всегда совмещены в каждом явлении или вещи, но тем не менее качественно различны — не представляют собою степени одного и того же, а суть некие определители вещи, силы, влекущие ее в прямо противоположные стороны. Никакими усилиями мы не можем отождествить их; сознаваемое ложным может высказываться, но не может быть сознано, как истинное, никакими усилиями, никакими софизмами. Можно делать зло и притом прекрасно сознавать, что это зло, но нельзя никакими усилиями заставить себя делать это, как добро: нельзя угасить совести.
Но почему же к одним объектам сознания мы относимся как к должному, к другим — как к недолжному? Мы верим, что для этого есть объективные основания, что в воспринимаемом нашим сознанием есть свойства, заставляющие нас видеть в одних элементах сознания должное, в других — недолжное.
Для краткости мы будем называть должное — Божественным моментом в объектах сознания, а недолжное — дьявольским.
Но возможно еще иного рода отношение к воспринимаемому сознанием. Мы можем к нему относиться только как к данному, как к безразличному данному:
Человеческий ум ограничен миром явлений. Чувственное восприятие служит единственным источником нашего знания.
Но один опыт, т. е. совокупность прошлых испытанных состояний, еще не есть знание; таким путем мы еще не придем к достоверным обобщениям. В том, что были такие-то и такие-то данные опыта, нет ручательства, что так было и раньше, что так будет впоследствии, что так должно быть и что иначе не может быть.
Опытное познание возвышается на степень достоверного знания при условии синтеза данных опыта с априорными идеями или принципами. Как условия, как законы человеческого сознания, априорные принципы имеют для опыта всеобщее и необходимое значение, т. е. опыт всегда и везде осуществляет их. Все сознаваемое человеческий ум не может сознавать иначе, как в этих априорных формах: например, все сознаваемое должно быть подчинено закону причинной связи, или — все внешние предметы могут быть сознаны только в трехмерном пространстве и пр.
В переработке показаний опыта в знание, в приобретении достоверного эмпирического знания без осложнения его оценкою с точки зрения каких-то норм и заключается отношение к воспринимаемому как к безразличному данному.
Безразличное данное стоит, так сказать, на границе между должным и недолжным. Его положение есть положение равновесия, но равновесия неустойчивого. Я бы сравнил также должное и недолжное в совокупности с плоскостью, а данное — с линией: по одну сторону линии — безграничное должное, по другую — безграничное недолжное, но сама линия есть лишь граница того и другого, место перехода от должного к недолжному или наоборот. И в то же время про нее можно сказать, что она часть плоскости должного и равно часть плоскости недолжного. — Если мы обратимся к процессу перехода от должного к недолжному, как он отражается в сознании субъекта, то эта неустойчивость положения безразличия резко бросается в глаза всякому, особенно же в области этики. Если само по себе ни одно действие не есть ни благо, ни зло, а только становится тем или другим, поскольку оно производится субъектом действия, определенно к действию своему относящимся, то данный поступок, как благо, от него же, как зла, отделяет одна только черта. В частности этот вопрос выясняет Вл. Соловьев
[66]: «Как бы мне яснее обозначить и определить, — говорит он, — тот узкий, но единственно надежный путь (сравн. у Пушкина «Спасенья
узкий путь и
тесные врата»), которым должно идти человечество между двумя безднами, бездною мертвого и мертвящего «непротивления злу», с одной стороны, и бездною злого и также мертвящего насилия–с другой? Где проходит черта, которая отделяет принуждение, как нравственную обязанность и как подвиг самопожертвования за других, от насилия, как обиды, как неправды, как злодейства?
Есть же эта черта, и прежде чем давать ей логические определения, спросим человеческую совесть, может ли кто-нибудь — независимо от всяких религиозных убеждений, — п
о совести осудить христианского подвижника, когда он благословляет и ободряет вождей и воинов, идущих освобождать «отеческую землю от рабства иноверцам и чужеземцам»?
[67] и т. д.
В отношении к воспринимаемому мы установили три момента; но отсюда еще вовсе не следует, чтобы все три давались равноправно в каждом восприятии, в отдельности взятом. В каждый момент мы обращаем полное внимание только на один из указанных моментов, а два других остаются в тени, хотя несомненно имеются налицо и неясно сознаются.
Если же начинает производиться исследование и в результате исследования по тому или другому мотиву сознание приходит к утверждению объективности восприятия одного момента и субъективности двух других, то оно, сознание, понятно, стремится затушевать то, что считает иллюзорным, не имеющим значения для цели, к которой сознание идет. Это ведет каждого субъекта к восприятию вещи или явления со своей особой точки зрения, отличной от точек зрения других субъектов; постоянное же преобладание одного из моментов в восприятии данного лица заставляет его видеть окружающее всегда в одном цвете.
Соответственно преобладанию одного из трех моментов в отношении к воспринимаемому, устанавливается три типа отношений, на почве различия которых и возникают различия в основных трех мировоззрениях: религиозном, научном и том, которое мы условимся называть суеверным мировоззрением, или оккультизмом. Рассмотрим особенности этих трех способов отношений и трех мировоззрений.
Если явление воспринимается так, что в нем сознанию является исключительно или почти исключительно Сила Божия — сила должного, вызывающего непосредственно явление; если вещь, как нечто самостоятельное, становится прозрачной и мы сквозь прозрачную оболочку усматриваем действующую в ней силу Благого, то это восприятие существующего, как беспримесного результата деятельности Божества, можно назвать восприятием чуда, чудесным восприятием, а само явление, поскольку и лишь поскольку оно так воспринимается, — чудом: мы в нем усматриваем непосредственную активность положительной силы.
Если же мы начинаем смотреть на мир всегда или почти всегда именно таким образом, если мы в нем усматриваем
вечное чудо Вожие, то у нас образуется на почве таких восприятий мировоззрение
[68], которое следует называть религиозным, так как в религии
по преимуществу (но далеко не исключительно) имеется
такой способ восприятия. В этом смысле чудо есть результат веры, если только под последним словом мы понимаем непосредственное усмотрение действий Благой Силы. Каждое явление, как оно является в опыте, построяется нами, но не только формами созерцания и рассудочности, дающими лишь возможность бытия, но и теми формами духовной деятельности, которые обусловливают восприятие явления и вещи как подлинно реальных и действительных в каком-то смысле и через то связывают бытие вещи с причинами, его вызывающими. Отказываясь от возможности воспринять чудо, мы отказываемся и от известного способа восприятия мира: «…погасла вера в сердце, не признавшем ее детей любимейших — чудес» (Гёте)
[69]. Ввиду этого большая ошибка думать, что если тот или другой человек «уличен» в «поддельных чудесах», что если обнаружено и найдено «объяснение чуда», разгадка, то чуда и не было. А результатом этого мнения является часто отрицание чудес вообще.
Чудо не заключается в факте. Почему вы, неверующий, знаете, что Бог не захотел проявить Свою волю именно этим способом, хотя бы даже через фокус? «Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали… Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог… ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение» (1 Кор., 3). Чудо–в отношении к факту. Все может и все должно быть объяснимо научным образом, получить свою причину в мире явлений же; в этом смысле все естественно, совершается по законам. Но, поскольку Божество не может быть воспринимаемо и мыслимо
только как трансцендентное миру, но и как имманентное, поскольку невозможен
чистый деизм, — к
аждое явление, кроме такого научного понимания, может быть воспринято кем-нибудь в виде чуда; в этом смысле все чудесно, все может быть воспринимаемо как непосредственное творение благости Божией. В жизни многих ученых, например, бывали моменты, когда восприятие бывало именно такое; стоит только вспомнить исполненные пафоса слова Кеплера, Сваммердама
[70] и др. Эккерман
[71] описывает, например, одну прогулку с Гсте, во время которой разговор шел об естественно–исторических предметах. «Холмы и горы, — говорил он, — были покрыты снегом, и я заметил большую нежность желтого цвета и то, что в расстоянии нескольких миль, при посредстве промежуточной туманной среды, темное скорее является голубым, чем белое желтым (NB: это важно для гётевской теории цветов). Гёте согласился со мною, и мы затем говорили о высоком значении первоявления, за которым, кажется,
непосредственно видишь Божество. — Я не спрашиваю, — сказал Гёте, — обладает ли это Высшее Существо пониманием и разумом, но
чувствую, что Оно — само понимание, сам
разум. Все творения проникнуты им, и человек настолько им озарен, что может понимать Высочайшего».
[72]Сколько событий, на посторонний взгляд пустяшных, Гёте относил к Благой Силе, называя ее «Демоническое». Но и для средних людей восприятие окружающего, как чуда, имеется даже гораздо чаще, чем это обычно предполагается. Всякий, конечно, испытывал на опыте, что не пустая метафора — эти слова:
Когда волнуется желтеющая нива…
Тогда расходится души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах
я вижу Вогахг.[73]Сказанное мною о чудесах особенно ясно делается на миросозерцании евреев. «Если современное научное миросозерцание, — говорит князь С. Н. Трубецкой
[74], — не допускает чуда, как произвольного нарушения законов природы путем сверхъестественного вмешательства, то можно сказать, что еврей, наоборот, не знал другого закона природы, кроме «уставов» Ягве и его непрерывно действующей энергии. Позднейшее схоластическое понятие о чуде основывается на признании более или менее обширной области явлений, изъятой из среды постоянного живого действия Промысла, который лишь время от времени вмешивается в эту область внешним образом, нарушая естественный ход событий. Такое понятие о чуде в сущности само основывается на частном допущении механического миросозерцания, и потому в конце концов оказывается бессильным против него. Еврей не знает чудес в этом смысле, потому что для него вся природа с видимою закономерностью ее явлений есть великое и непрестанное чудо Божие. Среди этих явлений он признает особые «знамения»; но эти знамения Божии совершенно входят в законы природы, как он ее понимает»· Эти немногие слова князя С. Н. Трубецкого до такой степени выясняют сущность религиозного мировоззрения, что я считаю нужным указать еще только следующее: раз
сами по себе факты природы, как и факты духовной жизни, не разнятся между собою ни при последовательно–проведенной религиозной точке зрения, ни при последовательной научной, о которой сейчас будет говориться, то разница между ними
должна быть в способе
отношения к этим фактам; уже существование самого слова «чудо», или, как говорит князь С. Н. Трубецкой, «знамение», указывает на это.
Но, помимо указанного религиозного воззрения, возможно еще и другое, в котором доминирует обособленность вещи от действующих в ней сил. Последовательно провести такой способ воззрения, так сказать, выкристаллизовать в чистом виде восприятие вещи, как результата сил (поскольку сама вещь отлична от сил ее производящих), — и составляет задачу науки.
Чтобы всесторонне познать вещь, мы должны предварительно односторонне рассмотреть ее с каждой точки зрения отдельно; синтез нежелателен до того, как будет резко проведен каждый способ восприятия в отдельности: иначе вместо соединения в целостное воззрение разнородных взглядов у нас получится смешение еще не успевших оформиться элементов, вместо гармонии получится шум. Значит, мировоззрение научное может и должно проводить до конца свою точку зрения, рассматривать мир, как целое — самостоятельным, живущим своею замкнутою жизнью, недоступною посторонним воздействиям; оно может утверждать, что мир связан в своих элементах, как явлениях, и что только эти связи могут быть принимаемы в расчет при научных изысканиях. Но утверждать это далеко еще не значит отрицать все другое; если наука может и должна развиваться в наивозможнейшей чистоте своих методов, то из этого еще не следует, чтобы занимающиеся ею не могли иметь одновременно разносторонних восприятий. Ценность всего мировоззрения не в сером, смешанном однообразии, а в живом единстве многообразных элементов.
Из сказанного уже можно догадываться, исходя из какого признака я хочу дать определение суеверию. Под суеверным отношением к воспринимаемому (суеверием) мы станем понимать восприятие вещи по преимуществу со стороны недолжной, если мы усматриваем в ней непосредственно (мистически) или посредственно (рассуждением) злую силу; ее очень метко народ характеризует именем нечистой силы, нечистью, неладным, недобрым, некошным (поганый), немытым, немытиком, царем или князем тьмы
[75], поскольку она является именно отрицанием чистого, ладного (стройного), доброго.
Если суеверие, суеверное восприятие окружающего начинает преобладать, то на почве такого преобладания, такой односторонности складывается новый, третий и последний основной тип мировоззрения — оккультизм, суеверное мировоззрение, которое можно было бы назвать отрицательным религиозным мировоззрением, потому что оно основывается на том именно, на что не обращает внимания религиозное мировоззрение (в том смысле слова, о каком говорилось ранее), и, наоборот, само не видит того, что лежит в основании религиозного мировоззрения.
Истинное чудо совершается в духе верующего, когда усматривает он в видимо случайном и феноменальнопричинном волю Того, которым вся
быша так же, как и это явление. «Причиною, почему не верят истинным чудесам, — говорит Паскаль
[76], — служит недостаток любви. «Но вы не верите, ибо вы не из овец моих». Причиною веры в ложные чудеса служит тоже недостаток любви
[77]». — «Пришествие беззаконника, — говорит апостол, — п
о действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что не приняли
любви истины для своего спасения»
[78]. Чудеса тут ложные именно потому, что они воспринимаются, как производимые человеком греха, сыном погибели, противящимся и превозносящимся «выше всего, называемого Богом, или святынею, так что в храме Божием сядет, как Бог, выг давая себя за Бога»
[79]. Ложность «чудес» этих в том, что действия «сына греха» станут
восприниматься, как
его собственные действия, а
пониматься, как действия Бога, за которого он себя будет выдавать, — как чудеса. Это будет то, что мы назвали отрицательными чудесами; ошибка тут будет в истолковании своих восприятий, и она — от недостатка любви.
Всякий факт может и должен быть объяснен, но и всякий факт, как отблеск Предвечного, может возбудить по отношению к себе чувство благоговения. И, действительно, настоящее чудо и
должно состоять именно в таком рационально объяснимом, в широком смысле (но не поспешно объясняемом), явлении. Даже высшее чудовоскресение Христа — есть явление естественное, но пока только единственный пример, так сказать, высшего
закона же. Уже по одному тому это есть естественное явление, что
все будет подчинено закону воскресения: все мы воскреснем; а, с другой стороны, воскресение есть разумная необходимость (Соловьев)
[80]. Конечно, мы не можем определить жизненного процесса (в широком смысле) с точки зрения научного рационализма. Но ведь даже механизма заряжения электричеством кондуктора мы не можем объяснить, да и механизма мало ли еще чего, по–видимому самого простого, не можем описать; но это нисколько, с точки зрения научного мировоззрения, не мешает нам считать такие явления естественными и раздельно–объяснимыми. Было бы нелепостью требовать сейчас объяснения всех явлений жизни и таких особенно, где происходит воздействие духовных причин и имеются нравственные двигатели. Мы можем только видеть
«божественную» необходимость
(«divina necessite» — по терминологии Леонардо да Винчи),
«разумную» (по терминологии Гёте), факта воскресения, но, разумеется, теперь еще невозможно объяснить или даже объяснять способ воскресения. Но если даже предположить, что никогда подобные явления не будут объяснены, то все-таки
оттого они нисколько не делаются невозможными.
Суеверие есть такой способ отношения к вещи или событию, что они при нем воспринимаются как нечто происходящее от злобной и нечистой силы; внутренно осуждаются, как нечистое, бессмысленное, злое. При нем мы видим в вещи недолжное, какое-то зловещее и темное порождение сил, стремящихся сделать все нечистым; мы чувствуем странный ужас и не можем в любопытстве и влечении оторваться от созерцания такой вещи; что-то чуждое и темное входит в нас, завладевает нами. После удовлетворения любопытства, чувствуется брезгливое отвращение ко всему, как будто подслушали что-нибудь или подглядели. Следующие слова Гофмана
[81] поясняют вопрос: «Людей более удовлетворяет смертельный ужас, чем естественное объяснение того, что кажется им призрачным; им мало этого мира, они хотят еще кое-что из другого мира, не требующего тела для того, чтобы быть открытым.
- Я не могу понять, мейстер, вашего странного вкуса к подобным штукам (фокусам), — сказал Крейслер. — Вы приготовляете чудесное из разных острых снадобьев, как какой-то повар, и воображаете, что люди, фантазия которых так же плоска, как желудок у слизняков, будут раздражаться такими вещами. Нет ничего неприятнее, когда после таких проклятых фокусов, раздирающих человеку сердце, вдруг оказывается, что все это произошло естественным образом.
- Естественным! — воскликнул мейстер Абрагам, — как человек изрядного ума, вы должны признать, что ничто в мире не происходит естественно, да, ничего! Или вы думаете, уважаемый капельмейстер, что если нам удается данными средствами произвести известное, определенное действие, то для нас будут ясны его причины, проистекающие из тайны природы? Вы когда-то относились с большим уважением к моим фокусам, хотя не видали никогда лучшего из них, перла всех моих фокусов… именно он более всех других мог бы вам доказать, что простейшие вещи, легко поддающиеся механике, часто соприкасаются с самыми таинственными чудесами природы и могут производить нечто, остающееся необъясненным в самом простом смысле слова».
[82] (Далее описывается этот фокус, где девушка в экстатическом и сомнамбулическом состоянии давала предсказания и т. д. и звуки ее слов передавались трубами стеклянному шару, висевшему в пустой комнате.) По поводу этого мне хочется указать еще на одно обстоятельство. Д–р Леман, per fas et nefas
[83] устроивший решительную облаву на спиритизм, пожелал доказать наличность фокусничества на сеансах
[84]. С этой целью он сам выучился фокусам и давал сеансы; присутствующие, по утверждению Лемана и судя по его отчетам, дались в обман. Но при этом, после разоблачения своих
фокусов, он не стесняется заявить через несколько страниц, следующее: «Даже при моих медиумических опытах (ранее он их называл фокусами) обнаружились некоторые указания на в высшей степени замечательные психические феномены,
обусловившие отчасти мои успехи, и я уверен, что наличность такого рода явлений именно и отличает медиума от простого фокусника». Интересно только было бы выяснить: недобросовестно ли составлял он свои отчеты, не говоря о явлениях, наличность которых желал отрицать? или сам воспылал желанием славы медиума? или, быть может, его тоже обманули собственные фокусы?
Как для восприятия чуда нужна вера, способность усиленно воспринимать Божественный момент вещи или события, так и для восприятия отрицательного чуда, для наличности суеверия, необходима способность повышенного восприятия диавольского момента вещи. Тут
отрицательным чудом мы называем объект суеверия в параллель к отрицательной религии — оккультизму, представляющему систематизированное суеверие. Как чудо является следствием веры, так и отрицательное чудо есть
следствие суеверия; народная мысль утверждает относительно этого следующее: «…последнее время нечистая сила стала редко появляться, потому что нынче в нее мало верят»
[85].
Мне представляется полезным разъяснить высказываемые взгляды на конкретных примерах; ограничусь, впрочем, немногим.
Что может быть естественнее тени, отражения в воде или отражения в зеркале? Как-то даже, на первый взгляд, странно говорить о том, что такое обыкновенное явление может восприниматься суеверно. А между тем у многих первобытных народов тень служит предметом суеверного ужаса, как какое-то порождение злобных сил или, наоборот, как самостоятельное живое существо. Тут, быть может, является мысль о какой-то чуждой нам и темной силе, которая дробит нас, выделяет из нас нечто существенное. Невольно припоминается тут Бальзаковская теория дагерротипа, по которой каждый фотографический снимок уносит с собою части души, так сказать, снимает слой души.
На детях особенно хорошо наблюдать суеверный страх перед тенью.
Один мальчик (ему тогда было 2/2 года), известный мне лично, никак не мог быть уложен спать при свечке: тени, даваемые ею, наводили на него полнейший ужас. Он начинал кричать «Тень!», ночью вскрикивал и часто просыпался. Так длилось около месяца и повторялось каждый раз, как вносили свечу. Увидев же раз свою тень днем, он обнаружил живейшее беспокойство и начал прыгать и вертеться, чтобы избавиться от нее. Но и взрослые также могут обнаруживать особое чувство — чувство жуткости — по поводу тени. Кто не испытывал мгновенного ужаса, увидав внезапно свою тень на стене, или когда тени подымались вдруг перед угасанием свечи? Кто останется вполне равнодушным к тени, прочитав «О человеке без тени» Андерсена, или к зеркальному изображению, прочитав у Гофмана о человеке, подарившем свое отражение? А Суворов, боящийся зеркал и приказывающий всюду их завешивать? Наконец, «Тени» Сологуба; останутся ли они незамеченными после чтения рассказа?
Я остановился на этих явлениях со сравнительною подробностью, чтобы показать, как может восприниматься суеверно то, что в большинстве случаев кажется обыденным и обыкновенным. Можно думать, что это явление (тени) стоит в более тесной связи с явлением двойников, в еще большей степени вызывающими суеверный ужас. Чтобы не останавливаться на этом, отсылаю читателя к случаю с Эмилией Саже у Делль–Оуэна
[86] [87]. А между тем эти явления, как и тени, могут изучаться и изучаются научным восприятием (этим нисколько не предрешается вопрос об их наличности: научно изучать мы можем, напр., рассказы о них).
Все связанное с явлением смерти как-то особенно привлекало и привлекает к себе внимание; все три момента в восприятии тут выступают особенно резко, и мы находим в области явлений смерти, кажется, наилучшие примеры, что одно и то же явление может восприниматься совсем различно. Тело умершего, напр., служит одновременно объектом суеверия и научного исследования и благоговейного почитания, смотря по тому, воспринимаем ли мы какие-то темные силы, действующие в нем, физико–химические процессы или, как в мощах, Силу Благую, поддерживающую нетление. Но ясно, что в последнем случае вовсе не важен факт нетления сам по себе: в сухом климате, напр., трупы часто успевают высыхать ранее, чем разложатся, а их между тем никто не считает за мощи. С другой стороны, почитаемые весьма старообрядцами, напр., мощи могут далеко не производить того же впечатления и на православных; даже наоборот, последние могут видеть в них объект суеверия. Но и помимо того, труп может служить объектом суеверных действий: «Affin dc faire регіг lcs hommcs de male mort, lcs sorcicrs ont coustumc d’cxhumcr dcs cadavres
& notammcnt dc cculx qui ont csl6 supplicicz
& pcndus au gibct. Dc ccs cadavrcs ilz fircnt la substance
& matierc dc Ieurs sortilcgscs, commc aussi dcs instruments du bourrcl, dcs picux, dcs fcrs, ctc, IcsqucJz sont doucz d’unc ccrtainc force & puissancc magiquc pour incantations»
[88] [89]. Со стороны ведьм и ведьмаков это было суеверным действием; они кощунственно резали трупы для своих волхвований, видя в них магическую силу. Но можно ли то, что мы говорим о Лысой горе, перенести и на анатомический театр? Действия там производятся те же, но тут труп воспринимается не как игралище злых сил и средство злого, но как научный объект, связанный известными отношениями с другими объектами, научными же. Всякий чувствует, что слово
суеверие при таком восприятии трупа и проявление суеверия в действии,
волхвоваиие, при таком резании мертвеца не пригодно, не подходит. Мало того, в рассечении мощей для антиминсов мы видим пример все того же действия, но которое никак не может быть названо ни волхвованием, ни научной диссекцией. Рассечение мощей с целью благоговейного почитания их не может казаться кощунственным для тех, кто видит в мощах чудо; наоборот, это действие кажется им делом, входящим в религиозный культ.
В близкой связи с рассматриваемыми вопросами стоит идея возможности для трупа ожить или почти ожить. И это явление может восприниматься сознанием с трех основных точек зрения. — «Все жития святых, — говорит аббат Calmct
[90], — полны воскресениями мертвых, из них можно было бы составить толстые томы». Нельзя, однако, называть верования в такие воскресения суевериями, даже если считать самые факты совершенно неисторическими. Чтобы яснее показать это на примере, приведу легенду о св. Станиславе, епископе краковском, которую заимствую из книги Calmet.
«Купив у одного дворянина, по имени Петра, землю на Висле, в окрестностях Люблина, для своей краковской церкви, св. епископ Станислав заплатил за нее продавцу в присутствии свидетелей и с формальностями, принятыми в этой стране, но без письменных условий, ибо тогда в Польше только редко записывали эти виды купли и продажи: довольствовались свидетелями. Станислав вошел во владение этою землею властью короля, и его церковь мирно пользовалась имением в продолжение приблизительно трех лет. За этот промежуток времени Петр, продавший землю, умер; король польский Болеслав, который получил непримиримую ненависть против святого епископа, свободно порицавшего его за излишества, начал искать случая опечалить его, подстрекнул трех сыновей Петра, его наследников, и приказал им требовать выдачи земли обратно под предлогом, что за нее не уплачено; он обещал им поддержать их требование и заставить епископа возвратить землю. Итак, эти три дворянина призвали епископа на суд к королю, который тогда находился в Solec и судил в сельских палатах по древнему обычаю страны в общем собрании нации. Епископ был потребован на суд к королю и подтвердил, что он купил и оплатил землю, о которой идет речь. Свидетели не посмели дать свидетельство истине, а место, где происходило собрание, было очень близко от Петравина, — так называлась оспариваемая земля. День клонился к вечеру, и епископ сильно рисковал быть осужденным королем и его советниками. Вдруг, как вдохновленный божественным Духом, он обещал королю привести ему в три дня Петра, продавца земли; условие было принято с изумлением, как невозможное для исполнения. Святой епископ возвращается в Петравин, проводит три дня со своими в молитвах и посте; на третий день он идет в облачении, сопровождаемый клиром и толпою народа, к могиле Петра, заставляет вскрыть ее и рыть до тех пор, пока не находят труп умершего, совершенно иссушенный и испорченный. Святой приказывает ему выйти и дать свидетельство истине перед судилищем короля. Умерший подымается. Его покрывают мантией; святой берет его за руку и ведет живым к ногам короля. Никто не имел смелости спросить Петра, но он сам заговорил и объявил, что он честно продал землю прелату и что он получил за нее деньги. Затем он строго упрекал своих сыновей, которые так коварно обвиняли епископа. Станислав спросил его, не желает ли он остаться живым, чтобы каяться; но тот поблагодарил и сказал, что не хочет подвергать себя новым опасностям грешить. Станислав проводил его обратно к могиле, и, прибыв туда, Петр снова почил в Господе».
В этой легенде и труп, и воскресение являются чемто милым, нужным в представлении верующего, чем-то производимым Благою Силою. Но то же самое явление воскресения служит основой для отвратительнейшего из представлений — для упырей, вурдалаков и т. п.; эти представления имеются, кажется, в той или иной форме буквально у всех народов. То, что было близко и дорого нам, становится ареною для действий чуждых и враждебных сил; темная нечисть завладевает телом дорогого лица и обращает труп, автоматически встающий из могилы, в орудие смерти для других, по преимуществу близких родственников умершего. Быстрое увядание тех, кого посещает упырь, паника целых деревень, эпидемии упыризма вследствие заражения упыризмом через укусы упырем — все это, если почитать описания конкретных и определенных случаев, представляет отвратительнейшие явления. Но еще отвратительнее то, что происходит при применении средств против упырей. В описании одного из процессов, напр., говорится: «Труп выдали палачу, и тот сжег его за деревнею. Мертвец ревел как бешеный, махал руками и ногами и издал страшный крик, когда его в другой раз проткнули колом, причем из него полилось множество красной крови. Наконец труп сожгли и привидение более не являлось». Но кроме мер, применяемых над самим упырем, имеются и предохранительные средства от упырей; таково, напр., употребление в пищу хлеба из муки, замешенной на крови упыря.
Позволю себе привести типичнейшее научное воззрение на этот предмет, именно мнение журнала «Glaneur» (за 1732 г.). Разумеется, оно нам кажется весьма наивным, но, однако, именно благодаря своей наивной решительности оно вполне рационально. Предварительно только расскажу о том случае, по поводу которого оно было высказано журналом.
«В некоторой стране венгерской, которая по–латыни называется Oppida Hcidonum, живет народ, известный под именем гайдуков. Народ этот верит, что известные умершие, которых называют там вампирами, высасывают кровь у живых людей, от чего эти, видимо, худеют, между тем как трупы этих кровопийц до того наполняются кровью, что она просачивается из тела их. Это мнение в непродолжительном времени подтверждено многими фактами, в истинности которых, по–видимому, нельзя сомневаться, если принять во внимание характеры лиц, которые передают их… Приблизительно за пять лет перед сим гайдук Арнод Паоль из одной деревни в Сербии, о котором говорили, что при жизни его сильно мучил вампир, умер (сломав себе шею) и через 20 или 30 дней после сего умертвил 4–х человек, которые были свидетелями его несчастной смерти. Через 40 дней после погребения труп его выкопали и признали за вампира, так как нашли, что тление нисколько не коснулось его тела, изо рта и носа текла совершенно свежая кровь, так что вся одежда его была окровавлена, а на теле и на ногтях образовался целый слой крови. По обыкновению его проткнули через сердце колом, причем он издал очень явственный стон и кровь сильно полилась через сделанное отверстие, потом труп сожгли. Признаки вампиризма нашли также в трупах тех четырех человек, которые были умерщвлены им, потому что все те, которые были мучимы и умерщвлены вампиром, сами делались вампирами: Арнод Паоль нападал не только на людей, но ц на скот, и так как люди ели мясо этих животных, то делались и сами вампирами, так что в продолжение трех месяцев умерло 17 человек. Между ними умерла и известная Станьоска, дочь гайдука Иотуйцо. Девушка эта ушла спать совершенно здоровой, но вдруг в полночь проснулась со страшным криком и жаловалась, что умерший за 4 перед сим недели сын гайдука Милло душит ее за горло, после чего она почувствовала сильную боль в груди и через 8 дней умерла. Отправились на кладбище и между тринадцатью вырытыми трупами десять нашли в вампиризме и только 3 трупа умерших, кажется, от другой болезни, сгнившими. Между вампирами были Станьоска и Милло, сделавший ее вампиром. На шее у девушки под правым ухом (место, за которое, по ее словам, душил ее Милло) действительно нашли кровяное синее пятно длиною в палец. При вскрытии гроба из носа у нее полилась кровь…» etc.
[91]«Здесь дело идет о девушке, которая пробудилась ночью и жаловалась, что ее душил вампир, но не объясняла, как ее крик мог помешать ему продолжать операцию. Есть основание думать, что вампир не повторял своих операций потому, что в следующие за этим ночи не отходили от ее постели, и потому, что ее крики, если бы вампир вздумал мучить ее, дали бы знать об этом ухаживающим за нею. На восьмой, однако ж, день она умерла. Ее печаль и страх, ее уныние и мучения ясно. доказывали, как сильно было расстроено ее воображение. — Жители городов, страдавшие от моровой язвы, знают по опыту, что испуг многим стоит жизни. Как скоро человек почувствует самую ничтожную боль, он думает, что поражен эпидемией; это так сильно действует на него, что он серьезно может заболеть».
«Голландский «Glancur» утверждает, что народы, у которых являются вампиры, слишком невежественны и легковерны, так что явления, о которых идет речь, не более, как продукт их уродливой фантазии; их грубая пища — главная причина этого; питаются они большею частью только хлебом, приготовленным из овса, корней и древесной коры, и такая пища может производить только густую и испорченную кровь и вызывать в воображении мрачные представления. Эту болезнь он сравнивает с укушением бешеной собаки, которая передает свой яд укушенному. Точно таким же образом, — говорит он, — и зараженные вампиризмом передают этот опасный яд тем, которые их посещают· Этим именно объясняется причина беспокойных ночей, тяжелых снов и так называемых явлений вампиров. Если вампиры издают крик, когда в их сердце вонзают кол, то в этом нет ничего неестественного. Заключенный в сердце воздух, быстро выдавленный, необходимо производит этот звук, когда проходит через горло. Это часто бывает с трупами даже и тогда, когда до них никто не дотрагивается».
В главе о «системах для объяснений явления вампиров» и др. Calmet развивает по преимуществу взгляд на них, как на заснувших летаргическим сном. Вот каковы образцы научных взглядов на этот предмет; хотя, конечно, они кажутся сейчас наивными, но невозможно в них отрицать главного признака научного объяснения — объяснения, не выходящего из пределов мира явлений. Как видно из цитированных отрывков, большинство фактов жизни вовсе не отвергается, но их стараются осветить иначе.
Последний пример я приведу из «Освобожденного Иерусалима» Тассо
[92]. Всякий, вероятно, помнит XIII песнь — описание заколдованного леса. Чтобы не увеличивать размеров статьи, я попрошу читателя перечесть эту песнь, представляющую как нельзя более ярко суеверное восприятие, и затем сопоставить с описанием Тассо следующее
научное отношение к тому же самому явлению, изображенное в письме маршала Вальяка
[93]. Вот это письмо:
«Опыт с тополями, пробуравленными на разную глубину, напомнил мне происшествие, бывшее со мною в Алжире в сентябре и октябре 1838 года. Приказав срубить большой дуб для постройки ограды, я был не только удивлен, но прямо поражен, услышав выходящие из дерева звуки, слабые стоны, но так напоминавшие человеческие, что наши солдатские сердца дрогнули. Из дерева струилась красноватая жидкость вместе с газовыми пузырьками, и струилась с силою все время, пока продолжался этот стон. Этот случай в моей африканской жизни напомнил мне то, что я прочитал некогда в «Освобожденном Иерусалиме». Крестоносцы собираются срубить заколдованный лес, в котором нашли себе приют нимфы и феи. Они отступают в ужасе, услышав горестные жалобы, выходящие из деревьев, которых коснулся топор. То, что кажется сказкой в устах поэта, на самом деле есть бесспорная правда, и если бы вместо того, чтобы находиться в XIX в. в Алжире, мы были в тех местах в XII в., с суевериями того времени, и нам бы сказали, что стоны эти исходят от заключенных там нимф и что красноватая жидкость есть их кровь, то, конечно, наши ограды остались бы недоконченными».
То же самое можно сказать и о «голосах природы». Вспоминая рассказы путешественников, слова Гофмана и Мопассана, трудно отрешиться, думается, от суеверного их восприятия, но тем не менее и научному исследованию они вполне подвергнуты.
Теперь является вопрос: сходится ли данное мною определение суеверия с существующим и установившимся пониманием этого слова. Раньше было сказано, что суеверие есть такой способ восприятия вещи или события, при котором они воспринимаются как происходящие от нечистой и злобной силы и внутренно осуждаются, как нечто недолжное, нечистое. Итак, сходится ли это определение с обычным пониманием? Да, сходится, и это яснее всего было видно на разобранных примерах. Правда, иногда слово суеверие употребляется как синоним нелепого вывода, поспешного обобщения, отсталого мнения, точно так же как слово мистика иногда употребляется в виде синонима туманности, фантастичности выводов. Но это, конечно, неверное словоупотребление; подумавши, никто не назовет ошибочной или поспешной индукции, нелепого заключения суеверием, а назовет нелепостью, вздором etc. Всякий понимает или, по крайней мере, всяким ощущается, что в суеверии необходим элемент особого чувства; и поэтому, раз это чувство будет налицо, хотя бы оно не оправдывалось рациональными воззрениями данного лица, все равно восприятие будет суеверным.
«Никогда эти сказки, которые, замечу мимоходом, в детстве мы постоянно слушали с восторгом, а отнюдь не со страхом, — никогда, повторяю, эти сказки не оставили бы в нас такого глубокого следа, если бы в душе нашей не существовало самостоятельных, звучащих им в ответ в том же тоне, струн. Отрицать существование странного, непонятного нам до сей поры, особого мира явлений, поражающих иной раз наши уши, иной раз глаза, нет никакой возможности, и поверьте, что страх и ужас нашего земного организма только внешнее выражение тех страданий, которым подвергается живущий в нем дух, под гнетом этих явлений»
[94].
Эти слова Гофмана выясняют существование особых, специфических чувствований при восприятии отрицательных чудес, темных сил, завладевающих сознанием.
«Я думаю теперь, — говорит он, — что многое, чему мы обыкновенно не придаем никакого значения и называем грезами и пустой фантазией, указывает нам, быть может, символическими откровениями таинственные нити, которые, проходя через нашу жизнь, связывают в одно целое все ее проявления»
[95] [96]. Особенно ярко провел он эту идею в «Песочном человеке», к которому и отсылаю читателя.
Хорошим примером возможности троякого восприятия одного и того же явления может служить троякое отношение к спиритизму. Тогда как для одних, как например для Дель–Оуэна, он является даром Благой Силы, чем-то вроде новой религии, средством свидания с любимыми лицами, — для людей, относящихся к нему научно (Крукс, Аксаков, Целльнер и др.),
[97] он просто факт изучения, проявление каких-то еще неизученных сил, нечто ни хорошее, ни плохое само по себе, хотя, быть может, и полезное и очень интересное. Для третьих, наконец, особенно для лиц из духовенства, для Достоевского (его «теория чертей» в «Дневнике писателя»)
[98] и др., он есть дело нечистое, в полном смысле слова суеверие. Лица первой и третьей категории признают его, но относятся к нему различно; лица второй категории относятся одинаково, но то признают, то вовсе отвергают наличность самых явлений. Тут-то и выясняется, в каком смысле нужно употреблять слово
суеверие.Пусть известное лицо верит в приметы: напр., что если поздороваться над порогом, то будет ссора.
Не то тут суеверие, что данное лицо признает известное условие причиною ссоры; мало ли чего причину мы неверно относим не туда, куда нужно; это будет заблуждение, ошибка, поспешность в заключении, но не суеверие. Суеверием наше воззрение будет тогда и только тогда, когда мы допускаем, что какая-то сила вызывает ссоры, сила выходящая за пределы «физические», — когда мы видим причину ссоры вне мира явлений, и притом не относим ее к силе Благой. Быть может, тут важно, что какую-то силу мы считаем властной над душою и, не будучи в состоянии за такую силу признать силу «физическую», полагаем ее дьявольской, так как должное не может производить то, что этически представляется нелепым.
Во Франции, напр., в маленьких деревнях применяется такой обряд: ключ от церкви, посвященной св. Петру, накаливают докрасна и прикладывают к голове быков, собак и других животных, чтобы излечить их от бешенства. Никто, по совести, не назовет такого обряда суеверием, хотя может считать его нелепым; и действительно, кюре рекомендовано работать для уничтожения подобных обрядов, но только предупреждая об этом епископа, и спрашивая его согласия, и поскольку это не оскорбит веры народа. Значит, церковь не видит тут ничего положительно плохого (что всегда заключается в слове «суеверность»).
Суеверное восприятие, основанное на нем оккультическое мировоззрение и практика из него вытекающая — магия, очень важны, ибо они занимаются особою стороною вещи, недолжным по преимуществу, и тем расширяют наш кругозор. В этом смысле систематизированное суеверие составляло и составит необходимое дополнение к религии, занимающейся должным, и науке, изучающей объекты как безразличное данное. Но тем не менее положение оккультизма труднее положения науки, точно так же как у этой последней положение более опасное, чем у религии (в указанном выше смысле). Оккультизм воспринимает и изучает недолжное, причем сам он будет должным, будет хорошим делом только до тех пор, покуда недолжное воспринимается, как таковое. Если же он начинает относиться к злому, как к должному, то и самое занятие им становится делом «нечистого». Трудно удержаться от падения: заниматься все время неистинным, ирреальным в известном смысле, и не видеть в нем реального и как бы должного. Искушение заключается в личине злого, в видимости недолжного, благодаря которой оно создает иллюзию должного, истинного. Но пав, через самое короткое время, исследователь начинает сознавать свое падение. Недолжное может иметь вид, как бы оболочку должного. При ближайшем же знакомстве злое дает себя знать, открывается, делается видимым, как только проникнешь сквозь эту оболочку мнимо истинного, сквозь иллюзию доброго. И вот, прозревши на свой предмет, павший исследователь чувствует угрызения совести: «Как это я дался в обман, как это моя нравственная и всякая иная зоркость проглядела такую очевидность, так что я поклонился злому?» Это чувство тошноты, пресыщенности, отвращения к дальнейшему занятию суевериями и характеризует собою состояние духа после падения. Я говорю чувство тошноты. Это более, чем метафора, ибо тошнота, хотя и органическое ощущение, тем не менее по существу родственна такому состоянию: в большинстве случаев ощущается она после излишней еды, то есть тогда, когда приняв на время еду за цель, а не за средство, мы поклоняемся ей, творим себе кумир.
Точно так же и после чтения с увлечением (самим предметом) всякого рода оккультических книг, после излишних разговоров об упырях и т. п. остается осадок нечистоты, нечистое чувство в душе, именно какая-то грязнотца.
Позволю себе привести цитату из Соловьева относительно личины зла:
«Я все-таки не понимаю, почему ваш антихрист так ненавидит Бога, а сам он в сущности добрый, а не злой?
— То-то и есть, что
не в сущности. В этом-то и весь смысл. И я беру назад свои прежние слова, что «антихриста на одних пословицах не объяснишь». Он весь объясняется одною и притом чрезвычайно простою пословицею:
не все то золото,
что блестит. Блеска ведь у этого поддельного добра — хоть отбавляй, ну, а существенной силы — никакой»
[99] [100].
Яснее нельзя выразить мишурную обманчиво–привлекательную личину Злого. А увлечение мишурою и есть служение «богу века сего» в обыденной жизни; в области же оккультизма его заменяет увлечение объектом исследования, который увлекает своею видимостью человека на преклонение перед собою, хотя бы он даже приступил к исследованию с сознанием его недолжности.
Об одной предпосылке мировоззрения
Потребность в широкообъемлющем многогранном мировоззрении, подобно взрывной волне, распространяется в обществе; это не потребность только рассудка, это — глубокая жажда. Вот как изображает ее Роденбах
[101]: «Часто говорят о притяжении пропасти. Существует также пропасть высоты… Борлют (герой одного романа Роденбаха) все еще подымался; ему хотелось бы все подыматься, думая с грустью о том, что, разумеется, лестница кончится и что, в конце, он будет испытывать страстное желание продолжать свой путь, еще выше»
[102]. Да, лестницы — наши духовные и физические силы–имеют свой предел. Мы не можем охватить и синтезировать все, все стороны деятельности. На высоте страшно. Кружится голова от пьяняще–чистого разреженного воздуха, ноги подкашиваются, и «жажда слышания слов Господних» жжет
[103] и не утоляется.
Не сбываются ли пророчества: «И обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и плешь на всякую главу, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, — не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его» (Книга пророка Амоса, VIII, 10–12). Эта невозможность слышать «слова Господни» вовсе не есть невозможность по существу, — нечто, лежащее в природе человека. Мы только изнемогаем от необозримости накопившихся в науке фактов, от стремительного темпа жизни, от трудности ориентироваться, от невозможности усмотреть рисунок в пестрых пятнах современности. Главное же, мы впитали в себя отраву тенденциозной мысли, но к одному вопросу не можем подойти прямо, рассмотреть его по существу. Гипотезы у нас превращаются в догматы, догматы мертвеют, и дух замыкается в окаменевшую оболочку чужих мнений; критицизм испаряется, наука теряет свою сущность… Не пробьешься на свежий воздух через толстую броню мнимых аксиом!
Из каких только гипотез не делалось у нас догматов, из каких мнимо–очевидных положений не создавала себе тенденциозная мысль религии! На этой-то почве и возникла мнимая «антиномия» между областью созерцания (научно–философского мышления) и областью мистических переживаний (религией). Обе эти области равно необходимы человеку, равно ценны и святы, и отсутствие антиномий между ними, по крайней мере, вера в возможность устранить эту антиномию, — необходимый постулат всякой деятельности, направленной к реализации добра. Не может, не должна одна святость противоречить другой, одна истина абсолютно исключать другую! И в основе всякой деятельности лежит убежденность, хотя бы бессознательная, что диссонансы нашего понимания мира не лежат в сущности вещей, что настойчивое искание уничтожит двойственность в миропонимании.
[104] Но, чтобы действительно устранить антиномию, о которой мы говорим, необходимо подвергнуть исследованию самые основные понятия, с которыми оперирует человеческая мысль; в неясности их и лежит главная причина недоразумений.
«Пифагор за изобретение одного геометрического правила Зевесу принес на жертву сто волов. Но ежели бы за найденные в нынешние времена от остроумных математиков правила по суеверной его ревности поступать, то едва ли в целом мире столько рогатого скота осталось. Словом, в новейшие времена науки столько возросли, что не токмо за тысячу, но и за сто лет жившие едва могли того надеяться». Так писал еще в 1746 г. Михайло Ломоносов
[105]. А что же делать теперь, через полтораста лет после него? В борьбе с узостью взглядов, со специализацией, приходится волей–неволей быть поверхностным. Человеческая мысль не может не окидывать взглядом всего своего достояния в целом, хотя и сознает, что острота ее индивидуального зрения недостаточна, что многое ускользнет от нее, и что не мало значительного и важного, благодаря перспективе, предстанет в неверном, искаженном виде.
Сделаем же попытку фиксировать неопределенное и колеблющееся представление об общем в умственных настроениях XIX века, постараемся найти одну отличительную черту духовных движений этой эпохи, указать характернейший признак мировоззрения XIX столетия. Если это необходимо, то нельзя, думается мне, сделать это удачнее, как сказав одно только слово — «непрерывность» или повторяя слова одной масонской рукописи Румянцевского музея, озаглавленной «Золотая Цепь Гомера»
[106]: поп transiri posse ab uno extreme ad alterum exlrcmum sine medio.
[107] Этот лаконический ответ можно, конечно, развивать в длинные предложения, растягивать на многотомные сочинения, но основная мысль есть и останется тою же, что и в одном слове; идея непрерывности есть характернейшая черта мировоззрения XIX века. (Я преднамеренно говорю идея, а не понятие.) Проводя идею непрерывности более или менее сознательно, с большею или меньшею отчетливостью, более или менее полно по всем отраслям знания, XIX столетие создало общую конвенцию, если угодно систему, которая, несмотря на пестроту во многом другом, удивительно однообразно окрашена в этот общий цвет. Каждое столетие пользовалось многовидными материалами своих предшественников; не избежало, конечно, этой участи и ХІХ–ое, но если пестрота мировоззрения одного столетия существенно не разнилась от пестроты мировоззрений другого, то этого решительно нельзя сказать о XIX в. Тут эта цементирующая идея непрерывности соединила все материалы в один исполинский монолит.
Конечно, идея непрерывности вовсе не составляет приобретения или какой-либо собственности XIX в., это — одна из древнейших идей философии. Однако только новое время сделало философский термин «непрерывность, непрерывный» банальным словом, известным всем и каждому, только в новое время забил ключ, из которого эта идея перелилась постепенно в умы целых поколений. Таким первоисточником было открытие анализа бесконечных. Лейбниц, как математик и философ, первый пробил скалу в том месте, откуда нам брызнули эти давно скопившиеся воды. Можно сказать, что вся система Лейбница — только философский коррелят его работ по анализу, гениальная транспортировка самим изобретателем математических данных на философский язык
[108]. Наибольшее влияние и впечатление произвели в свои дни чисто практические последствия открытых Лейбницем методов. Дифференцирование применимо только к непрерывным функциям, интегрирование, по тогдашним воззрениям, до обобщения понятия интеграла Риманном, тоже. И вот люди мысли, увлекаемые плодотворными методами Лейбница и Ньютона, незаметно для себя стали устраняться от задач, не подлежащих решению при помощи именно этих, хотя и довольно общих, но все-таки ограниченных методов. Математика стала сама выбирать себе только такие задачи, где действительно имеет место непрерывность, постепенно привыкая к мысли, что только такие задачи и существуют. Конечно, не замечать проблем, где имеется очевидная прерывность, было нельзя, но их игнорировали, рассматривая прерывность в таких случаях как курьез, иногда, впрочем, весьма досадный и служащий помехою для решения.
От чистого анализа привычка к непрерывности, привычка все рассматривать в таком направлении, разлилась широко, хотя часто весьма мелко, и притом по двум различным руслам. Первым из них была группа наук физико–математических, куда идея непрерывности главнейшим образом попала через геометрию. Вторым руслом послужили науки биологические, куда идея непрерывности была занесена впервые, кажется, Бюффоном,
[109] который кроме зоологии занимался и математикой. «Идея о непрерывной связи между живыми существами, — говорит Э. Перье, — из которой следует изменяемость видов, эта идея больше всякой другой соответствовала общей философии Бюффона. Во всей природе он видит непрерывность; он не признает даже пограничной черты между животными и растениями…»
[110] «Мы сказали, — говорит сам Бюффон, — что развитие природы совершается путем переходов, постепенных и часто незаметных; так же незаметно переходит она от животного к растению, но от растения к минералу переход резок…»
[111] Опираясь на этот факт, Бюффон делает заключение, что окажется посредник между «миром организованных существ и миром минералов». Другими словами, фактически данная прерывность заставляет Бюффона постулировать пополнение этого разрыва, до такой степени он глубоко верит во всеобщность legis continuitatis
[112]; так было живо сознание непрерывности у переводчика Ньютоновской «теории флюксий»!
[113] После этого та же математическая идея быстро пустила корни в биологии и других областях естествознания и, претерпевая видоизменения, дала пышные цветы в виде учений Ляйелля
[114] и Дарвина, через которые проникла с другой стороны в сознание общества и быстро вульгаризировалась до такой степени, что некоторые лица из широкой публики, видя между двумя формами третью промежуточную, не могли понять логического и принципиального различия этих форм и готовы серьезно, вроде того, как это в шутку делается на карикатурах, все производить от всего. В то же время идеи геологии и биологии, развиваясь в таком направлении, произвели воздействие на историю, психологию и социологию и т. д. В конце концов идея непрерывности овладела всеми дисциплинами от богословия до механики, и в наши дни многим кажется, что протестовать против нее — значит впасть в ересь.
Вполне естественно было ждать, что сама виновница такого соблазна, — математика, — с течением времени захочет исправить ту односторонность миросозерцания, которую она, хотя и непреднамеренно, вызвала в умах целых поколений. Если математика подчеркнула идею непрерывности и конкретизация этой идеи вызвала однобокость миросозерцания, а вместе с тем ряд мучительных диссонансов и даже глубоко фальшивых нот, то можно было ждать, что критика такой идеи уничтожит односторонность, если она незаконна, и санкционирует ее, если она необходима.
III
Действительно, критика эта не заставила себя долго ждать и была гуюизведена в 80–х годах XIX века — Георгом Кантором
[115]. Этот математик–философ возвел идею непрерывности, вернее, то неопределенное представление о непрерывности, которое казалось какой-то «непосредственной очевидностью», на степень точного понятия. Он дал определение непрерывности в своих ныне знаменитых словах, что «continuum есть связная и совершенная группа точек»
[116]. Правда, в этом определении что ни слово, то — термин, на изъяснение которого надо потратить немало времени. Однако иного нельзя было и ждать, так как понятие непрерывного вовсе не есть что-нибудь первоначальное и простое; оно по существу своему сложно. Во всяком случае, определение Кантора дало возможность критически отнестись к мировоззрению XIX века, а не догматически принимать его или отвергать, что волейневолей приходилось делать до появления его работ.
Если continuum, столь таинственный и неуловимый до тех пор, подводится под общее понятие группы (объединенного множества), которая только при весьма специальных определениях будет непрерывной, вообще же говоря, лишена этого свойства, — то, строя общее мировоззрение, мы не имеем никаких оснований останавливаться на «непрерывности» как на основном признаке бытия и всюду предвзято предполагать пресловутый Ісх continuitatis
[117]. Наоборот, мы должны считать бытие, равно как и функциональные соотношения явлений, прерывными, пока не будет произведен пересмотр эмпирического материала, опытных данных, которые бы склонили нас к признанию того или другого специального вида прерывности, так как непрерывность только όλη а из бесчисленного множества модификаций прерывности. У нас нет никаких оснований ожидать, чтобы все явления оказались непрерывными; мало того, этокрайне невероятно, и, наоборот, есть чисто фактические данные, помимо ряда отвлеченных соображений доказывающие существование прерывности во многих сторонах действительности.
Помимо изучения групп, изучение ф у н к ц и й, т. е. связей между группами, тоже показало, что и здесь (это, впрочем, и быть не могло иначе) господствует прерывность и только при соединении очень хитрых и искусственных требований, налагающих множество условий на функцию, она окажется непрерывной. Теория групп — «молекулярная теория математических законов», по счастливому выражению Шйнфлиса
[118], — достаточно уяснила внутреннюю структуру функций, и, будем ли мы говорить о том, что теория прерывных функций есть патология функций, а непрерывных — физиология, или наоборот, — мы не можем упускать из виду, что мощность
[119] группы непрерывных функций, по известной теореме Бореля
[120], есть С (где С — мощность continuum’a), тогда как мощность всех функций -Сс; причем С > С, потому что Шенфлис доказал, что вообще для трансфинитных мощностей (А) имеет место первенство: А > А. Итак, если кому угодно видеть в непрерывных функциях какое-то «совершенство» и т. п., то это — его дело, хотя нельзя не заметить, что все совершенство непрерывных функций в большей изученности и большей легкости рассмотрения, подобно тому, как окружность изучать легче, чем эллипс, потому что на нее наложено более стеснения. Но считаться с фактическим преобладанием мощности прерывных функций и прерывных групп приходится всякому, даже если признать их за патологические явления.
IV
Здесь уместно указать еще на факты первой из реальных наук, — на факты геометрии. Многочисленные исследования пространства с этой стороны вполне выяснили, что даже в последней крепости непрерывного, даже в непрерывном по преимуществу, — пространстве, — на почве которого и была создана Зеноном и Парменидом идея непрерывного, — даже в геометрических образованиях находит себе место прерывность. Пространственные образы, вообще говоря, прерывны, и только весьма специальные условия привносят в них тот комплекс признаков, за которые мы имеем право называть эти образы непрерывными. Чем больше измерений у рассматриваемого вместилища геометрических образов, — чем свободнее раскидываются лепестки многообразий, тем неожиданней и ярче выступают внезапные скачки в разных свойствах этих образований. Однако даже на плоскости у кривых линий мы встречаем такое богатство оттенков в прерывности, что изучение их потребовало специальных работ. Уже теперь эти работы имеются в достаточном количестве, так что оказывается возможным дать связную картину; оказывается возможным проследить, как закрадывается в непрерывный дотоле образ прерывность одного из свойств, будет ли то число касательных, радиус кривизны или что другое, как затем число таких «особенных» точек кривой возрастает, как они образуют точку накопления, как группа особенностей повышает свой вид, как она становится, по терминологии Г. Кантора, группою 2–го рода и как, наконец, кривая распадается, разлезается по всей плоскости в виде «плоского лоскутка
[121]». Одним словом, можно уже в настоящее время рассмотреть дезинтеграцию кривой, разрушение полной ее непрерывности и тем сделать прерывность более удобно воспринимаемой, более убедительной психологически. «Психологически» потому, что логически требуется начинать с прерывности и потом подойти к непрерывности, как к частному случаю. Так и делается в сочинениях, где желают доказывать, а не убеждать.
«Если вообще, — говорит Dedekind
[122], — пространство имеет реальное бытие, то ему нет надобности быть непрерывным. Бесчисленные его свойства оставались бы теми же, если бы оно было разрывным»
[123]. Утверждение, что пространство непрерывно, — есть простое предположение. Реальное пространство мы считаем непрерывным по причине того, что в нем возможны непрерывные формы, например, непрерывные линии; а главным основанием обыкновенно представляется возможность в пространстве непрерывных движений точки, т. е. таких, что траектория точки является непрерывной кривой. Но существует одна замечательная, — «удивительная», по выражению Kerry,
[124] — теорема Кантора, показывающая, что непрерывность пространства не является вовсе необходимым следствием непрерывности некоторых образований в нем. Теорема заключается в следующем: пусть имеется некоторый η–размерный continuum
Gn и счетовая группа М, пантахическая
[125] на всем протяжении
Gn[126]. Тогда, отнимая от
Gn группу М, мы получаем некоторый scmi-continuum, полунепрерывную группу А, имеющую на всем своем протяжении пантахическую группу изъянов, перерывов. Однако А обладает тем свойством, что если η > 2, то любые точки N и Ν' группы А могут всегда быть соединены непрерывной и даже аналитической кривой, и притом бесчисленным множеством способов. На этой кривой лежат только те точки, которые н е принадлежат к М, так что наша кривая обойдет (минует) все изъяны группы А. Кроме того, можно дать теоремы, аналогичные канторовской, но более широкие. Например, можно доказать, что если в η–размерном continuum’c
Gn выделить счетовую всюду–плотную группу к–размерных континуумов
Gk, где о < к <п — 2, то в оставшемся полу–континууме возможны непрерывные линии и непрерывные движения, и т. п. др.
«Гипотеза непрерывности пространства, — говорит Кантор, — есть, следовательно, не более, как предположение, само по себе произвольное, о полном однозначном и взаимном соответствии между чисто арифметическим континуумом трех измерений (х, у,
г) и пространством, которое служит основанием мира явлений. Мы легко можем сделать мыслью абстракцию от изолированных точек в пространстве, даже когда они густы в каждом протяжении, и примкнуть к понятию прерывного пространства А трех измерений при условиях, описанных выше (в теореме). Что же касается до представляющегося тогда вопроса, именно решить, можно ли также вообразить непрерывное движение в так прерывных пространствах, то нужно, по предыдущему, ответить на него утвердительным и абсолютным образом… Итак, мы приходим к замечательному выводу, что никак нельзя заключать непосредственно из одного факта непрерывного движения к общей непрерывности пространства трех измерений (или двух), к такой непрерывности, какой мы ее представляем себе, чтобы объяснить явления движения»
[127].
V
Все это приводит нас к необходимости перебрать тот архив, где записаны наши наблюдения над фактами, и посмотреть, не попало ли туда фальшивых документов и не сделались ли другие негодными за давностью. Ведь на данных этого архива построено все «современное» миросозерцание нашей европейской цивилизации! Напомним здесь, что вся деятельность ныне уже покойного Н. В. Бугаева
[128] была призывом к такому пересмотру. На своих лекциях и в своих статьях этот профессор упорно указывал нам на значение прерывности как элемента мировоззрения. До последнего времени на идеи Бугаева не обращали внимания, но смерть прервала его работу как раз в то время, когда сходные, аналогичные с его идеи стали пробиваться из-под камней в разных закоулках жизни. Пока эти идеи еще бледны и не развернулись, так что можно при желании не замечать, игнорировать их. Но стоит только вспомнить «теорию мутаций» Фриза
[129], «гетерогенезис» Коржинского
[130] факты их подтверждающие в биологии, работы Таманна
[131] по термодинамике и молекулярной физике, быстро накопляющийся материал по психофизике, изучение психологией сублиминального
[132] сознания и творчества (Дюпрель, Майерс, де Роша, Барадюк)
[133] и т. д. и т. д., чтобы понять, что новое со всех сторон врывается в науку.
Мы, видевшие зарю «нового искусства», стоим на пороге и «новой науки». И только, когда она будет создана, мы сможем достаточно оценить деятельность провидцев — Георга Кантора и Николая Бугаева.
О символах бесконечности (Очерк идей Г. Кантора[134])
Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства (Ин 1, 46—47)[135]
I
Бесконечный, бесконечный приходится слышать очень часто в обыкновенном разговоре; но стоит только попросить объяснения этих слов, чтобы встретить недоумевающий взгляд. Однако если в широкой публике только непонимание, то среди людей, занимающихся умственной работой, на этот счет часто бывает извращенность в понимании и даже полная путаница. Очень сильные и тонкие умы часто не бывали свободны от неясностей и недоговорок в вопросе о понятии бесконечности. Недостаток места не позволяет, к сожалению, привести ряд поучительных примеров, но читатель из дальнейшего изложения и сам сообразит, на кого тут можно было бы сослаться.
Впрочем, затруднения лишь отчасти и даже в очень незначительной части зависят от отвлеченности вопроса; главная причина тут–в тенденциозности мышления, в нежелании или неумении смотреть на объект исследования прямо. Приступается к изучаемому с уверенностью, что уже известно; «но знание надмевает, а любовь назидает»
[136], и мнимое знание — horror infiniti
[137], царящий, по словам Кантора, в обществе, дает себя знать.
Главные ошибки, которые делаются сплошь и рядом в рассуждениях о бесконечном, появляются вследствие пренебрежения основной и совершенно элементарной дистинкцией актуальной и потенциальной бесконечности. Поэтому мне придется подробнее, чем хотелось бы, остановиться на этом подразделении. Пока, впрочем, будет дано предварительное определение бесконечности; на нем мы основываться не станем, так как оно не упирается на достаточно простые понятия, хотя само по себе и верно.
Всякий quantum
[138], по самому своему определению, может быть двояким. Он может быть данным и неизменно и твердо установленным, вполне определенным и тогда представит из себя то, что носит название
постоянного или
константы. Он может также не быть определенным, может меняться, становясь больше или меньше. В этом последнем случае quantum носит название
переменного. Так вот, актуальная бесконечность есть частный случай постоянного, а потенциальная — переменного quantum’a, и в этом их глубочайшее принципиальное различие, если угодно, их существенная противоположность. Разъясним это ближе.
Пусть у нас есть переменное, и пусть оно меняется не каким-нибудь, а определенным способом, так именно, чтобы оно становилось больше всякого постоянного quantum’a (конечного) того же рода, или меньше. В каждом состоянии это переменное конечно; но в нашем понимании совокупность этих состояний отличается от совокупности каких-либо произвольно подобранных состояний. В этом смысле мы говорим, что наш quantum есть
потенциальная бесконечность, потенциальная — ввиду того что он может стать более всякого другого quantum’a. Таким образом, потенциальная бесконечность не обозначает какого-либо quantum’a, в себе взятого, а только особый способ рассмотрения quantum’a именно, в связи с характером его специального изменения. Потенциальная бесконечность, по словам Кантора,
не есть идея, а только вспомогательное понятие;? оно —
ens rationis[139], по счастливому выражению Stoсkl'я
[140]. Одним словом, потенциальная бесконечность есть то самое, что древние называли аяссроі
[141] схоластики —
syncategorematice infinitum[142] или
indefinitum[143], новые философы —
дурной бесконечностью. Типичным образцом ее представляется, конечно, время, вечно текущее, все собою затопляющее; а лучшие образы–муки Тантала, бочка Данаид и
прэты — адские существа у буддистов
[144]. Это — «вечно голодные чудовища, с толстою головою, свирепым взглядом и огромным желудком, который никогда не наполняется, с сухими, как у скелета, членами — нагие, обросшие волосами, с усами и ртом — тонким, как игольное ушко. Они вечно голодны и вечно жаждут. Едва один раз в сто тысяч лет они слышат слово «вода» и, когда находят ее, то она обращается перед ними в нечистоту. Некоторые из них пожирают искры огня, другие — трупы, или собственное тело, но не могут насытиться вследствие узкого устройства своего рта. Кажется, в лице этих жалких существ фантазия буддистов хотела воплотить понятие о той жажде бытия, которая ведет к страсти и служит причиною и самых перерождений, — этого зла жизни. Вечная жажда бытия никогда не удовлетворяется»
[145].
Итак, это никогда не заканчиваемое потенциальное бесконечное есть
переме/тое конечное количество, quantum, возростающий над всеми границами, или, наоборот, падающий ниже всякой конечной границы. Таковы, например, дифференциалы, охарактеризованные уже Лейбницем именно за это свойство, как
чистые фикции. Ввиду этого ясно, что говорить о законченной потенциальной бесконечности, что, по словам Кантора, делал Fontenelle
[146], есть contradictio in terminis
[147].
К несчастию, бесчисленное множество, — легион, — авторитетов всех специальностей усвоило себе эту простую истину чересчур крепко и, забыв о слове
потенциальная, начало разными голосами заявлять, что «законченная бесконечность» есть нечто нелепое. Отсюда вытекает старинный афоризм «numcrus infinitus rcpugnat»
[148], отсюда же утверждение Tongiorgi
[149] «multitudo actu infinita repugnat»
[150] и другие подобные. Этот вполне невинный, по–видимому, пропуск породил не одну грубую ошибку, и на ней, между прочим, держатся и первые «антиномии чистого разума» у Канта.
[151] На этом же пропуске, как увидим, основаны так называемые аргументы против законченной бесконечности и многие соображения позитивизма.
Потенциальная бесконечность делается более понятной, если всмотреться в генезис ея. Как это ни странно, но понятие о потенциальной бесконечности возникло на чисто конкретной почве, на почве вопроса о границах вселенной. Именно, толчок для возникновения его дал Анаксимандр своею системою, по которой неистощимая, неисчерпаемая потенция бытия —
неопределенное, саге сроі, — наполняет пространство и из недр своих производит все. Но слово
апейрон не обозначает, как доказывает Таннери
[152], вопреки мнению Аристотеля и многих исследователей, бесконечности этой перво–материи, ее экстенсивной безграничности, а означает только слиянность и смешанность потенций, возможность для нее рожать существа еще и еще. Пространство же, по всем вероятиям, в представлении Анаксимандра есть сфера
конечных размеров, — вместилище этого
апейрона.В существенно–новую фазу вопрос о потенциальной бесконечности вступает у Пифагора, когда было большее внимание обращено на пространство, хотя и не абсолютное. Слово
апейроп получает в применении к пространству новое содержание, так как указывает на возможность безостановочного деления
[153], из чего впоследствии выросло понятие о бесконечно–малом, кроме того, появляется сознание, что пространство беспредельно, безгранично вне космоса. «Нет сомнения, — говорит Таннери, — что логическая, «субъективная» необходимость понимать пространство, как бесконечное, поскольку такая необходимость понимать поддерживается геометрическими усмотрениями, стала очевидной уже с этого времени. Но оставалось узнать, имеет ли эта необходимость объективную значимость, приложима ли она к физическому пространству, понимавшемуся тогда, как место материи… Я особенно настаиваю на том, что вопрос возник прежде всего из потребности представить себе вселенную, и только Аристотель перенес его на почву логики»
[154].
Рассмотрим теперь другой род бесконечности —
бесконечность актуальную. С этой целью мы возвращаемся к нашему исходному пункту, к понятию quantum’a именно, quantum’a
постоянного, и содержание этого понятия
константы обогатим новым признаком. Некоторая константа может быть такова, что она стоит в ряду других констант того же рода, т. е. больше одних конечных констант и меньше других. Тогда она и сама будет конечной. Но может случиться, что она
не стоит в ряду других постоянных, потому что она больше
всякой конечной константы, как бы великой мы ее ни взяли. Тогда мы скажем, что наш quantum есть актуальная бесконечность, бесконечность in actu, actualiter
[155], а не только in potentia
[156].
Так, например, в диалоге «Bruno»
[157] [158] Шеллинг блестяще вскрывает, что каждое понятие есть бесконечность, потому что оно объединяет собою множество представлений,
не являющееся конечным; но так как объем понятия, по существу дела, вполне определен и дан, то эта бесконечность не может быть ничем иным, кроме актуальной бесконечности. Всякое суждение, всякая теорема
[159] [160] носят в себе актуальную бесконечность, и в этом — вся сила логического мышления, как указывал еще Сократ.
Возьмем примеры более конкретные. Например, обращаясь к пространству, мы можем утверждать, что все точки внутри некоторой замкнутой поверхности образуют множество актуально–бесконечное. В самом деле, каждая из них вполне определена, значит, и все тоже вполне определены; но, однако, число их превосходит всякое из чисел ряда 1, 2, 3… п… и больше каждого из этих чисел. В этом же смысле мы можем сказать, что могущество Божие актуально–бесконечно, потому что оно, будучи определенным (в Боге нет изменения), в то же время больше всякого конечного могущества.
Очень ярко выражает мысль об актуальной бесконечности автор книги: «О небесной иерархии», книги, приписываемой Дионисию Ареопагиту.
[161] «И то, по моему мнению, — говорит он, — достойно тщательного размышления, что говорит писание об Ангелах, то есть, что их тысячи тысяч и тьмы тем, умножая на самих себя числа, у нас самые высшие. Через сие оно ясно показывает, что типы небесных существ
для нас неисчислимы; потому что бесчисленно блаженное воинство пре- мирных умов. Оно
превосходит малый и
недостаточный счет употребляемых нами чисел и точно определяется одним лремирным их разумением»
[162].
В здесь рассмотренном понятии актуальной бесконечности не трудно узнать то, что у древних было известно под именем αφωρισμένον[163] схоластиков — под именем categorcmatice infinitum [164]‚ у новых философов — положительной, собственной бесконечности. Как выражается Гӧте[165] [166], «это — замкнутая бесконечность, более соответствующая человеку, чем звездное небо», причем последнее, конечно, разумеется именно как некоторая возможность устремляться все далее и далее, никогда не будучи в состоянии произвести синтез и успокоиться на целом.
Тут мы сталкиваемся с новым соображением. Чтобы была возможна потенциальная бесконечность, должно быть возможно беспредельное изменение. Но ведь для последнего необходима область изменения, которая сама уже не может меняться, т. к. в противном случае пришлось бы потребовать область изменения для области и т. д. Она однако не является конечной, и, следовательно, она сама уже является актуально–бесконечной. Следовательно,
всякая потенциальная бесконечность уже предполагает существование актуальной бесконечности‚ как своего сверх–конечного предела[167] ‚ всякий бесконечный прогресс уже предполагает существование бесконечной цели прогресса, всякое совершенствование бесконечное требует признания бесконечного совершенства. Отрицающий актуально–бесконечное в каком бы то ни было отношении тем самым отрицает и потенциальную бесконечность в том же отношении, и позитивизм несет в себе элементы собственного разложения, так сказать, с позитивизмом происходит самоотравление продуктами его же деятельности. «Allerdings, — говорит Гутберлэ
[168], — liegt darin eine grosse Inkonsequenz, dass man in neuerer Zeit alle naturwissen- schaftlichen auch offenbar veralteten Anschaungen des hi. Thomas von Aquino mit reinlicher Sorgfalt zur Geltung zu bringen sucht, dagegen an einer so eminent speculativen Frage wie die Ewigkeit der Welt ihn im Stiche lasst (потому что, отрицая актуальную бесконечность, нелепо признавать вечность или бесконечность мира). Und auch darin liegt eine Inkonsequenz, dass man in der Erkentnis Gottes eine actual unendliche Menge m5glicher Dinge zugiebt, deren Moglichkeit selbst aber bestreitet. Man hilft sich da und sagt, man diirfe die Art der Gottlichen Erkenntnis nicht auf die menschliche Ubertragen; — gariz recht, aber darum handelt es sich nicht: Wenn eine actual unendliche Menge
in sich widersprechend ist, dann kann sie auch in Gottes Geiste nichts anderes Sein, als ein Absurdum, wic ctwa cin vicrcckigcr Кгсіѕ»
[169][170]. Впрочем, я коснусь впоследствии этого вопроса ввиду его важности подробнее.
II
Все сказанное до сих пор может показаться известным; оно, действительно, и не является характерным для Г. Кантора, смысл работ которого я хочу изложить, — не является характерным, так как это знали и до него. Однако я считал необходимым резко подчеркнуть основную разность актуальной и потенциальной бесконечностей, потому что весьма часто ее теряют из виду, а работы Кантора посвящены только первому роду бесконечности, собственной бесконечности‚ и, не заметив этого обстоятельства, мы были бы обречены на полное непонимание его идей.
По раскрытому выше определению актуальной бесконечности можно заключить, что такая бесконечность может быть мыслима в двух модификациях. Во–первых, будучи более всякого конечного quantum'a, она сама может оказаться не имеющей другого quantum'a, тоже бесконечного, который был бы больше ее; другими словами, тут она оказывается
неспособной быть
меньше чего-либо другого. Это — актуальная бесконечность, неспособная к увеличению,
абсолютный максимум; как вообще, так и у Кантора, он называется Absolutum
[171]. Во–вторых, — и это не замечали говорившие о бесконечности, — из определения актуальной бесконечности вытекает возможность второго ее видоизменения. Актуальная бесконечность, именно, может тут иметь
над собою другие quanta, большие ее самой; тогда она будет способна к увеличению, будет
увеличиваемою актуальною бесконечностью. Чтобы избегнуть раз навсегда путаницы слов и длиннот, Кантор дает ей название
сверхконечности‚ Ucbcrendlichkcit.
От этих формальных соображений перейдем к реальным. С актуальной бесконечностью мы сталкиваемся или, по крайней мере, можем надеяться на столкновение в
трех различных областях.
Во–первых‚ поскольку это актуально–бесконечное реализовано в высшем совершенстве, во вполне независимом, вне–мировом бытии, одним словом — in Deo ѕіѵе natura naturans
[172], причем последнее выражение Кантор понимает не в смысле пантеизма, а в том первоначальном смысле, который придали ему Фома Аквинский и другие богословы
[173]. Здесь бесконечное является абсолютным максимумом и есть то самое, что ранее было названо Absolutum или абсолютной бесконечностью.
Во–вторых‚ актуально–бесконечное может быть предположено in concrcto
[174] ‚ в зависимом мире, в твари, in natura naturata.
[175] Тут Кантор называет ее Transfinitum. Наконец,
в–третьих‚ актуально- бесконечное может быть in abstracto
[176] ‚ в духе, поскольку он имеет возможность познавать Transfinitum в природе и, до известной степени, Absolutum в Боге. В этом последнем случае бесконечность получает название
символов бесконечного. В частности, если дело идет именно о познании Transfinitum, эти символы получают название
трансфинитных чисел и
трансфинитных типов. Два последних вида бесконечности являются бесконечностями увеличиваемыми.
Читателю может показаться, что тут сделано не одно догматическое утверждение, как-то: «в природе существует актуально–бесконечное» и т. д. Но это не так. Приведенная схема мыслимых случаев актуальной бесконечности есть только наиболее общая логическая схема, так как она перечисляет все те объекты, в которых мы можем заподозривать бесконечность. Отсюда еще не следует, что она имеется в каждом из перечисленных объектов; актуальная бесконечность в каждом из этих трех направлений (Бог, мир, дух) может быть утверждаема или отрицаема впредь до дальнейшего исследования. Разные комбинировки утверждений и отрицаний дадут, согласно известной теореме комбинаторики, восемь (23 = 8) различных мыслимых точек зрения, которые все встречаются в философии. Такое распределение систем по их отношению к бесконечному, в двух строках и трех столбцах, именно так:
кажется, до Кантора не было никем произведено и часто оказывается весьма полезным. Что же касается до самого Кантора, то он первый становится на безусловно утвердительную точку зрения, признающую существование всех трех видов актуально–бесконечного, т. е. он ут- верадает, что актуальная бесконечность имеется іп Deo[177] ‚ in concrcto, in abstraclo[178].[179]
Оправдание такого взгляда на дело для незнающего субъекта может быть начато только с оправдания актуальной бесконечности in abstracto. Отрицание же ее в этой области ведет и к отрицанию ее в мире и в Боге, а это, в свою очередь, опутывает отрицающего неразрешимыми противоречиями.
Так до известной степени, смотрел на дело еще Ориген.
[180] Заняв решительную позицию против актуальной бесконечности, «…он, — по словам Кантора, — идет так далеко, что, по–видимому, желал бы знать, что про бесконечность Бога ничего не утверждается* если бы только он мог» это делать, потому что он говорит: «…не должно было бы таким ложным эвфемизмом отрицать ограничения божественной силы».
[181] Причина этого понятна; ведь понятие
актуальной бесконечности было ясно в умах весьма немногих, каковым был, например, Августин.
[182] А у всех остальных имелась в виду только бесконечность потенциальная; между тем с такою бесконечностью, с α
παρόν, по большей части, если не всегда, связывалось понятие неопределенного, несовершенного. Точно так же в латинском языке infinitum, infinitus употреблялось в смысле
неопределенного (in- finitior distributio partium — логическая ошибка в речи; infinitas quacstioncs — неточно определенные вопросы); равным образом finis
[183] часто употребляется как πέρα
[184] ‚ причем то и другое в смысле
совершенства (dc finibus bonorum, finis acquis juris).
[185]Ориген дал два аргумента против актуальной бесконечности. Первый — тот, что в тварях нельзя мыслить бесконечного, так как они имеют предел, fincm; если бы предела не было, то не было бы мыслимо и какое- либо постижение их и, следовательно, Божество не могло бы постигать их. Второй аргумент в том же духе, но говорит определеннее, что бесконечного множества существовать не может, так как если бы таковое было, то оно бы постигалось, как и всякое множество, числом, а числа бесконечного не существует. «Omnis multitudo, — говорил он еще, — in rcrum natura cxistcns, est crcata; ct omnc crcatum sub aliqua ccrta intcntione crcantis comprchcnditur, non cnim in vanum agcns aliquod opcratur. Undc ncccssc est quod sub ccrto nu- mcro omnia crcata comprchcnditur. Impossibiic est ergo esse multitudincm infinitam in actu, ctiam per accidcns»
[186].
«Я вижу, — говорит Кантор, — в этом глубокомысленном соображении Оригена начало для самых значительных и содержательных аргументов, которые приводились против Transfinitum». Все аргументы другого характера, приводимые против Transfinitum, страдают прямыми ошибками, несут в себе pctitio ргіпсіріі
[187], и их не трудно уничтожить чисто
отрицательным образом‚ не входя в существо дела и только вскрывая промахи; но «оба эти соображения Оригена обоснованы очень хорошо, и их можно разрешить и уничтожить только
положительно‚ показав и доказав, что трансфинитные числа и типы порядка существуют»; когда Кантор доказал это, то стало ясным, что трансфинитные числа «так же готовы к услугам для намерений Творца и Его абсолютно- неизмеримой мощи воли, как конечные числа».
[188]Но однако, несмотря на все отрицательные аргументы, «актуальная бесконечность in natura creata
[189] ‚ по словам Кантора, во все времена имела своих сторонников в христианской спекуляции»
[190]. В виде примеров Кантор ссылается на
францисканцев (характерно!) Emanuel Maignan'a из Тулузы, жившего в XVIII в., на его ученика, тоже францисканца, Іоһ. Saguens'a, затем на некоторых номиналистов, некоторых скотистов. Не стану приводить списка имен называемых им мыслителей, число которых превосходил десяток.
III
Многие века аргумент Оригена являлся камнем преткновения, и притом совершенно основательным. Символов для ухватывания актуальной бесконечности не было, и попытки создать их (Fontencllc)
[191] оказывались неудачны, пока упорный труд, неукротимая сила мышления и пламенная вера в успех не привели, наконец, Кантора к желаемой цели. Он показал, что такие символы
можно создать, что не только абсолютный дух, но и мы можем иметь идею о бесконечном множестве. Однако, прежде чем излагать мысли Кантора об этом, я дам два–три замечания, которые делают его соображения более убедительными. Дело в том, что канторовские символы оказываются не только логически–необходимыми, но они и исторически необходимы и в высокой степени своевременны. Все развитие общих понятий о множестве состояло в постепенном расширении числового ряда, в распространении его, и поэтому естественно было ждать, что, закончив развитие ряда конечных чисел, наука перейдет к сверх–конечным. Рассмотрим же в беглых чертах процесс этого расширения.
Когда слитно–смешанный, хаотический туман ощущений, — этих токов, пробегающих между индивидами, — впервые восприял организующее действие, тогда он начал улаживаться божественным Ладом и устраиваться Строем, дифференцируясь, расчленяясь, переходя из неопределенного и волнующегося
апейрон‚ смеси потенций, в иерархически–упорядоченный и членоразделенный мир представлений
[192]. Разумеется, что — не сразу, не одним усилием достигнута победа хаоса, подчинение множеству, безвидного и неоформленного. И сейчас она еще не закончена: сколько-нибудь внимательный взгляд замечает плохо прикрытые ямы, откуда готова ежеминутно вырваться темным фонтаном первоосновная влага. Но если бы этого и не было, если бы
такая победа была закончена, то ее одной еще недостаточно. Мы создали множество, создали представления, но мы все-таки еще связаны. Мы связаны апперцепируемым представлением, оно овладевает взглядом; все существо поглощено одним чем-нибудь. Нет универсальности. Воспринимается одно, а все остальное дает только общий фон, оставляет впечатление неопределенного множества, смутного. Это — pctitcs perceptions
[193], то ощущение, когда мы сразу входим в комнату, где много людей. Их «много», или «очень много», но сколько именно, мы ничего не можем сказать, даже приблизительно.
Всякий помнит, вероятно, хозяйственный разговор Манилова с приказчиком; он так хорошо иллюстрирует сказанное, что я приведу его. — Начинает Павел Иванович. — «Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку?» — «Да, уж
давно; а лучше сказать–не припомню». — «Как с того времени много у вас умерло крестьян?» — «А не могу знать: об этом, я полагаю, нужно спросить приказчика. Эй, человек! позови приказчика; он должен быть сегодня здесь». Приказчик явился… «Послушай, любезный! сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию?» — «Да как — сколько?
многие умирали с тех пор», — сказал приказчик, и при этом икнул, заслонив рот слегка рукою, наподобие щитка. — «Да, признаюсь, я сам так думал, — подхватил Манилов, — именно
очень многие умирали!» Тут он оборотился к Чичикову и прибавил еще: «Точно, очень многие». — «А как, например, числом?» — спросил Чичиков. — «Да, сколько числом?» — подхватил Манилов. — «Да как сказать — числом? Ведь неизвестно, сколько умирало, их никто не считал». — «Да, именно, — сказал Манилов, обращаясь к Чичикову, — я тоже предполагал,
большая смертность; совсем неизвестно, сколько умерло…»
[194]Так выделяется единица из неопределенного множества. В этом состоит простейшая система счисления (Бо- бынин).
[195]Недостаток места не позволяет рассмотреть, как возникали дальнейшие системы счисления, в которых к понятию «один» прибавлялись понятия «два», «три» и т. д., тогда как всякое множество,
последующее за тем, которое счисляемо крайним из полученных числовых символов, является множеством
«бесчисленным» у «неопределенным»у след чего и по сей день в нашем языке, когда мы говорим о «бесчисленном множестве», о том, что «день тянулся
бесконечно долго» и т. п. Понятия вроде «куча», «толпа» и другие им подобные, совершенно справедливо подвергавшиеся разъедающей критике софистов, носят на себе несомненный характер той эпохи, когда не было закончено построение натурального ряда чисел. Единственное и множественное число в строе языка, это–формы, приспособленные к первоначальному мышлению, когда созидание ряда только началось. Появление двойственного числа указывает на большую развитость этого ряда. Что процесс появления новых грамматических форм («тройственное число» и т. д.) остановился, это вполне понятно, т. к. было бы крайне не экономично для каждого из чисел создавать особую грамматическую форму.
[196] Но логически «три» нисколько не сложнее и не менее первично, чем «один», так как никаких преимуществ перед «один» не имеет. Было бы правильно или вовсе
не различать чисел, не делая никогда согласования в числе, или для
каждого числа придумать особую грамматическую форму, что невозможно, так как чисел бесконечное множество. Но волей–неволей мы должны укладывать мысль в устаревшие формы речи.
Двойственное число во многих языках (египетском, арабском, еврейском, санскритском, греческом, готском и древнеславянском), счет
парами у некоторых диких народов (маркизцы), да и у нас часто тоже, «неопределенная двоица» у пифагорейцев и платоников — все это указывает на период, когда группа в «два» предмета имела для сознания некоторое принципиальное отличие от всякой другой с большим числом предметов.
Два было символом для наибольшей из групп, которую еще можно сосчитать. Всякая же группа с большим числом объектов будет в этой стадии мышления
бесчисленным множеством, — множеством, которое нельзя счесть, «как звезды небесныя, как песок морской»
[197].
Так проходили века и прибавлялись новые числовые символы. Тут важно отметить одно обстоятельство. В. В. Бобынин выяснил, что пальцевой счет предшествовал словесному
[198]; поэтому естественно было бы ждать запаздывания этого последнего сравнительно с пальцевым. Это, действительно, подтверждается фактами. Поэтому часто словесный счет лучше хранит следы первоначальных эпох, чем пальцевой. Всякий из нас про два совершенно различных множества, оба бесконечных, скажет, что они бесчисленны, хотя будет чувствоваться, что они чем-то разнятся.
Вот несколько цитат, подтверждающих сказанное
[199] [200]. «Словесный счет весьма хорошо сохранил во многих из низших племен настоящего времени некоторые из ступеней, пройденных пальцевым счетом при его развитии. Мы находим в наше время племена, которые имеют название только для 1 и 2 и всякое высшее число означают словом
много. D'Orbigny
[201] говорит: «Lcs Chiquitos nc ѕа- vent compter que jusqu'a un (tama), n'ayant plus cn- suitc que des tcrmes dc comparison».
[202]Свидетельство д'Орбиньи о Чикитосах подтверждается и новейшими исследованиями, приводящими к следующим заключениям. Выражения чисел «один» и неопределенных «мало», «много» и «все» совсем отсутствуют в языке. Спрошенные о числах, больших единицы, например, о двух, трех, четырех и т. д., Чикитосы отбирают соответствующее число пальцев… Ботокуды, по свидетельству Спикса и Марциуса
[203] ‚ называют 1 mokcnam, 2 uruhit и всякое высшее число «много»… По свидетельству Лихтенштейна
[204] племя Саабе в Африке имеет название только для 1 — t'koay и 2 — t'kuh. Если Ботокуды и Саабе являются таким образом живыми свидетелями того отдаленного времени, когда система счисления не шла выше 2, то другое бразильское племя Пури оказывается уже принадлежащим к следующей высшей ступени развития, так как имеет название числительных до 3 включительно… и всякое высшее число называет «много» и т. д. За множеством фактического материала в том же духе могу направить читателя к указанным сочинениям Бобынина, Тэйлора
[205] и др.
Не все числа натурального ряда получаются одинаково легко, не все стоят одинаковых усилий. Когда, например, ряд доведен до 5 и все пять пальцев исчерпаны, человечество остановилось в недоумении, что делать далее. И если бы тогда сознательная жизнь была достаточно развита, то, наверно, явились бы лица, которые стали бы доказывать невозможность всякого числа, большего, чем пять.
Это можно было бы делать, например, так: все числа, сказали бы они, таковы, что если отнять от них какое угодно число, то получится остаток, меньший пяти. Допустим от противного, что существует число «шесть», большее пяти. Отнимая от него единицу, мы, согласно определению «шести», получим число «пять», которое не меньше пяти. Следовательно, наше предположение абсурдно, и число «шесть» существовать не может, quod crat demonstrandum
[206]. Как ни призрачно такое доказательство, а большая часть доказательств против бесконечных чисел в более приличном на вид изложении говорит нечто в этом же духе: таковы, например, доказательства Фенелона, Муаньо, Гердиля и др.
[207]Нужен был гений, который бы сообразил, что вовсе не является сказанное свойство чисел давать остаток менее пяти существенным и что для отсчитывания единиц чисел более пяти можно перейти к пальцам другой руки. То же относится и к числам 11, 16 21 и т. д. Камчадалы, по словам Крашенинникова
[208] ‚ еще не додумались отсчитывать двадцать первую единицу на пальцах другого человека; они при счете пересчитывают все свои пальцы на руках и потом на ногах, дойдя таким образом до 20–ти, а затем спрашивают с недоумением: «Что же нам делать теперь?» «Мысль воспользоваться для отсчитывания двадцать первого предмета, — говорит Бобынин, — пальцем руки другого человека избавила человечество от рассматриваемого затруднения и вместе с тем дала ему возможность беспрепятственно развивать счисление далее…»
[209] Но прежде чем додуматься до выражений вроде «две руки и палец ноги» для 11; «у третьего человека на первой ноге три» для 53, нужна была огромная духовная работа, и, когда мелькнет мысль, скольким мы обязаны этим изобретателям, тогда с особою силою вспыхивает сознание близости умершего, реальной никогда не прекращающейся связи, и идея Церкви получает особую, своеобразную живость.
Особенно наглядно показывает эти эпохи история русской математики. Являясь как бы микрокосмом, где все события идут в малом размере и ускоренным темпом, она в истории математики, по справедливости, сравнивалась с системою Юпитера в астрономии. На глазах у нас, так сказать, проходят периоды развития математической науки от древне–египетского до почти современного. Искомую, нужную нам эпоху мы застаем в XVII ст. Вот что говорит о ней историк русской математики
[210]: «Словесное счисление наших математических рукописей замечательно по выработанности и своеобразию систем названий, употребляемых им для обозначения единиц различных разрядов. Таких систем было две. Первая из них, называемая иногда
малым числом‚ по–видимому, не шла далее тысяч миллионов. Единицы разрядов обозначались в ней следующим образом. Меньшие десяти тысяч — обыкновенными названиями единица, десяток, сотня, тысяча. Для больших десяти тысяч существовали названия;
тма или
тьма для обозначения десяти тысяч,
легион для обозначения ста тысяч, или, что то же самое, десяти тем, и
леодр для обозначения миллиона или десяти легионов. Далее следовали десятки, сотни и тысячи леодров. Вторая система, употребляемая «коли прилучался
великий счет и перечень», называлась обыкновенно
великим числом; иногда также
числом великим словенским. Она шла до единиц 48–го и даже иногда 49 го разряда, т. е. до словесного выражения числа, состоящего из 48 или 49 знаков. «И более сего, — обыкновенно говорится в рукописях, — несть человеческому уму разумевати…» Основные названия, употребляемые во второй системе, были те же, что и в первой, но с другим значением для высших между ними, начиная с тьмы.
Тьма в великом счете обозначала тысячу тысяч или миллион,
легион — тьму тем или миллион миллионов, т. е. биллион, наконец,
леодр — легион миллионов или биллионов. В некоторых рукописях мы встречаем также неупотребительное в малом счете название
ворон для обозначения леодра леодров… Названия единиц все 48 и 49 разрядов вместе с письменными выражениями как их самих, так и их различных чисел посредством цифр индейских и славянских сгруппировывались иногда в таблицу, которая называлась обыкновенно «написанной великим числом границей». […] С помощью этой таблицы, говорится в одной рукописи, «которое число в которой поставке (строке) будет и ты можешь его по той границе именовати и числом явственно нарещи…». Единица 49–го разряда, или ворон, однако же не всегда составляла крайний предел употребляемого нашими предками счисления. Иногда, как показывают некоторые рукописи нематематического содержания — (XVII в.) шли дальше, доходя до единицы 50 го разряда, т. е. до десяти воронов. Как и относительно предыдущей, об этой новой единице говорили, что
«сего числа несть больши» и называли ее особенным именем
колода…»До сих пор мы имели дело с такими системами счисления, которые, доходя до единицы того или другого порядка, высшего символа, останавливались и ставили точку: «сего числа несть больши». Однако мало–помалу это сознание ограниченности натурального ряда уничтожается и вытесняется представлением обратным. Числовой ряд может быть продолжаем как угодно, в нем нет наибольшего числа и после каждого можно указать еще и еще числа. В неясных обликах эта идея о беспредельности ряда чисел возникла у индусов, и мысль, только что сделавшая это открытие, тешилась опытной «проверкой». Числовые спекуляции с громадными числами в законах Ману
[211], все космогонические идеи, легенда о Будде, побивающем в счете мудрецов, и другие факты в том же духе напитаны идеей о потенциальной бесконечности, хотя, конечно, последняя не очерчена достаточно отчетливо. Этой идеей дурной бесконечности, которая, несомненно, скрывается за большими числами, нас как будто хотят раздавить. Хочется сказать, что идея потенциальной бесконечности есть национальная идея арийцев, по преимуществу индусов, как актуальной — семитов, главным образом евреев.
[212]Вот пример индусского мышления: «Соединение тысячи миров желания с тысячью миров переходных от первых, — образует у буддистов так называемый малый хи- лиокозм, или малое тысячное счисление миров. Третья ступень мира форм обнимает собою тысячу миров второй ступени и тысячу малых хилиокозмов, следовательно, — миллион земель, солнцев, словом — миллион миров желания с миллионом миров переходных. Четвертая ступень обнимает тысячу миров, каждый с тысячью миллионов миров первой ступени и миллионом второй. Это- великий хилиокозм. За этими мирами следует еще высший, небесный «мир бесформенности», со своими четырьмя небесами, т. е. мир, в котором нет и формы бытия, никакого признака существования. Но и этим не ограничиваются буддисты в своем стремлении увеличить число миров. Великий хилиокозм, состоящий из тысячи миллионов миров, в свою очередь дробится на множество таких же хилиокозмов. Тысяча таких великих хилиокозмов, по воззрению буддистов, составляют только ту систему мира, на которую простирается влияние Будды и где слышится его слово. Все это не больше, как точка в безграничной вселенной^ капля в море… Для обозначения числа миров пишется линия цифр в 44 тысячи футов длины, состоящая из 4 456 448 нулей
[213].
Эти довольно смутные идеи были резко и окончательно сформированы Архимедом, в его знаменитом
«Ψαμμίτιης», письме к царю Гелону
[214]. Тут Архимед показывает, что возвышениями в степень можно получить число, считающее
всякое конечное множество, как бы велико оно ни было, и что, следовательно, ряд чисел можно продолжать как угодно далеко. Ту же идею, но в менее строгой форме, высказывали каббалисты: десять чисел, «десять сфиро» могут породить собою все остальные числа, ряд которых бесконечен. «Для десяти сфиро не существует предела ни в прошедшем, ни в будущем»
[215]. Тут, конечно, я беру
только формально- арифметический смысл этих утверждений и опускаю мистико–метафизический; мне сейчас нет до последнего никакого дела.
Мы добрались до признания бесконечной продолжаемости ряда. Остается еще один шаг, последний. Продолжая числовой ряд, как угодно далеко, мы всегда будем получать числа конечные, мы никогда последовательным прибавлением единицы не пробьемся через границу конечного, как то строго доказано Кантором. Дальнейший прогресс потому состоит в том, чтобы дать процесс, создающий новые, совершенно своеобразные символы, которые бы подчиняли себе и
бесконечные множества; мы хотим охватить и расчленить серую и однообразную массу бесконечности так, чтобы в ней появилась индивидуализация. У нас не хватает, так сказать, пальцев, по которым можно было бы отсчитывать бесконечные множества. Надо их придумать
[216]. Позитивизм говорит: «И боле сего, — т. е. более конечного, — несть человеческому уму разумевати»
[217]. Георг Кантор показал, что желание позитивизма ограничить — тщетно, и мы постараемся дать самый коротенький очерк некоторых его идей.
IV
Группа[218]. — Канторовское учение об актуальной бесконечности и о символах ее все выросло на почве молодой, но уже теперь достаточно обширной науки, почти целиком им же созданной, — науке о группах (Mengenlehre, Mannigfaltigkeitslehre)
[219]. Если говорить попросту, то оно есть частный отдел такой науки. Необходимо, значит, указать, что это за наука и каковы ее основоположения
[220] [221].
Из самого названия науки явствует, что основною идеею в ней является идея
группы (Menge, Mannigfal- tigkeit, ensemble)
[222]. Но идея эта так обща и в то же время является таким необходимым условием
всякого познания, что
определять ее, согласно известному совету Паскаля
[223], не представляется нужным, да и едва ли это возможно. Тому, кто уже не имел бы идеи группы, определение ничего не уяснило бы, а тому, кто ее имеет, оно излишне, так как эта идея всегда отчетлива и ясна. Но, однако, я говорю слово
«группа» и большинству этот
термин мало–понятен; необходимо пояснить, какую именно идею мы разумеем под таким словом. Для разъяснения можно сказать так: всякий результат синтеза некоторой множественности. в единство актом духа есть группа, есть некоторая простая вещь для себя. Следовательно, наука о группах есть наука о множестве и единстве в их взаимоотношениях. Тут, по правде сказать, я применяюсь к обычному словоупотреблению и объясню через единство и множество то, что на самом деле первее их, если не логически, то гносеологически:
множество является в духе как результат отвлечения единства от группы. Мы не можем иметь идеи о множестве, не связанном никаким единством, так как оно делается единством хотя бы потому, что мыслится единым субъектом. Наоборот, единство не может быть пустым единством, единством ничего, никакого множества: такое единство ничем не отличалось бы от своего отрицания, т. е. было бы само ничем. Единство и множество, в виду этого, не самостоятельные идеи, а только соотносительные признаки идеи — идеи группы.
Заметив это, поясним далее термин группы. «Под «группою» мы разумеем, — говорит Кантор, — каждое объединение духом в целое Μ определенных, различных между собою объектов m нашего воззрения или нашего мышления (которые называются «элементы» М)» — «Unter einer «Menge» verstehen wir jede Zusammenfassung Μ von bestimmten wohlunterschiedenen Objecten in unse- rer Anschauung oder unseres Denkens (welche die «Elemente» von Μ genannt werden) zu einem Ganzen»
[224] [225].
В знаках это выражается так:
Μ — {m}.
Объединение многих групп, временно рассматриваемых, как элементы, в группу высшего порядка, если эти группы не имеют общих элементов, обозначается знаком (Μ, N, Р…), так что элементы полученной в результате группы суть совместно взятые элементы групп М, N, Р…
[226]«Частью» или «частной группой» (Thcilmcngc) группы Μ Кантор называет каждую другую группу Μι такую, что элементы ее в то же время суть элементы М. Ясно из этого определения, что если Мг есть часть Мі, a Μι — часть М, то и Мг — часть М.
Чтобы окончательно выяснить смысл основного термина
группа, я приведу несколько синонимов его. Таковы, например, выражения «совокупность», «объем» (в логическом смысле» Inbegriff)
[227] «коллекция», «ансамбль» и т. д. Примерами групп могут служить, хотя бы, совокупность точек, лежащих на некоторой окружности, совокупность всех целых чисел, совокупность книг данного автора, людей определенных убеждений и т. д.; таковы же будут собрания, совокупности известного рода чувствований, частей данного определенного количества, состояний какого-нибудь процесса и т. п.
Если определять общий термин «группа» представляется излишним, то совсем не так обстоит дело с вопросом,
когда рассматриваемая группа Μ является
определенной и когда нет. Пока это не выяснено, мы не имеем права оперировать над предлагаемой нам группой, потому что это бы значило, что мы оперируем сами не знаем с чем, с чем-то, что, может быть, и не окажется определенным и в себе законченным. Ясно, что если группа конечна, т. е. состоит из конечного множества элементов (пока это только предварительное пользование термином «конечный», так как
после его мы должны
определить), то дать группу — это значит, например, дать один за другим все ея элементы, произвести cnu- merationcm simplicem
[228]. Но необходимо ли это? Конечно нет, да иногда и не возможно, когда, например, элементов десять миллионов. Тогда группа дается тем, что по признакам всякого элемента мы можем решить, подходит ли он под данное единящее начало группы, или нет, принадлежит ли ко взятой группе, или нет и не тождествен ли с каким-нибудь из уже взятых элементов группы. Ясное дело, что принимаемые во внимание признаки должны быть таковы, чтобы своею совокупностью
решали вопрос, принадлежит ли элемент к данной группе, или нет, так как не всякие признаки позволят сделать это. Если, например, мы возьмем группу точек на окружности и некоторую точку плоскости захотим дать таким признаком, что она не лежит вне окружности, то этот признак еще ничего не позволит решить, принадлежит ли данная точка к рассматриваемой группе, или нет; в самом деле, она может быть на окружности и тогда будет принадлежать к группе, и может быть внутри окружности, и тогда к группе принадлежать не будет.
Общее определение Кантор дает в таком виде: «Я говорю, что группа элементов, принадлежащих какой- нибудь абстрактной области (ѕрһӧге abstraite),
вполне определена (Ъіеп d6fini), когда вследствие логического принципа исключенного третьего можно рассматривать, что она охарактеризована (ӓӗіегшіпб) следующим образом: 1) если выбран какой-нибудь объект, принадлежащий этой абстрактной области, то можно считать, что определено по существу (intrinsfcquement), принадлежит ли он к системе, о которой идет речь, или нет, и 2) когда даны два объекта, принадлежащие группе, то можно считать по существу определенным (внутренне определенном), равны ли они или нет, несмотря на различия, могущие представиться в способе, которым они (эти элементы) даны»
[229] [230]. Определение это необходимо несколько разъяснить, так как даже Борель
[231] говорит
[232], что «се passage… il nous a paru trfcs intdressant, mais en шёше assez difficile ӑ comprendre…»
[233].
Кантор ведет речь об абстрактной области, потому что только в такой области может быть группа, как объект научного исследования. Тогда и только тогда представления или какие другие объекты могут сделаться элементами группы, когда мы усмотрим в них некоторую общность; но чтобы эта общность могла быть подвергнута логическому анализу, необходимо получить ее актом отвлечения, и, следовательно, мы тем самым перейдем в область абстрактного.
Определенность по существу означает τό, что хотя мы, методами и средствами‚ которыми располагаем, не можем решить очень часто, принадлежит ли элемент к данной группе, или нет, но зато мы можем быть уверены, что в сущности элемента уже предопределено, что он либо подойдет под определение группы, либо нет, но сомнений на этот счет или неопределенности оставить не может. А то ведь можно было бы сказать так: возьмем группу алгебраических чисел и некоторое произвольное трансцендентное уравнение. Принадлежит ли корень его к группе, или нет? Тут по существу еще вовсе не определено это, так как нужно указать, о каком именно уравнении идет речь. В одном случае ответ может получиться утвердительный, в другом — отрицательный. Но может быть и обратно. Данный элемент, например, число π, может по существу быть определенным в своем отношении к группе, например к группе чисел, хотя весьма затруднительно решить, принадлежит ли он сюда, или нет, а иногда и невозможно практически. Одним словом, Кантор говорит о логической определенности, а не о практической определимости.
Устроенность[234]. — Пусть нам дана группа Μ = {m}. Элементы ее охарактеризованы совокупностью признаков, общей для всех их; но возможно, что эти признаки, или по крайней мере некоторые из них таковы, что, сравнивая два произвольные элемента и т" по одному из признаков (а), мы усматриваем, что они допускают
только троякое отношение: или элементы и т" являются тождественными с точки зрения взятого признака, или если не тождественными, то стоят друг к другу в одном из двух необратимых отношений, что обозначается в знаках так:
m' = m", m' >-m", m' m" (по признаку а).
Под необратимым отношением элементов разумеется такое, что если m' не равно m", то m' и m" относятся друг к другу не равноправно и не переместительно, входят в отношение не симметрично, но зато
все элементы (т), не тождественные по данному признаку а с распределяются на две части, из которых одна состоит из элементов, находящихся с m' в таком же отношении, что и m", а другая — из элементов, относящихся иначе к m", именно, как само m' относится к m". Если каждая пара элементов ш по данному признаку а имеет непременно одно из этих трех отношений между собою и, притом, только одно, то их отношение Кантор называет
отношением по рангу‚ ранговым отношением, πρότεροι› зеас
ύστερον әеата тчхҪсі
[235]. Соответственно с этим можно говорить, что m' или равно m" по рангу, или больше его, или меньше. В этом случае группа называется устроенной (geordnel)
[236] по данному признаку а. Ранговые отношения ближе характеризуются в каждом частном случае отдельно. Это может быть порядок логической данности, порядок во времени, порядок пространственного расположения и т. п. Чаще всего это бывает «отношением величин», Grossenbcziehung — больше, равно, меньше, и тогда знаки >,=, — < принимают специальный вид знаков равенства и неравенства ›, = ‚‹.
Чтобы не уклоняться далеко в сторону, буду давать самые беглые замечания. Если группа устроена по
каждому из признаков, всецело ее определяющих, то она носит название
вообще устроенной группы[237]. Число признаков, определяющих такую группу и носящих название
направлений данной группы, называется
кратностью устроения группы, так что если признаков таких 4, то группа будет четырекраты–устроенная. Вообще говоря мы, ради простоты, станем рассматривать только одиножды–устроенные группы, в которых все элементы характеризуются в своем отношении к группе только
одним признаком; но сначала поясним на двух–трех примерах, что такое устроенная группа.
Точки плоскости образуют группу двукраты- устроенную, потому что двух признаков, — двух координат, — достаточно, чтобы определить элемент. Она устроенная, потому что по каждому из признаков, например, по величине абсциссы и ординаты точек, они имеют ранговое отношение. Каждая точка может на данной линии либо совпадать с другой точкой, либо быть вправо от нея, либо влево. Музыкальное произведение — симфония, например, есть группа четырекраты- устроенная. Элементами ее служат тоны; каждый из тонов всецело определяется следующими четырьмя независимо друг от друга изменяющимися признаками: высотою, интенсивностью, длительностью и тембром. В качестве третьего примера можно дать всякую картину. Она тоже представляет собою четырекраты–у строенную группу, потому что элементы ее — точки определяются такими четырьмя независимыми друг от друга признаками: цветностью точки, насыщенностью ее цвета и положением этой точки по отношению к бортам картины, для чего нужно дать две координаты точки.
[238]Соответствие. — Пусть нам даны две группы Μ и N. Выделим в Μ некоторые части, из которых одна пусть будет Мі, и в N — части, среди которых некоторая ποлучит обозначение Νι. Свяжем эти части между собою так, чтобы произвольно выбрав Мі, мы вынуждены были остановить внимание именно на Νι, а не какой-нибудь иной подгруппе из N, и наоборот, выбрав некоторую N2, должны были остановиться на некоторой М2. Тогда мы скажем, что между группами
установлено соответствие. «Как известно, — говорит Ж. Таннери
[239] — слово
соответствие постоянно употребляется в математике: оно означает единовременную мысль о двух объектах; когда я думаю об одном из этих объектов, то думаю о другом»
[240].
Такими объектами, вообще говоря, служат части групп Μ и N, но практически нужны бывают главным образом соответствия такого рода, что каждому элементу в Μ соответствует один элемент в N и обратно, каждому элементу в N соответствует один элемент в М. Если при этом, взяв некоторый элемент ш, мы получим ему соответственный элемент п, а взяв тот же элемент η получим первоначальный элемент ш, то соответствие будет взаимным и однозначным. Такие только соответствия нам будут нужны в настоящем абрисе исследований Кантора. Чем реализуется связь между элементами, чем, так сказать, фиксируется она — это нам совершенно безразлично, так как мы рассматриваем вопрос только формально, и важным является только наличность соответствия. Эта связь может быть реализована словесной формулой (если дан элемент, то по таким-то и таким-то признакам нужно отыскать соответствующий ему п), может — формулой аналитической; можно, наконец, установить соответствие какими-нибудь конкретными операциями (геометрическое построение, например), или даже ассоциациями, если только мы можем гарантировать неизменность их на все время исследования.
Простейшим примером соответствия и притом однозначно–взаимного, является всякая нумерация; каталог музея, библиотеки есть то, что устанавливает соответствие между выставленными предметами или книгами и их названиями. Точно так же личные интересы устанавливают соответствие между театральными билетами и лицами, которым они принадлежат; нумера, написанные на местах, и нумера на билетах устанавливают соответствие между местами и билетами, следовательно, между местами и лицами, имеющими право на места, и т. д. Но эти примеры даны только для пояснения, и понятно, что в математике таким соответствиям нет места.
Взаимность и однозначность соответствия не определяет еще соответствия вполне; поэтому мы можем предъявить к нему дополнительные требования, наложить еще некоторые условия, и в некоторых случаях они будут выполнимы. Тогда соответствие получает специальный характер и обозначается соответственными знаками.
Так, например, если имеется между группами Μ и N просто взаимное и однозначное соответствие, которое ради краткости мы станем обозначать словом «соответствие», то в знаках это обозначается так: Μ со Ν, причем группы Μ и Ν, способные быть приведенными в соответствие, получают название групп
эквивалентных. Можно, кроме того, потребовать, чтобы в эквивалентных группах было при установлении соответствия сохранено их устройство, так чтобы, если Μ и N группы п–краты устроенные, то любым элементам га' и т" из М, имеющим, по к–му направлению определенное ранговое отношение, соответствовали в группе N элементы п' и п" с таким же ранговым отношением, и наоборот: если, например, m' > m", то должно быть п' ›- п" и т. д. Если группы можно привести в соответствие, удовлетворяющее этим заданиям, то Μ и N получают название
подобных или
конформных групп, а в знаках конформность их обозначается так
[241]: Μ ^ N. Мы не станем разбирать других, более или менее специальных соответствий, так как это чрезмерно увеличило бы размер статьи. Но для пояснения сказанного привести несколько примеров все-таки нужно, тем более, что они сразу знакомят с некоторыми замечательными свойствами трансфинитных групп
[242]. Как видно из изложения, до сих пор мы не должны были упоминать ни одним словом о том, конечна ли группа или бесконечна. Указанные методы одинаково пригодны для исследования того и другого и, по правде сказать, пока еще мы не знаем разницы конечной и бесконечной группы, не имеем признаков, по которым могли бы различить их. Они появляются в канторском исследовании сравнительно поздно и тут-то открывается пропасть, разделяющая конечное от бесконечного.
Итак, возьмем несколько примеров на соответствие групп. Сначала берем группы эквивалентные.
1. Группа цветов радуги (красный, оранжевый, желтый и т. д.) и группа скалы тонов (С, D, Е, Ғ…) эквивалентны между собою. Поступая для наглядности грубо, можно хотя бы выкрасить клавиши, дающие сказанные 7 тонов в соответственные 7 цветов, и тем соответствие установится
[243].
2. Группа пальцев рук и группа точек арифметического треугольника
[244]. V. эквивалентны.
3. Трансфинитная группа всех целых положительных чисел
1, 2, 3, 4, 5… ѵ…
и группа всех четных положительных чисел 2, 4, 6, 8, 10… 2v…
тоже эквивалентны. По–видимому, это — нелепость. «Ведь целых чисел
больше‚ чем четных, раз среди целых находятся четные, да еще кроме того нечетные», — скажет, вероятно, кто-нибудь. И однако в известном отношении первых
столько же› сколько вторых. В самом деле, мы можем доказать эквивалентность этих групп, de facto
[245] установивши их соответствие. Именно, соответственными мы будем считать числа вида ν из первой группы и числа вида
2ѵ из второй, где
ν принимает всевозможные целые значения. Следовательно, каждому числу ν из первой группы найдется соответственное четное число
2ѵ из второй, и наоборот, всякому числу
2ѵ из второй найдется соответственное из первой. Если символически мы станем обозначать соответственность элементов, соединяя их черточками, то нам придется соединять числа, подписанные одно под другим, и мы увидим, что всякое число нижней строчки будет связано с каким-нибудь одним из верхней, и наоборот. Строчки, так сказать, можно наложить друг на друга соответственными элементами.
4. Группа всех рациональных чисел (дробей) эквивалентна группе целых чисел. Этот факт является особенно поразительным не только потому, что среди группы рациональных чисел имеются уже и целые, но и вследствие особого свойства рациональных чисел образовывать группу, «всюду плотную». Дело в том, что между каждыми двумя рациональными числами заключено сколько угодно еще других рациональных чисел и, взяв какое-нибудь из этих чисел, мы не в состоянии указать ближайшее по величине после взятого; ближайшего числа к взятому не существует‚ потому что, какое бы близко лежащее мы ни взяли, всегда найдется другое, лежащее еще ближе. Поэтому, если бы, желая установить соответствие, мы расположили рациональные дроби в их натуральном порядке, по величине, то невозможно было бы указать числа соответствующего данному целому числу, если предыдущее (по величине ближайшее меньшее) целое число уже имеет свое соответственное. В самом деле, какое бы число рациональное мы ни выбрали в качестве соответственного взятому целому, мы непременно трансфинитное множество других рациональных дробей опустим, и в соответствие они не попадут. Казалось бы, что рассматриваемые группы не эквивалентны. Однако Кантор показал весьма простым способом, что это не так, и что соответствие можно установить, но для этого нужно только рациональные числа перетасовать и разместить в новом порядке. Тогда каждому из них окажется возможно приписать свой номер, чем соответствие установится. Располагаем наши дроби именно в таком порядке, в виде таблички:
1/1, 1/2, 1/3, 1/4… и т. д.
2/1, 2/3, 2/5, 2/7… «
3/1, 3/2, 3/4, 3/5… «
4/1, 4/3, 4/5, 4/7… «
Сделав это, не трудно выписать теперь дроби в сказанном расположении и подписать под каждой соответственный ей номер, для чего будем последовательно идти по диагоналям составленной таблицы. Получаем строчку всех дробей:
1/1, 1/2, 2/1, 1/3, 2/3, 3/1,
1/4, 2/5, 3/2, 4/1… и т. д.
и строчку соответствующих им номеров:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… и т. д.
Вследствие такого свойства рассматриваемая группа рациональных чисел, равно как группа четных чисел и многие еще другие, может быть, так сказать,
отсчитываема рядом натуральных чисел. Ввиду этого эти группы, как и все, с ними эквивалентные, носят название групп
счетовых (аЬгӓһЉаг).
[246]Но не следует думать, что всякая группа может быть приведена в соответствие с натуральным рядом, т. е. что всякая группа будет счетовой. Ближайшим примером несчетовой группы может служить совокупность всех точек какого-нибудь прямолинейного отрезка, или еще совокупность всех иррациональных чисел. На первый взгляд это кажется странным, так как, например, совокупность всех иррациональных чисел «по виду» ничем не отличается от совокупности всех рациональных чисел: и та и другая группа «всюду плотна», и та и другая имеет «пробелы», т. е. существуют среди всех чисел такие, которые не попадают в группу рациональных, равно как существуют не попадающие в группу иррациональных. Но строгое доказательство, впервые данное Кантором, бесспорно убеждает в их не–эквивалентности.
Чтобы несколько ближе выяснить смысл подобия групп, возьмем для примера группу целых положительных чисел и группу четных положительных чисел. Мы видели, что они эквивалентны; но из самого способа установки соответствия явствует, что порядок элементов в соответствии не нарушен, потому что большему элементу в первой группе соответствует и больший во второй, а элементы обеих групп расположены по величине. Следовательно, группы конформны. Хорошим примером конформных групп может служить совокупность окрашенных точек картины и совокупность окрашенных точек ее копии: по каждому из четырех направлений, указанных выше, ранговый порядок точек копии совпадает с ранговым порядком точек картины. Не останавливаясь на дальнейших подробностях, переходим к самой сути.
V
Всякая группа Μ есть некоторое целое› в которое элементы входят, как его составные части; мы предполагаем, что все эти элементы вполне различаемы друг от друга мысленно, но нам совершенно безразлично, будут ли они неоднородны или однородны, сложны или просты. Сейчас нам важно лишь то, что они различны и что они объединены в целое.
До сих пор мы рассматривали группу в связи со всеми особенностями ее элементов. Но мы можем сделать акт отвлечения от природы элементов. Тогда каждый элемент даст от себя изображение в духе–схему неразличимого единства,
единицу; группа же, как целое, даст
свой идеальный оттиск, интеллектуальный образ- схему множества, устроенного единством, или, иначе говоря, схему единства, но не пустого, а объединяющего собою множество. Получится форма различия, но различия устроенного и объединенного. Это будет некоторое общее понятие (в широком смысле), Allgcmein- begriff, universale, т. е. unum versus alia в значении unum aptum inesse multis
[247] (M. Liberatore)
[248]. Ясно, что так как мы отвлеклись только от природы элементов, то под это общее понятие подойдут все те группы, которые разнятся от данной только природою элементов, но не порядком их, например, т. е. группы подобные данной. Ведь между ними и группою Μ можно установить соответствие, так что каждому элементу Μ будет соответствовать элемент одной из таких групп, и порядки их по каждому направлению будут одинаковы.
Это общее понятие Г. Кантор называет
типом порядка группы М, Ordnungstypus, символически обозначает акт абстракции над группою через черточку, поставленную сверху обозначения группы; полученный значок обозначает результат акта–тип порядка, который обозначается у Кантора также греческою буквою. Например, тип порядка группы Μ будет Й = а. Таким образом, «если мы отвлечемся у п–краты устроенной группы Μ от природы элементов, при удержании их рангового порядка по различным π направлениям, то в нас будет возбужден интеллектуальный образ, общее понятие (universale) ‚ которое я называю η–к
ратным типом порядка‚ присущим группе М, или также
идеальным числом (а ptfl/‹ӧѕ νοητός), соответствующим группе М, и обозначаю через М"»
[249] [250].
Понятно, что тогда и только тогда Я — Ν, т. е. группы Μ и N имеют одинаковый тип порядка, когда Μ ε? Ν, и наоборот, если Μ ™ Ν, то Й = Таким образом выясняются условия «равенства» идеальных чисел.
Особенно важное место имеет тот случай, когда группа Μ единожды или просто, einfach, устроена. Этот случай мы рассмотрим далее, а пока обратимся к другому не менее важному понятию, понятию мощности.
Пусть мы опять имеем группу М. Акт двоякого отвлечения, как от природы и свойств элементов, так и от всех их отношений, а стало быть и от устройства, от порядка группы, дает некоторое общее понятие, universale, под которое подходит сказанная группа, как все ей эквивалентные. Это понятно, потому что показывая эквивалентность групп, мы обращаем внимание на данность элемента, а не на его природу или его отношение к другим элементам. Полученное общее понятие Кантор называет
мощностью (Machtigkeit, puissance) группы Μ, или присущим ей количественным числом (Cardinalzahl)
[251]. «Мощностью» или «количественным числом», говорит Кантор, мы называем общее понятие, которое проистекает из группы Μ с помощью нашей способности активно мыслить (activen Dcnkvermogens) через то, что делается отвлечение от природы разных ее элементов и от порядка их данности
[252] [253]. Результат этого двоякого акта отвлечения обозначается через знак группы, но с двумя черточками сверху, или же готи- ческой_буквой, так что, например, мощность группы Μ будет Μ = «♦
Само собою ясно, что если мы возьмем тип устройства α для группы М, то, делая над α акт отвлечения от порядка составляющих его единиц, мы получим мощность группы Μ и вместе с тем мощность типа а, которою он несомненно обладает, так как сам он есть устроенная группа единиц. Итак,
(M) = М = а = N.
Отсюда, между прочим, следует, что Μ ∞ Μ ∞ М, точно так же, как конформность Μ и Μ: Μ ∞ М.
Рассмотрим еще некоторые свойства мощности. По определению мощности, можно сказать, что тогда и только тогда
Μ = Ν, когда Μ ∞ Ν,
и наоборот, если
Μ ∞ Ν, то Μ = N.
Другими словами, эквивалентные группы имеют одинаковые мощности, и наоборот, одинаковые мощности принадлежат только эквивалентным группам. — Точно так же ясно само собою, что если Μ со М' ‚ N со Ν' и т. д. QcoQ', то и группы сложения будут эквивалентны, т. е. будут
(Μ, N, Р… Q) со (М'‚ N', Р', и Q'). —
Вот те символы, до построения которых мы добирались. Эти мощности и типы порядка, носящие у Кантора общее название трансфинитных чисел, служат могучим средством для оформления хаотического, когда оно сказывается в бесконечном. И в то же время они являются символами для познания Бесконечного, но написанного не с «б», а через «Б». В этом последнем смысле они только приближают нас к постижению Его, только намекают «как зеркалом в гадании», но намекают лучше, яснее и выразительнее, чем многое другое. Причина этого в том, что они относятся непосредственно к Трансфиниту, стоящему как бы на середине между абсолютною полнотою и конечным, и по некоторым свойствам напоминают Бесконечное. Но прежде чем указать на кое- что из этой области, должно тщательно рассмотреть одно обстоятельство.
VI
Мы подошли к тому критическому пункту, который до Кантора приводил всех исследователей в замешательство и постоянно препятствовал развитию учения о Трансфи- ните.
Для равенства количественных чисел достаточно эквивалентности соответствующих им групп. Но мы уже видели, что часть группы может быть эквивалентна целой группе; так, например, можно установить соответствие между группою всех целых чисел и частью этой группы — числами четными. Точно так же группа точек, заключенных в отрезке, равном длиною двум единицам, эквивалентна группе точек в отрезке равном одной единице. Подобным же образом Кантор доказал, что последняя группа эквивалентна совокупности всех точек внутри некоторого квадрата, например, со стороною в одну единицу длины. Последнее кажется чрезвычайно странным, так как внутри такого квадрата помещается сколько угодно — трансфинитная группа — таких прямолинейных отрезков, и на каждом из них расположено по трансфинитной же группе точек, эквивалентной первой. Выходит, что, так сказать, часть бесконечно малая в отношении к целому равна ему. Такие примеры или им подобные, способны заставить усу мниться в законности актуальной бесконечности. «Ведь четные числа суть только часть всех чисел целых; точки на прямой будут частью всех точек пространства. Как же часть может равняться целому? Не доказывает ли это внутренней противоречивости наших понятий о количественных числах, когда мы относим их к трансфинитным группам?
Если от бесконечной прямой отрезать конечный кусок, то длина ее не изменится. Неужели это не нелепость?» — вот что говорили и говорят против трансфинитных групп и чисел, их счисляющих. Я бы устал, перечисляя имена авторитетов, как в области богословия и философий, так и в области математики, указывавших на разные лады и в разных, часто весьма хитрых, перефразированиях, на такое обстоятельство. Кто только не делал из него мишени для своего диалектического остроумия, для испытания своей правоверности, для моментального уничтожения идеи Бесконечного. Кардиналы и малоизвестные монахи, сильные и свободные мыслители и лица, пресмыкающиеся в сознательной тенденции, авторитеты и неавторитеты, имя которым легион ‚ разные головы всячески упирали на этот факт, одни — из чистого стремления к истине, другие — из желания во что бы то ни стало настоять на своем; одни думали уничтожить этим пантеизм, другие надеялись раздавить теизм. И, удивительное дело, противоположная тенденция соединила врагов к общей бесполезной трате сил. Мало того, каждый, копая яму другому, не замечал, что тем самым подводит мину под себя самого. Один противник говорит, что актуальная бесконечность немыслима и что мир, поэтому, не будучи бесконечным, не может быть самосущим. Другой заявляет: «Да, я согласен, что актуальная бесконечность немыслима, внутренне противоречива: вы правы, утверждая, что это — contradictio in adjecto
[254]. Но раз так, то… и Абсолютное, как бесконечность, есть contradiclio in adjccto. Извольте, я согласен признать Бога, но не сущего, а
только становящегося. В каждый момент Он — конечен, и беспрестанно
приходя в бытие, он по справедливости может быть, назван бесконечностью, но… только потенциальной».
Чтобы разъяснить эту трудность, вернемся к первоначальным определениям. Пусть Μ есть некоторая устроенная группа. Тип порядка ее не меняется, если мы произведем на ней попарные перестановки элементов, так называемые транспозиции. Можно было бы подумать, что вообще, как ни расставляй элементы, все будет получаться один и тот же тип порядка. Но, оказывается, что это так только тогда, когда группа конечна; всякую данную нам перегруппировку конечного числа членов мы можем привести ко всякой другой последовательными транспозициями и, следовательно, всякая конечная группа, пока в ней остаются прежние элементы, имеет один и тот же тип, который здесь носит название «число». Это есть то, что мы называем числом в обыденной речи, в арифметике и т. д. Таким образом, для конечной группы, — и в этом ее определение и характеристика, — тип порядка,
число‚ не зависит от порядка элементов, а только от данности самих элементов. Значит, если только конечные группы эквивалентны, то они и подобны, имеют одинаковые типы (тут речь идет о группах просто устроенных). А раз так, то для конечных групп тип порядка и мощность делаются неразличимы; все равно, о чем говорить, о типе ли, или о мощности, и это-то обстоятельство вводило всех в заблуждение. Это специальное свойство конечных групп хотели во что бы то ни стало натянуть и на группы трансфинитные и, когда это не удавалось, то объявляли последние невозможными. Во множестве существующих доказательств против возможности актуальной бесконечности имеется приблизительно одно и то же pctitio ргіпсіріі
[255].
Предполагают от противного возможность актуальной бесконечности, затем говорят, что она должна иметь свое отражение в духе — «бесконечное число»; после этого
подсовывают более или менее ловко в определение такого числа свойства или одно из свойств
конечных чисел и, наконец, торжественно заключают о внутренней противоречивости «бесконечного числа», а следовательно, и актуальной бесконечности. Вся процедура эта однако очень невинна, потому что на самом деле доказывает путем длинных и изворотливых соображений, что числа бесконечные или, что то же, числа /^-конечные не могут быть конечными. Но нужно было более 30–ти лет работы, чтобы в корне уничтожить все такие попытки^ которыми хочет баррикадироваться horror infiniti
[256] ‚ скрывающийся за ними.
Относительно конечных групп Кантор доказывает далее
[257] [258], что у них часть группы никогда не эквивалентна целой группе; но однако, если мы
не предположим конечности группы, то «это предложение перестает быть справедливым, и тут, — говорит Кантор, — лежит глубочайшее основание существенного различия между конечными и актуально–бесконечными числами и группами, различие, которое так велико, что мы в нем имеем оправдание называть бесконечные числа вполне новым родом чисел. Математики и философы издревле не могли справиться с этим камнем преткновения, и большинством было постановлено считать непоколебимо и упорно, что его нужно противопоставить всем попыткам сделать дальнейший шаг в учении о бесконечных; поразительна живучесть этого древнего и, несмотря на свою ложность, укоренившегося принципа, именно, «что является противоречием, если бесконечной группе Μ будет приурочено то же число и ее части М»
[259] [260].
Пусть М=(М', М"), так что М' — часть М. Что, собственно, мы говорим, когда утверждаем, что в некоторых случаях может быть М' = М? только то, что группы М' и Μ находятся под одним и тем же общим понятием, которое получено через отвлечение от природы и порядка элементов в одной из этих групп; в других терминах это скажется так: группы М' и Μ эквивалентны, они имеют одно и то же число. «Но с какого времени, — спрашивает Кантор, — стало противоречием видеть, что составная часть целого в каком-нибудь отношении стоит под одним и тем же «universale» как целое? Может быть на это можно возразить, что, конечно, вообще бывает› что целое и его составная часть могут стоять под одним и тем же «universale», но только здесь дело идет об особом виде общих понятий, о числах, и для чисел это не имеет места. Тогда, — продолжает Кантор, — с моей стороны можно было бы потребовать, чтобы было приведено доказательство последнего утверждения, по которому у чисел в сказанном направлении имеет случай исключительности. Быть может, правда, этого доказательства будут искать здесь и там; но удается оно тогда только, если молчаливо привносится предположение, что дело идет о конечных группах, а это предположение — именно то самое, которое здесь нужно устранить. Но чтобы предотвратить, насколько я в силах, бесполезные хлопоты, я хочу осветить дело еще яснее и замечу следующее: утверждать, что группе Μ приурочено то же самое количественное число, как и ее составной части М', вовсе не равнозначаще с высказыванием, что конкретным группам Μ и М' присуща одна и та же реальность‚ так как, если даже выполнено условие равенства у принадлежащих им общих понятий Μ и М', то этим не опровергается предположенный факт, что группа Μ охватывает реальность М', как и реальность М". Разве группа и ей принадлежащее количественное число не вполне различные вещи?
Разве не противостоит нам первая, как объект, тогда как последнее есть абстрактный его образ
в нашем духе? На древнее, так часто повторяемое положение: «totum est majus sua parte»
[261] можно без доказательства соглашаться только в отношении сущностей (ЕпШӓІеп), лежащих в основе у целого и части; тогда и
только тогда оно есть непосредственное следствие из понятий «totum» и «рагѕ»
[262]. К несчастью, однако, эта «аксиома» применяется бесчисленно — часто без всякого основания и под опущением необходимого различения между «реальностью» и «величиною» или, соответственно «числом» группы; она употребляется именно в том значении, в каком она
вообще ложна, раз только дело идет об актуально–бесконечных группах, и в каковом значении для конечных групп она верна
только на том основании, что здесь мы не в состоянии доказать ее правильность»
[263]. Рассмотренный выше пример ряда целых чисел, который несомненно богаче элементами, чем группа четных чисел, и однако имеет с последнею одинаковое количественное число, ясно показывает, в чем тут дело и окончательно разъясняет слова Кантора.
Характеристика и определение трансфинитных групп заключается именно в том, что группы эти суть, так сказать, общие группы; они равномощны с некоторыми из своих частей, и всегда можно найти часть, имеющую такое же количественное число, как и целая группа. «В непризнании этого обстоятельства, — говорит Кантор
[264] [265], — я вижу главное препятствие, которое с древнейших времен было противопоставлено введению бесконечных чисел». Но нужно помнить, что этим именно обстоятельством характеризуется, можно сказать, группа вообще, и только в виде исключительно–специального случая может оказаться, что среди всех групп, составленных из элементов данной, только одна — она сама же эквивалентна себе. Тогда этот специальный случай получает название
«группы конечной».Итак, группа конечная есть один из возможных случаев группы вообще; она определяется вполне строго, как группа нетрансфинитная, и мы можем изучать ее удобнее всего, исходя из общей идеи о группе. Сколько-нибудь внимательный взгляд открывает каждую минуту трансфинит в себе, в окружающем. Идея бесконечного пронизывает остальные, их связывает в единый образ, и, в свою очередь, предполагая Бесконечное, дает символическое познание Абсолюта.
VII
Чтобы показать, как именно строит Кантор свою иерархию символов для познания актуально–бесконечного, необходимо в нескольких словах разъяснить
алгебру трансфинитных чисел, определить, что такое значит производить те или другие
действия над этими символами. Вообще говоря, произвести действие над символом, каков бы он ни был, это значит совершить мысленный переход от одного символа, с которым мы оперируем, к некоторому другому, так, что результат перехода зависит: I) от оперируемого символа, 2) от природы (genus proximum)
[266] данной операции и 3) от специального определения данной операции, в отличие от всякой другой, стоящей под тем же genus; эта спецификация делается тоже при помощи некоторого символа, однородного с оперируемым. Для краткости мы, согласно Schubert'y
[267], станем называть оперируемый символ — символом
пассивным‚ а символ, определяющий действие —
активным. Так, например, если мы прикладываем к 3 число 2, то 3 есть пассивное число, а 2 — активное.
Укажем это, сделав это замечание, на определение действий над группами, мощностями и типами порядка.
Если имеем две группы Μ и N
без общего элемента, то
соединение их (Vereinigungsmcnge)
[268] мы, как сказано, обозначаем знаком (Μ, N). Пусть Μ = и, N = b. Тогда знаком,
картиной‚ и+b, согласно Кантору, обозначается мощность группы (Μ, Ν), так что
и + b = Μ + Ν = (Μ,Ν) (1)
Разумеется, «складывать» или «прикладывать» понятия, идеальные схемы, каковыми являются мощности, нельзя; под суммою мощностей совершенно условно мы разумеем некоторое третье понятие, прежние в себе ни в каком смысле не содержащее, а только связанное с ними нашим условием и некоторыми своими признаками. Необходимо, однако, показать законность нашего определения (1), т. е. показать, что символ (и+b) всегда имеет смысл и что он есть нечто определенное. Но это ясно, так как (Μ, Ν) есть группа, если только Μ и N — группы; раз так, то всегда можно отвлечься от порядка, взаимоотношений и природы элементов ее и получить ее мощность, которая обозначена через ц+b. Кроме того ц+ b зависит только от ц и b; в самом деле, и и b одинаковы для всех групп, равномощных с Μ и N. Поэтому, если в (Μ, Ν) мы заменим Μ и N через M'wM, ‚ Ν' со Ν, то получим (Μ, Ν)<(Μ\ Ν') и, следовательно, и+b не изменится. Из определения (1) ясно, что
потому что b+и получится, как (N, М), но так как от порядка элементов для образования мощности мы отвлекаемся, то ясно, что (Μ, N) = (N, М). Но, кроме переместительности, сложение мощности еще и сочетательно, так что (это легко доказать)
и+ (b+ с) = (и + b) + с (3)
Если мы имеем трансфинитную группу с мощностью и и присоединим к ней группу с конечной мощностью, которую обозначим через ν {ν — не сама конечная группа, а ее тип), то получим группу равномощную с М. Следовательно, на основании сказанного, получаем такие равенства, на первый взгляд парадоксальные:
и+1 = 1 + и = и↘
(4)
и+ѵ = ѵ + и = и ↗
Далее Кантор дает определение
неравенства мощностей и устанавливает, когда их считать больше некоторой другой, когда — меньше
[269] [270]. Отсюда вытекает, что
наименьшей из всех трансфинитных мощностей является мощность счетовых групп. В трансфинитной алгебре она играет основную роль и обозначается еврейской буквой алеф со значком нуль
[271], Ν
0. Это число удовлетворяет, например, таким равенствам:
Νо+1 = N + ν = N
νо + Νо = Νо (5)
Νо + Νо Νо + Νо = Νо
Переходим теперь к перемножению мощностей. — Под
группой связи (Μ. N) (Vcrbindungmcngc)
[272] Кантор разумеет ту группу, которая получится, если
каждый элемент ш группы Μ мы связываем с каждым элементом π группы N и, принимая за элемент эту связь какой- нибудь пары элементов (ш, п), образуем из них группу. Итак,
{Μ.Ν} = {(m n)}; (6)
мощность полученной группы Кантор называет произведением мощностей и и b, так что
u*b = M. N={M. N}; (7)
на основании этого определения доказывается переместительность умножения, его сочетательность и распределительность относительно сложения, так что иЉ = Ъ. и (8)
и.(b. с) = (ц. b). с (9)
u.(b + c) = u. b+u. c (Ю) Подобным же образом доказывается, что и. V = Ѵ. И = 11 (11) и т. п.
В частности,
N0. p — β Ν0 ' Ν0·Ν0 = Ν0
Ν0.Ν0.Ν0…Ν0 =Ν0<
Последнее действие, которое надо еще установить, есть действие возвышения в степень, потенцирования. — Возьмем группы Μ и N. Каждому элементу π группы N мы можем сделать соответственным какой-либо из элементов группы М, причем один и тот же элемент ш может быть взят сколько угодно раз. Таким образом, получается некоторый закон подчинения или
приложение (Belegung) группы N к группе М. Если хотя бы один из элементов N получит другой, соответственный ему, элемент т, то мы имеем
другое приложение N с М. Совокупность всех таких приложений, объединенная в целое, носит у Кантора, название
группы приложения (Belegungsmenge)
[273] N с Μ и обозначается знаком (Ν|Μ). Ее-то мощность и есть то, что играет роль степени в излагаемой теории, так что
RSi4N]M> (13)
Как и в случае умножения, это определение оправдывается тем, что пь зависит только от и и b. Из формулы (13) вытекают свойства этого действия:
(14)
и\b = (иЉУ (иьу = и"
Можно доказать, что какая угодно мощностыц, возвышенная в степень самое себя, дает результат непременно больший, чем она сама:
mw › hi
Отсюда уже ясно, что построение все больших И больших мощностей никогда не может остановиться и все глубже и глубже заходит в область трансфинитного, устремляясь к абсолютному максимуму по лестнице
W ш1 Ш ttl III
III, lit, III, llt; и т. Д.
Но Кантор дает еще другой способ построения скалы бесконечных чисел. Чтобы раскрыть его, нам придется сказать несколько слов о трансфинитных типах, именно о типах просто–устроенных групп.
Под
просто–устроенной (einfachgeordnct)
[274] группой Кантор, как сказано, разумеет группу такую, что, руководствуясь одним каким-нибудь признаком, всегда можно решить, который из двух элементов т' и т" предшествует другому. Отвлечением от природы элементов мы получаем схему устройства этой группы, закон ее расположения. Но так как в эту схему, в этот «тип порядка»
[275] свойства и особенности элементов не войдут, то ясно, что некоторые перестановки элементов не изменят его, а другие, наоборот, изменят. Первые, так сказать, обменивают местами элементы равноправные, вторые же затрагивают структуру ряда. Это станет яснее, если мы возьмем в виде примера ряд натуральных чисел, тип которого обозначается через ω. Доказывается, хотя это почти что ясно само собою, что ряд
1, 2, 3, 4, 5…Ѵ,
не имеет последнего члена. Положим, что мы переставили элементы его, так что ряд получил вид:
Тогда тип порядка его, структура его не изменилась. Но если мы переставим элементы каким-нибудь таким образом:…7, 6, 5, 4, 3, 2, 1; или 1, 3, 5, 7, 9…2, 4, 6, 8, 10… или 1, 3, 5, 7…8, 6, 4, 2, то тогда схема изменяется.
Пользуясь сказанным определением типов порядка и еще другими, Кантор расширяет на эти типы действия алгебры; оказывается при этом, что, впрочем, не трудно было предвидеть, что умножение и сложение, оставаясь распределительными, перестают быть перемести- тельны, так что [вообще говоря]
α +
β φ β + α
α.β*β.(χ[276]Например,
2,ω = ω, но ω.2 = ω + ω, почему…2.ω * ω.2.
Среди типов порядка играют роль особенно важную, так называемые,
«числа порядка» (Ordnungszahlen)
[277], это — типы некоторых специальных групп, именно, групп
«благоустроенных» (wohlgeordnet)
[278]. Последние группы таковы, что сами они, как и каждая их частная группа, имеют
первый элемент. Путем очень тонких соображений Кантор показывает, что числа порядка обладают характером величин, т. е. каждая пара таких чисел либо равна, либо одно из них больше другого. Вследствие этого оказывается возможным расположить все такие числа по одной скале и, пользуясь «производящими принципами», указанными Кантором и позволяющими продолжать ее как угодно далеко, охватить всякое множество. Ввиду того, что наименьшее из чисел порядка есть число ω, является интересным строить эту скӑлу, исходя из ω, и это нужно сделать хотя бы так:
1, 2, 3… і›…
ω, ω + 1, ω+ 2, ω + 3… ω +
ω.2, ω.2 + 1, ω.2+ 2, ω.2 + 3… ω.2 + ρ…
ω.//, ω.μ + 1, ω.μ + 2… ω.μ +
ω
[279], ω
2+1… ω
2 + ω.μ + ν… ω
3… и т. д.
Картиною для обозначения этих символов, охватывающих какое угодно многообразие, может служить такая, по выражению Керри (Kerry), «вавилонская башня»:
ω ω ω ω.
Дав эти отрывочные замечания, мы возвращаемся к нашим мощностям и покажем теперь, как строится их скала. — Каждый тип имеет свою мощность, равную мощности и группы, из которой мог бы быть получен тип. Но данному количественному числу, данной мощности, соответствует тип не один, а трансфинитное множество. Последнее обозначается знаком [и] и носит название класса типов. Группа [п] имеет, как и всякая группа, свое количественное число и', причем и' больше и. Число это а называется числом, определенным через класс типов [и]. Возьмем же наименьшую из мощностей Nq. Совокупность· всех типов, т. е. типов счетовых групп, имеющих мощностями N0, сама уже, как доказывается Кантором, не есть группа счетовая; этот класс типов [N0] имеет мощности {NJ, ближайшую, после N0 и потому группа [N0] не может быть «сосчитана» числом N0. Подобным же образом мы получим последовательно все большие количественные числа Ν2, N…Ny…, причем каждое из них способно охватить сооою, «счесть» совокупность всех типов, имеющих мощность, равную предыдущему числу этой скалы. Скала эта восходит все выше и выше беспредельно. Но из того, что мы можем забираться все далее и далее, не следует, что мы можем дойти и куда угодно. И в самом деле, если бы мы могли индексами при этих N ставить только натуральные числа, — конечные «числа порядка», — то построенная скӓла не охватывала бы собою всякой мощности. Последнее достигается введением чисел порядка уже не конечных, а трансфинитных в качестве указателей, и тогда получается, наконец, лестница все возрастающих и сверх всякого, в том числе и какого-нибудь трансфинитного, предела поднимающихся чисел:
Nq, N^ N2,…‚ Νω, Νω1,…Νω 2» Νω,2+ι,…Νω2,…Νω…
ω ω ω
VIII
Тут изложены, по возможности кратко, те из канто- ровскиҳ идей, которые ближе примыкают к вопросам философии религии. Другие его идеи имеют более математический и обще–философский интерес, и среди них нельзя не отметить одного из перлов -учения о непрерывном, которое, по словам Таннери
[280] ‚ является первой работой за более чем 2000–летний промежуток после исследования Зенона Элейского
[281].
Но не является ли важным затронуть еще один вопрос, это именно вопрос о творчестве Г. Кантора и о скрытых двигателях его деятельности? Мне кажется, да, и я, вероятно, не ошибусь, если захочу охарактеризовать Г. Кантора, как типичнейшего еврея, «израильтянина, в котором нет лукавства»
[282] ‚ а насквозь своеобразный дух его работы, — как дух лучших представителей нации. Пожалуй, даже, более того, Г. Кантор является завершителем еврейства, он, так сказать, ставит точку над і, как бы подводя итоги, формулируя и точно определяя в логических терминах многовековые идеи своей нации…
Постараюсь показать это, хотя сознаю, как трудна такая задача, и предвижу возможную неудачу: биографические данные о Канторе нигде не опубликованы и поэтому фактический материал чрезвычайно скуден. Приходится интерполировать чутьем, но, создав себе представление о его личности, чрезвычайно затруднительно доказать правомерность своего взгляда.
Плотно скованы цепляющиеся друг за друга колечки стальной кольчуги, которой защищает себя Кантор от ядовитых, но для него игрушечных стрел современного мировоззрения. Он неуязвим за своею тесно–сплетенною сетью теорем. Стройно вытекают друг из друга теоремы. Каждое слово отчеканено и так пригнано на свое место, что в компактном изложении Кантора нельзя выбросить ни одной буквы, чтобы не нарушить целостности всего. — Но когда мысль так отделана, когда изложение приведено в классическую форму, напоминает античное, тогда трудно разглядеть за этой твердой оболочкой, что, собственно, создало ее и с какою целью. Только иногда прорываются изнутри неукротимые пламена; огненные языки проносятся над стальной сетью, и только обожженный ими догадываешься, какой огонь был импульсом творчества. Но как выделить эти неразрывно соединенные с целым пламена? Они меркнут и гаснут, оставляя только чувство теплоты, если мы оторвем от их рдеющего источника. Демонстрировать их возможно только для поэзии, но не для моего реферата. Лучше и не пытаться уловить неуловимое. Лучше прямо сказать: вот, что я видел и, надеюсь, каждый, из пожелавших ознакомиться с работами Кантора, может увидеть…
По своему рождению Г. Кантор был еврей. Семья португальских евреев, от которой впоследствии произошел он, разделилась на две ветви; одна из них эмигрировала в Данию и произвела известного историка математики М. Кантора, другая выселилась в Россию и здесь, в 1845 г. в Петербурге родился Георг–Фердинанд–Людовик–Филипп Кантор. Одиннадцати лет (в 1856 г.) он выехал в Германию; там он получил воспитание, образование и, наконец, профессуру. Он до сих пор профессорствует в Halle. Я намеренно подчеркиваю эти данные формулярного списка, потому что еврейское происхождение Кантора дает ключ к пониманию его творчества.
Прежде всего это сказывается в удивительной выносливости, в напряженности работы и в умении ждать и терпеть. Десять лет Кантор таит в себе идеи, не давая знать о них в печати. Конечно, если бы это было в XVI столетии, то тут не было бы ничего особенного. Но кто знаком с современной литературой и знает, как дрожат многие за приоритет в каких-нибудь пустяках, как иногда мысль совсем непродуманная, недоразвитая, необработанная попадает в журнал, тот не может не удивляться выдержке Кантора. Он отказывался от известности и славы, на которую, несомненно, имел полные основания рассчитывать, пренебрегал суетным желанием написать нечто вроде того, чем создаются репутации, и шел мимо модных вопросов (мнимое переменное и т. д.).
Одинокий и непонимаемый, сидит он в своем Halle и обдумывает, упорно обдумывает, нет ли в его идеях ошибок и невязок, не ведет ли его учение к пантеизму, который, очевидно претит его еврейской душе. Мысль приводит к необходимости признать Трансфинит, а с другой стороны его религиозному сознанию нужно законченности, формы, личности; колеблющийся и неопределенный призрак Бога монистов, безликого и бесформенного, недопустим для него. Нет ли
тут противоречия с признанием Трансфинита? Но вот мучительный вопрос разрешен отрицательно. Нет, Трансфинит не только не противоречит теизму, но даже требуется им. «Традиция, всегда высоко–почитаемая»
[283] (его слова) Кантором, оказывается сохраненной и подкрепленной; но это достигнуто не тенденциозными попытками извратить истину, логически данную, не путем явных или скрытых подтасовок, а ценою упорного размышления и неуклонного движения вперед. Позитивизм есть мутный слой, через который надо
пройти; отступление и бегство не помогут, и болотный огонь пойдет за убегающим.
Постулат совпадения результатов религиозного опыта и научных данных получил лишнее подтверждение. Противоречия оказались мнимыми. Мало того; оказалось, что идея трансфинита предполагает уже идею Абсолюта и, признав первую, мы не имеем права отвергать второй.
Тогда Кантор обнародывает свои первые работы, как из рога изобилия быстро посыпавшиеся одна за другой в целом ряду журналов. Плотина прорвана напором внутренней силы, внутренняя полнота хлынула мощным потоком. Кантор, буквально, изливается. Его статьи имеют поразительный характер пелитературпости. Он забывает о том, что он пишет, он на бумаге творит, потому что не может не творить, но это–не для публики.
Его, конечно, публика не понимает. Чего нужно ему? Для философов он «философствующий» математик, для математиков — метафизик, для индифферентных — он подозрительно религиозен, — как бы тут не было подвохов; для теологов он будто бы опасен: «не ведут ли эти умствования к пантеизму?» — вот задняя мысль теологов. Даже поклонникам Кантора «трудно предсказать будущее такого нового (recente) труда, который, впрочем, представляет более интереса с точки зрения философской, чем будущей пользы развития математики». Это говорит Таннери
[284], один из первых нарушивший bоп ton
[285] и заговоривший в благовоспитанном обществе, которое было шокировано такими чересчур оригинальными новшествами, о работах Кантора. «Попытка столь смелая, — говорит Таннери далее, — что трудно следовать за нею, может привести к неожиданным результатам. Интересно знать, к какой философской школе принадлежит [такой] мыслитель, как Г. Кантор…» Во всей этой цитате характерен тон нерешительности и смущения; видимо, что человек несколько растерялся и не может выяснить своего отношения. И это говорит математик, воспитавшийся на истории математики, человек, который мог бы видеть историческую необходимость появления новых идей!
Очень медленно эти новые идеи получают признание. Математики с опаскою пользуются трансфинитными числами, философы пробуют применить их для своих целей (Вундт
[286]) ‚ хотя при этом дело не обходится без непонимания и путаницы. Теологи, которые ранее заявляли: «то, что Г. Кантор назвал Transfinitum in na- tura naturata
[287] ‚ не может быть защищаемо в известном смысле», которого, однако, по их же признанию, Г. Кантор «по–видимому не дал», такое понимание
(не данное Кантором) будет содержать заблуждение пантеизма, теперь эти теологи, после множества разъяснений и толкований со стороны Кантора, делаются мягче и соглашаются, наконец, «что в так понимаемом, как я вижу до сих пор, — пишет Кантору один богослов, — вашем понятии трансфинита не лежит
никакой опасности для религиозных истин»
[288].
Затем Кантор из «М. G. Cantor» превращается в «Eminent savant de Halle»
[289], его идеи делаются темами для диссертаций, и развитие их создает целую литературу.
По–видимому, можно было бы на этом успокоиться; однако этот мыслитель не из легко успокаивающихся. Более двадцати лет еще бьется он, тратит массу труда и сил, чтобы дать изложение более тщательное, взглянуть на дело с новой точки зрения. Щепетильность у него необычная и, чтобы подправить какие-нибудь, на взгляд читателя, почти неуловимые промахи, он заново переделывает еще и еще свои мемуары, дополняет, разъясняет. В то же время он изучает затрагиваемые им вопросы исторически, перебирая старых писателей, и можно только дивиться, откуда брались у него силы на чтение огромной литературы всех веков. Он тщательно изучает математиков, богословов и философов, особенно древних, так как сам он считает себя непосредственным продолжателем Платона и Аристотеля. Мистические и схоластические сочинения привлекают особое его внимание, и он изучает авторов, даже имена которых никому, кроме ученых специалистов, неизвестны.
Но эта напряженная работа не проходит даром, и внутренний огонь сжигает его. Тяжелая психическая болезнь периодически прерывает его деятельность. Кантор сходит с ума, потом поправляется, чтобы выпустить мемуар, посвященный все тем же дорогим для него вопросам, или закончить начатый до болезни, потом снова заболевает, может быть, от сделанного чрезмерного напряжения мысли, и так повторяется несколько раз. Но действие и сейчас еще не закончилось, пьеса не сыграна, и мы ничего не знаем о развязке; только можно догадываться о печальном конце, самом печальном для такого ясного ума, как Г. Кантор…
Когда читаешь его в первый раз, то можно думать, что все эти кристально–прозрачные мысли в их ясном и детски–бесхитростном изложении, в высокой степени напоминающем музыку Моцарта, что это полное отсутствие внешнего эффекта и показной учености свидетельствуют о легкости самой работы; так стройно следует из теоремы теорема, так изумительно кратки доказательства, так естественно идет весь ход мысли, что невольно обманешься и хочется воскликнуть: «Да ведь это так все очевидно и ясно, что не стоило говорить!» И в порыве все охватывающей радости начинаешь думать, что все это было уже известно ранее, так быстро срод- няешься с канторовскими идеями. Но, если вчитаться в его письма, пораздумать, сколько времени и невероятного напряжения нужно было Кантору, чтобы дойти до окончательной формулировки, и принять во внимание, какие грубые ошибки делали тончайшие мыслители, рассуждая о тех же вопросах, тогда видишь, что вовсе это не просто и, наоборот, нужно было чисто–еврейское упорство, чтобы преодолеть все трудности и продумать до конца. В доказательство, могу сослаться на то, что Paul Du-Bois Rcymond
[290] ‚ всеми принимаемый за тонкого мыслителя, тоже занимался этими вопросами почти одновременно с Кантором и хотя, насколько мне известно, имел возможность ознакомиться с результатами Кантора (по его первым мемуарам), однако более запутал дело, чем создал что-нибудь положительное, а он, повторяю, весьма тонок. Но он не горел и не был моноидеистом, а просто занимался исследованием, тогда как Кантор шел напролом к определенной цели, — верил. При этом интересно заметить, как при всех исследованиях у Кантора основной идеей является идея актуальной бесконечности, а у дю–Буа Реймона потенциальной; можно подумать, что и тут сказываются расовые особенности обоих ученых.
Всякий помнит, конечно, чеканную характеристику еврейского народа, сделанную Вл. Соловьевым в ряде сочинений
[291]. Я не смею тут прибавлять что-нибудь от себя или изменять, не могу даже портить ее изложением. Просто напоминаю. Если вспомнить ее, то даже беглого просмотра сочинений Кантора достаточно, чтобы увидать, как ярко он выразил в себе лучшие черты еврейства, все «теократические добродетели» своего народа. Тут прежде всего бросаются в глаза две основные и характернейшие черты. Это, во–первых, крайнее развитие самочувствия, самосознания и самодеятельности, внутренняя мощь, так сказать,
устойчивость личности. Пусть другие кругом Кантора увлекаются всевозможными модными течениями, насущными потребностями науки, «текущими делами». Он прекрасно понимает, что творится кругом него, но сам ни на волос не отклонится от
своего пути, от
им выбранной цели. Эта цель однако не есть каприз, любопытство или собственное желание, и в том — вторая характерная черта. Это — повеление свыше, а Кантор, как еврей имеет религиозность до самопожертвования. Если Соловьев говорит о Моисее: «Несмотря на все соблазны египетской теософии и теургии, «верою Моисей велик быв, отвержеся нарицатися сын дщери Фараоновы и верою остави Египет, не убоявся ярости царевы»
[292]‚ то то же mutatis mutandis
[293] хочется сказать о Канторе, только роль магии в этом случае будут играть все условности науки его времени, соблазны почти без труда, магически, делать исследования из готового.
«Покинь скорей родимые пределы,
И весь твой род, и дом отцов твоих,
И, как стрелку его покорны стрелы —
Покорен будь глаголам уст Моих.
Иди вперед, о прежнем не тоскуя,
Иди вперед, все прошлое забыв,
И все иди, — доколь не укажу я,
Куда ведет любви Моей призыв».
Он с ложа встал и в трепетном смущеньи
Не мог решить, то истина, иль сон…
Вдруг над главой промчалось дуновенье
Нездешнее — и снова слышит он:
«От роднҕіх многоводных халдейских равнин,
От нагорных лугов Арамейской земли,
От Харрана, где дожил до поздних седин,
И от Ура, где юные годы текли, —
Не на год лишь один, Не на много годин,
А на вечные веки уйди».
(Вл. Соловьев. «В землю обетованную»)
[294]И он покидает дом отцов своих, — современную науку, современное миросозерцание. Он идет более 30–ти лет, и это не есть просто научная работа, просто терпеливое исследование. Прежде всего это подвиг великой веры, веры в возможность создать для бесконечного символы.
«Чистым сердцем и крепкой душой
Будь Мне верен в ненастье и в ясные дни;
Ты ходи предо Мной
И назад не гляди,
А что ждать впереди —
То откроется верой одной».[295]
Если мы ничто перед Абсолютным, то все же мы — нравственно однородны с Ним, мы можем постигать Его, но не прямо, а в символах; мы носим в себе трансфинитное, сверх–конечное, мы, — космос, — не являемся чем- то конечным, прямо противоположным Божеству мы — трансфинитны, «середина между всем и ничем»
[296]. Но тогда надо показать, как это возможно. И вот 30 лет работы идут на оправдание этой веры. Кантор
не знает‚ к чему поведет работа; все говорит против возможности такого оправдания, все с усмешкою качают головой, но Кантор не творит себе кумиров. Он покидает свою работу — почву взрастившей его традиции и науки, и мимо всех соблазнов устремляется в неизвестность, в пустыню чистой мысли? К чему же он стремится? К тому, чтобы создать «храм», создать символы для Бесконечного. Он хочет видеть реализацию Божественных сил, хочет убедиться, что она возможна, и ему нужно это скорее. Ему нужно показать, что идея Трансфинита не противоречива внутренне, что она законна и необходима. Иначе нет нравственной однородности космоса и Божества, нет и не может быть «договора», мы не можем самоопределяться и действовать от себя, не делаясь пустыми автоматами, которых дергают за нитки.
Тут сказывается в сильнейшей степени «религиозный материализм» Кантора. Призрачность мира кажется ему такой же выдуманной, как и мир мертвого механизма. Новейший идеализм, современный позитивизм кажутся ему чудовищно–дикими, не по отвлеченности своей, а потому, что они уничтожают реальное, конкретное и личность, живую личность. Он горячо сражается с номинализмом и академическим скепсисом, потому что ему нужно осязать реальное и живое; материализм претит Кантору не менее.
«Чем отдаленнее цель, тем более нужно сил и мужества, чтобы в нее верить и идти к ней. Если даже теперь, после основания и видимого распространения христианства, так трудно человеку подвигаться к бого- человеческой дели, то во сколько труднее было служить христианству за две тысячи лет до Христа? Вот в чем недосягаемое величие этих полудиких кочевников, которые у гор и высоких дубов ханаанских клали первые камни будущего вселенского храма! Перед ними не было ничего ясного и определенного, все их упования были в тумане далекого будущего, а в настоящем они должны были только слушаться, только верить»
[297]…. Эта черта преданности высшей Воле, всегда сохранявшаяся в духе нации, сказалась в сильнейшей степени и в данном случае; думается, что канторовские работы правильно будут рассматривать, как новые камни, положенные на стены храма той же нацией.
Если Кантор, как личность, является живейшим образцом еврея, то его мировоззрение носит характер того же едва ли не в еще большей степени. Идея законченной бесконечности, как у абсолютной личности — Бога, так и у человеческой, есть достояние еврейства, а эта идея есть, кажется, самое существенное основание у Кантора. В то время как другие, арийцы, признают только потенциальную бесконечность, «дурную», неопределенное и неограниченное, его душе мысль о невозможности актуальной бесконечности кажется чудовищной. Он не может помириться с нею и ищет средств оправдать свою веру. Даже самая потенциальная бесконечность для него важна лишь под условием не неопределенного возрастания, не беспредельности в буквальном смысле, а под условием стремления к пределу, к актуальной бесконечности, как своей идеальной цели. Обычно смотрят на потенциальную бесконечность, на прогрессирование sub ѕрссіс finiti
[298] глазами мира сего. Кантор же смотрит на нее с другой стороны, с точки зрения ее цели, видит sub specie infinitatis
[299]. Он видит, как «проходит образ мира сего».
[300]И в такой противоположности воззрений ясно выступают еще раз те основные настроения, которые создают идею человеко–божества, конечного, всегда остающегося конечным и качественно себе подобным, но желающего становиться все выше и выше, Богочеловечества, «становящегося Абсолютного». Это — та же противоположность, что и в словах змея–искусителя:
«будете, как боги» и словами Писания: «вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы…»
[301]Вероятно, все знают «пасхальную песнь» евреев. Вы помните, конечно, решительную настойчивость, грубо говоря, почти назойливость в мольбах к Богу. Эта неотступность в просьбе, это богоборство, «не отпущу, доколе не благословишь», в высшей мере характерно для творчества Георга Кантора, и я думаю не смогу лучше окончательно разъяснить смысл его деятельности, как приводя текст этой песни
[302]. Вон он:
«Боже Всемогущий, ныне близко и скоро храм Твой создай, скоро, в наши дни, как можно ближе, ныне создай, ныне создай, ныне создай, ныне близко храм Твой создай! Милосердный Боже, Великий Боже, кроткий Боже, всевышний Боже, благий Боже, сладчайший Боже, безмерный Боже, Боже израилев, в близкое время храм Твой создай, скоро, скоро в дни наши, ныне создай, ныне создай, ныне создай, ныне создай, ныне скоро храм Твой создай! Могущественный Боже, живый Боже, крепкий Боже, славный Боже, милостивый Боже, царствующий Боже, богатый Боже, великолепный Боже, верный Боже, ныне не медля храм Твой восставь, скоро, скоро, в дни наши, не медля, скоро, ныне создай, ныне создай, ныне создай, ныне создай, ныне скоро храм Твой создай!»
Спиритизм, как антихристианство
(По поводу двух поэм; «Лествица». Поэма в VII главах А. Л* Миропольского, 1902; А. Белый. Северная симфония (1–ая героическая). 1903) I
«Скорпионовское»
[303] беспристрастие дало мне недавно возможность сопоставить две поэмы, заглавия которых выписаны выше, и, что всего интереснее, обе они посвящены одной и той же теме, заняты одной мыслью — изобразить шествие человека к «аи ‹ЈеІӑ»
[304]. Обе поэмы и в понимании всего этого процесса, и во взгляде на сверхчувственный мир представляют такую полную противоположность, так всецело становятся на почву взаимно–исключающих друг друга воззрений, что это сопоставление напрашивается так же невольно, как невольно для себя определяешь разницу их. Даже в языке, в чисто внешней форме разница такая, что и она намекает на противоположность мировоззрений. Одна поэма, «Лествица», написана в стихах, преднамеренно старающихся принять вид прозы; другая — прозой, местами доходящей почти до стихотворной формы. В первой — разлагающийся ритм, во второй — организующийся хаос. И в параллель этому, — предвосхищаю свою мысль, — первая поэма говорит о духе материализующемся, духе
деспиритуализирующемся, так сказать, теряющем свои духовные свойства; другая–о материи одухотворяемой, материи дематериализирующеися, лишающейся материальных особенностей. То же и в настроениях. Глухие, тупо угасающие в сыром тумане оклики; холод и тьма, в которой мерцают фосфорические светы; внутренняя разъединенность, отрешенность и хаос, так что даже индивидуальность разлагается и расплывается: уныние и тяжесть — вот основные черты в подавленных настроениях Миропольского.
Чистые звуки серебряного колокола, раздающиеся в ясном воздухе; тепло и все заливающий свет; внутреннее единство всего, связь, цельность; нет расплывчатости: даже образы по существу расплывчатые (вечность, печаль) принимают ясно очерченные формы, с обведенными контурами; радостное упование и легкость душевная, — вот черты в замирающих предвкушением и исполненных радостной печали настроениях Андрея Белого.
Еще большая противоположность в развиваемых концепциях. Для автора «Лествицы» Бог не имеет никакого отношения ни к миру, ни к духам, ни к действию поэмы. Он–где-то в высотах, недостижимых даже полету мистического восприятия, Он — предельное понятие, возможность для духов бесконечно совершенствоваться, никогда не перестать восходить по «Лествице» все выше и выше, более и более развивать волю отрешением от желаний. В мрачной холодной эволюции — каждый за себя; тут нет места первородному греху, как нет места искуплению, а есть буддийская карма, есть воплощение еще и еще, есть страдания сами по себе очищающие. Вместо признания греховности и надежды на исцеление вечно давит какое-то неопределенное чувство нечистоты. Нет окончательного, законченного. Всюду и во всем — только потенциальная, «дурная» бесконечность. Из христианства имеется единственно только распятие в виде какого-то амулета, притом недействительного против низших духов (р. 66); и оно так неожиданно и неестественно упоминается, что хочется видеть в этом недосмотр.
Наоборот, для автора «Симфонии» Бог реален до осязательности; «На вечерней заре сам Господь Бог, весь окутанный туманом, бродил вдоль зарослей и качал синим касатиком». Он — здесь, теперь
[305]. Наши усилия не есть что-то мнимое, вечно стремящееся, но никогда не достигающее цели, нечто оставляющее еще и еще возможность желания. Нет, еще усилие, напряжемся в последний раз, — и мы в неизъяснимом трепете детской радости
внезапно входим в окончательную и последнюю стадию, получаем свой идеальный облик. Мы в неустойчивом равновесии и даже не сами по себе можем получить этот облик; деятельная молитва вытаскивает «затонувшего брата» из пучины. Темные наследственные силы, греховность, тяготеют над нами, соблазняют, и грех готов захватить в свою власть; но есть искупление из его власти, верное прибежище — Христос, и темные силы должны выпустить свою добычу. Везде и во всем — законченность, законченная, «актуальная» бесконечность. И все заполнено светом, ровным и мягким, и детскостью.
Впоследствии вернусь еще к сравнению обеих поэм, но сначала рассмотрю каждую в отдельности,
II
«Лествица» не есть произведение литературное в обычном смысле слова; каждая буква в этой удивительной поэме кричит, что она не продукт свободного творчества, а документальное описание ряда видений, проносящихся тяжелым сном. Скажу даже больше, можно предположить, что это не есть сочинение Миропольского, а простая запись «под диктовку» духов. Читая поэму, невольно представляешь себе автора, как он с холодным, почти безжизненно–бледным медиумическим лицом, может быть в трансе, автоматически заносит на бумагу кошмарные нашептывания духов, обращаясь в какой-то телеграфический аппарат; «в его организме, будто лишенном личной души, проходят души умерших». Сначала то, что он видит, расплывчато; это -
Широкий волнистый туман,
Безбрежное море видений (р. 29).
Потом формируется. Клубы тяжелых испарений носятся перед неподвижным взором.
Туман колыхнулся, из тысячи лиц
Мятущихся, жалких он слит:
Так стая испуганных птиц
С разбега летит на гранит (р. 29).
«Мертвящий испуг» вызван темным духом, «прорывающимся с шумом» сквозь духов земных; глаза этого духа светят пламенем угрюмым.
Я царь над телесным, —
восклицает он, —
Я тело родил,
Я буду владеть и душою.
Это место в связи с дальнейшим мне представляется вовсе не неясным. Стоит только припомнить воззрения некоторых гностиков, напр., Маркиона, «первенца сатаны», Керинфа, «врага истины», Сатурнина, Василида, Карнократа и др., стоит сопоставить с этим учение современных люциферистов
[306]‚ чтобы видеть, к чему клонятся воззрения автора, или должны клониться, если быть последовательным. Творец материального мира есть низшее начало, мешающее и сопротивляющееся эволюции и через тело хотящее поймать и души. Тут он именуется Демоном; у гностиков это — Демиург, у люциферистов — «черный бог», Адонаи, раздраженный и ревнующий. Ему остается тело, а душа должна устрашиться, бежать от Него, устремляясь к «белому Богу» люциферистов или, как в данной поэме, к «Богу». Необходимо бегство от материи. Одним словом — это тот самый отрешенный спиритуализм, который делает невозможным и ненужным искупление, потому что нельзя спасти то, что по своей сущности, по природе есть зло, так что даже сам Демон «к Богу подымется смело», когда «умрет непокорное тело»; а души нечего искупать, так как они сами, собственными усилиями освобождаются от тела и идут вперед.
Общие воззрения «Лествицы» на жизненный процесс и на устройство духовного мира не заключают в себе ничего существенно нового: это — слияние некоторых гностических взглядов с системами Дэвиса и Ривэля, известного более под именем Аллана Кардэка
[307]. Сюда же весьма естественно примыкают некоторые из воззрений неоплатоников, необуддизма и доктрины теософического общества. Но, говорю, это–не новость. Подобный синтез в той или иной форме пользуется
как религия («спиритическая религия») огромным распространением, так что уже с 1870 года нужно считать число приверженцев «спиритической церкви» более 20–ти миллионов: по словам д–ра Рһііірѕ'а, в одном Париже этих «верующих» имеется около 400 ООО, а в Льеже почти четверть населения принадлежит к той же церкви (Ј. Воіѕ)
[308]. Мало того, в Бельгии существуют целые деревни, которые большею частью населены спиритами. Имеется тут свой храм, свои религиозные собрания, свой культ умерших; спиритизм, открыто разорвав с католицизмом, разрывает и с христианством. «Мы, — говорили спириты упомянутому выше Ј. Воіѕ, — имели когда-то над бюстом Аллана Кардэка распятие, но мы заменили его Иисусом–магнетизером»
[309]. Впрочем, это как нельзя более последовательно, и от А. Кардэка и Бла- ватской до люциферистического «евангелия» Albert'a Pike'a только один шаг, притом шаг почти необходимый. «Оккультизм, спиритизм и теософия
[310] [311], — говорит Воіѕ, — примыкает более или менее к люциферизму. Их ведет один и тот же дух гордыни и непосредственного удовлетворения» и, насколько можно судить стороннему зрителю, все эти системы в более или менее явной и сознательной форме носят в себе враждебность, доходящую иногда до ненависти, к «официальному» Богу, к Адонаи, и некоторый культ Восставшего, будет ли этот Восставший называться у них просто Богом, «белым Богом», Люцифером, Прометеем, Паном или как-нибудь иначе. Да если бы всего этого и не было в них, то последовательность требует того; раз Творец мира действует недолжно, надо восстать против Него, надо почитать всякого восстающего, а отсюда и культ.
Напрасно Валерий Брюсов так заботится о спиритизме: отрицают не факты; пусть они есть; исследовать их — дело психологов. Факты, если не все, то многие, засвидетельствованы, и с научной точки зрения они очень интересны. Но это не то, не то, и не о фактах идет речь! Нам хотят поднести не факты, даже не теории, а религиозно–философскую систему, спиритическую религию. Мы прекрасно понимаем, к чему она обязывает нас, к каким выводам принуждает и к каким последствиям ведет. Многое можно принять из спиритических теорий, но лишь постольку, поскольку они не выходят из области психологии, физиологии и т. п. Но когда нас хотят незаметно перетащить в область метафизики и мистики, когда вместо научных воззрений нам хотят подсунуть усовершенствованный позитивизм‚ то мы будем упираться и руками, и ногами. Это слишком серьезно, более серьезно, чем думают занимающиеся верчением столов. Признать спиритическую религию есть только первый шаг; а далее покатишься с ереси на ересь и логически, и нравственно, — непременно прикатишься к культу Антихриста. Чтобы делать такой шаг, по меньшей мере приходится задуматься, и то чувство нечистоты, которое остается после сеансов у очень многих, тот мертвенный вид медиума, который указывает на овладение им каких-то, во всяком случае не благих, сил — все это намекает, с чем (или с кем) мы имеем дело. Спиритизм, которым занимаются не научно, в большинстве случаев есть суеверие. Что же касается до научного изучения, то нам, чуждым этой специальной ветви психологии или пневматологии, соваться в исследование так же нелепо, как нелепо было бы, если бы кто, не зная физики и не будучи подготовленным, стал исследовать, например, радиоактивные явления потому только, что они кажутся ему любопытными или важными. Так что в этом смысле зазывания Валерия Брюсова странны, чтобы не сказать более того, и приглашение к дилетантизму едва ли может быть желательным. — «Спиритизм, — говорит он, — для новых мистиков ненавистен, потому что все порывается к опытным наукам». Это — неправда. К опытным наукам многие из «новых мистиков» стремятся, сами ищут подтверждения и обоснования всюду, и в том числе на спиритических фактах иногда, но «новые мистики» имеют Христа, и никакой спиритизм (как религиозная система, а не факт) не соблазнит их к отпадению и блужданию в туманах и мгле; если приходится порой пробиваться силой через твердыни естественных наук (чтобы убедиться, впрочем, что был прекрасный выход), то неужели мы остановимся перед мглою спиритизма? Во всякой деятельности, исходя из каких бы то ни было данных, субъект подымается до нового, более совершенного, чем сами данные, принципа; а далее, отбросив леса, которые оказываются или уже ненужными, или даже ненадежными, субъекта начинает выводить из найденного принципа, который оказывается ценным независимо от лестниц, по которым мы до него добрались. Таковы, напр., законы энергии в физике, «закон двойственности» в геометрии и т. д.
По разным тропинкам и с разных сторон подымались мы, но сошлись в одной вершине, в высшем принципе — Христе. Теперь нет дела до наших дорожек, быть может, обходных и неудобных. Все наше мировоззрение есть христология; из Христа мы можем выводить, на Нем строить, Им поверять, Им объединять и в Нем жить.
Но если основу для мировоззрения в поэме Мирополь- ского составляют идеи общеизвестные, то громадная заслуга автора ее в том, что он объединил эти идеи в нечто целое, привнес мало–свойственный настоящему люциферизму, хотя им требуемый логически, отвлеченный аскетизм и представил отвлеченные и несколько расплывчатые идеи религиозно–метафизического характера в художественной, конкретной форме. Но не менее замечательна и чисто внешняя сторона поэмы. Своеобразный песенный склад стиха, многообразность ритма, соответствие звуков и содержания делают поэму интересной. Возьмем несколько примеров. Вот, хотя бы, «песнь гусляра».
Когда уснут все люди
Мертвым, тяжким сном
Божья воля буди На сердце моем (р. 36).
Как будто в туманном ночном воздухе раздаются эти прорицающие звуки; нет резонанса и слова глухо падают комьями влажной земли. Да в сущности говоря, вся поэма есть поэма умирания, гимн «смерти милой». Или посмотрите «песнь похода». Отрывистые, шипящие и свистящие шумы, суровость и резкость звука, холодная и режущая жестокость:
Щит о щит, Меч о мечі Ветр свистит! Дышит сечьї (р. 38).
Нескольких стихов достаточно, чтобы воссоздать душевное настроение воинов, отважных, закаленных в боях, суровых и жестоких. Но, впрочем, этот именно размер, которым написана «песнь похода», и подобная же эстетическая идея имеют свой прецедент у Тютчева («Песнь скандинавских воинов»)
[312], хотя я не могу, разумеется, говорить что-нибудь о заимствовании.
Обратимся к содержанию поэмы. Конечно, я решительно отказываюсь портить поэму своим изложением: укажу только схему.
Над миром и «ужасным телом» царит Демон, очевидно, тот самый, который говорит во вступлении: «Я царь над телесным, я тело родил, я буду владеть и душою». Духи несовершенные, полу–духи называют Его — Богом.
Этот Демон принял вид монаха и «как черный холодный упырь» влетел в монастырь; «он был между овцами волк, но пастырь монахам примерный». Монах–Демон несколько напоминает Великого Инквизитора Достоевского и высказывает подобные же взгляды о необходимости «великого кумира», без которого людям показалось бы хуже, так как он дает им успокоение. «Мир бестелесный нам, странник, не нужен», — говорит он. — Духи ждут освобождения от Демона, освобождения во имя какого- то «без–образного, Образ–имеющего», Бога, какого-то «Безвестного», о котором говорится в поэме довольно глухо; она, впрочем, ничего не потеряла бы, если бы о нем вовсе ничего не говорилось, так как такой Бог имеет характер «ненужной гипотезы» и является отголоском глубины гностиков; de facto Богом в поэме является некий Старец, лик которого «дышит волей живою», и помощник его Князь.
И долго тянулись пека,
И Демон царил на земле,
А верные ждали борца–старика,
Проведшего жизнь в мучительном зле,
Чтоб зло он познал
И проклял познанье опять,
Чтоб чист, как нетленный кристалл,
Он мог перед смертью стоять.
Наконец он родился и своим помощником взял некоего «избранника», Князя. После некоторых подвигов Князь узнает от Старца свою миссию:
Говорит ему старец:
«Познай, не однажды текло
Земное твое прозябанье.
В душу тебе налегло
Много былого сознанья.
Ища и стремясь, ты не знал,
Что свершаешь волю былую.
Былого врага ты искал,
Теперь я его указую.
Как черный, холодный упырь,
Гонимый мучительным страхом,
Дух сильный влетел в монастырь
И в нем поселился монахом.
К нему ты, избранник, придешь,
Как ниіций с святою мольбою;
Под рясой предательский нож
Внезапно блеснет пред тобою.
Ты Демона тело разрушь,
Отдай себя в грешные руки.
И станешь властителем душ,
Пройдя непомерные муки…» (р. 43).
Эта ужасная мысль как наваждение привязывается к читателю, и начинаешь против воли сочувствовать Князю в его безумии; это нечто вроде «Красного цветка» Гар- шина, но гораздо безумнее, потому что дело идет о жизни человека, который был «пастырь монахам примерный». Князь исполняет поручение, как было сказано ему; за это его сжигают.
Но вот разгорелся костер и в пламени ярком погас
По небу скользнул метеор, и пробил борьбы непредвиденный час (р. 64),
час окончательной борьбы между Старцем и Демоном. Старец «полн вражды к Господину (Демону)… он верит в величие счастья без воли разбитого тела. Он грозные знает заклятья и с Демоном борется смело». Борьба заканчивается тем, что «Демон в бездонность низринут!».
Я передал схему этой поэмы и повторю еще раз, что эта «лествица», имеющая «сотни ступеней к холодному величию», представляет грандиозную концепцию позитивизма, несомненно анти–христианскую: в представлении Миропольского она приобретает высокий художественный интерес, как конкретное изображение метафизических и религиозных идей.
Перейду теперь к поэме Белого.
III
Первое, что замечается при чтении «Симфонии», это — особая музыкальность, не то чтобы певучесть или полнозвучность, а какой-то своеобразный ритм. В нескольких словах трудно объяснить, в чем он заключается, но я все-таки попытаюсь.
У речи обыденной имеются свои задачи: требуется выражаться кратко, или точно, или не повторяться и т. п. Все такие условия препятствуют свободной кристаллизации речи, и получается вследствие этого неправильно сложившееся, аморфное звуковое тело. С другой стороны, стихотворная речь налагает свои стеснения; тут требуется певучесть, рифма, ритм; все это уже необходимо и своею неподатливостью жмет речь, являясь для нее чем-то внешним, извне накладываемым и чуждым самой сути фразы. Эти требования опять мешают правильной организации речи, как речи; если ее предоставить себе, то стих будет неудачен; если же нет, то преобладает внешняя форма, содержание же отступает на второй план, являясь аккомпанементом (Бальмонт).
«Симфония» А. Белого есть попытка устранить все возмущающие причины и дать речи выкристаллизоваться в свободной среде, дать возможность для молекулярных сил языка идти по их естественным путям и сложить организованное, изнутри целое, а не аморфную массу. Одним словом, тут идет речь об искусстве чистого слова и, как симфония в музыке есть музыка по преимуществу, чистая музыка, так и произведение А. Белого является опытом искусства слова по преимуществу перед всеми другими видами поэзии. Это — требование свободы; но не свобода произвола, а признание, что речь, как таковая, сама по себе есть нечто ценное и гармоничное в своих особых законах, что она может иметь собственные цели — вот каким требованием задается, по–видимому, А. Белый. Поэтому, если внутренний дух фразы требует рифмы — появляется рифма; но это не навязанная, так сказать, рифма, а необходимая. Для большей ясности рассмотрю несколько примеров.
«Что-то свежее звучало в реве дерев, что, прошумев,
вздрагивали и застывали в печалях» (р. 22).
Тут рифма воспроизводит шум леса и внезапный порыв ветра, и она требуется содержанием и формою фразы. До «что» идет crcscendo
[313]‚ постепенно приближающийся шум верхушек, которые накреняются. После «что» diminuendo
[314]; волна уходит, и верхушки дерев качаются в другую сторону.
А вот, например, звон стеклянных колокольчиков, звонкий и холодный.
«…О, цветы мои чистые, как кристалл! Серебристые!
Вы утро дней…»
«Золотые, благовонные, не простые — червонно–сонные,
лучистые, как кристалл, чистые».
«В утро дней»
«И кричал ликуя: «Все нежней вас люблю я»» (pp. 67–68).
Это — голоса безразличных сил природы, пляшущих ритмически — Или еще подобострастье и ухмыленье:
«Выходил проклятый дворецкий, гостей встречая,
Горбатый, весь сгибаясь, разводил он руками, говорил
улыбаясь» и т. д. (р. 83).
Точно так же появляется естественно, в силу внутренней гармонии языка, аллитерация; то же надо сказать и о чисто–внешней ритмичности.
Засмеялись они громко. Их увидел простачок.
Захихикал, пригрозив им
Тонким старым пальцем.
По той же причине является известная звукоподражательность, и в смысле полноты гармонии между содержанием и звуками некоторые фразы не оставляют желать ничего лучшего, хотя это не искусственная гармония, а такая, что в свободно развивающейся речи она бы не могла не быть. Например, «холодная струйка ручейка прожурчала: «Без-<? ре–менье…»».
Тут так и чувствуешь холодок прозрачной ключевой воды, и прямо слышишь звуки водяной струи; подчеркнутые слоги прямо выхвачены из музыки воды, оправдывая слова Гофманна: «…музыкальный тон тем совершеннее, чем более приближается он к какому-нибудь из таинственных звуков природы, еще не отторгнутых от ее груди».
Подобными, часто совершенно примитивными средствами, А. Белый создает целую глубоко–перспективную картину, например:
Стволистая даль темнела синевой. Между стволов ковылял козлоногий лесник, Пропадая где-то сбоку (р. 22).
Это «пропадая где-то сбоку» прямо открытие и лучше воспроизводит сосновый или еловый лес, чем сколько угодно картин. — Или вот еще:
«…прижимал рыцарь руки к груди, поглядывал
на козла и пел грубым басом: «О козлоногий брат мой!»…»
Как ни просты слова, а лучше едва ли можно было изобразить грубый, охрипший от громкого крику голос грубого рыцаря. — А вот это место:
1. Лес был суров.
2. Между стволов в дни безумий все звучал голос волхва, призывая серебрянотонких колдуний для колдовства.
3. В дни безумий:
4. «С жаждой дня у огня среди мглы фавны, колдуны, козлы, возликуем».
5. «В пляске равны, танец славный протанцуем среди мглы!.. Козлы!..
6. «Фавны» (р. 65).
Черные лохматые тела ритмически извиваются при свете костра. Напряженный оргиазм достигает высшего состояния — и вдруг все цепенеет при внезапном ударе литавров: «фавны!», глухо обрывающихся, будто положенных на мягкое. Это — воспроизведение в слове того же, что у Грига и Сен–Санса в музыке.
Пока я говорил только о внешнем ритме «Симфонии». Но главный ритм в «Симфонии» — внутренний ритм, ритм образов, ритм смысла. Этот ритм напоминает возвра- щаемость темы или отдельной фразы в музыке и заключается в том, что зараз разливаются
несколько тем различной важности; внутренне они едины, но внешне — различны. И вот такие темы перемежаются и разделяются друг от друга только паузами. Но так как нет постепенных переходов от одной темы к другой — темы как бы перебивают друг друга, то необходимо помимо внутреннего объединения и некоторое внешнее; это достигается повторением некоторых фраз — стихов. Например, темами одной из частей служат: переживания мрачные и нечистые рыцаря; святые молитвы королевы; жизнь леса и, пляски в нем, великаны. Последние две темы служат как бы фоном для развивающейся трагедии. Жизнь леса и чародей изображают силы природы, сами по себе не злые, но и не добрые, еще не определившиеся ни к добру ни ко злу· Это — природное человечество. Гиганты же, с бледнокаменными лицами, надрывающиеся над перетаскиванием туч, представляют
титаническое в природе и человечестве, т. е. природу, поскольку она сама есть нечто реальное, сильное и до поры до времени богоборствующее (Иаков)
[315]. Но это–не просто самоутверждающаяся тварь, самоутверждающаяся в качестве твари, а нечто, сознающее свою
мощь, но не определяющее ее границ. Придет час, и, повредив себе ногу в непосильной борьбе, оно попросит благословения у Божества и смирится перед Всемогущим. Вот эти темы, перебивая друг друга и в то же время тесно переплетаясь между собою, создают величавую трагическую часть симфонии, сообщают ей особую полноту. Обычные произведения можно сравнить с одноголосой музыкой, эту придется сопоставлять с полифонной…
«Северная Симфония» по своему содержанию имеет сказочно–апокалиптический дух. Апокалиптичность ее заключается, однако, не в том, чтобы в поэме изображались события Апокалипсиса; этого нету, и даже четвертая часть «Симфонии» «Откровению» никак не соответствует. Апокалиптичность — в настроениях; от начала и до конца постепенно нарастает сознание близости рассвета; сквозь решетку сказочных слов все время звучит ликующее пение «Христос воскресе из мертвых»… и слышится задыхающийся шепот: «Убелили одежды кровию Агнца…»
[316] Почти невыносимая жуткая радость без образов и определенных представлений парализует поток бывания, и убеждаешься опытом, что «времени больше не будет».
«Глубоким лирным голосом кентавр кричал мне, что с холма увидел розовое небо…
…что оттуда виден рассвет…
Так кричал мне кентавр Буцентавр мирным голосом, промчавшись как вихрь мимо меня.
…И понесся вдаль безумный кентавр, крича, что он с холма видел розовое небо…
…Что оттуда виден рассвет…»
В «Симфонии» четыре части. Первая из них, сказочно–героическая‚ переносит читателя в германский мир. С новою живостью звучат воспоминания детства, когда мы упивались народными сказками германцев, когда не могли представить себе короля без красной мантии, обшитой золотом, и интересовались вопросом, как король надевает шапку, раз у него на голове всегда зубчатая корона. Где-то в отдалении происходит действие первой части. В глуби веков виднеется героическое, и лента с рядом картин проходит перед созерцанием. Потом появляется трогательно–наивное и даже аляповатое; чудятся перепевы Гофмана. Но аляповатость мила; будто ребенок мечтает в наивных формах о важном и серьезном; хочется ему украсить это важное всем, что у него есть под рукҙми, и он украшает сусальным золотом и мишурой, бумажными розами и цветными тесемками от покупок…
Героическое уступает повседневному. «Серебро блеснуло в кудрях у короля. Морщины бороздили лицо матери», — и хочется плакать детскими слезами и горевать детским горем о стареющем короле и бедной королеве. Холодно делается. «Королева выходила в теплом одеянии, отороченном горностаем. Почтенный король прятал свои руки в рукава от стужи. Он любил топтаться на месте, согреваясь. Его нос краснел…» Собиралось все королевское семейство в своей изразцовой комнате и пряталось от вьюги. «Молодая девушка дремала на коленях державной матери. Отец, сняв свою красную одежду и оставшись в белом шелку и в короне, безропотно штопал дыры на красной одежде и обшивал ее золотом…»
«Так проходил год за годом…»
Легкая печаль и легкая радость, детство и сказки кончились. Начинается вторая часть симфонии, трагическая. Зловеще–резко кричат медные трубы; гнусаво вторят им фаготы. Легкость уступает место резким и тяжелым переломам. Контуры заполняются, персонажи перестают быть абрисами, появляется глубокая светотень. Темная наследственность, греховность и нечистые призраки кивают и улыбаются и тянут к себе. С другой стороны, святое перестает быть только безгрешным; оно становится выше греха, делается силой, хотя отчасти укрощающей нечистое. Святость и греховность борются и напрягаются до последних сил. Моменты умиления; иногда нечисть подавлена, чтобы с еще большей силой вспыхнуть после. Изнемогают. Прорывается грех, последнее столкновение и… удар грома. А силы природы во все время борьбы и после журчат и переливаются, и играют чистыми и холодными аккордами, успокаивающими после этой борьбы и громового удара. Медленно и тихо заканчивается вторая часть.
«Чародей протягивал руки винно–золотому горизонту, где расползался последний комок облачной башни, тая, и пел заре: «Ты смеешься, вся беспечность, вся, как вечность, золотая, над старинным этим миром»…»
«Не смущайся нашим пиром запоздалым… Разгорайся над лесочком огонечком, ярко–алым…» (р. 69).
Если в первой части — индивидуализм, если там человек является природным человеком, еще не благим и не злым сам по себе, то во второй части — борьба между реальным и идеальным содержанием, попытка все, мешающее идеальному, подчинить этому идеальному. Из германского мира мы переходим к славянскому, от героя к святому, от человекобога к Богочеловеку.
Холодные серые дни. Дождь и ветер и пожелтевшие листья. Осенние песни…
Так начинается третья часть, драматическая. Тоскливо и серо от свершившегося падения. Кощунствами и сатанизмом хочется наполнить пустоту души. Последний проблеск сознания и мучительный вопрос. Титаническое делает последние усилия, изнемогло, готово смириться. И святость, одержав последнюю победу, и грех, — все проходит. Печаль и ожиданье: доколе, Господи, доколе?..
Начинается четвертая часть, мистическая и прекрасная. Обстановка меняется, и мы попадаем в чистилище. Полупрозрачность и мягкий матовый свет. Проваливаются тяжелые сны и кошмары. Вспоминается старое, воскресает прошедшее. «Тянулись и стояли облачка. Адам с Евою шли по колено в воде вдоль отмели. На них раздувались ветхозаветные вретища. Адам вел за руку тысячелетнюю морщинистую Еву. Ее волосы, белые, как смерть, падали на сухие плечи. Шли в знакомые, утраченные страны. Озирались с восторгом и смеялись блаженным старческим смехом. Вспоминали забытые места…» (р. 103).
Невольно хочется прервать изложение и напомнить слова старца Зосимы.
«…Старое горе, великою тайной жизни человеческой, переходит постепенно в тихую умиленную радость: вместо юной кипучей крови наступает кроткая ясная старость; благословляю восход солнца ежедневный, и сердце мое по–прежнему поет ему, но уже более люблю закат его, длинные косые лучи его, а с ними тихие, кроткие, умиленные воспоминания, милые образы изо всей долгой и благословенной жизни, — а надо всем-то правда Божия умиляющая, примиряющая, всепрощающая! Кончается жизнь моя, знаю и слышу это, но чувствую на каждый оставшийся день мой, как жизнь моя земная соприкасается уже с новою, бесконечною, неведомою, но близко грядущею жизнью, от предчувствия которой восторгом трепещет душа моя, сияет ум и радостно плачет сердце» (Достоевский).
[317]Вот это-то настроение воплотил А. Белый в ряде конкретных образов, и сделал это очень искусно. Возвращаюсь к изложению.
В этой стране — чистилище, «обитало счастье, юное, как первый снег, легкое, как сон волны». «Здесь позабыли о труде и печали! Ни о чем не говорили. Все забыли и все знали! Веселились, не танцевали — взлеты- вали в изящных междупланетных аккордах. Смеялись блаженным водяным смехом…»
Всеобщая задушевность и полная мудрость. Прощение. Едва слышный орган, а, может быть, то камыши поют хорал радости и умиления. Даже титаническое склоняется перед Всевышним и прощено.
Последняя ночь. Все трепещет радостным ожиданием грядущего. Уже заря. «Ударил серебряный колокол…»
IV
Как у А. Миропольского, так и в значительно большей степени у А. Белого, в их поэмах, несмотря на общую выдержанность, имеются некоторые промахи и фальшивые ноты, очень досаждающие при чтении. Но так как наши критики заняты по преимуществу выискиванием недочетов в критикуемых произведениях, то я предоставляю эту часть разбора охотникам до выуживания чужих ошибок, а сам вернусь к содержанию обеих поэм.
«Лествицу» Миропольского можно назвать поэмою анти–христианекого позитивизма. «Симфонию» же Белого — поэмою мистического христианства. Этим, конечно, я вовсе не хочу сказать чтобы по содержанию своему первая поэма была позитивизмом, а вторая христианством. Нет, но основное настроение первой поэмы есть то самое, которое заставляет мечтать о бесконечной эволюции, о «хрустальном дворце» и жизни без Бога реального и живого. В этом мире, однако, индивид исчезает, а он-то и хотел быть «как боги»; в этом мире бесконечная эволюция невозможна, человеческая культура непрочна; в этом мире, наконец, мы не имеем никаких оснований надеяться на могущество, которое бы по своему произволу управляло вселенной, на силу воли. Как индивид, так и род, уничтожаются рано или поздно. Если так, то все претензии позитивизма, очевидно, нелепы. И вот, тут придумывается замечательно хитроумный обход всех возражений. Все, что ранее говорилось о материальном мире, теперь переносится в область чисто–духовную, в мир духов. И тут, по- прежнему, имеется эволюция, «к величию холодному сотни ступеней», и самоутверждение, и беспредельное увеличение своих сил. Тут мы имеем дело с самым страшным и могучим врагом христианства и, как бы ни казались воззрения, подобные данным, фантастическими, или мало обоснованными, или даже нелепыми, они являются особыми верованиями и, в качестве таковых, представляют несравненно большую анти–христианскую силу, чем все скептические соображения вместе взятые. Как бы ни был тонок скептицизм, верить в него нельзя, потому что он не имеет собственного содержания; а так как вера необходима, то скептик в конце концов возвращается по другой дорожке к тому же, что оспаривал. Спиритизм же, как и вообще позитивизм‚ есть нечто содержательное и поэтому может быть предметом веры; в качестве же своем позитивизма усовершенствованного — он не имеет слабых сторон обычной формы позитивизма.
Хотя по фактическому содержанию между христианством и спиритизмом может быть множество промежуточных ступеней, но по форме веры, по основному все определяющему настроению между той и другой системой верований нет никакого перехода. Тут не может быть никакой середины, и между спиритической религией и христианством рано или поздно должна возникнуть смертельная борьба. То обстоятельство, что современные позитивисты косо смотрят на спиритизм, еще нисколько не доказывает отсутствия между ними внутреннего родства, так что соединения этих фракций позитивизма, или, вернее, поглощения обычного позитивизма спиритизмом, ждать весьма естественно.
Наоборот, поэму А. Белого законно назвать «поэмою мистического христианства». Опять-таки, это название я даю вовсе не в зависимости от содержания поэмы: я знаю, что некоторые даже восстанут против нее, считая ее нехристианской, и это ничего не будет доказывать. Основное настроение А. Белого является существенно христианским, но только это настроение символизируется в конкретные образы сказок и мифологии.
Посвящается Л. В. Ельчанинову
Эмпирея и эмпирия
Беседа
А. — До сих пор все наши разговоры, с чего бы они ни начинались, в конце концов сводились с твоей стороны к вечному припеву: «Не может быть последовательного мировоззрения без религиозного основания, не может быть последовательной жизни — жизни по правде, без религиозного опыта». С моей же стороны было недоумение: я не отрицал, как помнишь, что, действительно, невозможно абсолютное мировоззрение, какого хочешь ты, мировоззрение способное
все охватить единою диалектически–скованною цепью суждений; точно так же не отрицал я невозможности вполне последовательной жизни по правде, т. е. жизни, оправдываемой в каждой ее детали с точки зрения абсолютного мировоззрения — не отрицал, однако, не потому, что мы слабы и неустойчивы, а прежде всего потому, что такой правды даже нельзя — нельзя дать полной правды жизни, ее смысла, потому что не могу я, как сказал, признать право существования у абсолютного мировоззрения, а оно только и может, — точнее, могло бы — раскрыть смысл жизни и тем самым оправдать, хотя бы post factum
[318], поведение.
Ты хочешь, чтобы действительность и наше к ней отношение были бы не просто данными сознанию, но чтобы они были даны в их истине‚ в их правде; ты требуешь, чтобы был раскрыт разумный смысл и право на существование у того, что нам дано как непосредственно открывающееся. Одним словом, тебе не достаточно сознавать, что действительно есть‚ ты хочешь знать еще, что она есть, и затем рассмотреть, насколько это что отвечает каким-то вечным нормам, насколько это что есть то, что должно быть, и насколько оно может быть этим должным, и вот ты заявлял, что такое мировоззрение нельзя построить без религиозных оснований и без религиозного опыта. Повторяю, я нисколько бы не протестовал против твоего утверждения о невозможности, если бы только ты не делал добавления — «без религиозного основания и без религиозного опыта».
В. — Однако это главнейшее.
A. — Так, стало быть, с ними‚ с религиозными основаниями и опытом это возможно?
B. — Ты сказал.
A. — Считаешь ли ты, что это возможно для знания вообще как его предельная цель и никогда не достижимый идеал; или возможно где-нибудь и когда-нибудь, не для тебя, так для другого, через миллионы лет; или, наконец, может быть, ты полагаешь, что такое мировоззрение возможно при данных нам конкретных условиях, то есть теперь, для тебя, например?
B. — Да, теперь‚ для меня возможно; но также и для всякого, кто захочет: «просите и дастся».
A. — А, если не секрет, ты уже его имеешь? Далось? Или удалось оно тебе?
B. — Нет, не секрет. Многое для меня не вполне разработано; еще больше не уясненного в логических формах, не достаточно воспринятого и усвоенного. Но если не само мировоззрение, то начала, основы его уже имеются. Только напрасно ты меняешь смысл приведенной цитаты: оно не «удалось» и не «далось», а дано.
A. — Понимаю, но… впрочем, не хочу спорить. Пусть — «дано». Только скажи, можно ли твое мировоззрение, начинающееся, готовящееся, — как тебе будет угодно назвать его, — можно ли его подвести под какой-нибудь установившийся тип?
B. — Да, можно.
A. — Под какой же именно?
B. — Это — христианство.
A. — Надеюсь, не церковное.
B. — Напрасно надеешься: именно церковное, кафолическое.
A. — Знаешь ли, я нарочно вел разговор с такими деталями; мне хотелось, чтобы ты заявил именно то, что ты сказал только что.
B. — Что абсолютное мировоззрение есть кафолическое христианство?
А. — Вот именно это самое. Хочу поговорить с тобою, чтобы объясниться. Конечно, в мои намерения нисколько не входит разговаривать об абсолютности такого мировоззрения; эта мнимая абсолютность для меня звучит слишком странно, чтобы стоило терять на обсуждение ее время. Но мне хочется понять, насколько
я смогу вместить, ваши взгляды на действительность..·
В. — (Вопросительно молчит.)
A. — Ты смотришь, недоумевая? Молчишь? Cum taces clamas?
[319] Кричи себе молча.
Я не могу ставить вопросов об абсолютном мировоззрении, не могу, если хочешь, чисто физиологически. Абсолютности застревают у меня в горле и своею вяжущей терпкостью портят настроение духа; все эти «Истины» заставляют только сердиться. Нет, уж избавьте меня от абсолютностей…
B. - Quid est Veritas?
[320] Так, что ли?
A. — Вот именно. Да и на что вам истина? Недаром Чорт у Достоевского указывает на такую черту: «Если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины? Но уж таков наш русский современный человек: без санкции и смошенничать не решится, до того истину возлюбил»
[321].
B. — Это к нам относится?
А. — Кстати–вспомнил; а впрочем, оставим такой щекотливый предмет. Но, говорю я, мне хочется понять тебя. Не признавая абсолютных мировоззрений, я не стану, конечно, и с тебя требовать доказательств абсолютных в пользу твоего мировоззрения. С меня достаточно было бы, — я бы понял тебя, — если бы ты показал мне, что твое мировоззрение
законно среди других. Ведь сейчас для меня оно–изгой, пария среди других мировоззрений; хоть и они тоже неважны, а все-таки ими не подавишься, как вашим. Ведь оно для меня с теоретической стороны–детская фантастика, а с практической — вредно–действующий общественный яд: latet anguis in herba
[322]. Но не в этом суть. Такое положение дел я смогу признать и признаю прекратившимся тогда, и только тогда, когда будет показано мне, во–первых,
возможность всего того, что вы утверждаете, т. е. чудес, таинств «и прочего», но не порознь, а в виде связной системы, и, во–вторых, когда мне будет показано, что все эти утверждения ваши, буде они окажутся возможными, мыслимыми, среди бесчисленного множества других утверждений, имеют какое-нибудь преимущество в смысле
вероятности‚ то есть, что они не только мыслимы, но и имеют некоторую не слишком малую вероятность. Итак, я пойму тебя, когда ты сможешь показать, что все ваши догматы, таинства и тому подобное мыслимы как таковые, — не содержат в себе нелепостей, — и что ваши решения и ваши взгляды на таинства и тому подобное имеют за собою сколько-нибудь значительное число шансов — не бесконечно маловероятны.
В. — Ты, однако, захотел не малого. То, что, по твоему мнению, должен дать тебе сейчас я, есть задача всей рациональной философии совместно с науками–одним словом, — задача отрицателей философии‚ если воспользоваться терминологией Шеллинга; ведь именно эта философия занята разделением возможного и невозможного, мыслимого и немыслимого и построяет систему возможного. Но, мало того, ты хочешь еще обоснования вероятности. Это — задача философии вероятного, если можно так выразиться, философии, квалифицирующей вероятности разных возможностей, устанавливающей градации в возможном. Не говоря уже о том, смог ли бы я дать тебе такое построение и, притом двоякое — я, вероятно, недостаточно подготовлен к такой задаче, чтобы вслух сказать все это, — кроме этого о том, что ты желаешь, нельзя говорить и за недостатком времени. Ведь просимое тобою, даже если изложить его в самом конспективно–спрессованном виде, может быть предметом специального курса лекций или специального трактата.
1. — Жаль. Ну, в таком случае пока — заметь только
пока‚ в ожидании твоего de omni re scibili atquc quibusdam а1ііѕ
[323]пока я откажусь от второго своего пожелания, а из первого оставлю следующее: я предложу тебе несколько вопросов, причем всячески сам буду помогать тебе, как бы становясь на твою сторону. Идет?
2. — Идет.
А. — (После некоторого молчания.) Общую схему вашего мировоззрения, насколько я понимаю ее, можно выразить так: некоторое психофизическое действие человека, именуемое вами грехопадением, привело человека в состояние болезненное — болезненное в самом широком смысле, то есть он прежде мог владеть собою и окружающей его действительностью: растениями, животными и т. д., — и был властен над состояниями своего тела и духа и над природой. Но человек вышел из своего психофизического равновесия, нарушил устойчивое свое отношение к среде. Потеря равновесия со средой повлекла за собою страдания всякого рода: болезни в более тесном смысле и, в окончательном итоге, — смерть. По наследственности такая болезнь всего психофизического организма, то есть нарушение должного и бывшего дотоле, по вашему мнению, функционирования всего психофизического организма — потока психических и телесных состояний — передалось всему роду; а так как с законов действительности нечего спрашивать справедливости, то вышло, что и всякий индивидуум страдает тем же недугом, хотя он лично не принимал участия в грехопадении; у каждого организм расстроен от самого его появления на свет — это вроде последствий алкоголизма у потомства алкоголика, — никто поэтому не может достаточно владеть телом и духом, — одержим, по вашей терминологии, похотьми и страсть- ми, почему терпит всякие болезни, страждет, мучается; а в результате — exilus letalis
[324], причем все люди как происходящие от одних и тех же прародителей, — все больны. Вот первая, так сказать, картина вашего мировоззрения. Я не буду касаться пока всех тех трудностей, которые она возбуждает во мне, — о них мы поговорим в другой раз, — только упомяну кое-что: ничто не доказывает какого-то особенно высокого состояния человека в древние времена, а напротив; особенно же ничто не доказывает существования в древние времена нравственной воли; ничто не доказывает отсутствия смерти для такого человека; ничто не доказывает его главенства над природой — даже напротив; мы не знаем, какое это психофизическое действие может пертурбиро- вать весь организм; не имеем никаких оснований утверждать единство человеческого рода и делать такое широкое — мало того, всеобъемлющее — применение принципа
наследственности приобретенных признаков‚ тем более что вообще этот принцип не доказан. Пусть, однако, все эти трудности обойдены; пусть все это есть так, как говорите вы. Пойду дальше в изложении вашего учения. Картина вторая: ряд личностей, именуемых, по–вашему, пророками, указывал на средство прекратить эту коллективную болезнь — болезнь рода. Надо было справиться с самим собою хотя бы одному человеку и тем дать пример для других. Пророки не знали во всех подробностях, в чем должна была состоять борьба с болезнью, и не имели достаточно сил и решимости, чтобы воспользоваться своим знанием. Я допускаю, впрочем, что были еще некоторые им неизвестные условия, которые, так сказать, должны были носиться в воздухе, чтобы излечение стало возможным, — ну там какой-нибудь особый состав атмосферы, какие-нибудь гигиенические условия, ассенизация, — и отсутствие этих условий мешало самоисцелению пороков. Они, однако, были убеждены, что рано или поздно исцеление совершится, что будут найдены
все данные для исцеления кого-нибудь из людей — будут найдены не то чтобы непременно сознательно, — нет, — инстинктом, вдохновением. Такого самоисцеляющегося человека они называли условно Мессией. Кое–какие соображения, — не знаю, какие именно, но допускаю временно, что они были основательны, — кое–какие соображения, говорю я, позволили пророкам указывать ряд признаков такого Мессии, например, почему-то пророки считали кровь рода Давидова
[325] особенно благоприятной для появления в человеке той выдающейся мощи, которая сможет победить болезнь, говорили, что такой человек произойдет от девы, видели в климатических условиях Вифлеема обстановку наиболее выгодную, связывали с некоторыми астрономическими явлениями и так далее. Один указывал на одни признаки, другой — на другие, так что в общем составлялась некоторая картина.
В. — (Молчит.)
А. — Не вхожу в детали — мне все это представляется крайне невероятным, почти немыслимым — почти, потому что нельзя утверждать, что это все абсолютно немыслимо и логически, внутренне противоречиво. Подобное учение противоречит
теперешним нашим сведениям и убеждениям, современному нашему опыту. Однако, хотя опыт современный и довольно совершенен, но все-таки мы так мало знаем, столько имеется неясного и нерешенного, что я бы не считал себя вправе решительно сказать: то, что вы утверждаете, — невозможно. Может быть… хотя для меня невероятно и фантастично. Недаром Араго говаривал: «Cclui qui en dehors des ma- thdmatiques purcs, prononcc ce mot impossible, manque dc prudcncc»
[326][327]. Помнится, где-то Паскаль говорит: «Ничто не может остановить подвижности нашего ума. Нет правила без исключения, нет истины столь всеобщей, чтобы с какой-нибудь стороны она не оказалась неполной. А раз так, то случай чудесный мы всегда имеем право подвести именно под исключение, о котором речь, и тогда чудо делается возможным»
[328].
Оставаясь научно–добросовестным, я не могу сказать, чтобы Паскаль был вполне не прав, защищая таким путем ваши утверждения.
Ты говоришь — «произошло такое-то явление, которое обычно не происходит». Что же? Может быть, и можно подыскать как-нибудь такую комбинацию психических и физико–химических условий, так подобрать предшествующие и сосуществующие явления, что они произведут желаемый тобою эффект — странный, необычный, но все- таки не невозможный принципиально. Может быть…
Нельзя, разумеется, помешать вам воспользоваться таким, паскалевским, обходом научных положений, нельзя помешать так оправдывать многое из ваших утверждений; по–своему вы правы, но… то, к чему вы приходите, в высшей степени невероятно, и, будучи правы формально, вы по существу дела не правы, говорите нелепое…
В. — (Тихо.) Ты кого-то оправдываешь, но при чем тут мы?
A. — (Не слыхав.) Впрочем, временно я буду говорить так, как будто я признал все ваши положения и теперь только передаю, как я их понял; ведь нужно узнать, нет ли недосмотра с моей стороны. Иначе трудно разговаривать. Итак, в конце концов, когда имелось в мире…
B. — В каком?..
А. — Ну, конечно, в мире опыта, в мире цветов, звуков, давлений и разных психических состояний, — когда имелись среди этих пучков явлений все условия такого Мессии, — он родился-как естественное звено в цепи бывания, как связка явлений среди других, как результат весьма сложных комбинаций разных обстоятельств; вследствие того, что от самого рождения своего он, этот Иисус, имел все данные, чтобы выполнить предсказанное пророками, — точнее выражаясь, чтобы выполнить все предписания пророков, — выполнить не в том смысле, чтобы он сознательно действовал по рецепту, а в том, чтобы проделать, быть может, инстинктивно все нужное для исцеления себя от последствий родовой болезни. Главным среди других психофизических действий была решимость подвергнуться кззни. Инстинктивно или сознательно, так или иначе, но Иисус, по вашим представлениям, пришел к убеждению, что такою решимостью и мучениями казни он приведет себя в особое состояние, так что после смерти у него, в его психофизическом аппарате, возобновится «должное» функционирование всего организма — он воскреснет «просветленным телом» и тем самым даст пример другим…
В. — Подожди. Это уже фактически неверно. Не пример даст, а изменит всӧ Своею смертью и Своим воскресением, так что природа и человек получат возможность к восстановлению утраченного ранее порядка.
А. — Ну, об этом послушаем тебя, любезнейший, в другое время… (задумывается). Впрочем, пусть так. Временно допущу даже это и именно в такой формулировке: психофизические состояния Иисуса во время казни вызвали — это опять по–вашему — вызвали в мире и человечестве некоторые изменения, вследствие того, что казнимый обладал такими-то и такими-то свойствами и проделал ряд действий, о которых была речь ранее. Другими словами, он, своею смертью, внес в мир реальные условия возможности преобразования; эти условия состояли в каких-то воздействиях — волнами психическими, что ли, какими-нибудь излучениями, истечениями, как хочешь, — на ту обстановку, в которой жил Иисус; вот эти-то изменения, тогда никем не замеченные, быть может, и не могущие быть замеченными тогда по недостатку средств наблюдения, — эти изменения были внесены Иисусом в мир для дальнейшего его преобразования, «очищения». Такое преобразование, по вашим представлениям, не могло совершиться сейчас же, так как оно требует еще каких-то условий для своего осуществления. Они создаются мало–помалу деятельностью человечества, и в конце концов когда выполнится все, что нужно, то есть когда будут внесены в явления мира все потребные условия, то внезапно произойдет мировая катастрофа — не то катаклизм, не то мировой пожар — преобразование природы, — Иисус появится снова, и все воскреснут. Почему будет такой пожар? — Ну, хотя бы от падения Земли на Солнце… Кажется, все сказано. Да, я забыл еще добавить, что этого Иисуса, за его, так сказать, заслуги перед человечеством и миром, вы считаете возможным сделать богом и, в благодарность за его жизнь и за его деятельность, даете ему титул сына божия и богочеловека… Так ли я изложил главнейшее в вашем мировоззрении?
В. — Хотя ты не Фауст, но я все-таки смогу подать тебе реплику Маргариты:
Das ist allcs rccht ѕсһӧп und gut;
Ungcfahr sagt das Pfarrcr auch,
Nur mit cin bifichcn andcrn Worten.
[329]A. — Почему же «mit andcrn Worten»?
[330]B. — А потому, что wenn man's so hort, mocht's Icidlich scheincn, stcht abci doch immcr schicf darum; denn du hast kcin Christenthum…
[331]A. — Почему же?
B. — Вопрос каверзный, но на него уже отвечено Самим Иисусом Христом. «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог… Хлеб Божий есть Тот, Который сходит с Небес и дает жизнь миру… Я есмь хлеб жизни… Я хлеб живый, сшедший с Небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдал за жизнь мира…» (Ин. 6, 26, 27, 33, 35, 48, 51).
A. — Не понимаю, какое это отношение имеет к разговору?
B. — Тогда начнем с другой стороны. Дело в том, что ты сделал оттиск с мировоззрения, так что внешняя форма его чрезвычайно похожа на подлинник, но по внутренней сути то и другое диаметрально противоположны.
A. — Как же? Я ведь все главнейшее удержал в своем изложении, а пропускал только мелочи. Например, не говорил о таинствах.
B. — Хотя таинства вовсе не мелочи, но не в том дело. Даже в указываемом тобою всюду пропущено важнейшее, но форма важнейшего оставлена. Получается не христианство, даже не искаженное какое- нибудь христианство, а весьма искусная подделка под христианство, имитация такая ловкая, что может легко обмануть всякого, кто не слушает достаточно внимательно твоей «мимикрии».
A. — Разве я не говорил обо всем том, о чем говорится в катихизисе?
[332]B. — Обо всем, да не совсем. Заметил ли ты такую странность: излагая христианское учение, ты сумел обойтись совсем без слова Бог.
A. — Как же? Я сказал, что вы делаете Иисуса богом.
B. — В том-то и дело. У тебя нет Бога как такового, а Его делают за заслуги. Бог для тебя — нечто вроде почетного звания, своего рода «действительный статский советник», но в иной области, а вовсе не определение Существа.
A. — В таком случае, может быть, можно сформулировать так: Иисус воскрес и этим‚ своим воскресением, своею победою над смертью, сделался богом вроде того, как герои превращались через свои подвиги в богов?
B. — Конечно, нет. Иисус Христос не сделался богом, а был и есть Бог. У тебя выходит Его Божественность каким-то результатом, чем-то добавочным, вторичным, а не первым, тогда как она — начало, сущность. Ты сказал: «Иисус сделался богом, так как воскрес».
A. — Ведь обещано, что я стану помогать тебе, и потому я хотел выразить ваше учение в наиболее выгодной для него форме.
B. — Да, но Иисус Христос не потому Бог, что воскрес, а потому воскрес, что Бог. Первое не эмпирическое, а Божеское; не Божеское вытекает из эмпирического, а, наоборот, эмпирическое является обнаружением Божеского.
1. — Значит, ты действительно думаешь, что я не изложил вашего миросозерцания?
2. — То мировоззрение, которое излагал ты, есть чистейший позитивизм; наше же по существу — теистич- но. В изложенном тобою мировоззрении человек нарушает какие-то естественные
законы, то есть законы
эмпирического бывания› терпит поэтому естественные последствия такого нарушения, потом естественно же, сам своими собственными силами находит выход из такого положения и делается богоподобным существом. Одним словом, тут все пружины событий лежат в чувственном мире, причины и их следствия не выходят из границ опытной действительности. Для такого мировоззрения есть только натуральное, психофизическое человечество, то, что в Писании называется
душевным‚ в отличие от
духовного. И вот такое душевное человечество само из себя создает Иисуса Христа — само себя спасает и обоживает. Человек твоего мировоззрения на самом деле является сторонником того, который сказал: «егіііѕ sicut Deus»
[333]. Так ли я тебя понимаю?
A. — Конечно, так. Но как же иначе может быть? Что ж это за человечество, которое не само действует? И так далее.
B. — Ты говоришь все о «пучках» и «связках». Я уж тоже помогу тебе, руководствуясь Джемсом
[334]. Представителем их в одной области является «пучок» редиски и «связка» баранок, а в другой — «пучок специфически определенных реакций», называемый «английским джентльменом», и «полезная связка ассоциаций», которая с самого детства, по «закону смежности», слилась с «задерживательными эмоциями» стояния в углу и «вытеснила» поэтому из «поля сознания» связку «импульсивных стремлений и самобытных реакций», называемую «хождением по улице», появившуюся в «волне сознания» «сердцевину» из ощущений скуки с «венчиком» или «кольцом» из «мыслей» об избавлении и «желаний» быть на улице, равно как и «воспоминаний» о прежних счастливых временах — «некоторый ободок» или «полутень» из эмоций страха и ощущения зевоты — вот та связка, «имеющая для обладателя ее некоторое практическое единство», которую мы называем «элементами Эвклида». Нет, кроме шуток, я на самом деле хотел выразить твою мысль, но в подчеркнутом виде.
A. — Это — мы. Ну, а вы?..
B. — Мы признаём, что своим грехопадением человек нарушил
не естественные законы, не законы эмпирического бывания, но мистический порядок бытия, что болезни, и смерть, и нравственное разложение явились не непосредственно потому, что нарушены были законы мира чувственного и законы того душевного мира, который изучается в эмпирической психологии, а [явились] лишь внешним обнаружением переворота в мистической области, перемены во внутреннем отношении к Божеству, причем это отношение духа к Божеству
первее всякого «состояния сознания», лежит
вне «пучка психических явлений». Мы признаём, далее, что человечество не могло из себя создать исцеляющих средств, потому что всё, что делает человечество от себя и из себя, — всё это есть только человеческое, то есть психофизическое, эмпирическое, душевное, а в данном случае нужно было воздействовать в мистической области, — восстановить мистический порядок. Все эмпирические средства были бы паллиативами
[335] ‚ и притом негодными — были бы построением вавилонской башни, а собственных мистических сил человек не имеет и не может иметь. Но, с другой стороны, Бог как таковой не мог изменить поврежденного состояния человечества, поскольку человечество, будучи
членом мистического поврежденного отношения и будучи самостоятельною сущностью, не могло быть очищенным извне абсолютно ничем и в то же время не могло очиститься изнутри само собою. Единственно возможным было воплощение Бога. Так как нужно было, чтобы действие не было извне направленным, идущим помимо человека, то Бог
стал человеком, и тем была дана возможность воздействовать изнутри. С другой стороны, у человека не было сил изнутри действовать; потому стал действовать за него Бог. Восстановление могло быть свершено только таким Существом, Которое, имея в Себе две природы, Божескую и человеческую, в то же время могло бы действовать и как Бог, и как человек, имело бы две воли, дающие единое нравственное решение.
Богочеловек уничтожил дилемму, оба рога которой в отдельности были невыполнимыми, и, примирив разделенные рогӑ дилеммы, — поставив вместо разделяющих «или–или»
соединяющие «и–й», совершил восстановление человечества. Но вся сила в том, что Иисус Христос
не сделался богом, а
был Истинным Богом, оставаясь в то же время и человеком. Миссия его была мистическая, а не общественная или какая- нибудь в этом роде.
A. — Не понимаю. Ты провозглашаешь все это «ничто- же сумняшеся», а между тем… Для опытного исследования Иисус был тем же, что и всякий человек; были, конечно, те или другие вариации‚ но не было никаких существенных отличий. Ведь говорит же Апостол: «О том, чтб было от начала, чтб мы слышали‚ чтб видели своими очами, чтб рассматривали‚ и чтб осязали руки наши…» (1 Ин. 1,1). Согласен ли ты, что для всякого опыта Иисус оказался приблизительно таким же, как и всякий другой человек, конечно, в пределах индивидуальных различий?
B. — Согласен.
A. — Далее, согласен ли ты, что мир…
B. — Какой?
А. — Все тот же опытный мир, мир «связок» с «ободками», над которыми ты подсмеивался, — что он до и после смерти Иисуса не обнаружил никакой принципиальной разницы, так что для всякого наблюдателя изменение произошло такое же, кӓк и вообще историческое изменение; может быть, то было гораздо более, чем поле деятельности какого-нибудь великого человека, но по общему характеру это было такое же историческое изменение?
В. — Согласен.
A. — В таком случае, то индивидуальное различие, которое усматривается в Иисусе, сравнительно со всяким другим человеком, — эта вариация и была всем тем‚ за что Иисуса вы считали богом; эта вариация произвела то, что вы зовете искуплением; а искупление только и состояло в том историческом плюсе, который был создан деятельностью Иисуса. Не так ли? Ведь это всё такие азбучные рассуждения, что как-то неловко о них говорить. Я готов поверить — для разговора — в какие угодно особенности Иисуса, но ведь Апостол же сам говорит, что для его личного опыта он являлся, как и всякий из нас — ну, значит, если была какая разница, то она исчерпывалась тем, чем один человек отличается от другого. Не ясно?
B. — Как день, но неверно.
A. — Как!
B. — Нисколько не отрицая той индивидуальной вариации в Иисусе Христе, о которой говоришь ты, и того исторического изменения, которое было внесено Его деятельностью в эмпирическое бывание, я прямо утверждаю, что совсем не в них было дело. Иисус Христос был проповедником нравственности–да; был филантроп–да; был духовный наставник — да; был общественный деятель — да. Но… всё это теоретически мы можем мыслить всё менее и менее заметным, так что оно, наконец, перестанет быть обнаруживаемым каким бы то ни было опытом, мы можем — мысленно вообразить себе, что все эти деятельности, уменьшаясь, стремятся к пределу и исчезают, и все-таки Христос остается Христом, и искупление — искуплением. Поясню еще раз это грубым примером. Как ни важна деятельность Иисуса Христа, на которую я только что указывал, но она не имеет принципиального значения, и потому ее можно сопоставить с тем, хитон какого покроя и цвета носил Иисус Христос, каким голосом говорил и так далее. И это все очень важно, но оно не относится непосредственно к миссии Спасителя.
А. — Следовательно, ты говоришь — сделаем фик- дию, — что если бы Иисуса не было, а был бы какой- нибудь Иоанн, который бы до мельчайших подробностей воспроизводил облик и жизнь Иисуса, если бы такой человек был точно двойником Иисуса, если бы он умер и воскрес, то это не был бы Христос и Сын Божий?
В. — В том-то и дело, что я не могу допустить, что твой фиктивный человек воскрес, — думаю, что это не может быть свершено эмпирическими путями. Но если уж хочешь сделать такую совершенно немыслимую фикцию, то я на нее скажу: да, это не был бы Христос и Сын Божий, он не искупил бы мира.
A. — Значит, если бы мы могли проделать историю дважды, и один раз дали бы мир после «искупления», а другой раз имитировали точь–в–точь такую же наблюдаемую в опыте картину эмпирического бывания, заменяя Иисуса фиктивным человеком, который был бы ему подобен во всем, в опыте наблюдаемом, то эти два состояния мира разнились бы между собою?
B. — Да, потому что во втором случае мир не был бы искуплен, он оставался бы прежним миром в грехе. Но, однако, заметим, что твою фикцию я допускаю только ради удобства рассуждения, а по существу не признаю возможности имитировать Христа.
A. — Вот теперь я начинаю понимать, чего ты собственно хочешь, но решительно настроен против таких воззрений. Если позволишь, я поставлю вопрос на почву более общую. Даны два объекта, α и β. Между ними существует известная разница, наблюдаемая в опыте; но она такова, что может быть сделана как угодно малой, так что для различения а от β нужен будет опыт все более и более тонкий; наконец, в пределе мы можем мыслить объекты аир неразличимыми ни для какого опыта, как бы чувствителен он ни был. Тогда опытная разница между α и β равна 0, α никаким опытным способом не отличимо от β. Может ли α быть отлично от β? То есть может ли между а н β все-таки иметься принципиальное различие? Будучи убежден, что вся сущность и все бытие объекта исчерпываются тем, чтб можно о нем узнать из совокупности всех мыслимых опытов над ним, я думаю, что объекты не могут быть различными, если они неразличимы ни для какого опыта, как бы тонок он ни был. Для тебя, по–видимому, может существовать принципиальное различие и в этом последнем случае — в случае полной неразличимости объектов опытом.
B. — Да, это так. Вот конкретный пример для пояснения такой постановки вопроса. Имеются два одинаковых сосуда, и в них–по кусочку одинакового веса и объема. Куски эти пористы, пропитаны красною жидкостью, пахнут вином, одинакового вкуса. Таким образом, элементарный опыт — непосредственно органами чувств — не обнаруживает между двумя кусочками разницы. Если бы, далее, мы стали производить более тщательные исследования, определяли бы удельный вес, твердость, теплоемкость, электропроводность, микроскопическую структуру и тому подобное, то и тогда бы мы не обнаружили ни малейшей разницы. Производя, наконец, химический анализ, — самый точный, мы найдем, что состав кусков одинаков. После такого опыта ты заявляешь, что эти куски не могут быть различны; я же говорю, что они могут быть различны — принципиально различны: один кусок может быть куском хлеба, пропитанного вином, а другой — Телом и Кровью Христовыми.
A. — Символически?
B. — Нет, вино и хлеб реально и субстанциально пресуществились‚ то есть переменили свою сущность и стали истинным Телом и истинною Кровию Иисуса Христа.
1. — Конечно, это решающий пример. Можно добавить к нему вопрос о миропомазании?
[336]2. — Да. Сюда же относится, например, крещение. Можно — хотя бы на театральной сцене — воспроизвести крещение со всею достижимою точностью, и это, однако, будет простой ряд чисто эмпирических действий. А в ином случае тот же самый ряд действий является таинством, принципиально разнящимся от представляемого на сцене и производящим в крещаемом мистическое изменение — возрождение. Человек до крещения тождествен для чувственного опыта с человеком после крещения, а все- таки они внутренне различны: в человека окрещенного внесено нечто‚ что не может быть обнаружено глазами или руками, не может быть усмотрено никаким опытом, и что, однако, является существенно новым.
A. — Да, действительно, по–вашему выходит это так, но неужели это можно принять? Мне представляется, что это некоторое rechictio ad absurdum
[337], так дико звучит для меня подобная казуистика.
B. — Звучит дико и кажется странным единственно вследствие излишней привычки к исключительно чувственному опыту без достаточно критического отношения к нему.
А. — Но к чему же еще я могу быть привычным? Никакого другого опыта я не знаю. Разницу объектов я могу
усматривать только одним методом, а не двадцатью.
В. — Это неправда, и я покажу, что у тебя есть иные методы усматривать разницу. Поставим даже вопрос шире: методы можно расположить лестницей, и чем далее стоит на ней данный метод, тем более глубокие разницы вскрывает он между объектами. Но чтобы заранее уяснить, в чем лежат или могут лежать различия объектов, которые не захватываются данным методом, я приведу простенькое сравнение. Представь себе, что у тебя имеется кусок стекла и кусок льда, отшлифованные одинаковым образом. На глаз эти куски, — если лед чистый, — почти неразличимы, и тебе может показаться, что кусок льда нисколько не интереснее, и не прекраснее куска стекла. Но, с точки зрения молекулярного строения, лед имеет над стеклом преимущество, подобно тому, как игра оркестра над базарным шумом. Во льду–музыка, в стекле–шум; во льду — стройность и упорядоченность, в стекле–хаос и беспорядок; во льду — организация, в стекле — анархия. Каждая частица стекла только для себя и, самое большее, толкается о соседние; целого нет. Во льду наоборот: тут каждая частица занимает в правильной ткани целого, в организации чудесного строения определенное, ей присущее место.
Но это различие внутренней структуры, являющееся как бы символом различия человека душевного от человека духовного, на глаз совершенно незаметно.
A. — Ты хотел от этого примера перейти к общему разговору о методах.
B. — Да.
Каждая наука отграничивает область своих исследований, создавая схемы своих объектов и пользуясь при этом известным комплексом признаков; последними и определяется объект данной науки как таковой
[338]. Если два каких-нибудь объекта разнятся между собою по одному или нескольким из тех признаков, которыми
построяется объект данной науки, то мы можем методами и средствами, присущими
этой науке, различить объекты. Если же окажется, что объекты разнятся между собою по признакам, не входящим в состав схемы объекта — схемы, построенной для данной, определенной науки, то методами и средствами данной науки объекты окажутся вполне неразличимыми. Допустим же, что в силу каких-нибудь условий, в которые мы поставлены, мы не можем применять никаких методов и средств исследования, кроме тех, которые присущи
данной науке, то есть, предположим, что вследствие каких-то условий мы можем изучать данные объекты только с точки зрения нашей науки. Тогда объекты, заведомо различные, окажутся для
нашего исследования абсолютно–неразличимыми. Так, например, те два куска — кусок льда и кусок стекла, — о которых была речь ранее, абсолютно неразличимы для геометрического исследования, так как оно не может войти в рассмотрение внутренней
структуры тела. Пусть, далее, мы стоим на точке зрения механики и имеем возможность изучать только механические характеристики, определяющие некоторый объект. Тогда мы сможем определить форму тела, массу, момент инерции и так далее, но
температура тела, электрическое его состояние, психические явления и прочее останутся для нас абсолютно незамеченными как таковые. Мы хорошо знаем, что два тела, имеющие все механические характеристики одинаковые, но температуры различные, разнятся между собою и, однако, методами механики уловить этой разницы никак не можем. Если же мы станем рассматривать наши тела с точки зрения физики, станем исследовать их методами и средствами, которые имеются у физики для изучения
ее объектов, то разница двух тел, именно, разница их в отношении температуры, сейчас же усматривается и улавливается.
Точно так же методами физики мы не сможем отличить живого вещества от неживого. Если даже признать, что в живом веществе происходят какие-то, особые; сравнительно с неживым, физико–химические процессы, то даже и тогда мы не сможем различить живое от неживого, так как всегда можно мысленно подстроить такую систему механизмов — постулировать такого рода приспособления живого тела, что его, с точки зрения физики, можно будет рассматривать в этом отношении впредь как неживое. Только новые методы — не физические — позволят открыть разницу живого от неживого. Вот примеры случаев, где два объекта, неразличимые в чувственном опыте одной ступени, делаются различимыми для опыта в другой ступени. Это -случаи первого типа. К случаям второго типа мы можем отнести те, где два объекта, абсолютно–неразличимые в чувственном опыте, каков бы он ни был, имеют, однако, различие для опыта внутреннего. В виде примера рассмотрим область нравственности. Вот, я дважды сряду совершаю один и тот же для внешнего наблюдения поступок, при одних и тех же обстоятельствах. Пусть оба мои действия как угодно приближаются друг к другу по своему внешнему выражению и по внешним условиям; в пределе они могут быть мыслимы абсолютно неразличимыми для стороннего наблюдателя. Всякий внешний опыт — опыт физики, биологии и так далее, — какими бы методами и средствами он ни пользовался, как бы ни был тщателен и точен, — он откажется усмотреть разницу между двумя действиями. Со своей точки зрения такой опыт не может не признать их тождественными. И, однако, эти два поступка по существу разнятся между собою. Один — нравственный, другой — безнравственный. «Посему не судите никак прежде времени, — говорит Апостол, — пока не приидет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения…» (1 Кор. 4, 5). «Каждого дело обнаружится; ибо день покажет; потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть» (1 Кор. 3, 13).
«Кто из человеков знает, чтб в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» (1 Кор. 2, 11).
A. — Последнее мне не совсем ясно. Быть может, ты объяснишься?
B. — Если хочешь… почти каждый человек с самого детства подчиняется нравственным и гражданским законам, по крайней мере не делает очень заметных уклонений от них. Всякий старается слыть искренним, всякий ищет славы справедливого. Да и кто захотел бы предстать в обществе in naturalis
[339], сняв с себя все покровы, если бы это повлекло за собой неприятности? И, действительно, почти все кажутся искренними и справедливыми, как будто они были такими в глубине сердца. Злой и добрый, душевный и духовный — каждый человек, если он не желает прослыть человеком ненормальным или преступным, живет, в общих чертах, так же как и другой. Разница главным образом не в способах действования, а в интимных пружинах действий — мотивах. Человек душевный не выходит из нормы, потому что у него есть опасения заслужить наказание или приобрести дурную славу, есть те или иные почести, которых он может лишиться, ради которых он лицемерит; если бы душевные люди не боялись законов и наказаний, если бы не дрожали за потерю своей репутации, своих почестей, своего состояния, одним словом, если бы внешние связи перестали вынуждать их к исполнению дела Божия, то эти люди, не имея внутреннего сознания своего миро- гражданства, своего назначения в историческом процессе, своей связанности с единым организмом Церкви, не зная любви к Богу и становящемуся телу Христову, не желая переносить центр своего бытия в Абсолютное и утверждая ось мира в себе и в своих прихотях, — эти люди сорвались бы со сдерживающей их цепи, обманывали бы и грабили других, обижали и убивали, потому что делать все это для человека, безумеющего при внутреннем,
волевом отрицании Абсолютного, не только выгодно, но и само по себе приятно, привлекательно. Попробуй тогда очеловечить и обобразить такого. Но, покуда пшеница и плевелы растут вместе и связаны эмпирическою действительностью, они не могут развернуться вовсю и для эмпирического наблюдения делают приблизительно одно и то же. Только духовный человек, внутренне утверждая Бога и открываясь для Его воздействий, тем самым делается уже сознательным проводником Божественных сил, живым органом тела Христова, исполняющим с радостью
свою функцию. Такой не живет для себя и не умирает для себя; живет ли, умирает ли, — для Господа умирает (ср. Рим. 14, 7–8). Вот почему такой может сказать: «Мы имеем ум Христов» (1 Кор. 2, 16). Вот почему такой человек имеет право заявить: «И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20).
Общие основания для законов нравственности и общественности выражены в десяти заповедях. Нетрудно проверить, что так называемый порядочный человек, то есть не слишком уклоняющийся от среднего душевный человек, своею внешнею жизнью живет более или менее согласно с этими предписаниями, равно как и духовный. Он оказывает знаки почтения Богу — ходит в церкви, произносит молитвы, слушает проповеди, крестится, делает благочестиво–торжественную физиономию, постится — все, как у человека духовного; далее, он не делает преступлений, то есть не крадет, не дает ложных свидетельств, не убивает, не отнимает силою или хитростью имущества других людей и так далее. Однако все это делается из мотивов, не имеющих с любовью к Богу ничего общего, из мотивов внешних, чтобы казаться в людях праведным, чтобы пользоваться влиянием, чтобы иметь власть. Он не убивает; но тысячу раз умер бы каждый, мешающий ему в его намерениях, если бы желание отправить к черту убивало; если бы этот человек не был связан страхом законов, боязнью общественного мнения, если бы он не предвидел неудачи, то, наверно, враг, становящийся поперек дороги, был бы давно истыкан и исполосован ударами ножа, зарублен топором, прострелен или отравлен. О, если бы можно было сжечь ненавистью, с каким медлительным сладострастием поджаривал бы ои своего противника на злобно–пылающем пламени жестокости! С каким ликованием отравил бы он его ядами язвительных слов, оледенил бы ему кровь ехидной изысканностью холодных сар- казмов! Этот человек никого не убил, но он — постоянный убийца.
Да, он не совершает прелюбодеяний; но он досадует на свою «чистоту». Если бы не эта проклятая гласность! Он не ворует, никогда не воровал. Однако он зеленеет и трясется от зависти, глядя на чужое добро, двадцать раз в день негодует на общественные порядки, которые помешают ему украсть безнаказанно» Он не крадет, но, однако, в сердце своем совершает кражу за кражей, и потому он — постоянный вор.
A. — Этот «нравственный человек» уже когда-то говорил о себе. Не помнишь ли?
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.
Много было разных событий, где он «никому не сделал зла». Вот, для примера, одно из них:
Имел я дочь; в учителя влюбилась
И с ним бежать хотела сгоряча.
Я погрозил проклятьем ей: смирилась
И вышла за седого богача.
Их дом блестящ и полон был, как чаша,
Но стала эдруг бледнеть и гаснуть Маша
И через год в чахотке умерла,
Сразив весь дом глубокою печалью…
Живя согласно с строгою моралью
Я никому не сделал в жизни зла.
[340]B. — Это — еще не почувствовавший и не сознавший ясно, что даже такая «добродетель» стесняет его. Но знаешь ли ты, как мучают внешние узы человека, сознавшего их! Его «праведность» делается тяжелым бременем и жестоким игом. Помнишь ли ты сьера Клубена у В. Гюго?
[341] Помнишь ли ты, как этот «честнейший человек на всех морях», артистически лицемерящий, рассчитывающий свою игру до последней мелочи, все ставящий на карту, чтобы создать себе репутацию честнейшего, ждет не дождется той минутки, когда он нагло насмеется над поверившими ему, когда он сможет сбросить с себя маску, и ликовать, и упиваться преступлением, ради которого он столько времени был «честен». «Тридцать лет носил он маску лицемерия. Он ненавидел добродетель. Он был чудовище в человеческом образе. Он был пленником честности; как мумия в гробу, он заключен был в оболочку невинности, общее уважение подавляло его. Слыть честным человеком ужасно. Часто он улыбкою скрывал скрежет зубов. Добродетель душила его, и всю жизнь порывался он укусить руку, зажимавшую ему рот; между тем он должен был целовать ее… Он всем мил, и потому всех ненавидел. Наконец- то час его пробил. Он мстил. Кому? Всем и за всё… Он мстил всем, перед кем должен был притворяться. Всякий, кто думал о нем хорошо, был его враг…» (В. Гюго).
Только вдумавшись в то, чтб это такое — добродетель без любви к Богу, постоянной заполненности всего существа Абсолютным, можно понять, что слова Апостола, столько раз цитировавшиеся, не есть чрезмерное и жестокое требование, а — выражение основного факта этической жизни, — условие, не откуда-то извне налагаемое на человека, а вытекающее из собственной его природы. Вот это условие всякой жизни по правде.
«Если я говорю языками человеческими или ангельскими, а любви не имею, то я–медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13, 1–3)*.
Но никакие внешние признаки не обнаруживают с достоверностью, имею ли я любовь или нет; никакой чувственный опыт не покажет, в силу чего я поступаю так, как поступаю, в силу чего я работаю над собою всячески, занимаюсь всевозможною помощью другим и общественною деятельностью, делаю, по–видимому, всё и кончаю жизнь мученичеством — на костре. Никакой чувственный опыт не обнаружит, медь ли я звенящая и кимвал глухо бряцающий или же сознательно функционирующий орган тела Христова. Но, между тем, эта эмпирическая неразличимость прикрывает собою существенное различие‚ а оно может быть усмотрено только самонаблюдением или какими-нибудь иными путями, но не опытным, если брать слово в обычном, чаще всего употребляющемся значении·
A. - Amen
[342]. Однако ты чересчур распространился, увлекшись тоном проповеди; смотри, ты встрепан, будто не чесался два дня…
B. — Мы можем теперь перейти к третьему типу случаев‚ — к случаю, где два объекта, данные в созерцании, не обнаруживают разницы для такового, кажутся ему неразличимыми и тождественными, тогда как умозрение дает возможность отыскать принципиальную разницу между этими объектами.
Так как с созерцанием мы имеем дело по преимуществу в геометрии, то тӑм особенно много примеров, поясняющих, в чем дело. Придется отметить только простейшие из них, хотя всем таким исследованиям математики принадлежит решающее значение и несомненно доказательная роль при обсуждении наших вопросов. Для начала укажу о существовании несоизмеримостей, то есть таких величин одного рода, которые не имеют общей меры между собою. Когда общая мера существует и отношение величин является соизмеримым, то оно может быть выражено некоторым числом; если же соотношение несоизмеримо, то нет такого числа, которое бы выражало собой это отношение. Таким образом, первая пара величин имеет какое-то принципиальное отличие от другой, но это отличие не может быть замечено и усмотрено никаким опытом.
Чтобы сделать это более наглядным, обратимся к геометрическим величинам. Пусть, например, каким- нибудь построением нам даны два прямолинейных отрезка. Сравнивая их, мы можем обнаружить разницу их длин; один отрезок окажется, например, более другого. Но ничего принципиально–различного таким способом — непосредственным сравнением отрезков — мы не заметим, как бы точно ни было сравнение. Однако, изучая тот путь‚ которым отрезки были получены, мы сможем умозрительно прийти к заключению о принципиальной разнице их, разнице по существу. Длина одного отрезка, как может оказаться, выражается некоторым числом, а другого — никаким числом не выражается. Чтобы выразить длину второго отрезка арифметически, то есть чтобы охарактеризовать длину отрезка в отвлеченных терминах, надо создать совершенно новый арифметический символ, новую арифметическую схему–так называемое иррациональное число. Таким образом, например, сторона квадрата и его диагональ, будучи несоизмеримы, имеют какое-то внутреннее различие‚ абсолютно незаметное для простого созерцания этих отрезков. Это свойство сказанных линий было известно уже пифагорейцам, и открытие его относят к основателю союза. Нетрудно догадаться, какое ошеломляющее впечатление должно было произвести открытие этой теоремы на изобретателей. Одним из основных убеждений школы было признание универсальной роли числа, а под числом тогда разумелось именно целое число. И вот оказывается, что имеются объекты, притом объекты в области созерцания, которые никаким числом не выражаются, никаким числом не управляются, как бы лишены сущности, ибо сущность объекта, для пифагорейцев, есть выражающее его число. Получалось, будто люди заглянули незаконно в какую-то мистическую бездонность, подсмотрели или подслушали то, что людям не дблжно знать, вырвали из бездонности тайну богов и стоят, как сообщники одного страшного дела, не смея смотреть друг другу в глаза, вздрагивая от громкого слова, боясь проговориться и тем окончательно навлечь на себя гибель несущий гнев небожителей.
Завыли таинственные вздохи ветра; закачались в ужасе деревья, замахали руками; понеслись в вихрях почерневшие листья.
Порывы метели суровы и резки, Ужасная тайна в душе шевелится. Задерни, мой брат, у окна занавески: Λ то будто Вечность в окошко глядится.
Пифагорейцы вовсе не были так несообщительны и замкнуты в своих философских воззрениях, как это было принято думать о них; но такие открытия.., такие открытия должны были оставаться тайной, должны были глубоко укутаться молчанием.
Раскрыть случайно–увиденное, обнаружить пережито- найденное — это значит кощунственной рукой сдернуть покровы с того, что закрыли боги, бесстыдно обнажить божественную тайну. Горе нечестивцу, который дерзнет вынести скрытое наружу. Он навлекает тогда самим своим существованием гибель на союз и на самого себя. Единственное, чем можно спастись, это изгнать святотатца, отречься от него, пред богами объявить своим врагом. Да направят вечные боги весь гнев свой на виновника, на него одного!
Так и случилось. Основатель союза, тайновидец Пифагор, был еще жив, он доживал последние свои годы, как вдруг разразилась гроза, и союз, — слушавший мерно–звучащие кифары, занимавшийся благочестивыми упражнениями и увлекающими к миру стройности и небесной гармонии созерцаниями, — глухо заволновался. Нечестивый Гиппас, вероломный волк, обманувший доверие священного союза, пренебрег гневом небожителей и, забывая о подобающем божественным истинам молчании, святотатственно открыл тайну профанам — выдал непосвященным и неочистившимся священное предложение о не- соизмеримостях. Гиппас был судим, с позором изгнан из ордена; пусть же бессмертные судят его! И вот не замедлил суд блаженных богов, живущих в высоком эфире. Только что отплыл в открытое море безумный нечестивец, только что утонул в голубом тумане береговой край Великой Греции, как Посейдон вспенил трезубцем почерневшую пучину, раскачал бесплодное море, захлестал гигантами–волнами — чудовищами морскими — на утлое суденышко, и дерзкий Гиппас понес кару за нескромность к богам. Он утонул, и неосторожные уста навеки сомкнула бесстрастная водная пустыня…
A. — (Смеется.) Это, по–твоему, факты?
B. — Фактов я и не хотел излагать; моею задачей было представить, как могли факты отражаться в сознании союза. Но теперь я просто буду указывать другие примеры. За недостатком времени я только упомяну о существовании так называемых
трансцендентных чисел и величин, ими измеряемых. Оказывается, что также и среди иррациональных чисел можно установить принципиальные различения, разбивая их на существенно разнородные классы. Таковы, например, числа, степени которых соизмеримы; таковы же числа трансцендентные. Интересно то, что, хотя трансцендентное число существенно отлично от нетрансцендентного или алгебраического, но узнать относительно
данного числа, каково оно, весьма нелегко. Так, например, знаменитая задача о квадратуре круга, почти 4000 лет истощавшая силы математиков, в самой своей постановке заключала недоразумение, и последнее основывалось на непризнании существенного различия числа π от алгебраических чисел. Чтобы не останавливаться далее на примерах из того же отдела математики, я укажу несколько примеров из так называемой теории групп. Под
группою точек разумеется совокупность точек, данных определенным образом; она рассматривается в силу однородности задания, — как нечто целое, единое
[343].
Как простейший пример возьмем такие группы точек,
которые расположены на прямой линии; точки, так сказать, нанизаны на прямую. Тогда, чтобы определить положение точки на прямой по отношению к некоторой неизменной точке — началу, нужно дать число, выражающее расстояние этой точки от неподвижной в каких- нибудь определенных единицах длины, например в миллиметрах. Если мера длины дана и дано число, то этим точка, характеризуемая числом, вполне определена. Выбирая совокупности чисел по тому или другому общему правилу, мы станем последовательно получать группы точек, расположенные по тому или другому закону. Так, например, мы можем потребовать, чтобы были взяты все те точки, соответственные числа которых — координаты — суть все рациональные числа не меньшие нуля и не большие единицы. Это будет группа «рациональных точек» в отрезке 0–1.
В теории групп на каждом шагу встречаются случаи, где две существенно–различные группы, которые приходится трактовать при всевозможных рассуждениях как объекты весьма разнящиеся, не могут быть различаемы в созерцании. Возьмем, например, группу точек, определяемых всевозможными числами между 0 и 1, включая сюда 0 и 1; это будет так называемая замкнутая группа. Возьмем, далее, группу точек, определяемых всевозможными числами между 0 и 1, включая сюда 0, но не включая 1; такая группа носит название незамкнутой. Обе эти группы абсолютно–неразличимы в созерцании, «на глаз»; одна имеет вид, как другая; одна, по- видимому, тождественна с другой. Но, на самом деле, между ними есть очень важная разница, которая радикально различает свойства групп. Первая группа, замкнутая, имеет, так сказать, окончания; точки 0 и 1 являются для нее крайними точками, так что нет ни одной точки группы, которая лежала бы правее, чем точка 1, и нет такой, которая лежала бы левее точки 0. То же самое можно сказать и о левом конце второй группы, незамкнутой; но не так обстоит дело с правым концом этой группы; тут конца в собственном смысле нет; нет последней точки, крайней. Какую бы далеко стоящую точку мы ни взяли, непременно найдется другая, еще дальше ее стоящая; а последней все-таки нет. Мы можем как угодно близко подходить к точке 1, которая не относится к нашей незамкнутой группе, и все-таки никогда точки 1 достигнуть не сможем, потому что, если мы станем в точку 1, то выйдем из пределов группы, а если не станем еще в нее и будем слева от
нее, то всегда имеем возможность подойти ближе. У замкнутой группы, так сказать, обтаял копчик‚ сточилась последняя точка, и получилась группа незамкнутая. Это изменение, невидимое и неощутимое, однако, произвело существенное изменение в свойствах, в структуре группы, и тот, кто занимался теорией групп, хорошо знает, как серьезны эти изменения структуры и как тщательно надо различать группу замкнутую от незамкнутой. У последней не хватает какого-то «чуть- чуть», с появлением которого она бы перешла в группу замкнутую. Но отсутствие этого «чуть–чуть» имеет для сущности группы, может быть, большее значение, чем в области эстетики то «чуть–чуть», с которого начинается искусство.
Приведу еще один пример. Если мы возьмем совокупность всех точек промежутка 0–1, включая сюда и пределы 0 и 1, то, как известно, она имеет своими соответственными числами совокупность всех иррациональных и рациональных чисел, которые не меньше 0 и не больше 1. Такая группа точек принадлежит к типу так называемых совершенных групп. Каждому мыслимому числу, рациональному или иррациональному — безразлично, соответствует точка группы, и, наоборот, каждой точке группы соответствует рациональное или иррациональное число, которое меньше 0 и не больше 1. Возьмем теперь между теми же пределами 0 и 1 другую группу точек — группу рациональных точек; каждой точке этой группы непременно соответствует число, заключающееся между 0 и 1; но сказать наоборот никак нельзя: не всякому числу соответствует точка группы и, если мы берем число иррациональное, то соответствующей ему точки не существует. В соответственном месте отрезка — носителя группы — группа имеет изъян пробел. Так как между каждыми двумя рациональными числами существует бесконечное множество иррациональных, то в каждом отделе группы нашей существует бесконечное множество изъянов; вся группа разъедена, изгрызена. Однако эта источенность группы имеет одно замечательное свойство: дело в том, что между любою парою рациональных чисел, как бы ни разнились они мало, существует не только бесконечное множество иррациональных промежуточных, но и бесконечное множество рациональных же промежуточных. Другими словами, какой бы малый кусочек нашего прямолинейного отрезка мы ни взяли, он непременно окажется начиненным бесконечным множеством точек группы. За это свойство группа наша может быть отнесена к типу групп «всюду- плотных». Итак, с одной стороны, мы имеем сказанную всюду–плотную группу‚ а с другой — группу совершенную‚ о которой речь шла ранее. Все точки, которые участвуют в первой группе, участвуют и во второй, но нельзя сказать обратного; во второй группе имеется бесконечное множество точек, не участвующих в первой. Первая группа есть как бы изъеденная бесконечно- тонкими дырочками вторая группа, а вторая — зачиненная первая; та и другая по своим свойствам существенно разнятся между собою; они настолько различны, что немыслимо смешивание их; иначе можно наделать грубейших ошибок. И, однако, та и другая никаким созерцанием, никаким микроскопом не отличимы между собою. Первая есть как бы полоска пыли, насыпанная вдоль прямой линии, вторая — сплошная ниточка; в первой — разрозненные точки, рассыпавшиеся ниточки бисера, а вторая — непрерывная последовательность точек. И все-таки та и другая группы не могут быть представляемы как разнящиеся, хотя, с другой стороны, не могут быть мыслимы как тождественные. Вводимое в теории групп понятие о группе производной делает различие их особенно очевидным.
Я бы мог привести тебе еще множество примеров из теории групп, но за недостатком времени поспешу идти далее.
A. — Далее? Это еще куда?
B. — Нужно обратиться к Последнему,
Четвертому виду объектов, не могущих быть различенными никакими методами помимо мистического восприятия. Сейчас я ничего не желаю доказывать тебе–ведь мы и начали разговор в том намерении, что dicitur ad narrandum, поп ad probandum
[344]. Поэтому можно излагать наши убеждения вполне догматически. Мы думаем, что таинства и являются именно такими объектами, не отличимыми в чувственном опыте, как бы он ни был тонок и чувствителен, от простых церемоний и обрядов, и имеющими, несмотря на это, глубочайшее субстанциальное отличие от обрядов и церемоний. Об этом различии мы знаем из церковного учения, подобно тому, как из геометрии узнаем о различии стороны квадрата и его диагонали. Насколько справедливо то, что тут, в таинствах, действительно имеется своеобразная сущность, нечто существенно новое — как бы новая тварь, — это другой вопрос; нельзя, однако, отрицать возможности этого.
Α. — Но неужто можно довольствоваться этим голым утверждением и не иметь никаких фактических доказательств?
В. — Никто не велит довольствоваться только им. Совершенно своеобразные и первичные восприятия позволяют почти всякому, хотя, быть может, и не всегда, усматривать тот мистический элемент таинства, о котором говорит Церковь. Не только мистики, так сказать, профессиональные, но и самые простые верующие сплошь и рядом имеют такие восприятия, и эти специфические переживания указывают на наличность специфического же момента в таинстве. Конечно, с чисто теоретической точки зрения нужно подвергнуть эти переживания теоретико–познавательному рассмотрению и оправдать их объективную значимость и ценность, как это необходимо сделать со всякого рода переживаниями. Такое рассмотрение не входит в наш план, но я не могу не заметить, что тут задача проще, чем кажется с первого взгляда. A priori
[345]‚ независимо от теоретико–познавательных убеждений рассматриваемого, можно утверждать, что предмет этих специфических переживаний не может лежать в области предметов переживаний обычных; если это — галлюцинация, то — что бы под галлюцинацией мы ни разумели, — причина, галлюцинацию вызывающая, лежит в области мистической, в области новой сравнительно с той, которую мы узнаем в эмпирии; ведь не может эмпирическое, каково бы оно ни было, само по себе, без привхождения мистического выстроить мистическое, принципиально разнящееся от него.
Можно было бы привести сколько угодно примеров таких переживаний. Вот, например, что пишет в частном письме одна учительница–девушка, воспитанная в традициях шестидесятых годов, потом пришедшая к Церкви: «Христос воскресе, дорогой… Я член Церкви Христовой, мне прощены мои грехи, и я причастилась Святых Тайн. Я поражена и уничтожена всепрощением Божиим. Простил, все простил, потому что нет больше муки в моей душе; и солнце, и небо, весна и природа — всё для меня, как и для других; любовь родных, близких и детей (моих учениц) — всё вернулось ко мне, хотя, могло казаться, никогда и не отнималось. За что такая милость Божия? И я еще смела не прощать грехи другим, когда сама хуже всех, а Бог мне всё простил… Причастие Святых Тайн успокоило меня… Я почувствовала себя в общении с Богом моим Иисусом Христом. Я теперь верю, что Он взял на себя грехи мира, что Он приходил на землю, и был распят за нас всех и за меня, и искупил все прошедшие и будущие грехи людей…»
«Живу не к тому аз, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20), — то есть Христос стал жить в нем
[346].. Это не нравственно только, в том смысле, что вся жизнь, вся деятельность, все помышления, все чувствования — всё для Христа и ради Него. Это значит гораздо более, значит, что Христос существенно вселяется и сотворяет обитель в сердце,
Сам реально является‚ по обещанию Своему.
«Спасительности (слова крестного), — говорит епископ Феофан, — отвергать нельзя, ибо опыты сего у всех пред глазами: слышат слово крестное, веруют, принимают крещение и являются новою тварью; новыми себя ощущают‚ новыми видят их другие…
Заподлинно (принявшие слово крестное) удостоверялись в сей силе и премудрости‚ когда в крещении спогребались распятому Господу и вкушали спасительность креста…
…Блага сии уготованы любящим Бога, то есть тем, кои, оставя всс, к Богу прилепляются сердцем, и в
сердечное живое общение и единение с Ним входят
путем, от Него указанным и предписанным»
[347]. Не стану напоминать тебе другие примеры.
A. - Concedo atque distinguo
[348]. Все сказанное тобою заставило меня несколько изменить мнение. Я теперь соглашаюсь, что вы смотрите на Евангельские события иначе, чем я полагал, и, притом, в некоторых отношениях мне стала ясна формальная законность вашей точки зрения.
B. — А твои вопросы?
A. — Кое на что ты уже ответил сам, а другие вопросы я предложу теперь в иной раз: они носят совсем новый характер. Хорошо и то, что выяснилось, как я должен понимать то, о чем мы будем говорить. Однако для большей ясности следовало бы тебе покороче еще раз охарактеризовать два мировоззрения, одно ваше, а другое то, которое излагалось мною. Только покороче.
B. — Это просто; первое — эмпирея, второе — эмпирия.
А. — Уж чересчур кратко. У нас есть еще четверть часа; не изложишь ли ты эту мысль in extenso?
[349]В. — Изволь. Развитие мировой драмы по тобой изложенному мировоззрению идет всецело в области эмпирической, — в области цветов, звуков, запахов, давлений и всех других сторон чувственно–воспринимаемого мира, которые непосредственно или посредственно могут быть замечены методами физики, химии, биологии и других им подобных наук, равно как и в области хотений, ощущений, замечаемых эмпирической психологией. Все нити действия тянутся в области эмпирической, все пружины, двигающие события, не выходят из границ и пределов этого мира. По своей ли тонкости, или по недостаточности воспринимающих аппаратов многие нити, быть может, нам еще неизвестны; возможно даже, что они никогда не станут нам известны. Но, по существу‚ между известными нитями и теми, еще неизвестными, нет никакого различия; все они рассматриваются наподобие того, как рассматриваются явления в физике. Разница между ними аналогична разнице света и звука.
За такие черты изложенную тобою
концепцию можно назвать
натуралистической — натуралистической в смысле, аналогичном тому, в каком мы обозначаем этим именем известную литературную школу, потому что она довольствуется
одною плоскостью действительности,
протоколами этого мира
[350] ‚ а всякую другую хочет сводить на эту единственную. Наше мировоззрение по существу иное. Мы не довольствуемся
плоскостностью действительности, требуем
признания перспективности, видим «холодную высь, уходящие дали». Эта перспективная глубинность заключается в том, что мы не выравниваем всего многообразия действительности к одной плоскости — плоскости чувственно–воспринимаемого, не гербаризируем действительности, сплющивая и высушивая ее в толстой счетной книге позитивизма. За данною переднею плоскостью эмпирического имеются еще иные плоскости, иные слои. Они не сводимы один к другому, но связаны между собою
соответствиями‚ причем эти соответствия не условное что-нибудь или навязываемое действительности; соответствия устанавливаются тем же самым актом, который производит «действительность» в ее представляемой форме.
В потенции‚ в возможности, и вам, и нам даны одни и те же первичные данные — элементы. Но вы, — если только вы на самом деле так воспринимаете окружающую действительность, как говорите, а не просто считаете нужным так ее воспринимать, — вы строите из этих элементов мир плоскостный, а мы — глубинный. Я позволю себе продолжить предыдущее сравнение, сопоставляющее образование миропредставления с образованием пространственных представлений.
То, что имеется в чувственности изначала, то не есть еще нечто пространственное. Психологический анализ достаточно выяснил, что эти беспространственные элементы выстраиваются разумом как-то — в данном случае безразлично, как именно — в планомерное пространственное единство, в образ чувственного мира. Но сперва этот образ только плоскостный. Первоначально вся действительность имеет вид как бы картины‚ нарисованной по всем правилам перспективы на некоторой поверхности; она как бы приложена к глазу. Но в этой картине имеются только цвета яркости и насыщенности, имеются всевозможные переливы и сочетания красок, то блестящих, то матовых и тусклых, то светлых, то темных, игра светотени и контуры, но нет, совершенно отсутствует рельеф, какой-нибудь намек на перспективность или глубину.
Элементы остаются те же самые; но вот к устроению их присоединяются еще новые деятельности разума, совершенно новые способы действования разума — каковы бы они ни были и в чем бы ни состояли, это нам сейчас безразлично, — и тогда только вдруг раскрывается смысл картңны в ее перспективности, делается ясным, для чего она нарисована по правилам перспективы. То, что раньше представлялось уродливой
перекошенностью‚ происходящей от неумелости творца картины, оказывается целесообразно–направленным
средством для изображения глубины. Тогда, и только тогда картина делается для Создателя тем, что она
есть. по своему замыслу;
до того она была лишь собранием уродливо- искаженных и перекошенных контуров и теневых пятен с некоторыми
намеками на целесообразность, потому что целесообразно–нарисованное в плоскости для непонимающего перспективы есть план, а не перспективное изображение, абрис, контур, только не сущность. Целесообразность картины действительности понятна только при понимании перспективы; в противном случае, если дело ограничивается плоскостью, целесообразность была бы иная, и, если потерять понимание перспективы, то естественно повторить за Альфонсом V Кастильским
[351] знаменитую фразу: «Если бы Творец спросил моего мнения, то я посоветовал бы Ему сотворить мир получше, а главное попроще!»
Если теперь перейти к предмету, с которого мы начали, к различию эмпирии и эмпиреи, то можно сказать: к тем изначальным данным, которые имеются у нас и у вас одинаково, вы применяете только один род по- строяющих действительность актов, и потому у вас получается действительность единообразная. Это — эмпирия. Мы же применяем к тем же данным ряд актов и получаем многообразно–расчлененную действительность. Из некоторого материала вы выстроили объект а; далее у вас ничего нет; однако оказывается, что материалы этого объекта допускают и требуют еще дальнейшей обработки новыми методами построения. Таким образом построяются объекты β‚ γ,… и так далее. Эти объекты, однако, не разрозненны между собою; будучи самостоятельными по своей сущности, они, однако, связаны для сознания единством материала, из которого построены, а реально тем, что материал этот дается нашим отношением к единой вещи, и эти объекты α, β, γ,… суть частные аспекты одной вещи, разные стороны ее идеи — сущности. Объекты α, β, у,… суть, так сказать, части, стороны вещи для сознания. Однако они не равноправны. Объект β как дальнейшая обработка того же материала, который входит в а, заключает в себе а в известном смысле, но сам является чем-то более содержательным, чем а, потому что он — нечто и, кроме того, то, что α, β, именно, играет ту же роль в отношении к а, как страница из Гёте, рассматриваемая с точки зрения человека, понимающего поэму, к той же странице, но с точки зрения человека безграмотного. Для первого она есть эстетическое плюс зрительные образы «черное на белом», а для второго — только «черное на белом».
Таким образом, вследствие того, что разные деятельности разума применяются при построении действительности, вследствие этого наши объекты, заключая в себе все то, что ваши, имеют еще много иного; но это «иное» — самое главное, самое существенное — смысл того, что вы видели и не прочли. Вследствие этого объекты религиозного мировоззрения полнозвучнее, богаче, чем позитивистические. Законно сравнить их с аккордами, если объекты позитивистов назвать отдельными тонами.
Но когда разумом уже проделано все это, тогда и самая передняя плоскость — тот чувственный мир, который построяется «позитивистическою» деятельностью разума, приобретает для нас особую важность, особое значение; он, так сказать, отдается другим, высшим мирам, делается представителем их и, в известном смысле, носителем; отказавшись от самоутверждения, от своего существования как такового, он делается бытием
для мира иного. Но тем самым он, «потеряв свою душу», сделавшись носителем иного мира, телом его, несет его
в себе‚ воплощает другой мир в себе, или преобразуется, одухотворяется и превращается тем самым в
символ‚ то есть в органически–живое единство изображающего и изображаемого, символизирующего и символизируемого.
[352] Эмпирический мир делается прозрачным, и чрез прозрачность
этого мира становятся видимы пламенность и лучезарный блеск других миров. «…Невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы…» (Рим. І, 20). Вследствие такого лишения самостности, самостоятельного цвета,
этот мир, просвечивая
огненностыо иного мира, делается сам огненным; он как бы смешивается с огнем. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии» (Откр. 15, 2). Стоящие на море- это те, для которых этот мир стал уже вполне прозрачным, и вот они, оставаясь в
этом мире, непосредственно касаются огненной стихии, которая смешана с морем, и видят это, и поют хвалу, говоря: «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны пути Твои, Царь Святых!» (Откр. 15, 3).
Итак, если я назвал ваше плоскостное мировоззрение натуралистическим‚ в смысле известной литературной школы, то наше, по справедливости, следует назвать символическим за то, что в нем познание мира является в то же время «соприкосновением с миром иным».
В самом деле, что иное должна представлять из себя символическая поэзия, как не органически–слитное соединение того мира, который дан в поэзии реалистической, мира опытного, с новыми, горними слоями эстетической действительности. Каждый слой значителен сам по себе и ведет к другому, еще более значительному.
Вот в общих чертах различие эмпирии от эмпиреи, если взять мировоззрение или миронастроение в его целом. Однако тут было бы неуместно рассматривать отношение такого общего мировоззрения к ранее рассмотренному вопросу о таинствах.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3АΜΕΤΚА О ВОСПРИЯТИЯХ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТАИНСТВ
I
Наличность особых восприятий при получении благодатной силы таинств составляет данную несомненную. Но, помимо таких восприятий, отмеченных у людей «обыкновенных», в литературе имеются примеры необычайного иерогнозиса или, по терминологии Эмбера- Гурбейра
[353], евхаристического чутья (flair eucharis- tique), обнаруживающегося иногда у сензитивов, визионеров, провидцев — людей с особой организацией. Ясновидящие такого рода умеют определять святыни всякого рода — реликвии, освященные предметы и, в особенности, Святые Дары.
Особенно много случаев евхаристического чутья зарегистрировано у католиков, может быть, потому, что католические писатели имеют склонность усматривать в этом роде откровения, так называемые revelationcs privatae
[354]‚ и, понятно, отсюда придают ему важное значение. Данных к такому пониманию дела мы не видим и, наоборот, видим данные, служащие помехой. Но, не будучи откровением, евхаристическое чутье не может быть отнесено и к разряду чувственного опыта и, вероятнее всего, оно принадлежит к той группе явлений, которые Майерс (Myers) обозначил именем сублиминального сознания.
Эмбер–Гурбейр собрал ряд примеров такого чутья (описаны в т. I его сочиң. «La Stigmatisation»
[355]). Приведем их. Святой Франциск Борджия, войдя в церковь, всегда узнавал, где хранились Святые Дары (освященные остии). Жанна Мария де ла Круа чувствовала благоухание, исходившее от причастившихся утром священников. Екатерина Сиенская отказалась однажды принять причастие, почувствовав, что предложенная ей священником остия не освящена по его нерадению. Лучия Парнианская среди 13–ти остий отличала освященную. Над Јїуизой Лато неверующие медики производили эксперименты и убедились, что она без ошибки узнавала предметы освященные. Святой Карл Бордомей по благоуханию узнал о нахождении в одной церкви, чего никто не подозревал, мощей Святого Иеронима Эмилианского.
В XIX столетии опыты обнаружили евхаристическое чутье Марии Юлии де ла Фродэ. Но самым интересным субъектом является вестфальская крестьянская девушка Анна–Екатерина Эммерих (Emmerich), жившая в 1774— 1824 годах.
Стигматизированная и визионерка, Эммерих обладала также необычайно развитым евхаристическим чутьем. Правда, что к сведениям об Эммерих надо относиться с большой осторожностью. Нельзя забывать, что описание ее переживаний подверглось двойной цензуре и двойному ряду поправок — со стороны секретаря ее, восторженного поэта Климента Брентано, и «чрезвычайного» духовника, правоверного католика Оверберга. «Проверка» видений Эммерих ее секретарем по научным данным и «encouragements» самой Эммерих при пробелах в рассказах о видениях ее духовником, — все это дало записям о видениях «приличный» вид, но зато заставляет быть осторожным при пользовании ими. Впрочем, возможные искажения относятся к догматическим или историческим элементам ее переживаний, и нет причин предполагать их в приводимых ниже фактах.
«Чуткость» Эммерих доходила до того, что она угадывала, совершал ли пришедший к ней священник в этот день евхаристию, или нет. С необычайной силой схватывала она священника за большой и указательный пальцы руки (которыми католические священники касаются Святых Тайн) и выпускала руку священника лишь по магическому для нее слову «слушайтесь». Невидимый для других свет и особые оттенки этого света позволяли ей отличать среди других, внешним образом тождественных, предметов не только Святые Дары, но и все, что церковь освятила своими таинствами, особенно же мощи святых и реликвии. Обыденность таких восприятий, засвидетельствованных многими исследователями, позволила одному из друзей Эммерих прозвать ее сакро- метром.
II
Мы привели указанные примеры, не разбираясь в них критически, — желая только пояснить, факты какого рода имеются в виду, причем надо заметить, что примеров таких можно набрать сколько угодно из описаний бесноватых и одержимых, ясновидящих и визионеров.
Допустим, однако, что, по тем или иным соображениям, мы хотели бы уклониться от пользования подобными описаниями, — хотя бы потому, что не имели бы возможности критически взвесить документы.
Тогда вопрос о таинствах сводился бы к необходимому признанию двух наличностей: во–первых, наличности тайнодействий, в которых известные лица не видят особого элемента, благодати; и, во–вторых, — наличности теории таинств, части догматики, утверждающей специфическую природу таинства, его «существительную»
[356] особенность.
Итак, у нас есть два факта; ни одного из них нельзя отмести, оба должны быть объясненными. Представим себе далее, что мы желаем считаться по преимуществу с первым фактом, с отсутствием у данного лиц а особых восприятий от таинств. Понятно, что простое отсутствие восприятий у данного лица ничего еще не предрешает само по себе относительно несуществования или, тем более, невозможности существования такого восприятия вообще, а потому — и наличности объекта этого восприятия — мистического что. Однако такое заключение иногда все-таки, по ошибке, делают; покажем же, что в данном случае оно ведет к нелепости. С этою целью временно допустим его, то есть сделаем принципиальное утверждение об отсутствии специфического восприятия и специфической природы таинства. Тогда, так или иначе, нам надобно считаться с другим фактом — с традиционной теорией, берущей свое начало в глубокой древности и упорно сохраняющейся, — с теорией о специфической природе таинства.
Как бы мы ни относились к Церкви, но нельзя быть настолько легкомысленным, чтобы никак не считаться основными убеждениями ее — с убеждениями миллионов людей разного воспитания и образования, разного общественного положения, — с убеждениями, пребывающими в мятущемся потоке времени. Пусть их признают ошибкой, нелепостью. Но ведь и для ошибок и нелепостей, а тем более пребывающих в пространстве и времени, имеются свои причины, с которыми нельзя не считаться. Нельзя обращаться с такими убеждениями по «методу незамечания».
«Может быть, — скажут, — будет показано, что эта теория таинств есть результат исторических влияний на церковное учение, культурное наследие ее». Пусть так, но это–не объяснение. Ведь мы
принципиально отказались признавать за таинством особую π ρ и ρ о — д у. Генетическое объяснение только переносит вопрос к другому времени и к другому народу, к сути дела даже не подступаясь; трудность объяснить причину создания церковной теории остается той же, что и ранее. В самом деле, ведь если безусловно отрицать особые восприятия в жизни духа при получении таинств, то с такою же безусловностью можно утверждать, что и рефлексии на них возникнуть не могло бы. Этим вопрос об априорности логической схемы нисколько не предрешается; идет дело только о том, как до переживания данная потенция, предрасположение разума, перешла в актуальность. Понятие об особых элементах не получается ни при каком комбинировании уже имеющихся данных, от первых принципиально отличных. Мы можем находить евхаристические молитвы соответствующими благословению иудейского пасхального канона; мы можем связывать их с мистериями Митры, Диониса или орфиков
[357]. Но, какова бы ни была ценность утверждения нашего об историческом преемстве того или другого явления, оно касается только формы, оболочки таинства; мистическая же сторона его таким путем абсолютно невыводима без мистических восприятий. «Но, — могут сказать, — в духе могло быть данное
до всякого конкретного переживания, понятие о специфической природе, — некоторая, так сказать, рефлексия до переживания, чисто–логическая возможность схематизировать будущее переживание». Пусть в духе есть понятие, схема, данная актуально до наличности того, чего она есть схема. Пусть так. Но тогда, если эта возможность безусловно отрешена от конкретного переживания, то совершенно непонятно, как она могла после вступить в связь с другими конкретными переживаниями, чувственными данными. Другими словами, совершенно непонятно, как
только общее‚ исключительно общее и притом относящееся к специфическому содержанию, могло быть применено к частному, к материальному содержанию таинства, которое, вдобавок, существенно разнится от схематизируемого данным понятием — благодати. Непонятно, почему образовалась теория таинства применительно к определенному явлению, а не к любому другому, и, так как этот вопрос относится ко всякому эмпирическому данному, то делается непонятным вообще, что связывает это общее, до переживания данное понятие, с частным каким бы то ни было явлением, данным в опыте эмпирическом; делается непонятным, почему под данное понятие нельзя подставить чего угодно, а тогда это бы значило, что материя таинства в теорию попасть никак не могла бы. Чтобы понятие могло быть применено к конкретному, оно должно быть прикреплено к определенному конкретному; но для последнего необходимо, чтобы это конкретное отличалось для сознания ото всякого другого, выделялось из остального, было особенным, то есть чтобы сознание воспринимало в нем какую-то специфическую природу, если общее, к нему применяемое, утверждает существование таковой.
Для применимости теории к опыту необходимо, чтобы она имела в опыте какое-то соответствие себе; опыт должен откликаться на теорию, и этот отклик, это соответствие должно быть пережито, — другими словами, должна быть пережита эмпирея.
Итак, наличность теории данного таинства, как имеющего специфическую природу, привела к заключению, что если не в этом таинстве, то в ином каком-то историческом прецеденте его было переживание эмпиреи. Это противоречит нашему принципиальному отрицанию такой возможности, и мы приходим к нелепости. Раз так, то крайне вероятно предположить, что такие случаи восприятия были в свое время отмечены и зарегистрированы, именно: как случаи чего-то нового по сравнению с обычными восприятиями, — как случаи, где сквозь эмпирию к сознанию прорывались иные слои действительности.
«Но, — скажут, — церковная теория таинств держится простым доверием к словам Христа. Христос сказал про хлеб:
τουτό һ‹тхіѵ τό
σωμά μου и про вино:
τουτό є‹гтсѵ το αϊ μα μου (Μκ. 14, 22, 24).
[358] Ему поверили апостолы, апостолам — первенствующая Церковь, а далее непрерывностью предания такое понимание таинства было доведено и до нашего времени». Это замечание вполне справедливо, но оно уклоняется от поставленного вначале утверждения: нет мистических переживаний и объектов, им соответствующих.
Прежде всего, если Христос простой человек (а ведь именно это и утверждает подлинный эмпирик), то тогда относительно Него возникают все те недоумения, какие были указаны относительно любого создателя церковной теории таинств; если Христос ошибался в приведенных выше словах, то необходимо объяснить возможность такой ошибки, а этого не сделаешь без предположения о наличности у Него же или у кого-нибудь, из влиявших на Него, мистических переживаний. Если же Христос — Богочеловек, то тогда в Нем уже есть сверхэмпирическое; тогда невозможно не верить Христу, и возражение само себя уничтожает.
Затем может возникнуть возражение, что, мол, в словах Христа вовсе не заключается церковной теории таинств, что церковное понимание есть «наслоение», внесенное апостолами или отцами Церкви. Допустим, что и это правильно, то есть, что церковная теория есть результат развития теории аллегорической, по которой таинство — только образ и слово «εστι ν» употреблено в смысле «обозначает, служит знаком». Как бы там ни было, но нельзя тогда отрицать, что все-таки, в конце концов, явилось понимание таинства как чего-то большего, чем образ; такое понимание как качественно отличное от понимания аллегорического, не могло быть простою модификацией этого последнего, и, значит, в эволюции церковного учения где-то произошло внесение существенно нового угла зрения. Как таковое оно не могло быть постепенным для данного сознания; оно должно было быть прерывным‚ внезапным. Блеснул новый момент понимания таинства, — и, значит, тот, кому он блеснул впервые, оказывается создателем новой теории. А раз так, то о нем приходится повторять все сказанное выше.
Сказать, что церковная теория таинств явилась результатом непонимания Церковью приточного выражения со стороны Христа, — это значит ничего не сказать, так как для такого непонимания нужно было привнесение в слова Христа того, чего, по мнению возражающего, там не содержится; а это требует признания, что мистическое восприятие и рефлексия на него не были духу непонимающего безусловно чужды.
Итак, желая во что бы то ни стало отвергать за данным таинством его мистический характер, мы вынуждены принять мистическое в чем-нибудь другом; а раз принципиальное отрицание мистического невозможно, то мы имеем все данные признать его тем, за что ручается нам Христос и церковная традиция, хотя бы сами лично никогда не переживали таинства и его мистической стороны.
Ill
Таинство, в котором для сознания дается его благодатная сущность, воспринимается сознанием в виде
чуда[359]. Эта чудесность может сопровождаться еще π о ρ а- зительностью, то есть какими-нибудь эмпирическими необычайностями, оттеняющими, подчеркивающими для внимания данное явление.
В аскетической литературе имеется много рассказов о таких чудесах; но прежде чем указать, почему таким рассказам мы придаем важное значение, напомним общий характер таких чудес.
Они происходили, по словам аскетов, при совершении или получении таинств, по преимуществу крещения и евхаристии, особенно последней. Причина этому вполне понятна — это именно сравнительная обыденность сказанных двух таинств, особенно в жизни монахов.
В описаниях случаев чудес вполне ясно отмечены мистические восприятия. Так, например, в одной легенде
[360] рассказывается, что Иоанн Хозевит, совершая возношение Святых Даров, «не замечает, чтобы Дух Святый освятил их, как замечал это прежде». Причиною этого оказывается то, что евхаристийные хлебы были уже по оплошности освящены. В другой легенде*** мы видим священника, судимого за запаздывание в совершении литургии и в нарушении этим устава. «В воскресные дни, — оправдывается старец, — от самой полунощницы я нахожусь у святого престола и не начинаю литургии, пока не увижу Святого Духа, нисходящего на святой престол. Когда же увижу наитие Святого Духа, немедленно совершаю литургию».
В третьей легенде**** такого же характера рассказывается, как паства оклеветала перед папой Ромил- лского епископа. По откровению от Ангела папа святой
Агапит
[361], вызвавший епископа на суд, велит ему служить литургию. «Епископ стоял пред святым престолом, папа стоял близ него, и диаконы окружали престол. И стал епископ совершать святое возношение..» Он уже оканчивал молитву святого приношения, но, прежде чем заключить ее, начал опять снова, а потом в третий и в четвертый раз начинал святое возношение, не оканчивая его… Все были изумлены такою медлительностью… Тогда папа сказал епископу: «Что это значит, что ты вот четыре раза произнес святую молитву и все не можешь ее окончить?» Епископ отвечал: «Прости меня, святой папа, я не видел, по обыкновению, схождения Святого Духа, потому и не оканчивал молитвы. Но удали от святого престола диакона, держащего рипиду, так как я сам не смею сказать ему». Диакон удалился, по приказанию святого Агапита, и немедленно епископ и папа увидели наитие Святого Духа. Покров, лежавший на святом престоле, поднялся сам собою и осенял в течение трех часов папу, и епископа, и всех диаконов, предстоявших святому престолу…»
В некоторых случаях мистические восприятия облекались в символическую форму видений, тогда как приведенные выше случаи относятся, по–видимому, к восприятиям не символическим. Вот хороший пример
[362] таких восприятий в картинной оболочке. Некоторый простой ПО вере, но великий по подвигам старец говорил, что «хлеб, который мы принимаем, не есть существенно тело Христово, а только вместообразное (αντίτυπου)». Другие два старца уговаривали его, говоря, что этот хлеб истинно есть тело Христово, но старец стоял на своем: «Если не уверюсь самым делом, не могу вполне убедиться», — отвечал он на уговаривания. Тогда, по недельной молитве его и старцев, «Бог услышал их. По прошествии недели, они пришли, в воскресенье, в церковь… И отверзлись им очи. Когда хлеб положен был на святой престол, он представился троим братьям в виде младенца. Когда же священник простер руку для преломления хлеба, Ангел Господень сошел с неба с ножом, заклал младенца, и кровь его вылил в чашу. Когда же священник раздроблял хлеб на малые части, тогда и Ангел отсекал от младенца малые части. Когда они приступили к принятию таинства, старцу одному подана была плоть с кровью. Увидев сие, он ужаснулся и воскликнул: верую, Господи, что Хлеб сей есть Тело Твое, и Чаша сия есть Кровь Твоя! И тотчас плоть в руке его стала Хлебом, как бывает в таинстве, и он приобщился, благодаря Бога».
«Святый Макарий (Александрийский или Младший)
[363] рассказывал
[364] о бывшем ему еще более страшном видении. Братия приступали к принятию Святых Тайн. Лишь только иные простирали длани для принятия Святых Тайн, эфиопы, как бы предупредив священника, клали на руки некоторых уголья, между тем, как Тело Христово, преподаваемое священником, возносилось обратно к алтарю. Напротив — когда более достойные из причастников простирали руки к алтарю, злые духи отступали от них и далеко убегали с великим ужасом. Видел он также, что Ангел Господень предстоял алтарю, вместе с рукою священника простиравший также свою руку к алтарю и участвовавший в преподании Святых Тайн».
Нечто подобное этому представляет рассказ о старце, усвоившем, по простоте своей, еретический чин литургии. Обличения брата не действовали, так как при своем служении он видел ангелов, предстоящих священнодействию. Но, услышав от них, что брат, обличающий его, прав, старец исправился в службе
[365].
В некоторых службах мистическая природа таинства ознаменовывалась необычайными эмпирическими явлениями. Таков, например, случай
[366], когда для испытания правильности веры некоего еретика–северианина православный бросил частицу его причастия в раскаленный сосуд, и она немедленно сгорела, тогда как частица Святых Даров Православной Церкви осталась невредимой.
В Алфавитном Патерике
[367] (1491 г.) приводятся случаи, когда тайно окрещенный еврей был гоним своими родными за какое-то особое благоухание, по которому они узнавали о его христианстве; особым действием благодати окрещенный не сгорал в раскаленной банной лечи, куда его засаживали гонители, и т. л. В другом месте
[368] рассказывается, как частицы Святых Даров, которые еретики желали предать огню, произрастили стебли и колос, и это чудо произвело в Селевкии настолько сильное впечатление, что «горожане и поселяне, туземцы и пришельцы, путешествующие по суше и плавающие по морю, мужчины и женщины, старые и малые, юноши и старцы, господа и рабы, богатые и бедные, власти и подвластные, образованные и невежды, духовенство, девственники и подвижники, вдовцы и в браке живущие, правители и народ — все восклицали: «Господи, помилуй!» — и каждый взывал по–своему, прославляя Бога. Все благодарили Бога за неизреченное и недо- мыслимое знамение. Многие, уверовав после чуда, присоединились ко святой кафолической и апостольской церкви.
Но чаще всего мистические восприятия от таинств в легендах связываются со стихией огня. Огненное освящение Святых Даров у Преподобного Сергия
[369] невольно заставляет вспомнить освящение апостолов огненными языками — «и явились им разделяющиеся языки,
как бы огненные, и почили по одному на каждом из них» (Деян. 2, 3). По легендам, огненный язык посылается для того, чтобы помешать недостаточно благоговейному обращению со Святыми Дарами, и, согласно такому назначению, он производит действие разрушительное. Так, например
[370], некий еретик Исидор, узнав, что жена его приняла Святое Причастие в Православной Церкви, пришел в бешенство. «Схвативши ее за горло, — рассказывает он, — я заставил ее извергнуть святыню. Подхватив святыню, я бросал ее в разные стороны, и, наконец, она упала в грязь. И мгновенно пред моими очами, молния восхитила Святое Причастие с того места…»
Несколько подобных нисхождений огня было в случаях, когда неуместно и незаконно совершалась литургия. Дело в следующем. «Император Юстиниан
[371] в начале VI века издал было указ, чтобы все епископы и пресвитеры не в молчании, а с возглашением во услышание православного народа, совершали Божественное возношение (новелла 137, гл. 6). Но последствия показали, как не пригоден был такой указ»
[372]. Один из случаев такого рода
[373] произошел в городе Апамее, в Сирии. Около этого города дети пасли скот и затеяли играть в обедню. «Поставили одного в чине священника, двух других произвели во диаконы. Нашли один гладкий камень и начали игру: на камне, как на жертвеннике, положили хлеб и в глиняном кувшине вино. Священник стал пред жертвенником, а диаконы — по сторонам. Священник произносил молитвы святого возношения, а диаконы махали поясами, будто рипидами…» Мальчик- священник знал молитвы, так как они читались, как сказано, в церкви громко, а дети стояли во время литургии перед святилищем. «Когда все было устроено по церковному чину, прежде чем приступить к раздроблению хлеба–вдруг огонь ниспал с неба, пожрал все предложенное и совершенно испепелил самый камень, так что не осталось никакого следа ни от камня, ни от того, что приносилось на нем. При виде неожиданного явления дети в страхе замертво попадали на землю и не могли ни встать, ни закричать». Родители, отправившиеся на поиски их, нашли их в бесчувственном состоянии, и только на другой день дети смогли рассказать, что произошло. Тогда родители отправились с детьми и народом на место происшествия. «Там заметны еще были следы ниспавшего огня», которые видел впоследствии и местный епископ, построивший тут храм.
Подобные же случаи, когда дети совершали таинства крещения и евхаристии, мы можем встретить в Патерике. Мы приведем, однако, еще один рассказ о святом Афанасии
[374]. «Святой Александр, бывший папою в Александрии… увидал на морском берегу игравших там по обычаю детей. Они представляли епископа и всё, что по чину совершается в храме. Присмотревшись внимательно к игре детей, он увидал, что у них совершаются некоторые таинства. Пораженный этим зрелищем, он немедленно созывает духовенство и рассказывает о том, что видел. Потом послал взять и привести к нему всех детей. Дети явились», рассказали всё по порядку и, между прочим, что «они крестили некоторых, оглашенных Афанасием, которого дети поставили над собою епископом. Тогда епископ тщательно расспросил, кого дети крестили — и узнал, что дети в точности исполнили всё по чину Богослужения. После совещания с своим клиром, папа постановил — вторично не совершать крещения над теми, кто удостоился святого таинства…».
Число таких рассказов можно было бы значительно увеличить, но размеры статьи не позволяют делать этого, да к тому же в этом нет особенной надобности. Поэтому теперь можно будет перейти к теоретическим соображениям — весьма отрывочным, так как детальнее и связнее они будут изложены в другом месте.
IV
Если одна из целей научно–философского мировоззрения -ответчивость
[375] относительно каждой стороны действительности, так сказать, бухгалтерность сознания, возможность иметь в сознании каждую деталь и «делать подсчет» всякой грани ее, то целью научного опыта (понимаю это слово в самом широком смысле) является расщепление элементов и сторон действительности, подчеркивание их, обведение контурами. Но, чтобы производить такую разъединяющую работу, такое расчленение — сознание должно иметь то, над чем оно оперирует, и это — нечто данное в духе же. Это нечто не дается сразу, но вырабатывается, открывается особым подсознательным процессом, который удобнее всего назвать народным опытом. Разумеется, что названия «научный» и «народный» берутся тут не в том смысле, чтобы у ученых был только опыт научный, а у «народа» — народный. Этого нет, так как эти два опыта нераздельны, но, при усиленности рефлексии, преобладает первый, а при преобладании созерцания и действенности — второй.
Итак, опыт научный предполагает опыт народный, и отсюда уже понятна характеристика последнего. Задача первого — подчеркивать и разделять. Задача последнего — давать наиболее полнозвучные переживания, материал по возможности не подчеркнутый и не разделенный.
Однако этот материал не может быть самою конкретною действительностью, так как рефлексия не может непосредственно направляться на бесконечно- многообразное. Следовательно, не будучи действительностью и, в то же время, не будучи абстрактными схемами, этот материал должен быть типическим изображением действительности в духе.
Это изображение должно быть таково, чтобы оно допустило применение к себе схем рефлексии, то есть должно иметь в себе известное единство, законченность, известную ограниченность (πέρας); но оно же должно носить в себе возможность‚ потенцию всей полноты определений действительности, никогда не исчер- паемой, но постоянно исчерпываемой, и, в этом смысле, такое изображение должно иметь в себе известное беспредельное множество, незаконченность, безграничность (άπειρον).
Цельное в себе, оно должно иметь множество корней, по которым втекают в него животворные соки действительности и, будучи частью бытия, оно должно в известном смысле включать в себя все бытие; актуально законченное, оно должно быть потенциально безграничным.
Отсюда понятно, что оно должно носить в себе черты художественного произведения, — быть живым, сочным и органическим типом действительности, если угодно, раскрывающейся в духе идеей действительности, с тою только разницей, что идея в художественном произведении дается сознанию как нечто готовое, а эта — сознанием раскрывается.
Это изображение напоминает аналогичное, хотя и перепутанно–смешанное изображение сновидения, — живую поэзию или поэтическую жизнь. Недаром карамазовский Чорт заметил: «Иногда видит человек такие художественные сны, такую сложную и реальную действительность, такие события или даже целый мир событий, связанный такою интригой, с такими неожиданными подробностями, начиная с высших ваших проявлений до последней пуговицы на манишке, что, клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит, а между тем, видят такие сны иной раз вовсе не сочинители, совсем самые заурядные люди, чиновники, фельетонисты, попы…»
[376]Художественные произведения назывались иногда (Овсянико–Куликовский)
[377] индукцией немногих наблюдений творца их; если согласиться на такое применение этого термина, то изображение действительности, о котором речь, тем более может быть названо индукцией, — индукцией тысячи поколений и миллионов опытов. Вот почему опыт народа есть опыт «народный» по преимуществу и содержит неисчерпаемый запас для научной переработки, является не искаженным, хотя часто символическим или даже условным рисунком действительности. Как бы ни казался
этот опыт нелепым, — смириться должна пред ним гордыня скоростной рефлексии, беспристрастно должна вникнуть наука в народную мудрость, идущую в своей целостности всегда впереди науки. Не к одной загадке мировоззрения ключ — в руках народной мудрости, и стоит вспомнить историю науки, ну, хотя бы учение о метеорных камнях или о явлениях сублиминальноп› сознания и оккультных деятельностях духа, чтобы призадуматься над тем легкомысленным игнорированием лейтмотивов народной мудрости, которое приходится видеть сплошь и рядом.
Но рефлексию можно применять только к «народному» опыту, а. не непосредственно к опыту народа. Вопрос в том, как транспонировать последний в первый. Если подходить к произведениям народа с приемами рассудочной мысли, то, понятно, что мы не найдем в них ничего кроме слов, выражающих понятия; а в качестве таковых они не могут быть ничем иным, как результатом рефлексии же, — ничем иным, как частью научно- философского лексикона той среды, в которой возникли данные произведения.
Итак, смотря в «научные» очки, мы не увидим ничего, кроме хорошей или плохой научности, причем заранее можно утверждать, что всякая данная научность может увидеть только то, что не выше ее. Опыт же народа бывает по большей части, по своей научности, ниже опыта науки и потому подступаться к нему с такими методами, и притом не имея в виду целей истории, — это значит терять время.
Но если для рефлексии слово есть только знак некоторой схемы, понятия, то для непосредственного, дорефлективного отношения слово, по крайней мере в его связанности с другими, есть нечто большее, чем одно только орудие вызвать в сознании схему; для науки, собственно, нет слов, а есть термины, но термин и слово–вещи различные. Слово имеет двойственную природу. Оно–слово в собственном смысле, и может как таковое быть названо сверхрассудочным, — миниатюрным произведением искусства; но кроме того оно — термин, нечто рассудочное. Вот эта-то особенность слова
[378] позволяет выражать данными словами то, что безусловно не выражается ими, если смотреть на них с точки зрения слов–терминов, — рефлексии. А потому содержание речи может перерастать ее терминологический смысл, который только и ухватывается рефлексией,
Не горит ли сердце наше, не замирает ли в сладкой утишенности, когда глаз падает на изумительно–простые слова Руфи к Ноемии: «Не упрашивай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты будешь жить, там и я буду жить; твой народ — мой народ, и твой Бог — мой Бог, где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает со мною Господь, пусть и еще больше сделает; смерть одна разлучит меня с тобою» (Руфь 1, 16–17).
Не овеет ли нас благоуханной весною, не заластится ли в уши стыдливый ветерок? не надуется ли все существо белым парусом, когда услышим призывы пастуха: «Встань, подруга моя, красавица моя, иди сюда; потому что зима уже прошла, дождь миновал, прошел; цветы показались на земле; время песней наступило, и голос горлицы слышен уже в земле нашей; ягоды смоковницы созрели, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, подруга моя, красавица моя, иди сюда. Голубка моя, сидящая в ущелии скалы, под кровом утеса! Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой…» (Песнь Песней 2, 10–14).
Представим себе, что мы читаем подобные слова или, еще лучше, какого-нибудь мистика, хотя бы Исаака Сирина
[379], и вполне добросовестно стараемся понять описываемые переживания, но подходим к читаемому с рефлексией. Что мы увидим тогда? Да ничего, кроме того, что сейчас известно научному миросозерцанию, то есть ничего, кроме физиологических и эмпирио–психологических процессов. Мистические же переживания распадутся на световые, термические, слуховые, мускульные и общесоматические ощущения и на голые утверждения особенности этого комплекса ощущений. Однако последнее, то есть претензия на особенность переживания, останется совершенно неоправданным и даже будет явно противоречить полной разложимости описанных процессов на «обычные» ощущения. Такой разбор описания будет прав по–своему; но он таков именно потому, что у науки
нет средств захватить мистические переживания, и, вместо них, она ловит процессы попутные, — не самая суть, а пена, не жемчужина, а тина остается в ее руках. Но стоит только подступиться иначе, посмотреть непосредственно на произведение, чтобы духу открылось его сверхтерминологическое содержание, чтобы в простых словах, — в словах терминологически ничтожных проснулось и выглянуло на нас что-то бесконечно милое, благоуханное, как полузабытая улыбка ребенка: он только что открыл ясные глазки и тянется ручонками со своей кровати к столбу золотой пыли, прорвавшему занавесь…
Миф — это крайний пример сверх–терминологической литературы. Подлинный миф, в его целом, для научного анализа есть подлинный набор слов, — примитивная, полубессмысленная философия первобытного мышления. Это, — с известным ограничением на современное мифотворчество
[380], — действительно так; но для непосредственного сознания миф как символика глубочайших переживаний, проецированных на эмпирическое, есть основа всякого постижения действительности.
Нечто аналогичное мифу представляет и легенда. Этим
вовсе не говорится, что «материя» легенды, ее сюжет был бы вымышленной комбинацией наблюдаемого обычно. Напротив, подавляющее большинство легенд как мне кажется, надо принимать en toutes lettres
[381] ‚ понимать тавтегорически
[382][383] и признавать, что все рассказываемое в них — быль. Говорится только то, что суть легенды, как бы ни был неожидан ее сюжет, ее фабула, сколько бы нового ни давал он для научного миросозерцания сам по себе — не в сюжете. Он — дело второстепенной важности, проекция восприятий, мистических на эмпирические попутные явления, быть может — обыкновенные, быть может — необыкновенные, но во всяком случае, сами по себе имеющие роль только знамений, σημεία signa
[384]. Главное же–восприятие чуда, и подлинная легенда (а таковая — всегда религиозна) есть повествование о чуде, окруженном для его выделения, изолирования знамениями.
Обращаясь к легенде без рефлексии, мы часто можем уловить те переживания, которые заключены в оболочку фабулы, причем для нас вовсе не так важно, произошла ли эта оболочка в момент восприятия чуда как необходимый экран для проецирования мистического, или же она создалась впоследствии, постепенно.
Минуя обсуждение последнего вопроса, мы не можем не отметить факта замечательной однообразности легендарных фабул. В этом обычно видят существование шаблона, по которому составлялись легенды. Так или иначе, но применение единообразий символики к однородным переживаниям указывает на то, что между символизируемым и символизирующим есть какая-то связь. Вот почему часто, даже не переживая легенды, можно многое получить из нее, пользуясь раз навсегда исследованной символикой, в которой определенные внешние явления, определенные знамения являются проекциями соответственных им переживаний, тоже определенных и уже заранее известных.
О цели и смысле прогресса
Прежде чем приступать к чтению тезисов, я должен сделать следующие оговорки: во–первых, тезисы эти относятся к части большего сочинения
[385], так что постановка их может показаться немотивированной; во- вторых, мне приходится употреблять термины, относящиеся к историческим категориям вроде «протестантизм», «социализм» и т. д. Но было бы ошибочно видеть в них указания на исторически известные факты; этими терминами я хочу отметить известные схемы, которые более или менее были реализованы в соответственных явлениях истории; однако, если бы даже они нигде совсем не были бы реализованы, то мои тезисы от того нисколько не пострадали бы: все дело в них–диалектическое рассмотрение известных принципов.
Развитие диалектическое начинается с понятия обязанности. Мне совершенно безразлично, из каких элементов складывается это понятие, каким путем возникает. Факт существования в духе оного понятия — вот моя исходная точка.
1. Обязанность мыслима там, где имеется множество, связанное реальным (потенциальным) ‚ просто данным единством, т. е. условием взаимодействия отдельных частей множества (principium relativuis)
[386]. — Множество, связанное таким единством, есть условие должной деятельности.
2. Цель должной деятельности есть установление в этом множестве, взятом во всей его реальной связанности, единства идеального (актуального) ‚ предстоящего, как должное; и наоборот, разрушение такого единства есть цель деятельности недолжной.
3. Это актуальное единство может быть мыслимо двояко:
а) либо, как следствие, ничем, кроме природы элементов данного множества, не определяемой деятельности этих элементов, т. е. как результат безыдейной, само–утверждающейся деятельности этих элементов или уклада их жизни.
б) либо, как цель, ничем, кроме природы элементов данного множества, не ограничиваемая в своей безусловности, т. е. как задача, направляющая деятельность этих элементов.
а') в первом случае это актуальное единство есть ens rationis
[387] ‚- мнимое, кажущееся единство, устанавливаемое ничем не стесненной деятельностью элементов, причем деятельность эта производится стихийно, только в силу данности у элементов мощи для нее. Единство — результат отвлечения воспринимающего ума, понятие и, как почитаемое за непосредственную данность — идол.
б') во втором случае это актуальное единство ratio entis
[388] ‚ действительное, подлинное единство, устанавливающее, ничем не стесняя свободы элементов, их деятельность, определяющее идеально, только вследствие правды этого закона деятельности. Единство–причина, определяющая сознание, идея, и, как почитаемое за свою правду, идеал.
4. Возможность той и другой формы актуального единства не может быть отрицаема; действие по целям, сообразно нравственным законам, указывает на возможность второй формы этого единства, а «статистическое» единство, как законообразность массовых явлений — на первую форму единства. Формальное сходство законов, управляющих совершенно различными массовыми явлениями, например, законов кинетической теории газов и законов социологии, есть прямое указание на происхождение этих законов и сводится, в конце концов, к основным теоремам теории вероятностей, рассматривающим закономерности массовых, внутренне не связанных явлений.
5. Единство закона, определяющего деятельность, т. е. закона второго типа (ratio entis), есть принцип иерархического строя общества; за общие его тенденции его можно называть еще богочеловеческим и фео- кратическим. Мы можем указать следующие попытки провести этот принцип все более и более глубоко:
a) Imperium Romanum
[389]. Тут принцип — закона внешнего, принудительного, а потому отрицательно определяющего деятельность элементов общества, т. е. принцип юридический.
б) католическое всеединство. Тут принцип закона внутреннего, а потому положительно определяющего деятельность элементов общества, т. е. принцип авторитета.
в) «духовное христианство» (квакеры, ctc.)
[390]. Тут принцип мистического, божеского, а потому безусловно определяющего деятельность элементов общества закона, т. е. принцип безусловный.
Общая черта иерархического строя — внутренняя стройность, многообразность в единстве.
6. Единство закона, определяемого деятельностью, т. е. закона первого типа (ens rationis), есть принцип анархического строя общества; за общие его тенденции его можно еще назвать человекобожеским и антропократическим. Мы можем указать следующие попытки провести этот принцип все более и более глубоко:
а) протестантство. Принцип — отсутствие иерархии в духовной жизни.
б) республика (по типу республиканской системы первой революции французской). Принцип — отсутствие иерархии в юридической жизни.
в) социалистическая община. Принцип — отсутствие иерархии в экономической жизни.
Общая черта анархического строя — внутренняя нестройность, однообразность в дробности.
7. Последовательное проведение первого принципа, иерархического, ведет к феократизму. При нем вся жизнь определяется изнутри, подчинением вселенской правде, и целое — в полном закономерном единстве.
8. Последовательное проведение второго принципа, анархического, ведет к абсолютному анархизму. При нем вся жизнь определяется извне, столкновениями отдельных интересов, и целое — в полном законообразном единстве.
9. Анархизм, будучи последовательным, должен отказаться от всякой нормы, т. к. он ищет одной лишь естественной гармонии эгоизмов, а средством к единству общества хочет сделать стесненность, обусловленную этими столкновениями. Но, отказываясь от нормы, он неминуемо влечет за собою, при последовательном проведении, обезумение каждого члена общества: отказ от всякой нормы есть согласие на разложение индивидуальной жизни. Растущее коллективное помешательство при соответственно–возрастающей внешней закономерности общества — вот конечные перспективы анархизма, если бы можно было дать ему развиваться до конца; в самом деле, чем стихийнее и беспорядочнее жизнь отдельных элементов, чем менее в ней упорядоченности и цельности от подчинения нормам, тем точнее соблюдаются законы теории вероятностей. Самоуничтожение — вот результат анархического самоутверждения общества. Часть его, личность, желала быть всем; в результате — часть гибнет, чтобы было все.
10. Из двух возможных принципов остается принцип иерархический. Этот принцип заключается в том, что каждый член общества добровольно действует для поддержания и сохранения некоторого общественного закона, некоторой нормы, сознаваемой всеми и каждым, как безусловная правда и безусловное добро. Из этого свободного подчинения такому закону, сообразно с качествами природы каждого члена общества, вытекает добровольно устанавливаемое различие общественных положений членов общества, ибо разности в природе отдельных членов общества влекут за собою разницу в способах реализации безусловного закона. Кроме того, различие в природе членов делает необходимым каждого члена на своем месте, как не могущего быть замененным никаким другим членом общества. Отсюда — единственная возможная координация членов в единстве их отношения к одному безусловному закону. Это и есть иерархия. Безусловный закон (а только таковому и можно подчиниться свободно), безусловная правда может быть мыслимой только при признании, что носителем этого закона, как сущего, а не как ставшего в человеческом обществе, может быть только Существо Безусловное — Бог; поэтому сказанная иерархия может быть определена далее, как Бого–правление, феократия. Но правительство Бога, как безусловной Правды, требует полной свободы в подчинении каждого члена общества, подчинении Ему, как Правде. Раз так, то феократия безусловно исключает всякое насилие. Значит, чтобы феократия осуществилась, безусловно необходимо свободное подчинение Правде всякого члена общества. Отсюда — новое определение иерархии, как всечеловеческого общества и, еще далее, как общества вселенского.
11. Феократия есть безусловно желательный строй общества, но существует одно обстоятельство, делающее ее безусловно нереализуемой. Обстоятельство это — существование извращенности или любви ко злу, присущей человеку. Любовь ко злу, имеющаяся у каждого человека в более или менее интенсивной степени, а у иных людей проявляющаяся со всею силою и безудержьем активного зла, — эта любовь не позволяет признать осуществимым желательное устройство общества феократическое. Под любовью ко злу мы разумеем стремление человека делать зло не из выгоды, а ради него самого, ради зла самого; так сказать, бескорыстно делать зло, только чтобы надругаться над добром и правдой, чтобы нагадить им. Мешать должному только потому, что оно — должное, ненавидеть добро и истину только за то, что они — добро и истина, ненавидеть святость только за то, что она — святость, это можно, это — несомненный факт психологии. Если даже он не сказывается у всякого человека, то у иных он несомненно имеется, и он никогда не позволит таким людям «из подполья» примириться с феократическим строем; если бы феократия была осуществлена, то такие лица напрягались бы нарушить ее, их бы надо было, для поддержания общественного строя, стеснить в действиях, а потому — нарушить основной принцип феократии. Именно, принцип, чтобы все члены ее добровольно и свободно подчинялись безусловному закону ее. Если же хоть один член общества насильственно вынуждается согласовать свои действия с задачами феократического строя, то такого строя на самом деле нету.
Если говорят, что прогресс добра есть, то это — несомненно; против этого нечего спорить. Но отсюда до тождества добра еще очень далеко, и это именно потому, что прогресс добра имеет своего двойника — прогресс зла, рост пшеницы сопровождается ростом плевелов
[391]. С возрастанием добра увеличивается ненависть к нему; с развитием и усовершенствованием средств добра идет развитие и усовершенствование средств зла. Культура–это та веревка, которую можно бросить утопающему и которой можно удушить своего соседа. Развитие культуры идет столь же на пользу добра, сколько и на пользу зла. Растет кротость — растет и жестокость; растет альтруизм, но растет и эгоизм. Дело не происходит так, чтобы с увеличением добра уменьшалось зло; скорее так, как при развитии электричества: всякое появление положительного электричества идет параллельно с появлением отрицательного. Поэтому борьба между добром и злом не угасает, а обостряется; она и не может кончиться и не может, по–видимому, не кончиться.
12. Таким образом, если анархическое общество возможно, но уничтожает само себя при последовательном своем развитии, а потому не может, в силу идеальных запросов человечества, быть признано желательным, то общество феократическое желательно, но, доведенное в своем развитии до конца, не может быть признано возможным в силу данной в опыте человеческой природы.
13. Таким образом, мыслимы две конечные и последовательно проводящие свой принцип формы человеческого общества: либо феократия, либо анархия; но человеческая природа делает невозможным первый род дилеммы, феократию, а человеческие запросы делают недопустимым второй род дилеммы. Одной возможности мы не можем осуществить, хотя и хотим; другой мы не хотим осуществлять, хотя и можем.
14. Итак, мыслимые формы нормального общества либо недопустимы, либо неприменимы. А если так, то, по- видимому, единственным исходом такого вывода может быть абсолютный пессимум; нет и не может быть нормального общества, следовательно, не должно быть действий, направляемых на осуществление такого общества, то есть не должно быть никакой деятельности по целям. Но, так как мы не можем не действовать по целям (субъективно), а объективно наши действия, как оказывается, не могут не быть бессмысленными и ни к чему не направленными, или же, что еще хуже, направленными на нежелательный анархический порядок общества, на недолжное, то отсюда — прямой вывод, что на^о воздержаться от деятельности. Абсолютная атараксия
[392] — вот должное поведение.
16. Но по самой природе своей мы не можем жить в абсолютной атараксии; атараксия и жизнь исключают друг друга. Мы пришли к утверждению атараксии. Значит, должны прийти к отрицанию жизни. Отрицание жизни — смерть, переход в смерть — самоубийство. Но и самоубийство есть целевой акт, а как таковой, и он противоречит атараксии. Мы запутываемся в противоречиях.
17. Мы не можем признать нормального общества, но не можем в то же самое время самою своею жизнью и даже самым своим отрешением от жизни, самоубийством, поскольку и оно — проявление жизни, мы не можем в то же время не указывать положительно и не утверждать своими действиями нормальное общество, или же не указывать отрицательно и не уничтожать своими действиями того же нормального общества. И то, и другое показывает, что мы все-таки признаем его. Но, признавая как-то бытие его, мы вынуждены отвергнуть мыслимые формы бытия его. Будучи поэтому вынуждены отвергнуть его наличность, мы опять сдаемся перед логикой самой действительности и признаем ее.
18. Мы не можем признать нормального общества, но не можем его отвергнуть. Если мы хотим действовать (а не действовать мы абсолютно не можем), то мы должны признать возможность нормального общества, но когда мы начинаем признавать ее, то вынуждены отвергнуть.
Однако жизнь не могла бы продолжаться, если бы это противоречие было абсолютно неразрешимым; жизнь продолжается, мы действуем — значит, у нас где-то, в глубине духа, есть знание его разрешимости и разрешенное. Раз так, то мы можем перевести это разрешение и в область сознания; ведь если противоречие разрешимо, то члены его не могут абсолютно исключить друг друга, а в таком случае — противоречие не абсолютно и для разума. Следовательно:
19. Что мы признаем возможность и необходимость нормального общества, это — факт и постулат, — необходимое условие самой жизни. Но как возможен этот постулат? Если оба утверждения, возможность и невозможность нормального общества, необходимость его и негодность, справедливы, — а справедливость их мы уже видели, — то они должны быть утверждениями противоположными, но не противоречивыми; это, однако возможно лишь в том случае, когда они — истинны не безусловно, а условно, в известном отношении, когда оба они справедливы с известным ограничением. Следовательно, в наших утверждениях о нормальном обществе подразумевается какое-то условие, и, при дальнейших рассуждениях это подразумеваемое условие было нами опущено, что и вызвало ряд противоречий. Чтобы вскрыть это подразумевающееся ограничение, необходимо вернуться несколько назад.
20. Почему анархистское общество признано было нежелательным? Потому что отказ от всякой нормы ведет к разрушению общества; кроме того, отказ от всякой нормы ео ipso
[393] парализует и самое стремление к устройству анархистского общества, ибо и стремление к нему определяется нормативно.
Далее, почему общество феократическое признано было невозможным? Потому что имеющаяся природа человека не допустит осуществления такого общественного строя. Следовательно, оба эти утверждения годны лишь применительно к человеческой природе и человеческой жизни.
21. Если так, то мы, будучи вынуждены признавать желательность и возможность нормального общества, должны мыслить его не в отношении к известной нам жизни и известной нам человеческой природе, а в отношении к какой-то иной жизни и какой-то иной природе; иначе, как мы уже убедились опытом, мы запутываемся в противоречиях. Итак, нормальное общество относится не к известной нам человеческой природе и человеческой жизни.
22. Однако мы хотим нормального общества для этих, нам известных людей. Мы не можем безусловно отказаться от этой природы их и этой жизни их, так как нам нет дела до нормального общества, никак не относящегося к тем, которые в нем нуждаются, которые ради него мятутся и страдают. Начавши говорить об этих людях, мы утвердим нормальное общество, по–видимому, вне их. Получается опять странное противоречие: эта жизнь и не эта жизнь; эта природа человеческая и не эта природа. Нормальное общество делается снова зависящим от противоречащих, по–видимому, положений.
23. По причинам все тем же мы должны устранить это кажущееся противоречие, и это достигается внесением ограничения в сказанные положения, именно разграничением сущности и формы явления. Нормальное общество относится к этой жизни и к этой природе, то есть к этой их сущности, а раз к этой, то и ко всякой, ибо сущность тождественна себе. Нормальное общество относится не к этой жизни и природе, ибо ими оно исключается; это значит, что оно относится не к этой форме явления их, не к этой форме бытия той сущности, о которой только что сказано.
24. Итак, в своем требовании нормального общества, мы вынуждены мыслить тождественную себе сущность жизни и данной нам в опыте человеческой природы и другую форму явления этой сущности, сменяющую эту форму, причем эта другая форма должна быть качественно отличной от этой.
25. Переход от одной формы явления к другой есть изменение; следовательно, качественное изменение формы жизни есть необходимый постулат, разрешающий противоречие о нормальном обществе.
26. Но качественное изменение формы явления не может быть постепенным; оно не мыслимо иначе, как изменение прерывное, без промежуточных стадий.
27. Однако эта жизнь проистекает во времени и пространстве; следовательно, какова бы ни была та, иная форма жизни и человеческой природы, момент изменения все-таки должен быть во времени, так как он должен быть вместе с тем и концом временного, концом этой формы, жизни.
28. Отсюда следует необходимость мыслить во времени конец этой формы жизни, а потому и конец истории, когда так или иначе произойдет качественное изменение природы человека и формы его жизни.
Резюме
29. Итак, происходящий во времени, в определенный момент времени конец мировой истории, качественное преобразование человеческой природы и жизни человеческой и наступление нормального, должного порядка общества — все это есть необходимый постулат всякой деятельности, будет ли она направлена на осуществление нормального общества, или на мешание ему осуществиться, безразлично. Осуществление же такого общественного порядка мыслимо лишь только после такого преобразования.
30. Мы указали на необходимость преобразования человеческой природы, как на условие возможности нормального общества. Мы показали, что мы не можем не мыслить его, раз только живем. Но тут возникает вопрос: оно необходимо, да; но как же, в силу чего оно возможно?
«К почести вышняго звания»
(Черты характера архим. Серапиона Машкина)
…тгҫї арєттјі α ψά μεν оѕ χσι τ η* axpat φιλοσοφίαt γενσαμινος…
(Isid. Pel us. ер. СХѴІ, I. I)
[394]…коснувшись добродетели и вкусив вершины философии…
I
«Не долг и не счастье, а люби Бога» — основная максима поведения. Влюбленность в Бога, пьяность Богом, amor Dei intellectualis
[395] — в этом истинная ковка личности. Моноидеизм необходим для жизни истинной личности. «Моноидеизм есть условие личности, но лишь в том случае, если объект бесконечен; при конечных объектах моноидеизм становится односторонним бредом, помешательством».
Так думал и так жил покойный архимандрит Сера- пион Машкин. Так думал и так жил столь схожий с ним Вл. Соловьев. Так думали и так жили тысячи других философов, может быть, не оставивших и одной строчки своих созерцаний. И все они, углубляясь в себя, наталкивались на феоцентризм бытия. Для всех их сутолока жизни была планомерным целым. Для всех их планеты и кометы нашего мира описывали не капризные узлы и вычурные излучины, но продвигались по закономерным орбитам около единого Солнца.
Казалось, идея Бесконечного захватила, увлекла их, стремительным взлетом взвила в высь созерцания, в многообразии показала единящую Силу и многообразную полноту — в Единстве дала увидать «недвижную ось в беге явлений», ослепила своею красотою и потом спустила в мир заражать его верною влюбленностью в Бога, указывать миру на перст Божий, на оттиск идеального. И каждый из них, побывавших на высотах, действительно кажется оригеном — горне–рожденным; как и их возвышенный предшественник Ориген, каждый кажется горне–рожденным, жаворонком, живущим в мире и не от мира сего, взлетающим и исчезающим из поля зрения. Каждый с чистых высей лил свои трели.
Насторожившись и чутко прислушиваясь к звону небесной благовести, с кроткой улыбкой спрашивали у встречного оба, о. Серапион и Вл. Соловьев:
Милый друг, иль ты не видишь, что все, видимое нами, только отблеск, только тени от незримого очами. Милый друг, иль ты не чуешь, что весь этот гул трескучий только отклик искаженный торжествующих созвучий
[396].
И оба, чуть–чуть наклонив голову, как белые болотные птицы, слушающие шелест камышей, казалось, вот- вот снимутся с этого мира, навсегда улетая
туда[397].И оба улетели…
У нас не было до снх пор ни одного крупного философа в западном смысле, не было ни одного философа–ученого, философа–исследователя, — мыслителя вроде Декарта, Юма, Канта, Гегеля и т. п. Философия, как дело кабинета, дело «ума», не привилась у нас, как не было ее и в античной обстановке. Наши философы стремятся быть не столько умными, как мудрым и, не столько мыслителями, как мудрецами.
Русский ли характер, исторические ли условия влияли тут–не берусь решать. Но несомненно, что философии «головной» у нас не повезло. Стародумовское: «…ум, коли он только ум, — сущая безделица»
[398]- находит отклик, кажется, во всяком русском и, преклоняясь пред работами ученого или философа западного, пользуясь сладким соком его плодов, мы смотрим не без тайного пренебрежения на необходимую для них корку кабинетной работы и никогда не прочь подшутить над «немцем», — хотя бы то был сам Гегель и Кант, — всю жизнь просидевшим в кабинете. Стремление нравственное, сознание религиозное, деятельность не головою только, но и всеми органами духа, одним словом, — жизнь вне кабинета только и представляется нам жизнью до–дна серьезною, всецело достойною. И, вместе с тем, каждая научная дисциплина неудержно стремится к жизненному, непосредственно деятельному положению, спешит выявить свое отношение к религии, морали, политике, общественности. Не отстает в этой скачке к «жизненности» даже математика с гносеологией. А, в конечном итоге, все нити сходятся в одном узле — религии, потому что у нас и сам афеизм по–своему религиозен, сам позитивизм метафизичен. Как только личность сколько-нибудь крупна, она сейчас проявляет свои интересы к вопросам религии и, главное, к религиозной практике — положительное или отрицательное.
Сковороды, хомяковы, толстые, достоевские, Соловьевы, трубецкие, серапионы, мережковские, розановы и проч. только сначала кажутся исключениями из общей массы. Но внимательное вглядывание сейчас прояснит однородность их со средою, даже с нашими социал- демократами и нашими позитивистами. У всех их та же стремительность, то же высвечивание жаром религиозным (но боги — различны) ‚ тот же идеал философа–мудреца, в жизни реализующего свои идеалы, то же требование полноты содержания и широты обобщения, размаха в теоретических концепциях, головокружительных арегҫиѕ ӑ vol d'oiseau
[399] и немедленного, бескомпромиссного осуществления надуманного общественного строя. Стремление к абсолютности неразрывно связано с русским духом. Если оно не находит себе выхода в религии, то делается разрушительною силою в других сферах деятельности, и конечные формы разрываются под напором бесконечного стремления. Научное, условное, полезное не удовлетворяет русский дух, и под это — практическ и–ценное неизменно подкла- дывается метафизическое, безусловное, теоретически- законченное. Каждое положение, как какой-нибудь газ, жаждет расширяться беспредельно, занять объем наи- возможно больший. Простое обобщение переходит в истину всеобщую и необходимую; удобный строй общественной жизни делается абсолютным требованием, готовым на пути сокрушить все, лишь бы только добиться своего…
Нет, кабинетная философия не прививается в России.
III
Античный идеал мудреца, так живо отразившийся в Лукиановской «Жизни Демонанкса»
[400] ‚ получил свое высшее раскрытие в святоотеческом представлении о монахе, как христианском философе. Гностик св. Климента Александрийского — это созерцатель–философ и аскет, проводящий в жизни познанную им Истину и исследующий Истину, жизненно подготовляя к этому все свое существо
[401]. Так же понимают философа и другие св. отцы.
Созрев и оторвавшись от родного дерева, гонимое ветром миграции семя этого идеала нашло себе лучшую почву в суглинке и черноземе России; тут идеал философа–монаха, созерцателя–аскета, гностика акклиматизировался и дал сочные всходы. Сковороды, Соловьевы да серапионы известны нам, потому что оставили письменные труды. А сколько остается таких же, быть может никому неведомых гностиков, кто знает? Но внимательный взгляд непрестанно открывает новых и новых созерцателей, іустою сетью охвативших Россию. Зто — народный идеал «живой души», характеризующийся малообычным для Запада сочетанием мистики со строгою логикой, отдания себя Богу с деятельной любовью, религиозной традиции с политической прогрессивностью, короче — гармоническим сочетанием умозрения и практической деятельности. Русские мистики поэтому — самый неблагонадежный народ с точки зрения правительства; ведь ни одно правительство, кроме Божьего, не удовлетворит их требований безусловной правды; они органически, всем существом анархичны относительно всякой человеческой власти, потому что столь же органически сознают себя членами Царства Божьего.
Но из всех этих мистиков–философов наиболее ярким выразителем своего идеала мне представляется о. Серапион Машки н, самый чистосердечный по своей искренности, самый абсолютный по своей метафизичности, самый радикальный по своей общественности, самый смелый в своих сомнениях, самый небрежный ко всему внешнему, самый последовательный в своей жизни и, — если будет позволено судить о том человеку, — самый верный раб своего Господа.
Исключительная честность мысли и внутренняя свобода о. Серапиона, известная всем знавшим его лично, заставляли его говорить и писать до конца искренно. Поэтому каждое слово его сочинений проникнуто самым подлинным переживанием всего обсуждаемого, и неуклюже–нескладная фраза, как кошелек грубой кожи, скрывает ослепительные червонцы. Подобно павлиньему перу, в малейших своих частях переливающему яркими металлическими цветами, сочинения о. Серапиона в ничтожнейших деталях являются продуктом личного творчества, пережиты, перечувствованы, продуманы самостоятельно и потому, если бы даже и отрицать их метафизическую ценность, они несомненно сохранят глубокий психологический интерес, как материал для личной характеристики покойного мудреца, как выкристаллизовавшиеся в прохладе глубокого одиночества интимнейшие чаяния благородной души, как сама жизнь исключительного человека.
Эта искренность мысли сделается понятной, даже предуказуемой a priori, если отметить, что философствование не было для о. Серапиона профессией, а писательство — литературным упражнением. Нет, это было удовлетворение глубоко–личной потребности, — удовлетворение вопреки внешним условиям, а не благодаря им, делом Господним, служением Богу и человечеству, нравственно–религиозным подвигом, неизменно сопровождаемым молитвою и призыванием имени Пресв. Троицы. Искренность о. Серапиона, так сказать, «припечатана» и «удостоверена» знаком креста, поставленным в разных местах его черновых бумаг. Этот знак вместе с часто–прерывающею или заключающею какое- нибудь математическое или метафизическое исследование молитвою создает совершенно своеобразную атмосферу серьезности, в среде которой развивается отвлеченная мысль.
Разумеется, молитвенные восклицания, сами по себе взятые, доказывают еще слишком мало. Но когда видишь, напр., что плод многих лет исключительно–напряженной умственной работы, доведший автора до сильной неврастении, заканчивается словами:
«Слава Богу, слава Богу, слава истинному Богу
Господом нашим Иисусом Христом», то к такой молитве нельзя не отнестись с благоговением. И еще ароматнее делается молитва о. Серапиона, когда узнаешь, что он видел в ней «метод философствования». Нам сейчас совсем не важно как это и почему. Мы заняты психологическим фактом, и тут искреннее мнение, умно оно или глупо, одинаково важно и интересно.
Христианская философия, — говорит о. Серапион, — «есть философия критического человеческого духа, озаренного умным светом Христа». Философствование делается возможным после подготовки разума аскетикой. «Истинный христианин и есть истинный философ», но только для выражения этого философского содержания нужна техника. Абсолютный скепсис, не щадящий никакой данности, даже данности логических законов, должен предварять философию. Но он разрешим лишь в мистическом созерцании Пресв. Троицы. «В высшем экстазе, не отличимом от религиозного молитвенного философствования или логического анализа в соприсутствии или умном созерцании анализируемого, — христианин возвышается до вечного момента…» Но для этого нужно подготовить себя, — свершить «жизненный подвиг всякого, кто из истины». «Этот подвиг есть искусство из искусств, художество из художеств, искусство самой жизни в Боге, истинное философское искусство, аскетическое состояние».
Признание необходимости предварительно подготовиться для философствования не было в устах о. Серапиона пустым словом. Аскетически перевоспитав себя на Афоне под руководством тамошних старцев (главным образом — Макария, помнится), о. Серапион всю жизнь нес подвиг деятельной любви, молитвы и самовоспитания. При этом удивительно сочетание полной внутренней свободы с уставностью. С точностью хронометра, днем и ночью он служил в своей комнате или келлии «часы» через каждые 3 часа и, кажется, никакие препятствия не могли остановить его рвения. Если, согласно уставу, полагалось покадить, то о. Серапион выскакивал из своей комнаты (в Московской Духовной Академии) и, ни слова не говоря, влетал, невозмутимо серьезный, в епитрахили и с кадилом, в квартиру о. ректора, на кухню, куда попало, лишь бы были люди, и, покадив, так же молчаливо исчезал.
Это увлечение молитвой, при живом темпераменте о. Серапиона, ставило его иногда даже в странное положение. Случалось, что уйдя из алтаря кадить по академическому храму, он начинал окутывать клубами фимиама чуть ли не каждую бабу в отдельности и надолго задерживал ход службы. На выговаривания же он отвечал своею обычною добродушною скороговоркою: «ну, ну, надо же покадить. Ведь образ и подобие Божии… та же икона…» А то случалось, что, увлекшись каждением икон, он уходил из храма, так как вспоминал, что иконы есть и в других местах. Требовалось отправлять кого-нибудь разыскивать переувлекшегося иеродиакона и привести его обратно. Кончилось дело тем, что с о. Серапионом ходил специальный провожатый, удерживавший его от излишних увлечений…
Особенно много молился он в последние годы своей жизни. Время же перед внезапной смертью было для него неделями особого религиозного подъема
[402]. Часто, падая ниц, он так и застывал распростертый. И теперь, как и ранее всю жизнь, о. Серапион пристально вглядывался в лик Спасителя, стараясь уловить какую- нибудь черту в Нем и привить ее себе. Он всегда носил в кармане Евангелие и во всякое свободное время или по случаю разговора, быстро листая страницы и приговаривая «право, лево, право, лево», находил и перечитывал место, которое ему почему-либо вспоминалось. Это вглядывание и молитва, упорная, непрестанная, не были для покойного философа формальным исполнением обязанности, да и вообще о. Серапион не признавал никаких формальных обязанностей. Напротив, и вглядывание в лик Христов и молитва были для него стихией души, средой, питавшей всю его духовную жизнь. Как и В л. Соловьев, он одно время близко знал — может быть слишком близко, чтобы духовное равновесие не пошатнулось! — преследования, как он сам определяет, Черта
[403]. В бумагах о. Серапиона попадаются глубокие описания и тончайшие характеристики Зла и его касаний к душе — самое правдивое, что мне приходилось читать в этом роде. И единственное избавление от осаждавших его сил он находил во Христе. Можно сказать, что о. Серапион подбегал к Нему и хватал за ноги. В результате, слой зла был пройден. Тогда стали
случаться видения Христа, святых, и духовное (с общечеловеческой, а не психиатрической точки зрения) равновесие восстановилось.
Мы тут, понятное дело, вовсе не намерены исследовать степень объективности всех этих преследований и видений. Нам важны они исключительно с субъективно- психологической стороны, важно знать настроение самого о. Серапиона и показать, исходя из них, важность для него молитвы. Но, конечно, психиатру можно истолковать эту внутреннюю брань, как душевное расстройство, подавленное в самом зародыше. Вот как говорил о. Серапион об этих приступах зла: «Некоторые святые даже просили Бога, ради умерщвления в себе греха, послать на них бесов. В борьбе с ними победитель венчается Господом и научается ненавидеть грех, — так как сатана отвратителен абсолютно, нет сил выразить степень его гадости, он гадок до способности приводить в бешенство, чрез что и человек научается тогда познавать силу Господнего Креста и любви Спасителя. Подвижник научается видеть свой грех: эгоизм — неполноту ни зла, ни добра, безумие зла и премудрость Божию».
«Господь, — говорил о. Серапион, — и до сих пор продолжает учить мир. Только учение Его теперь носит иной характер. Он тайно, не телесно, а духовно, как Дух к духу приходит к ученикам своим, христианским философам, и вдохновляет их, т. е. подает внутреннюю интуицию Свою, имплицитно содержащую дискурсию. Пользуясь этой интуицией Господа, ученик и пишет то, что здесь написано. Ученик этот — я, нижайший раб и служитель Господа, архимандрит Серапион Машкин. Я Его раб, но в каком смысле? Господь не рабовладыка. У него все свободные, «где Дух Господень, там — свобода». Но я раб Его в том смысле, что познав отчасти Его и отчасти возлюбив, я в то же время и раб своих телесных страстей. Видя, что не отделаться мне произвольно от них, я прошу Господа, да «браздами востяг- нет челюсти мои»
[404]‚ т. е. да взнуздает меня, как того осла, на котором Ему благоугодно было воссесть на пути в Иерусалим; иначе сказать: да принудительно (если не могу без этого) наставит стопы мои на путь Свой. И Господь исполняет просьбу; разными путями: и болезнями, и здоровьем, и внезапным просвещением ума, и дозволением бесам подступать, ради очищения греховности, руководит меня. Разве один написал бы я то, что написал? А написал я новую геометрию, новую механику, и решил
εποχ–η[405][406]. Я не желаю хвалиться, но не могу не написать этого. Ради истины, которую не могу и не хочу скрывать, пишу это. Господь руководит меня, но потому, что я за все благодарю Его и принимаю все, что Он пошлет мне. Сам же молюсь Его молитвой: «Отче наш, да приидет царствие Твое; да будет воля Твоя на небе, так и на земле», хвалю и благодарю Его. Слава Ему. Аминь».
[407]V
Так, в полном доверии, текла у о. Серапиона жизнь с Богом. И было бы в высшей степени непонятно, если бы ей не соответствовала жизнь с людьми. Но соответствие было полным. Имея в свое время большое состояние (говорят — будто до двухсот тысяч рублей, но не отвечаю за правильность этого сообщения), он исполнил евангельский завет до буквальности и монашеский период жизни провел почти в нищете, раздав все состояние до последней копейки и оставляя у себя только свою философско–религиозную и математическую библиотеку. Еще в бытность о. Серапиона студентом Московской Духовной Академии в день, когда он должен был получать деньги (как кажется, от матери) ‚ — о чем откуда-то было известно всем любителям попросить, — на пути его собиралась изрядная компания, и только что полученные деньги быстро таяли в руках о. Серапиона, расходясь по чужим карманам. Когда же не случалось денег, он отдавал просителям одежду, сапоги и все, что попадало под руку. Однажды, рассказывают, о. Серапион перестал показываться в Академии. Его ищут и находят в келлии в одном только белье. Из расспросов выясняется, что к нему забрался какой-то проситель и выханжил сапоги и верхнюю одежду, так что после посещения этого гостя хозяину не в чем было выйти на улицу.
Но когда о подобной благотворительности узнавали посторонние, то о. Серапион очень смущался и только приговаривал сконфуженно, что, мол, в Евангелии сказано совершенно прямо: «просящему дай»
[408] ‚ так что не истолкуешь никак иначе, кроме как буквально.
В последний период своей жизни, когда он был сослан «на покой» в Оптину Пустынь (в Калужской губернии, версты за 2 от г. Козельска) и остался без состояния, без доходов, без поддержки, он проводил дни чуть не в нищете, так скудно (о чем почти со слезами рассказывал келейник его, о. Ф.), что часто не бывало денег на почтовую марку или «на табачок». Просить же, как заявлял о. Серапион, для себя лично, он не хотел. По словам упомянутого келейника, было получено о. Серапионом из дому за все время, т. е. за 1 /2 года, не более 25–ти рублей, и этим ограничивалась вся получка. Но в общежительном монастыре, как Оптина Пустынь, жить без собственных денег едва ли возможно. Принимая во внимание, что и эта скудная сумма, которой располагал философ, моментально раздавалась нуждающимся и просителям, считаясь с необходимостью для о. Серапиона книг, мы составим себе некоторое представление, как тяжело приходилось покойному. Даже не отличающиеся особой чувствительностью монахи всячески жалели его. Не имея денег, о. Серапион стал раздавать последние вещи, а когда и их почти не стало — свой обед, оставаясь сам голодным. Однажды с прогулки он вернулся без верхней одежды и на расспросы, сконфуженный, был вынужден ответить, что отдал ее кому- то…
Это полное самопожертвование характерно проявилось в его завещании. Ни одного слова о своих сочинениях, о своих личных делах! И трогательная забота о людях чужих для него, не забыт и келейник
[409].
Все из знававших о. Серапиона, с кем приходилось мне говорить о нем, первым делом указывали на его доброту и щедрость. Но людская неблагодарность, не сумевшая позаботиться о мудреце при жизни его, не почувствовала укола и от его смерти. Он умер, и о нем забыли. На месте погребения его — только провалившийся холмик, покрытый травой. Даже деревянного креста и ограды нет на могиле, обычных панихид не служится по его душе. В Пустыни многие только и помнят о нем, как о добряке–чудаке архимандрите Сера- пионе, и при этом осторожно спрашивается «не был ли он сумасшедшим». Просьба указать его могилу среди небольшого кладбища Оптиной Пустыни встречала некоторое недоумение, потому что братия не знала ее. Только кладбищенский сторож — хромоногий монах ковыляющей походкой проводил меня, наконец, к чуть приметному зеленому холмику и высказал предположение, что я, вероятно, родственник покойного. Как будто надо быть родственником мудрецу, чтобы прийти поцеловать травинки на его убогой могиле и поплакать над землею, и без того напитанной осенними слезами хмурого неба, о своем горе и о людской бессердечности!
Провожатый посмотрел на меня с сожалением и заковылял куда-то в сторону, предоставив меня никитинским думам.
О, я даже вовсе не виню Пустынь или almam malrem
[410], Московскую Академию, в непонимании его «живой души». Но странно нарушение элементарной благодарности, потому что на оставленное о. Серапионом наследство можно было бы устроить хоть 20 могил.
«Зарыли, как собаку!» — с горечью заметил кто-то из близких к нему братий. А мне только что хотелось сказать именно это, но я не посмел из боязни оскорбить память покойного. «Зарыли, как собаку!» — «Это что», — думалось мне. — «Но дрогнуло ли навстречу тебе хоть одно сердце? Видел ли хоть один человек красоту души твоей, понял ли то, чем ты жил и мучился, из-за чего не спал ночей, о чем раздумывал на прогулках? Не лежат ли слова твои, полные невыразимой искренности, обремененные содержанием, как тучный колос зернами, безобразным ворохом бумаги? Где я найду издателя для этих 2250 страниц? Где мне сыскать для тебя читателей? Ты звал меня столько раз, ты условился свидеться со мною в этом августе, поговорить вместе «за чайком» о Бесконечности. Вот я приехал к тебе, сдержал свое слово. Зачем же ты ушел, заочный друг, оставив одно лишь благословение работать над нашими общими интересами, но не силы?..»
[411]Где-то в своих бумагах о. Серапион поминает о своей гордости, справиться с которой помогла ему одна только Христова помощь. Было бы и неправдоподобно предположить, чтобы сознание своей крупности и духовной силы не влекло к гордости натуру, столь одаренную. Может быть, именно острое самонаблюдение этого свойства в своей душе дало философу материал для одного из лучших перлов его системы — метафизической концепции Зла, основывающегося на метафизической гордости. Пронизанная взором о. Серапиона до самых тайников своей сущности, гордость от психологической поверхности сознания углубилась до метафизических корней бытия и в новом своем аспекте стала существенным элементом действительности.
Но, поняв сущность гордости, о. Серапион в корне осудил ее и вел упорную брань, «томя томящего» его
[412]. Я мало, впрочем, знаю о героическом периоде этой брани, потому что он происходил в то «доисторическое» время, до которого не простираются ни имеющиеся в моих руках документы, ни изустные сообщения знакомых философа. «Историческое», после–афонское время представляет нам о. Серапиона уже полным глубокого, непосредственного смирения, возраставшего из году в год и достигшего полноты в последний (оптинский) период его жизни. По крайней мере об этом у меня имеются прямые указания пустыньских старожилов. Даже лица, сильно настроенные против о. Серапиона за его радикализм в политике и за его несколько «гностические», натурфилософские ‹как у Оригена и Соловьева) стремления в области философии и религии и жажду абсолютного знания, не могли не признать его нравственной высоты. Отец Э., считавший, что о. Серапион был «в прелести», в то же время заявил, что покойного удерживало на высоте преуспеяние в двух основных добродетелях монаха: «смирении и полной нестяжательности». Я не берусь, конечно, согласовать обе половины этого заявления: с одной стороны, «прелесть», а с другой, — «смирение с нестяжательностью». Но необходимость для лица враждебно–настроенного признать «смирение с нестяжательностью» говорит очень много об успехах о. Серапиона в борьбе с собою.
Припоминаю, между прочим, рассказ об одном эпизоде в Академии, более наклоняющийся в сторону анекдота. Сопостриженник Серапиона просил себе иеромонашества. Справедливость требовала, чтобы тот же сан был дан и Серапиону. Но когда об этом зашел с ним разговор, то он, ссылаясь на свое недостоинство, стал упрашивать о. ректора оставить его иеродиаконом. Ректор настаивал. Тогда Серапион бухнулся в ноги и лег на полу, заявив, что не встанет, пока его просьба не будет удовлетворена. Ректор не нашелся, как ответить на такой ультиматум, сам лег на пол и вот, в таком лежачем положении, ректор и студент вели дальнейшие переговоры.
Было бы большой ошибкой понимать этот эпизод так же, как и обычные монашеские поклоны, прошения, извинения и весь ассортимент сложного церемониала, порою кроющий бешеное честолюбие, злобу и прочие «отбросы человеческих чувств». Напротив, смиренный и кроткий в глубине души, о. Серапион часто нарушал традиционный этикет. Кому, например, не известно, что боязнь сказать правду, вожделения выгодных мест и искательство пред сильными получили стереотипное «обоснование» в мнимо–христианском «смирении» и неимении собственного суждения, особливо когда дело идет об общественности? Кому не известно, что самая злая реакция так часто опирается на признание своей умственной слабости, на невозможность составить себе правильное мнение о жизни и иезуитски–извращенную теорию древнего «послушания»? Но именно в этой области Серапион переставал быть смиренным, именно тут он отбрасывал всякий этикет.
Для о. Серапиона, по его же признанию, не было ничего противнее, чем недостаток гражданского мужества, и из-за этого недостатка он, полный любви и прощения, на моих глазах, резко оборвал сношения с давно–знакомым лицом, стоящим выше его и по иерархическому, и по общественному положению. За этот недостаток он даже Церковь русскую считал недалекою от ереси, именно цезаро–папистической. Искренность чувства, природная прямота, живость темперамента и сознание общественной неправды вызывали его в таких случаях на резкие выходки, создававшие ему врагов и славу чудака, даже полусумасшедшего. Припоминается мне, например, один из рассказов, слышанных в Оптиной Пустыни. Дело происходило во Введенском соборе, во время праздничной службы, как помнится, — литургии. С амвона читается какое-то правительственное или синодское распоряжение, может быть даже манифест. Живой интерес ко всему окружающему и тут влечет о. Серапиона до точности разобраться в читаемом, и мало- помалу он, незаметно для себя, продвигается все вперед, так что под конец оказывается чуть ли не на амвоне. Выслушав со вниманием все до конца, он соображает, что в прочитанном было нечто скверное. Тогда он тут же энергично отплевывается, поворачивается и выходит вон.
Подобные же причины заставляли его отказываться от священнослужения. Впрочем, в виде слуха мне передавали еще, будто он был под запрещением, но в основательности слуха я не имел случая убедиться.
Братия же Оптиной Пустыни рассказывала мне еще характерный случай: после убийства вел. кн. Сергия встречается с о. Серапионом кто-то из оптинцев, причем завязывается диалог вроде следующего:
• Какое несчастие! Ах, какое несчастие, — начинает собеседник.
• Да, какое несчастие, — поддакивает ему о. Серапион.
• Какой ужасный случай; как это его не уберегли? — продолжает первый.
• Да. И как это не помогли ему бежать, как его не скрыли?.. — подает реплику о. Серапион, но оказывается, что собеседники не понимают друг друга. Первый жалеет о Сергие, а второй — о том, что убийце Сергия, Каляеву, не удалось благополучно спастись от ареста…
Конечно, за всю жизнь не обидевший и мухи о. Серапион только теоретизировал, говоря об убийствах. Да нам сейчас и не важны его теоретические убеждения в том или ином вопросе. Подобные случаи приводятся тут исключительно для личной психологии о. Серапиона — для охарактеризования его прямоты и решительности в области общественной, сочетавшихся с глубоким личным смирением. Нужно при одном отдать справедливость оптинцам. Этот своеобразный мирок, имеющий представителей всех мировоззрений и со всех концов России, относится (сравнительно с другими кругами русского общества) терпимо к чужим мнениям, и ничем его не удивишь. Поэтому и о. Серапион, несмотря на крайности своих мнений, мирно уживался с остальной братией, и она — за отдельными исключениями — его любила, особенно если взять простых монахов, попавших в тихую Пустынь прямо из крестьянской избы.
Соединение радикализма в общественности и мистического аскетизма в личной жизни, как и соединение результатов естественно–научного исследования с данными библейскими,, очень характерно для покойного философа. Он был поклонником французской Великой Революции, имел (?) в молодости связь с масонами, о чем впоследствии глухо звучали слухи. Но в то же время светскую республику он считал необходимою только для не–христиан. Христиане же должны образовать феократическое царство, приближенное осуществление которого о. Серапион видит в монашеской республике Афона.
VII
Немногие указанные нами черточки из психологии о. Серапиона в его отношениях к Богу и к людям необходимо пополнить некоторыми указаниями относительно его чувства природы.
«Развитие природы, идущее от простого однородного к сложному и разнородному, записано на столбцах двух божественных Библий: Моисеевой и великой книги природы. В обоих случаях это–письмена Бога».
Подобные фразы для о. Серапиона — не случайно оброненные сентенции и формально–логические последствия каких-нибудь других положений, но выражение его личных переживаний и глубоких запросов души. Известно, как он любил природу, бывшею второю после Бога страстью его. И притом это не было эстетическое любование красивостью ее форм, цветов, звуков и запахов, но любовью религиозною, и, думается мне, более беспримесною, от эстетики, чем, например, у Соловьева
[413]. Разумеется, я не хочу сказать это в смысле укора последнему. Но мне важно подчеркнуть, что и тут, как и во многих других отношениях, о. Серапион так же относится к Соловьеву, как, например, Нестеров к Васнецову, т. е. живет мистикой более рафинированной, нежели Соловьев, и потому далее заходит в феноменальности феноменального. В своих представлениях о природе, как об «очистительнице греха», о. Серапион стоит поэтому ближе к святоотеческой литературе, чем Соловьев, тогда как последний — ближе к гилозоизму.
Личное чувство, природа и религиозный интерес к ней глубоко сказался на метафизической системе о. Серапиона, где космологии уделяется очень большое место. Естественно также и то, что этот интерес вместе с сознанием, что философу необходимо быть в курсе естествознания своего времени, некогда заставили о. Серапиона четыре года проработать на естественном факультете С. — Петербургского Университета, и, следя насколько можно было при его внешних условиях за движением науки и много читая, о. Серапион чувствовал себя среди проблем физики и других естественных наук, а особенно математики, довольно свободно.
Впрочем, особенного тут еще ничего нет, т. к. случается, что люди религии знакомятся с естествознанием. Но предвзятость целей и полемические задачи обыкновенно заставляют их подходить к положениям естествознания нащетинившись и критиковать их теми же приемами, как положения метафизики и религии. Вспомогательные гипотезы, рабочие теории, методологические схемы превращаются тогда в глазах таких донкихотов в апокалиптическое зверье, и, подвергнув его заклятью, рыцари из Ламанчи жестяными мечами избивают его нещадно. А дух науки остается непонятым и потому неуязвимым.
Но о. Серапион занимался не ради полемики, а желая выяснить себе правду науки. Это дало ему возможность свободно отнестись к этой правде и воспринять ее (хотя многое пришлось осветить существенно по- новому). Например, он стал всецело на сторону дарвинизма, считая его в существе дела единственной возможной теорией; точно так же, в области феноменов он признал механизм частиц в физике и химии и механизм психических процессов в психологии, хотя, повторяю, тот и другой перестроил заново. Однако эта свобода в принятии естественно–научных данных вовсе не вынуждалась неустойчивостью религиозных: в его системе та и другая сторона гармонирует друг с другом.
Серьезность математических и естественно–научных познаний о. Серапиона видна, между прочим, из того, что для людей, мало знакомых с этими предметами, сочинения его местами почти недоступны, и эта недоступность делается особенно великою от вставки в общий текст целых трактатов по специальным вопросам, напр., математическим и физическим. Тут философ- Серапион уступает место Серапиону–ученому, и последний набрасывает с головокружительной смелостью идеи неслыханной новизны, идеи, долженствующие, по мнению их изобретателя, перестроить до основания целый ряд дисциплин: математику, механику, физику и т. д. Я, конечно, не стану на этих страницах излагать или оценивать эти оригинальные идеи. Замечу только, что если бы и стали отрицать почему-либо за ними значение, придаваемое им изобретателем, то все же они могут быть весьма полезны для более узких вопросов математики, молекулярной физики и т. п. Ценное ядро в этих специальных идеях о. Серапиона несомненно, и может подыматься вопрос только об объеме этого ядра.
Но не в этих отдельных вопросах, как и не в благотворительности или общественности, лежит главный интерес о. Серапиона. Центром его исканий было создать универсальность миропонимания, охватывающую все области человеческого интереса. «Цельное знание» неослабно вставало пред ним, как и пред Соловьевым
[414] и Оригеном, и задачей его была связная всеобъемлющая система.
Вот для примера выдержка из его письма (от 11 декабря 1904 г.)
[415] по поводу актуальной бесконечности (вразрядку — подчеркнутое мною): «…почвы, на которых мы с вами стоим, — разные. Одно могу пожелать: если б Бог дал и вы надумали бы летом приехать сюда в нашу тихую Пустынь. Она тиха и благолепна своим духовным устроением, своим благодатным «безмолвием», столь дорогим взволнованной душе. Но и кроме этого, наша обитель -летом — прекрасна и со вне: природа ее–чудо. Недаром в. кн. Константин Николаевич два лета — со всей семьей — провел здесь (у одного помещика, поблизости, в полуверсте). Лес, луг, река:…мы гуляли бы с вами, купались, а затем за чайком обсудили бы — тогда уже общую–систему философии. Это стоит того, чтоб можно было ожидать, что вы не пренебрежете нами и, может быть, приедете. Приезжайте, П. А. Не раскаетесь! У вас математика, у меня философия. Вдвоем мы–сила. А теперь именно такое время, когда нужна новая система. Старые отжили, новых нет, а запросы велики в современном обществе. Жду вас. Впрочем, как Бог даст. Да будет Его Святая воля. Но дай Господи, если это только на пользу…»
ѴШ
Этот интерес к системе, которая начиналась бы с абсолютного скепсиса и, охватив все основные вопросы человечества, заканчивалась бы программой общественной деятельности, до самой смерти о. Серапиона властно сковал его внимание. В результате упорной и смелой работы мысли явилась в высокой степени оригинальная система, которую покойный философ несколько раз брался изложить письменно. Где-то в своих бумагах он поминает, как еще в детстве его влекли основные вопросы о происхождении мира, о Боге и т. п., и что тогда уже он пытался выразить на бумаге свои решения их. Первою серьезною попыткою (мне лично она незнакома) можно считать кандидатское сочинение о. Серапиона, относящееся к 1890–92 годам; тогда о. Серапио- ну было 39–41 год. Второю грандиозною попыткою было сочинение, поданное на магистра и помеченное 1900–м годом, — временем настоятельства о. Серапиона в Знаменском монастыре
[416]. Эта редакция в разных местах носит разные заглавия. На обкладке ее значится:
«Архимандрит Серапион Опыт системы Христианской философии».
Это заглавие зачеркнуто, и над ним надписано:
«Опыт системы Учения и Дела Иисуса Христа (Христианская Философия)».
Первоначальное заглавие повторяется и на первой странице, с эпиграфом: «Измерил он город тростью, — мерою человеческою, какова мера и Ангела» (Апок. 21, 16, 17).
Как сказано, сочинение в этой редакции было подано на степень магистра в Московскую Духовную Академию. Проф. Алексей Ив. Введенский, просматривавший его, вернул обратно с предложением внести поправки, — частью чисто–внешние недочеты, как-то длинноты, повторения, неясности, частью же и по существу. О. Серапион начал перерабатывать свое сочинение и многочисленными перечеркиваниями, надписаниями, восстановлениями старого текста, приписками и вставками целых тетрадей чрезвычайно затруднил чтение рукописи. Но он почему-то так и не подал снова этой редакции на степень магистра, а стал излагать свою систему совсем заново, по новому плану и под новым заглавием: «(монах). Завулон Машки н. Система Философии, 190 4» и на следующей странице:
«Архимандрит Серапион Машки н.
Система Философии: Опыт научного синтеза. В двух частях, 1903–1904». Эта последняя редакция отличается большою сжатостью и, порою, даже изяществом изложения — тем своеобразным изяществом строгости, с каким написаны «Этика» Спинозы или три «Критики» Канта. Изложенная more gcomctrico
[417], гораздо более отвлеченная, чем предыдущая редакция, эта последняя редакция требует от читателя непрестанной напряженности мысли, и эта напряженность повышается от множества символических формул, подобных математическим, концентрированно воплощающих в себе целые метафизические теории и образующих базис для дальнейших умозрений. К сожалению, однако, эта 2–я редакция окончательно написана не вся, и 2–я часть ее осталась в виде отдельных фрагментов или даже просто едва читаемых, по неразборчивости почерка, набросков. Таким образом, является большое сомнение, возможно ли восстановить эту 2–ую часть 2–й редакции.
Оптиной Пустыни достались после смерти о. Серапиона все его бумаги, среди которых имеются два последних изложения его системы, черновики писем и кое- какие отдельные заметки, но в очень небольшом числе. Часть этих писем и заметок я печатаю сейчас, считая их характеризующими о. Серапиона и освещающими хоть в одном пункте нашу духовную среду
[418] [419]. Самый же ценный материал, обработка которого для печати поручена Оптиной Пустынью автору настоящего очерка, будет обнародован (в извлечениях), как только найдется издатель. Впрочем, до того времени я надеюсь выпустить в свет подробное систематическое изложение воззрений о. Серапиона и его биографию. Такое изложение необходимо, потому что непосредственное чтение сочинений о. Серапиона едва ли окажется под силу многим из тех, кто мог бы живо заинтересоваться его взглядами.
Хронологическая схема жизни о. Архимандрита Серапиона (Машкина)
Даты и события
| Лета от рожд. |
Лета от 1854 г., 29 марта, во 2–м часу пополудрожд. ни, у помещика Курской губернии Дмитриевского уезда села Беляева поручика Михаила Яковлевича Машкина и жены его Екатерины Михайловны, рожденной Кошелевой, родился сын (впоследствии Архимандрит Серапион). |
| 1 г. |
854, 4 апр. — он крещен и назван Владимиром. Имя наречено в честь св. князя Владимира, память коего празднуется 15 июля. Восприемниками были: села Вандорца помещик князь Василий Юрьевич Мещерский и живущая в селе Кремяном Льговского уезда помещица вдова Елена Михайловна Машкина, бабка кре- щаемаго. Крещение совершал священник Николаевской церкви села Беляева Василий Лебедев с причтом. |
|
1855 г., 19 марта — родился в той же семье Машкиных второй сын, Александр. |
| Прибл. 3 ½ |
1857 г. — первое мистическое восприятие, — солнца. |
| 8 г. 7 м. |
862 г., 24 октября — поздравительное стихотворение матери. |
| 10 л. |
864 г. — «Трактат о послушании родителям». |
|
1865 (6?) г. — классный журнал француза Антолия Liones. |
| 12 л. |
1866 г. — отъезд из деревни в С. — Петербург в приготовительный класс Пансиона Юіассического. |
|
1867 г. — Пансион Школы Правоведения. |
|
1868 г. — Морское Училище. |
| 15 л. |
1869 г. — фельетоны. |
| 17 л. |
1871 г. — первые идеи о системе философии. |
|
1874 г. — производство в гардемарины. |
|
1876 г., 25 июня — отставка от морской службы в чине мичмана |
| 23 г. |
1877 г., август — поступление вольнослушателем на естественное отделение физико–математического факультета С. — Петербургского Университета. Знакомство с Вл. С. Соловьевым и посещение его лекций. |
| 27 г. |
1881 г., начало года, — на 2–м полугодии 4–го курса, в связи с цареубийством 1–го марта 1881 года–арест и одиночное заключение. |
|
1881 г. — поступление в Киевский Университет. |
| 28 л. |
1882 г., 13 апреля, — в 11 часов по полудни, смерть отца — Михаила Яковлевича Машкина, в Беляеве, на 65–м году от рождения. |
|
1882 г. — распущенная жизнь и начало болезни. |
|
1882–1883 гг. — лечение у д–ра Буцке в Москве. |
| 29 л. |
1883 г. — д–р Буцке везет Влад. Машкина в Париж, к Шарко. |
| 29 л. |
1883–1884 гг. — лечение у д–ра Маньяна в Париже. |
| 30 л. |
1884 г., февраль — выход из лечебницы, кутеж в Париже. |
|
1884 г., лето — возвращение домой, вБеляево. |
|
1884 г., июль — рождение в семье Александра Михайловича Машкина любимой племянницы Владимира Михайловича — Ольги Александровны. |
|
1884 г., июль — прекращение кутежей. |
|
1884 г., осень — поездка в Сергиев Посад и духовный совет старца Варнавы поехать на старый Афон. |
|
1884 г., ноябрь — прибытие на Афон и вступление в число послушников Афонского Пантелеимонова монастыря, под духовное руководство о. архимандрита Иеронима. |
|
1885 г., конец года (начало ноября?) — Вл. М. Машкин надевает послушническую рясу. |
|
1885 г., 14 ноября в 9 часов утра–кончина о. Иеронима. Переход под окормление о. архимандрита Макария. |
| Ок. 35 л. |
1889 г. — поездка на Афон матери Владимира Мих. Машкина — Екатерины Михайловны. Пожар в Пантелеимоновском монастыре. Через 2–3 месяца — падение Вл. Михайл. Еще через іѴг месяца — бешенство, позыв к самоубийству. Через 3 месяца — отъезд в Россию. |
| 35 л. |
1889 г., начало лета — возвращение Вл. Мих. Машкина с Афона в Беляево. |
| Ок. 38 л. |
1892 г., 14 марта–Вл. Мих. Машкин дает матери своей Екатерине Михайловне вексель на 15 тысяч р. сроком на 36 месяцев. |
|
1892 (4–е лето по возвращении в Россию) — назначается на осень окончательный отъезд на Афон. |
|
1892 г. — знакомство Екатерины Михайловны Машкиной с о. Валентином Александровичем Амфитеатровым, протоиереем Московской Кремлевской церкви свв. равноап. Константина и Елены. |
|
1892 г., начало лета, — знакомство с ним же Владимира Михайловича. Вл. Мих. пишет о. Валентину свою исповедь. О. Валентин накладывает на него послушание поступить в Московскую Духовную Академию и окончить там курс. |
|
1892 г., 27 августа — поступление вольнослушателем в Московскую Духовную Академию по указу Св. Синода за № 3509. |
|
1892 г., 10 октября — пострижение Вл. Мих. Машкина в монашество с именем Серапиона — ректором Московской Духовной Академии Архимандритом Антонием (Храповицким). |
|
1892 г., 18 октября — посвящение монаха Серапиона в сан иеродиакона. |
|
1892 г., 22 ноября–слово на притчу о неразумном богаче (Лк. 12), читанное в воскресение, в Сергиево–Посадской церкви апп. Петра и Павла. |
|
1892 г., 12 декабря — окончание семестрового сочинения на тему: «Связь поэзии с религией». |
|
1893 г., 10 февраля — окончание семестрового сочинения на тему: «Мирятся ли сказания книги Исход о казнях Египетских с сказаниями о них в книге Премудрости Соломона». |
|
1893 г., 12 апреля — окончание семестрового сочинения на тему: «Какие причины производит то, что научный прогресс, обыкновенно, влечет за собою уменьшение религиозности в обществе?» |
|
1893 г., 17 мая — посвящение иеродиакона Серапиона в сан иеромонаха. |
|
1893 г., август–в «Душеполезном Чтении» о. Серапион напечатал статью: «Духовный взгляд на Малеванщину»[420]. |
|
1883 г., 12 октября — окончание семестрового сочинения «Гоголь, как христианин». |
|
1994 г., 14 февраля — «Слово на среду первой седмицы Великого Поста». |
|
1994 г., 8 апреля — окончание семестрового сочинения на тему: «Можно ли свести логическое мышление к процессам ассоциации идей?» |
| 40 л. |
1894 г., 12 июня–в Пятигорске проф. В. И. Ковалевский засвидетельствовал полное выздоровление о. Серапиона. |
| 41 г. |
1895 г., 23 марта — окончание семестрового сочинения: «Мнение православных богословов об общецерковном единстве, как высшем начале церковной централизации». |
|
1895 г., август — предполагается (– не состоявшийся-)перевод о. Серапиона в Казанскую Духовную Академию, вследствие перевода туда ректора Архимандрита Антония. |
|
1896 г., январь — Киевский протоиерей Василий Иваницкий знакомится в поезде с о. Серапионом и Ек. Мих. Машкиными. |
| 42 г. |
1896 г., 5 апреля — окончание кандидатского сочинения «О нравственной достоверности»[421]. |
|
1896 г., 19 июня — утверждение о. Серапиона в степени кандидата богословия Митрополитом Московским Сергием. |
|
1896 г., лето — лечебная поездка в Пятигорск. |
|
1896 г., 17 августа — назначение о. Серапиона на должность помощника смотрителя |
|
Перервинского Духовного Училища указом Св. Синода за № 3952. |
|
1896 г., 20 сентября — Киевский прот. Вас. Иваницкий поздравляет о. Серапиона с назначением в Перервинское Духовное Училище. |
|
1896 г. — по представлению смотрителя Училища о. Серапион награжден набедренником. |
|
1897 г., 3 марта–о. Серапион, по внушению прот. Валентина Амфитеатрова, изъявляет согласие принять «серебряную медаль на Александровской ленте в память Александра III», от которой до тех пор отказывался. |
|
|
| 43 г. |
1897 г., 8 апреля–о. Серапион перемещен на должность смотрителя Заиконоспасского Духовного Училища указом Св. Синода за № 1815. |
|
1897 г., 8 и 17 мая у Ек. Мих. Машкиной денежные затруднения. |
|
1897 г. 20 декабря — назначение о. Серапиона на должность настоятеля Знаменского монастыря с увольнением от духовно–учебной службы указом Св. Синода за № 7071. |
|
1898 г., 9 января — возведение о. Серапиона в сан архимандрита. |
|
1898 г., 2 марта — диагноз Ек. Мих. Машкиной: Іѕһіаѕ, arthromeningitis et arthroindesmitis. |
|
1898 г., 19 марта–о. Валентин Амфитеатров настойчиво вызывает в Москву Ек. Мих. Машкину, надо думать, по причине начавшихся у о. Серапиона приступов запоя. |
| 44 г. |
1898 г., 26 марта–Ек. Мих. уже находится в Знаменском монастыре. |
|
1898 г., 12 апреля — поверенный г–жи Кроненберг требует проценты на занятую у нее Ек. Мих. Машкиной сумму. |
|
1898 г., 12 августа — преосвященный Лаврентий благодарит о. Серапиона за поздравление и отзывается об о. Серапионе очень ласково. |
| 45 л. |
1899 г., апрель — «Проект преобразования штатных монастырей», составленный о. Серапионом (помечен Знаменским монастырем). |
|
1899 г., лето–первый сильный запой о. Серапиона в Знаменском монастыре. Около того времени начинает называть себя монахом Завулоном. |
|
1899 г. — отъезд о. Серапиона в Беляево, на основании свидетельства врача Штейнберга о «тяжелой форме неврастении». |
|
1899 г., через І/2 месяца — возвращение из с. Беляева в Знаменский монастырь. |
|
1900 г. — окончание сочинения «Опыт системы Христианской Философии» = «Опыт системы Учения и Дела Иисуса Христа (Христианская Философия)».[422] |
| 46 л. |
1900 г. — второй сильный запой о. Серапиона в Знаменском монастыре во время приезда Государя. |
|
1900 г., 20 апреля — прошение Московскому Митрополиту Владимиру об отпуске на 29 дней. |
|
1900 г., 17 июня — увольнение от должности настоятеля Знаменского монастыря, по указу Св. Синода за № 4049. |
|
1900 г., 27 июня — причисление к братству Волоколамского Иосифова монастыря. |
|
1900 г. — помещение на покой в Оптину Пустынь, по указу Калужской Духовной Консистории за № 7549. |
|
1900 г. — отъезд из Оптиной Пустыни домой, в Беляево. |
|
Возвращение в Оптину, по уговору Архиепископа Волынского Антония (Храповицкого). |
|
1901 г., в 2 часа ночи с 19–го на 20–е февраля — смерть Александра Михайловича Машкина, брата о. Серапиона, — в с. Беляеве. |
| 47 л. |
1901 г., 6 апреля — «Пасхальное Слово» (о необходимости помочь голодающим Херсонской губернии), сказанное в Иосифо–Воло- коламском монастыре (Пасха в 1901 г. была 1–го апреля). |
|
1901 г., лето–о. Серапиону предстояло явиться на Кавказ для окончательного освидетельствования его выздоровления. |
| 48 л. |
1901 г., 4 декабря — смерть монахини Марии (Анны Яковлевны Машкиной) ‚ тетки о. Серапиона, имевшей на него большое влияние. |
|
1902 г., 25 марта — «Слово на Благовещение» (о воскресении И. Христа в нас) о. Серапиона. |
|
1902 г., 8 июля — «Слово на день Казанской Божией Матери», сказанное в Оптиной Пустыни. |
|
1902 г., лето — письмо к неизвестному о монастырях, вероятно, предназначавшееся для печати (письмо не имеет даты; сужу о ней по бумаге и чернилам, а также по тону письма). |
|
1902 г., 23 декабря — «Слово на погребение Михаила Александровича Машкина», племянника о. Серапиона. |
|
1903 г., 4 апреля — «Слово пред Плащаницею». |
| 49 л. |
1903 г. — «Слово на Пасху» (о внутренней чистоте) ‚ сказанное в Беляеве (Пасха была б–го апреля). |
|
1903 г., 8 июля — повторение «Слова на день Казанской Божией Матери» (1902 г.) в Беляеве. |
|
1903 г., 15 июля — «Слово о просвещении России», сказанное в Беляеве. |
|
1903 г., 20 июля — «Слово на день св. Пророка Илии», сказанное в Беляеве. |
|
1903 г., в ночь с 22–го на 23–е декабря — кончина Екатерины Михайловны Машкиной, матери о. Серапиона, на 78–м году от рождения, в Беляеве. |
|
1903 г., 27 декабря — погребение Ек. Мих. Машкиной в Беляеве; предзнаменование смерти о. Серапиону, — понятое им. |
| 50 л. |
1903–1904 гг. — «Система Философии: Опыт научного синтеза», 2–я редакция, часть 1–я. |
|
1904 г., 1 июля–резкие возражения о. Серапиона на переписанное им рассуждение оптинского о. Ераста Выторпского «Европа, Россия и Европа и о наших, русских, сиротах». |
|
1904 г., 5 декабря — открытое письмо о. Иоанну Кронштадтскому, помеченное Оптиной Пустынью. |
|
1904 г., 11 декабря — письмо П. А. Флоренскому с приглашением в Оптину Пустынь. |
|
1905 г., 25–26 января — «Мимолетные рассуждения о иезуитизме, шпионстве, шаблонной морали и масонстве». |
|
1905 г., 3 февраля — письмо к П. А. Флоренскому, с протестом против уклонения Московской Духовной Академии от забастовки и с рассуждениями о бесконечности. |
|
1905 г., 7 февраля — письмо редактору «Новостей», помеченное г. Козельском. |
|
1905 г., в ночь с 9–го на 10–е февраля — предсмертный сердечный припадок у о. Серапиона, понятый им как Божие предостережение. |
|
1905 г., 14 февраля — вторая попытка вызвать на ответ о. Иоанна Кронштадтского: письмо к нему, пересылаемое через проф. Моск. Дух. Ак. Н. А. Заозерского. |
|
1905 г., 15 февраля — письмо к проф. Н. А. Заозерскому, с просьбою устроить в Академии третейский суд между о. Серапионом и о. Иоанном Кронштадтским: «Прямой мой долг сделать гласным весь ряд умозаключений, возбужденный во мне, между прочим, увещаньем о. Иоанна. Я не умру спокойно, не исполнив этого моего долга». |
|
1905 г., 18 февраля — составление духовного завещания. |
|
1905 г., 19 февраля — присутствовал при всенощном бдении, длившемся до 11½ часов ночи. |
| 50 л. |
1905 г., в ночь с 19–го на 20–е февраля, во 2–м часу, можно сказать, в день памяти освобождения крестьян — кончина о. Серапиона от «разрыва сердца». |
|
1905 г. — погребение в Оптиной Пустыни, возле Введенского собора[423][424]. |
П. Ф.
Родословие Архимандрита Серапиона[425]
Машкины, иногда Машины
I
1, Иван.
II
2 Степан Иванович‚ 1628 г., в Свапском стане, Рыльского (ныне Дмитриевского) уезда, в пом. 12 четей, жалованья 10 рублей (Α. Α. Τ а н к о в, — Историческая летопись Курского дворянства, Т. 1, М., 1913, стр. 23). — «Из копии с справки разрядного Архива выданной 20 марта 1789 г., из Герольдмейстерских дел Правительствующего Сената, видно, что он Степан Иванов сын в десятне 140 года за подписом князя Ва- силья Ромодановского показан из дворян и детей боярских, живет на службе, на коне с пищалью, жалованья 10 руб. — Поместья за ним в Рыльском у. 12 четвертей» (семейная запись)/
3 Тимофей Иванович‚ 1628 г., владел поместьями в Омонском и Свапском ст. Рыльского у. (Танков, 21, 23, 117); 1636 г., Рыльский городовой дворянин, оклад 300 четей, денег с городом 10 рублей.
4 Яков Ивановичу 1628 г., владел поместьем в Свапском ст., Рыльского у. (Танков, 23).
5 Нелюб Ивановичу 1628 г., владел поместьем в Свапском ст., Рыльского у.; 1636 г., Рыльский городовой дворянин, оклад 200 четей, денег с городом 7 рублей (Танков, 23, 120)
III
6 Меркул Степанович. Оклад 300 четей, денег 10 рублей. «Из копии с справки разрядного Архива выданной 20 марта 1689 г., из Герольдмейстерских дел Правительствующего Сената, видно, что он Меркул Степанов сын написан в десятне 7172 года, в числе Рыльских городовых дворян и детей боярских и за службу в Нежине в Гетманском Отбирании, дано жалованья 6 руб. Но о происхождении его от 1–го (здесь -2–го) Степана Ивановича или об отказе за ним наследственного от отца его с крестьянами имения или же о выбытии оного из роду документов не представлено» (семейная запись)
IV
7. Андрей МеркуловиЧу 1697–1699 гг., в Рыльском у., деревня Беляево Ѓ/і двора с полтретью крестьянских. Служил военную службу. С братом Тимофеем (№ 8) из оклада в 550 четей пожалованы в вотч. 100 четей за Чигиринскую службу, 1681 г
8. Тимофей Меркулович› ср. № 7, десятник в Кромах (сыскное дело 1700–1701 гг.). («Послушная грамота по памяти из Приказа Сыскных Дел о высылке из Кром в Орел «для розыску» челобитья кн. Анд р. Вяземского… и т. д.», Архив Мин. Юстиции, I, 9, Е, ст. 484, ІІЬ 71–72. Описание документов и бумаг, хранящихся в Москов. Архиве Мин. Юстиции, кн. 19, М., 1914, 484з, стр. 263)
9. Федор Андреевич. 1 июня 1677 г. дано ему с братом Александром (№ 10) в Рыльском у. село Беляево на земле между речек Рыбицы и Сушавицы; †16 декабря 1746
10. Александр Андреевич. Ср. № 9.
11. Иван Федорович‚ родился 19 октября 1732 г.; 15 июня 1746 г. поступил в военную службу. 16 декабря 1753 г. — капрал; 26 генв. 1755 г. фурьер; 11 февраля 1755 г. каптенармус; 15 мая 1755 г. сержант; 1 ген- варя 1757 г. прапорщик; 30 мая 1758 г. подпоручик; 13 сентября 1765 уволен в отставку из 3–го батальона Черниговскаго пехотного полка с произв. в поручики; 3 мая 1766 г. капитан; 1783 г. Дмитриевский Курской Губ. предводитель (Адрес–Календарь 1783 г., 350; Тур- кестанов, — Губернский служебный класс, СПБ., 1869, стр. 50). В Рыльском у. село Беляево, дошло после Данилы Ивановича Ширкова; †11 мая 1800 г.
28 мая 1767 г. вступил в брак с дочерью капитана Якова Михаиловича
Дурова — Анною Михайловною; она †11 ноября 1774 г. и погребена в с. Беляеве, на фамильном кладбище Машкиных при Николаевской церкви в с. Беляеве
[426].
VII
12. Елизавета Ивановна. Родилась 1 августа 1769 г.; в 1803 г. она значится девицей, Рыльской и Дмитриевской помещицей, но 8 июня 1794 г. она поступила послушницей в Севский девичий монастырь, где и †4 мая 1836 г.
13. Александра Ивановна. Родилась 13 марта 1772 г.; в 1803 г. значится девицей, Рыльской и Дмитриевской помещицей, но находилась она в Площанской Пустыни, где приняла монашество под именем Назареты; †26 июля 1834 г. и погребена в той же Пустыни 28 июля, у церкви Покрова св. Богородицы. Всего жития ея было 62 года 4 месяца 13 дней, в монашестве же была 34 года
14. Алексей Иванович. Родился 13 октября 1770 г.; в 1803 г. секунд–майор, Рыльский и Дмитриевский помещик; †12 марта 1839 г. Он был восприемником от св. купели князя Александра Ивановича Барятинского‚ впоследствии фельдмаршала, родившегося 2 мая 1815 г. (А. А. ЗиссермаНу — Биография князя А. И. Барятинского, «Русский Архив», 1880 г., I, Вып. 1, ст. 95). †12 марта 1839 г.; погребен в с. Износкове, Льговского у.
15. Яков Иванович. Родился 2 октября 1774 г.; 25 февраля 1797 г. поступил в военную службу; 8 декабря 1797 г. — унтер–офицер; 16 ноября 1798 г. — прапорщ.; 15 окт. 1799 г. подпор. 30 мая 1801 г. уволен в отставку из Тентинского мушкетерского полка с производством в поручики; 6 июля 1801 г., за № 22915 выдан ему от Государственной Коллегии указ об отставке (семейная запись). 6 июня 1801 г. Льговский уездный судья; 1807–1810 гг. и 1 генваря 1816–1821 гг. Льговский депутат; «из грамоты Капитула Российских Орденов 30 ноября 1819 г. выданной видно, что он за усердную службу продолженную по выбору Дворянства более трех лет установленных сроков безпорочно, 27 октября того 1819 г. Всемилостивейше пожалован Кавалером Ордена св. Владимира 4–й степени» (семейная запись). У него–в Дмитриевском у. село Беляево-174 дес., Рыльский помещик. Был под судом за убийство крестьянина (Опись Дел Государственного Совета, I, 670). По устным сообщениям Беляевских старожилов, Яков Иванович был натурою бурною и сильно пил; рассказывают, что он учил своих крестьян конокрадству и укрывал их. И до сих пор крестьяне села Беляева — более развитые и более смышленые, чем соседние, крестьяне князей Мещерских. — Яков Иванович †4 июня 1849 г. и погребен в селе Беляеве на фамильном кладбище.
18 августа 1815 г. вступил в брак с девицею
Еленою Михайловною Сердюковою‚ имевшею в Ярославском у. 189 десятин; она † после 1855 г.
[427]16. Иван Яковлевич. Родился, как значится в семейной записи, 29 октября 1816 г., а по официальным данным-5 ноября 1816 г.; †21 сентября 1856 г. (?)… 15
17. Михаил Яковлевич. Родился, как значится в семейной записи, 15 ноября 1817 г., а по официальным данным в 1820 г., 9 января 1838 г. поступил юнкером в Орденский Вел. Кн. Михаила Павловича полк; 17 февраля 1838 г. прапорщик; 30 января 1839 г. поручик; 14 июля 1841 гм состоя в 3 резервном кавалерийском корпусе, по прошению уволен в отставку; 30 октября 1841 г. смотритель Дмитриевскаго Уездного Училища; 8 апреля 1844 г. перемещен в Льговское, с обязательством вносить 142 р. 85 к. в год; 14 марта 1845 г. объявлена ему благодарность Управляющего Харьковским Учебным Округом; 4 октября 1850 г. за произведенные постройки в Училище, объявлена благодарность Управляющего Харьковским Учебным Округом; 5 декабря 1854 г. знак отличия за 15 л. службы; 1863 г., в Назовцевск. вол. Рыжск. д. село Дурово-81 д. (Тр. Курск. Ст. Ком. I. 211). †ІЗ апреля 1882 г. в И часов пополудни, в селе Беляеве, «на 65–м году от рождения» (семейная запись), погребен там же, на фам. кладб.
19 января 1847 г. Михаил Яковлевич сочетался браком с девицею
Екатериною Михайловною‚ дочерью Рыль- ского помещика из села Дурова, Знаменское тож, отставного подпоручика Михаила Дмитриевича
Кошелева.[428]Бракосочетание совершал благочинный о. Иоанн Якимов в Знаменской церкви с. Дурова. — Екатерина Михайловна, по отцу Кошелева, родилась 14 февраля 1825 г, (а по официальным данным в 1826 г.), † в ночь с 22 на 23 декабря 1903 г., на 78–м году от рождения, в с. Беляеве, где и погребена, на фамильном кладбище, 27–го декабря того же года. Екатерина Михайловна «была троюродною или четвероюродною сестрою своего мужа и писала ему обычно: «Моn cher Cousin»
[429].
18. Анна Яковлевна. Родилась 21 августа 1820.; в монашестве Магдалина; а манатейною она же — Мария; † 4 декабря 1901 г., погребена в Тверском женҫком монастыре/
19. Екатерина Яковлевна. Родилась 3 марта
20. Надежда Яковлевна. Родилась 11 сентября 1825 г., † 25 октября того же года
IX
21. Николай Иванович. Родился в 1857 г.; † 4 января 1900 г. (Кавказский Некрополь)
22. Мария Михайловна. Родилась 14 июля 1848 г.
23. Николай Михайлович. Родился 17 августа 1840 г., восприемницею его от св. купели была тетка его Анна Яковлевна, в монашестве Магдалина, Машкина (№18)
24. Владимир Михайлович‚ в монашестве Серапион. Родился 29 марта 1854 г., † 20 февраля 1905 г. (ввиду того, что хронология и подробности его жизни, равно как и брата Александра, приводится ниже, здесь мы опускаем их)
25. Александр Михайлович. Родился 19 февраля 1855 г., † в ночь с 19 на 20 февраля 1901 г. (ср. №24)
Жена его Варвара Александровна‚ по матери Кошелева, его двоюродная сестра, по смерти мужа вместе с детьми своими Михаилом (№ 28), Сергеем (№ 31), Ольгою (№ 29) и Юлией (№ 30) владеет поместьем в Льговском у. между реками Рыбицею и Сушавицею, а в Дмитриевском у. — в селе Беляеве (Объявления Дворянского Банка).
X
26. Николай Николаевич. 1899 г., губернский секретарь, делопроизводитель акцизного управления VI Округа Полтавской губ. (Общ. сост. Мин. Финансов, 1899 г., II, 440)
27. Владимир Александрович. Родился 2 июля 1887 г., † 2 сентября 1888 г., 1–го году и 3–х месяцев от роду
28. Михаил Александрович. † 13 декабря 1902 г.
29. Ольга Александровна. Родилась в июле 1884 г., замужем за Львом Александровичем Щепотьевым; имеет двоих детей: Александра (родился в марте 1906) и Аркадия (родился в мае 1907) Львовичей
30. Юлия Александровна
31. Сергей Александрович
Не вошли в роспись
32. Алексей Машкинл 1621 г., сын боярский в Рыль- ске (Акты Московского Государства, I, 165).
33–36. Афанасий Петровичу Иван Васильевич Меньшой, Иван и Јіогвин Дементьевичиу 1628–1629 гг., владели поместьями в Свапском и Омонском станах Рыльского у. (Танков, 21, 24).
37–38. Никита и Гаврила Машкины, обвинялись в 1651 г. Дмитрием Кусаковым в ограблении крестьян. Куряне. (Оп. Дел Мин. Юстиции, XV, 182, I.)
39. Иван Афанасиевичу 1627–1636 гг., Курский городовой дворянин, оклад 200 четей (Танков, 89).
40. Карней Афанасиевичу Рыльский городовой дворянин. На службе с 1630 г., 1632 г., оклад 250 четей, денег с городом 8 руб. (Танков, 121).
41. Григорий Ивановичу 1665 г., сын боярский в Кромах. (Оп. Дел Мин. Юст. XVII, 216, I.)
42. Осип Никитичу Рыльский городовой дворянин, на службе с 1630 г., 1632 г., оклад 200 четей, денег с городом 6 рублей (Танков, 91).
43. Сафон Семеновичу 1636 г. верстан новичным окладом по Курску в 200 четей (Танков, 91).
44. Даниил Елисеевичу 1783 г., надворн. сов., директор Коммерческого банка в Астрахани (Адрес–Календарь 1783, 461).
45. Мария Ивановпау 1816 г., девица, Мологская помещица (Списки дворян Ярославск. губ. Рукописные, в Ярославск. Депут. Собрании).
46. Дмитрий Ивановичу 1835. Рыбинский помещ. (Я. А. К. 767, 848). Шт. — капит.
47. Василий Васильевич. Родился в 1803 г., † 16 февраля 1848 г. (С. Б. Некрополь).
48. Петр Михайлович. Родился в 1852 г. † 4 июня 1899 г. (Кр. Некр.).
49. Михаил Александрович‚ 1878, коллежск. асессор (Оп. Д. Гос. Сов., I, 670).
50. Владимир Машкин. Родился в 1871 г., † 1896 г. (Кр. Некр.).
51. А. М. М[ашк]ин. В неоф. части «Курских Губернских Ведомостей» помещены его заметки:
а) о благотворительности (Письмо из уезда). 1–й 1902 г.
б) о Тряпичкиных, письмо из уезда. 1902 г.
в) Новое о небесных светилах. Юридическая беспомощность (впечатления). 1907 г.
г) Идеалы и жизнь. Фельетон. 1907 г.
52. А. С. Машкин› учитель Обоянского приходского училища в 1859–80–х годах. А. С. Машкин был известным этнографом, доставившим в Имп. Русское Географическое Общество целый ряд этнографических записей, с соблюдением особенностей местного произношения; записи эти впоследствии напечатаны (Венгеров‚ — Пред в. спис.; Дм. К. Зеленин‚ — Материалы для описания Курск. Губ., хранящиеся в учен, архиве Имп. Рус. Геогр. О–ва, «Курский Сборник», Вып. VII, стр. 103). Вот список его трудов:
а) «Этнограф. Сборник» Рус. Геогр. О–ва, Т. V.
б) Сказки, рассказы, анекдоты, прибаутки и детские песни, записаны в гор. Обояни и его уезде. 83 стр. в полул. Получено в 1863 году. Напечатано В. И. Резановым в издании Курского Статист. Комитета «Курский Сборник», Вып. IV, Курск, 1903, стр. 74–115.
в) Приметы и предрассудки Обоянских простолюдинов. 22 стр. в полул. Получено в 1858 г. Напеч. В. И. Резановым в «Курск. Сб.», Вып. IV, Курск, 1913, стр. 65–73.
г) Загадки, записанные в городе Обояни и его уезде, 17 стр. в полул. (получено в 1856 г.), напечатано там же, стр. 47–50.
д) Образцы простонародных разговоров города Обояни и его уезда. 28 стр. в полул. Получено в 1857 г., напеч. там же, стр. 51–63.
е) Толкование снов, записанных в Обоянском уезде. 17 стр. в полул. Рукопись 1858 г. Напечатано М. А. Колосовым в «Рус. Фил. Вест.», 1889 г., № № 1 и 2; дополнения и поправки см. в «Курск. Сборн.», Вып. IV, стр. 7.
ж) Обычаи и обряды, соблюдаемые в городе Обояни. 34 стр. в полул. получено в 1857 г. Напечатано в «Трудах Курского Губернского Статист. Комитета». Вып. I, Курск, 1863, стр. 484–505. Опечатки и дополнения см. в «Курском Сборнике», Вып. IV, стр. 6.
з) Свадебные и хороводные песни, собранные в городе Обояни и его уезде учителем Машкиным. 72 стр. в полул., прислано в 1855 г. Напеч. В. И. Резановым в «Курск. Сборн.», Вып. III, Курск, 1902, стр. 1–69.
и) Сборник пословиц и поговорок, употребляемых в городе Обояни и уезде его, учителя Обоянского приходского училища Машкина. 75 стр. в полул. (получено в 1856 г.). Напечатано В. И. Резановым в «Курск. Сборн.», Вып. IV, стр. 11–45.
к) Об особенностях Обоянского простонародного говора. «Труды Курск. Губ. Ст. Ком.», Вып. I, стр. 543–547.
53. Н. Машкин‚ автор романа «Царь колокол или антихрист XVII века», СПБ., 1892 (Венгеров, — Предварит. спис.).
54. Акилина Машкина. 1863 г., в Протопоповск. вол. Корочанск. у. село Больш. Городище — 1 д. (Тр. Курск. Губ. Ст. Ком. Вып. I. 161).
Ив. Ельчанинов и Священник Павел Флоренский
Гамлет
(Поев. Серг. Семенов. Троицкому)[430] «Время вышло из колеи своей. Горе мне, рожденному на то, чтобы снова заставить его идти прежней дорогой». — «Гамлет».[431] І. — Диалектика
Слово опыт -от пытать, производить испытание. В настоящее время философский язык не воспринял твердо всей многозначительности слова опыт. Но допустим некоторую liccntia рһііоѕорһіса
[432], тогда, если более использовать выразительную гибкость этого слова, дозволительно сказать, что диалектика·- наука опытная. Ведь она — и на это указывал уже Шеллинг — состоит в последовательно сменяющихся попытках мыслей, — в ряде правильно чередующихся опытов мысли над самой собою; мысль экспериментирует сама с собою, построяя отдельные моменты диалектического процесса и руководствуясь при этом собственными своими законами, природою своею. Но, по мере строительства отдельных моментов, — систем, — разум вскрывает у созданного звена цепи ограниченность его, несовместность его с необходимыми условиями истинности, с критериями истины, — вскрывает ложность данного звена как такового, когда оно берется в своей исключительности.
Мысль непосредственно усматривает недостаточность созданного момента, скудность данного построения, неадекватность взятой системы с ее притязаниями; система не выдерживает бремени надстраиваемого на ней и, после известного развития, внутренне разлагается и рушится в груду мусора. Обнаруживается необходимость выйти из ограниченности, создать более богатое звено, полнее удовлетворяющее критерию истинности; это обстоятельство понуждает переходить к зиждению следующей системы, следующего аспекта в архитектоническом целом, — необходимость конструировать новое и тем снять ограниченность прежнего, потому что никакая ломка сама по себе не может вконец уничтожить систему, раз только она, при всей своей недостаточности, удовлетворяет известным запросам, — а иначе она бы и не существовала, — и не имеет над собою системы, выше ее самой стоящей.
Отсюда — движение и развитие, как в с е–челове- ческого, сверх–индивидуального разума, так и разума общ е–человеческого, индивидуального. Последнее легче обозреваемого вследствие малости масштаба и более или менее сознательного зиждительства; это–микро- косм. Но микрокосм соответствует макрокосму, — естественной, стихийной и непреодолимо–влекущей диалектики всечеловеческого сознания; филогения и онтогения, философское строительство индивида и исторические судьбы мировоззрения соответствуют друг другу
[433].
И в том, и в другом, — во всечеловеческом, и в общечеловеческом, — ряд искусов приводит, наконец, к построениям наиболее совершенным. Чтобы убедиться в их совершенстве непосредственно, чтобы нащупать его, полезно мысленно видоизменить построение, на опыте сделать пробу усовершенствования; тогда сейчас же обнаружатся несмычки и тем яснее будет оттенена внутренняя целостность, живая органичность прежней, н е измененной системы.
Таков путь, таково средство. Но этот путь и это средство имеют своею задачей выработать отношение мысли к ее содержанию, к тому, что уже не есть мысль. Однако, выработка этого отношения уже подразумевает наличность какого-то иного отношения; вырабатываемое знание предполагает какое-то иное знание. Это до–диалектическое знание несомненно имеется, т. к. если бы его вовсе не было, то не было бы повода начинать диалектического процесса. Если другое для мысли вовсе не дано д о мысли, то и мысли о другом не может возникнуть. Следовательно, наличность философского стремления ео ipso
[434] подразумевает некоторое д о–мысленное знание, знание бытия, — непосредственное, мистическое. Оно — не предметно; знающий не может говорить о своем знании, знает его, по слову Достоевского, «не ответчиво», но оно не может не иметься. Итак, подпочва диалектики — подсознательная мистика. Подобным же образом целью диалектики является новое отношение к другому чем мысль. Это, однако, не мысль только, не продукт рефлексии только, а проведенное через горнило мысли реальное отношение к иному, «соприкасание мирам иным». Это — сверхсознательная мистика, мистика, доведенная до ответчи- вости, до предметного знания об ином. Такая мистика может быть, по Соловьеву, называема «свободной теософией».
Итак, диалектика не есть ни начало, ни конец; по существу своему она середина, — является путем. Это в мировоззрении общем, но то же и в частном вопросе. Вот почему, приступая к диалектическому рассуждению, необходимо нам сказать сначала о том до–сознательном знании, о тех трепещущих и дрожащих всплесках жизни, о той темной первопочве, которая дается непосредственным отношением к личности Гамлета. Нам необходимо очеркнуть непосредственное знание «Гамлета» — знание корневое и нутряное, потому что из него только можно выплавить знание предметное. Из этой перво–поч- вы тоненькой ниточкой потянется диалектика
[435] и затем, дойдя до желаемой формальной чистоты, зажжет на верхушке коронку конкретного, цельного знания об интересующем нас вопросе.
II. — Эстетика
Тут пришлось повторять общеизвестное; но это все напомнить необходимо не только, чтобы лучше уяснить дальнейшее, но и для того, чтобы понятнее было то непосредственное впечатление от «Гамлета», на котором основываются наши соображения. — Эстетику, как и диалектику, можно называть наукой опытной. Сначала ощупью всечеловеческое сознание проходит ряд ступеней, проделывает ряд опытов над данным родом произведений; и тут оно убеждается в их недостаточности, в их противоречии с основными законами духа, воспринимающего эстетическое. Оно сравнивает данное произведение, данную эстетическую форму с критериями прекрасного. В результате — оно признает внутреннюю незаконченность данного произведения, и дух увлекается к сознанию новой формы — формы более совершенной. «Бродячие сюжеты» представляют хороший пример этого естественного, самопроизвольного движения всечеловеческого сознания по эстетическим ступеням; вспомним хотя бы эволюцию «Фауста»; она уже достаточно поясняет, в чем дело. — Мысленно воспроизводя эти опыты и располагая их в определенном порядке, мы убеждаемся в недостаточности, в незаконченности данной формы, данной попытки. Этим приводится в движение эстетическое сознание, и совершается переход к следующей, более совершенной форме.
Когда сознание достигло до формы наисовершеннейшей в рассматриваемом роде произведений искусства, то оно может окончательно убедиться в совершенстве этой формы, сделать «поверочные действия», произвести «контрольный подсчет», деформируя данное произведение. Сознание может испытывать разные усовершенствования; но непосредственно усматриваемая несовместность полученных результатов с основными законами прекрасного покажет, что деформированное произведение ниже не- деформированного. Производя всевозможные видоизменения, мы убедимся, что всякое деформирование дает ухудшение, понижение ценности, а отсюда будет следовать, что рассматриваемое произведение есть вершина, относительный максимум, — относительный, т. к. идя с самого начала иными путями, мы, может быть, могли бы прийти к чему-нибудь лучшему, но совершенно иному, произведению другого типа. Значит, из данного рода произведений наше — наисовершеннейшее, и далее идти некуда: в нем мы имеем кульминационный пункт. — Можно пояснить это еще иначе. Мы не имеем оснований считать действительность за нечто скованное однозначной и вполне определенной необходимостью. Вообще говоря, мы должны мыслить ее по крайней мере в известные моменты, как нечто, дающее свободу выбора. В таком случае от завязки трагедии к развязке ее, вообще говоря, можно идти множеством различных путей, всех равновозможных. Каждый из этих путей соответствует одной из мыслимых эстетических форм. Но среди всех путей имеется некоторый особенный, именно тем особенный, что впечатление трагического при нем наибольшее.
Нечто, связанное с ходом путей, при данном пути получает наибольшее значение. — Пусть попробуют изменить софокловского «Царя Эдипа», и тогда этот метод вариационного исчисления в применении к эстетике станет вполне ясным.
[436]Однако, чтобы наибольшее совершенство данного произведения по сравнению со всеми результатами его деформации было действительно воспринято, эстетически воспринято, а не выводилось бы из каких-нибудь посторонних соображений, для того, чтобы к произведению и его деформациям была на самом деле применена эстетическая оценка, примерка эстетическими нормами, необходимо для этого создать эти деформированные произведения, а не только говорить, как можно было бы сделать это, — создать хотя бы только в фантазии творчества, но, во всяком случае, вполне живо представлять результат деформаций.
Как там, в диалектике, недостаточность или достаточность системы обнаруживается действительным испытанием ее «умным» опытом, так и тут, в области эстетики, о несовершенстве или совершенстве произведения можно убедиться лишь опытом. — Таким образом, чтобы ясно создать совершенство произведения, надобно произвести вивисекцию его, убедиться, что все иное — хуже. Но для того, кто способен произвести оценку, — для живо воспринимающего эстетическое, — эта вивисекция нисколько не менее тяжка, чем вивисекция живого существа ножом чувствительного анатома или вивисекция души для любящего.
К счастью мы избавлены от такой необходимости: никогда не было недостатка в вандалах, экспериментировавших, того не ведая, над совершенными произведениями, в топорных руках они трещали по всем швам, и мы теперь можем сопоставлять действительно произведенные искажения, так называемые переделки великих творений.
III. — «Гамлет»
И «Гамлет», по счастью для нас, не избегнул тяжелой руки «усовершенствователей», так что имеется немало «исправлений». Размеры статьи и прямая цель ее не позволяют сопоставить их, не позволяют разобрать даже одного того «исправления», которое нельзя обойти молчанием, — «Гамлета» Сумарокова. Кроме специалистов теперь, кажется, никто не читает этого издевательства над Шекспиром. Жаль, очень жаль. Оно, может быть, лучше, чем что-нибудь другое, может разъяснить многие красоты «Гамлета» настоящего, может многое раскрыть в трагической необходимости и во внутренней связанности хода действия, — многое и высвободить из-под неопределенного наплыва смятующихся чувствований, распустить в гармонической сознательности.
Дадим, для примера, пересказ нескольких действий этой пьесы.
«Полоний, наперсник Клавдиев» вместе с этим последним и с Гертрудой виновен в убийстве отца Гамлета, о чем Гамлет узнает во сне; но Гамлет любит «дочь Полониеву» Офелию, так что чувство долга — отмстить Клавдию и Полонию — борется у него с мукой от предстоящего разрыва с Офелией.
Наполни яростью, о сердце! нежны мысли, И днесь между врагов Офелию мне числи! —
восклицает он, потому что
Я слышу глас ево (т. е. отца. — П. Ф.),
и в ребрах вижу рану: О сын мой! вопиет, отмсти, отмсти тирану
(т. е. Клавдию. — П. Ф.),
И соободи граждан.
«Арманс, наперсник Гамлетов» (у Шекспира — Горацио) советует мстить одному только Клавдию, но не Полонию, и тем не лишиться Офелии.
Суля природе дань, мать хочешь пощадить:
Не можешь ли любви того же сотворить?
Гамлет не соглашается. Тут входит Гертруда и начинает расспрашивать сына о причинах его взволнованности, на что Гамлет разражается обличениями. Гертруда тотчас же кается и, на совет Арманса заняться пустынничеством, заявляет:
На все готова я; я город оставляю.
Который мерзостью своею наполняю.
Но мню, что оскверню и жительство зверей;
Я тигров превзошла жестокостью своей.
Действие 2–е начинается с того, что Клавдий жалуется Полонию на всеобщую нелюбовь; под влиянием супруги он сознает свою преступность, но оставить престол не находит в себе достаточной силы.
Забудь и светские и Божески уставы. Ты царь противу их; последуй правам славы, —
упрашивает Полоний, и Клавдий решается идти на все преступления:
Но кая фурия стесненну грудь грызет?.. Не обличай меня; спасенья не хочу, И все что я сделал, то во аде заплачу.
И потому, «зря против себя супругу ныне львицей», решает погубить Гертруду и Гамлета, а сам — жениться на Офелии.
В 3–м действии Полоний уговаривает Офелию выйти замуж и, когда она узнает, что муж «вознесет ее на высокий трон», то радуется, думая, что речь идет о Гамлете. Однако Полоний объясняет, что это–не Гамлет; Офелия огорчается:
Мне, на престоле быть, иной дороги нет Инова дочь твоя супружества не ждет.
Полоний утешает ее: «Есть способ быть тебе, Офелия, царицей». Офелия возражает: «Нет больше способа, а я умру девицей!» Отец объясняет ей, что он имеет в виду брак с Клавдием, но Офелия пугается:
Наш царь?., супругом мне?., иль мы живем
в поганстве? Когда бывало то доныне в христианстве? Закон наш две жены имети вдруг претит.
Полоний объясняет, что Гертруда — преступница; Офелия не верит, чтобы «жена могла иметь, жена столь сердце злобно к супругу своему», на что получает возражение:
Колико б было то Полонию бесславно, Когда б он сон сказал тебе за дело явно!
Офелия наконец верит, но отказывается от брака:
Она еще жива; он ищет уж другой,
но Полоний, «злодей», высказывает сентенцию:
Подобье таковым младенцы рассуждают,
Которы все дела грехами поставляют,
И что безумие жен старых им втвердит,
Все мыслят, что то им в них совесть говорит.
Офелия резонится, но тогда начинаются иные разговоры:
Когда полезные советы я теряю,
Ты дочь, а я отец; так я повелеваю.
Однако дочка высказывает готовность пострадать за Гамлета. В этот момент вбегает последний с обнаженной шпагой и с криком: «Умрите вы теперь, мучители, умрите!» и требованием к Офелии: «Сокрой себя от Гамлето- вых глаз!» На последнее Офелия с неподражаемым хладнокровием заявляет весьма резонно:
Что сделалось тебе? И для чего мне крыться?
Что так понудило тебя на мя озлиться?
Гамлет отделывается восклицаниями и, на просьбы Офелии хоть из жалости утешить ее, будто передразнивая Шекспировского, отрезывает:
Нет жалости во мне немилосердном,
И больше не ищи любови в сердце твердом.
Затворены пути лучам очей твоих,
Не чувствую уже заразов дорогих.
Смотри, в какой я стал, Офелия, судьбине:
Я всеми напоен свирепостими ныне.
Нет надобности продолжать пересказ, так как и приведенное достаточно поясняет, в чем дело. Кончается трагедия успешной местью Гамлета и браком его на «дочери Полониевой»; добившись вожделенной цели, она обращается к принцу со знаменитой фразой:
Ступай, мой Князь, во храм, яви себя в народе,
А я пойду отдать последний долг природе
[437]причем под «долгом природе» надо понимать прощание с телом отца. — «Гамлет», кончающийся браком! Хочется сказать, что это — contradictio in adjccto
[438]. Сущность «Гамлета» трагична. Трагическая катастрофа предваряет действие, — на ней все основано, ею все определяется. Трагичен каждый момент в действии, не исключая и перекидывания шутками, как например, в сцене на кладбище; каждый момент оттенен этим началом до начала
[439] ‚ катастрофой родового сознания, которая находит себе внешний образ в семейных несчастиях датского королевского дома. Величавым трагическим пафосом веет развязка «Гамлета», и вовсе не потому только, что там умирают, а главным образом потому, что и она — не преодоление, не победа над раздвоенностью сознания, которая лежит в основе всего действия.
Еще до начала, до первого действия сцена затянута черным сукном, и траурное убранство не снимается даже после окончания пьесы. Еще до начала пьесы гибель героя неизбежна, и в этом–высшая правда, в этом- умиротворение. Недаром Гейне звал драмы Шекспира «светским евангелием»
[440]; недаром он видел в них «откровение тайн природы». Это — потрясающие откровения глубинной жизни мира, и ни одна буква, ни одна йота не может быть изменена в «Гамлете» безнаказанно.
Конечно, сценические условия имеют свое право — требовать изменений в пьесе; но эти требования обусловлены не внутренним смыслом произведения, а совершенно внешними и чуждыми эстетике соображениями. Вильгельм Мейстер, т. е. сам Гете, изменил текст «Гамлета» для сцены; но с какой болью делает он этот сценарий, и как осторожно, о сумароковской развязке уже предусмотрено. Помните?: «…я не могу оставить Гамлета в живых, когда вся пьеса ведет его к с м е ρ τ и… Публике хотелось бы, чтобы он остался в живых… Я охотно готов оказать ей всякую услугу, но это совершенно невозможно» — так же невозможно, как врачу невозможно спасти от смерти больного, умирающего от хронической болезни, — невозможно несмотря ни на слезы окружающих, ни на честность или на полезность больного для общества
[441].
Целостность «Гамлета» — единство всего произведения–даже в читателе или зрителе неподготовленном, читателе, узнающем впервые «Гамлета», пробуждает неизгладимый и потрясающий своей силой трагический пафос. Может быть, потребуется немало работы, чтобы осмыслить его, чтобы иметь возможность ответить себе или другому, в чем секрет этого трагизма; может быть, это даже останется неуяснимым и тем более не оправданным философски для данного читателя. Может быть. Но непосредственное впечатление трагического столь сильно, что даже малознакомый с эстетическими формами не задумается назвать «Гамлета» трагедией. Однако, это не потому трагедия, что тут умирают. Нет, ибо тогда и фарс, который заканчивается нежданным избиением всех действующих лиц был бы трагедией. Трагичность не в гибели, а во внутренней необходимости этой гибели, в подготовке ее всем предыдущим, а гибель не в смерти, а совсем в ином. Не случайно, механически обрывается жизненная нить героя, и гибель его — как последнее звено цепи, скованной из ряда ситуаций. Именно потому и производит «Гамлет» впечатление трагического, что он органически целен, что к гибели ведет не случайная причина, а та самая сила, которая обуславливает собою весь ход действия, что пьеса — постепенная гибель, что трагедия «Гамлет» — сама гибель
[442]. В этом–секрет того обаяния, которое имел и имеет «Гамлет», от своего создания и до наших дней. Бывали, конечно, отдельные голоса, вроде Фридриха Великого, «коронованного материализма», для которых произведения Шекспира — «странные чудовища английской сцены, которые преступают за пределы всякого вероятия и всякой пристойности». Но это было исключением, обусловленным предвзятыми теориями, а эстетика не может заниматься тератологией
[443] ‚ она занята нормальными эстетическими восприятиями.
Уже при жизни поэта «Гамлет» приобрел шумный успех у современников, сделался столь же популярен в низших слоях общества, как и в высших. Величайшая популярность трагедии видна, между прочим, из того, что старинное издание in quarto
[444] было повторено несколько раз с небольшими изменениями, что часто появлялось издание второго in quarto и что у писателей XVII века встречаются многочисленные намеки на пьесу. Видно, например, что Дух Гамлета сделался термином сравнения, вошел в притчу, как это случается с модными вещами; хотелось выразить чрезмерную бледность, это — бледность, как у Духа Гамлета, жалобный тон — пищит, как Дух: «Hamlet, Revenge».
[445] Необычайную популярность трагедии можно охарактеризовать еще следующим фактом
[446]: до нас дошел корабельный журнал за 1607 г. — т. е. времен, непосредственно следующих за обнародованием трагедии (1602?) — некоего корабля Дракон, встретившегося у западно–африканских берегов с другим английским кораблем — Гектором. Вот замечательная выдержка из этого журнала: «Сентября 5 дня (у Сиерра–Леоне) я, — пишет капитан Дракона, Килинг, — в ответ на приглашение, послал на Г е к τ о- р а своего представителя, который там завтракал; после этого он вернулся ко мне, и мы давали трагедию о Гамлете. — (Сент.) 30. Капитан Гокинс (капитан Гектора. — Я. Ф.) обедал у меня, после чего мои товарищи играли Ричарда Второго. — 31 (?). Я пригласил капитана Гокинса на обед из рыбных блюд и велел сыграть на корабле Гамлета, что я делаю с той целью, чтоб удержать моих людей от праздности, пагубной игры и сна»
[447] — Вспомним, далее, то труднооценимое влияние, которое имел «Гамлет» на германскую драматургию и на германское самосознание. Это — первая из шекспировских трагедий, проникшая на немецкую сцену jl открывшая, по ело- вам Женэ, новую эпоху в развитии немецкого театра
[448]. Впечатление его было сильнее, чем впечатление от какого бы то ни было драматического произведения, и стоит только вспомнить целую плеяду захлебывавшихся в восторгах критиков и комментаторов, чтобы увидеть это. Шекспировские драмы, по словам Гёте, это — волшебный фонарь неведомого мира. Заглянуть в него–и охваченный потоком великого гения забываешь себя и тонешь в необозримом море. Никакая книга, никакой человек или событие не действовали на него, Гӧте, так сильно, как «драгоценные пьесы» «этого изумительнейшего и необычайнейшего писателя». «Они кажутся произведениями небесного гения»
[449]; а по словам Гейне, миссия Шекспира — «совершать откровение тайны природы…».
Мы хотели дать некоторые указания на то, что «Гамлет» производил и производит сильное трагическое впечатление. Конечно, лучше всего в этом убеждался всякий непосредственным личным опытом; поэтому, прежде чем приступать к нашему разбору, напомним двумя–тремя штрихами тот бурлящий и перепутанный поток, который остается в душе после «Гамлета»; нам даже нет нужды обозревать всю пьесу, а достаточно вспомнить самое начало: а дальнейшее припомнится само собою…
«…Нарекли мы нашею супругой королеву, бывшую сестру нашу с радостью как бы подавленной, с веселием в одном глазу, с слезой — в другом, с ликованием на похоронах, с заупокойною песнью на свадьбе, развесив поровну восторг и горе».
- Так ли? Плохо скрытая радость–да; но горе? или расчет? остатки похоронного обеда пошли, холодные, на свадебный…
«…Это общая участь: всему живущему суждено уж умирать, переходить из этого мира в вечность».
- Общая, общая участь…
«Самое обыкновенное из всего, что мы видим. Так должно быть, Гамлет».
— Человек он был, был все во всем… В очах души моей вижу его.
Должно быть!..
«Твоя Мать, Гамлет…»
- Мать… Матушка… Через месяц она замужем за этим сатиром…
«Но мир…»
- Гадок мне он, мир этот. Сад, осеменяющийся без выпалывания, заглушаемый грубым бурьяном… Надрывайся, сердце!.. Брр… Холодно, воздух порядком пощипывает. «Выстрелы?»
- Хвастливый выскочка король одурманивает голову.
Уже час?
«Вы ужаснетесь, принц».
- Весьма, весьма возможно.
«Идет!»
- Ангелы, силы неба, защитите нас!.. Свежо… Он молчит. Все молчит… Дух ты благости, или проклятый демон, несешь ли веяние неба, иль вихри ада, гибельны, или благодатны твои умыслы, ты являешься в таком вызывающем виде, что я должен говорить с тобой; готов назвать Гамлетом, королем, отцом, властелином Дании — о, отвечай же мне, не оставляй в убийственном неведении! Скажи, зачем твои святые кости, схороненные смертью, разорвали твой саван? зачем могила, в которой мы видели тебя так покойно лежащим, разверзла свои тяжелые, мрачные челюсти, чтоб извергнуть тебя? Что может это значить, что ты, безжизненный труп, снова, в полном вооружении, озаряешься лучами месяца, наполняешь ночь ужасами и нас, глупых смертных, потрясаешь так страшно недоступным нашему разумению? Скажи, зачем это? для чего? что должны мы делать?..
«…Серный мучительный пламень… Не будь запрета рассказывать — легчайшее слово рассказа растерзало бы твою душу, заморозило бы юную кровь твою, заставило бы оба глаза выскочить, подобно звездам из сфер своих, растрепало бы волнистые кудри, поставило бы каждый волос дыбом, как иглы сердитого дикобраза; но вечные эти тайны не для ушей из тела и крови… Слушай, слушай, слушай!.. Если любил — отмсти… Король…»
- О предчувствие! дядя?..
«Он… Пахнуло утром… Он… Светляк возвращает уж близость утра: бледнеет холодный блеск его… Прощай, прощай… Помни, помни обо мне, Гамлет…»
- «Помни…» Не забуду, бедный дух… Сотру со скрижалей памяти все вздорные пустые заметки, все книжные поучения, все впечатления прошедшего. Забуду обо всем, чтобы помнить о тебе, бедный дух, отец, Гамлет, монарх… О, гнусный изверг — улыбающийся на своем украденном троне…
«Принц, принц… Что, принц? Что было с вами? А? Расскажите, принц… не разболтаем…»
- Клянитесь…
«Клянитесь. Клянитесь. Клянитесь…»
— Время вышло из пазов — сошло с колеи своей· Проклятие тому, кто должен водворять его на место.
IV. — Схема Гамлета
Гамлет и безволие, Гамлет и чистая рефлексия — эти сочетания, кажется, стали уже тривиальны. Представление, что у датского принца атрофирована воля, едва ли менее распространено, чем представление о венецианском Мавре как о типе ревнивца. Однако, Гамлет так же мало безволен, как Отелло — ревнив. На последнее уже указывал Пушкин
[450]; теперь необходимо защитить датского принца от «общественного мнения».
В настоящее время покажется дерзким говорить о Гамлете; но тогда еще более дерзко — нахально — заговаривать против трагизма. Однако и прежде всего имеется один несомненный факт, который не уживается с труизмом о безволии Гамлета. Факт этот — указанное выше непосредственное впечатление от произведения «Гамлет» как от трагедии.
Пьеса «Гамлет» не только названа трагедией, но и есть трагедия; этим я хочу сказать, что, независимо от всяких теоретических взглядов, она производит впечатление однородное с впечатлениями от заведомых трагедий, хотя бы трагедий, хотя бы того же Шекспира, например, от «Короля Лира» или от «Макбета».
С первой строчки — заглавия — когда мы прочли: «Трагическая история Гамлета, принца датского» и видим, что пьеса должна быть трагедией, и до последней, когда мы, закрывая книгу, помимо всякой рефлексии и анализа произведения говорим: это есть трагедия, — через все произведение тянется как основное настроение — настроение трагического, трагическим пафосом дышит пьеса. Вот этот несомненный факт и должен служить нашей исходной точкой.
Трагедия прежде всего требует всего действия
[451]. Если рассматриваемое произведение есть трагедия, — а оно таково, — то в нем должно быть действие, и точка, куда направляются все события, реальный центр отпора этим событиям, герой — Гамлет. Он должен действовать.
Допустим, что Гамлет, действительно, безволен, что он только воспринимает и отражает действительность, но не определяет своего соотношения с нею волевыми актами достаточной силы. Тогда окружающие явления проходили бы через Гамлета как через безличную и безразличную для них среду. Не объединяясь между собою центром отпора, одерживая победу над тем, что им не сопротивляется, эти явления тем самым не могли бы стать событиями; ведь явления вследствие того только и переходят в события, что простое временно- пространственное единство их, — единство от простого существования в пространстве и от простой последовательности во времени, — скрепляется внутренними связями, связями совместного целесообразно–организованного действия, скрепами взаимной, внутренней обусловленности. В частном случае трагедии вся такая система явлений становится рядом событий, когда она имеет целью разрушить некоторый центр волевых актов, противостоящих гибели центра.
При безвольном герое Гамлете в пьесе не может быть событий, следовательно, нет действия и нет трагедии: действие требует активности героя. Если Гамлет безволен, то вместо трагедии «Гамлет» у нас получается «пучок явлений», распределенных на 5 актов под общей этикеткой «Гамлет». Ведь, очевидно, что на Обломове или Тентетникове трагедии не построишь; с ними, как героями именно, может быть ряд «явлении» или «выходов», в лучшем случае возбуждающий жалость, да и то не без чувства досады.
Но ведь «Гамлет» трагедия? — Трагедия. Значит, Гамлет не может быть безвольным. Тут-то и подымается некоторое «однако», и оно основывается тоже на непосредственно воспринимаемом. Именно, принц датский не производит и, по–видимому, не может производить воздействий на окружающую обстановку; он не предпринимает никаких действий, не находит в себе сил предпринять их.
Недаром Горацио, воспринимающий фактическую сторону и беспристрастным тоном хора поведавший о фактах, которые составляют внешнее содержание «Гамлета», но не выражают его внутренней сути, недаром он заявляет: «Вы услышите дела срамные, кровавые, чудовищные, решения случайные, убийства нечаянные, казни коварно задуманные и вынужденные обстоятельствами, и в заключение, как неудавшиеся замыслы обратились на главы самих злоумышленников…» Для человека, воспринявшего только факты, «Гамлет» есть именно «дела», «решения» — чистое множество случайных элементов; для такого–нет центра действия.
А раз так, то отсюда прямой вывод, что датский принц — безволен.
Указанные обстоятельства: «не может быть безволен» и «есть безволен», оба несомненные, противоречат друг другу; но т. к. они не могут быть оба зараз верными, то их взаимное исключение должно быть кажущимся, мнимым и значит, противоречие должно быть присущим не подразумеваемому содержанию обоих суждений, а несоответственной форме выражения их. Давая форме выражения более законченный вид, мы устраним кажущееся противоречие. Итак, мы можем сказать: безволие Гамлета как-то существует и как-то не существует; существует в одном смысле и не существует в другом. Именно, как мы сейчас увидим, Гамлет безволен в отношении для другого и не безволен в себе и для себя.
Безволие Гамлета есть, но оно есть призрачное безволие, т. е. другими словами, у Гамлета имеются волевые акты, но они не таковы, чтобы обнаруживаться вовне действиями. Однако, всякий акт должен быть на что-нибудь направлен; значит, если акты Гамлета не направлены на внешнее, то они должны быть направлены внутрь, т. е. друг на друга. Но акт, направленный внутрь, может быть направлен только на акт, ему противоборствующий, на акт антагоничный, чтобы снять этот последний, нейтрализовать его; поэтому волевые акты Гамлета должны быть направлены друг против друга, должны, так сказать, интерферировать между собою и взаимно парализовать друг друга.
Ясно, что такие акты, как бы ни были они напряженны, не могут быть актами для другого; но в себе и для себя они — подлинные волевые акты. Можно уподобить. их внутренним силам механики; как бы ни были они напряженны, они ни малейшим образом не изменят движения центра тяжести системы. И действительно, действие «Гамлета» состоит в борьбе актов; но это — действие, не проявляющееся вовне, а то, что проявляется вовне, — явления, — это есть движение от внешних сил, действие по внешним поводам, безвольные, чуть что не рефлективные порывы действующих лиц.
Таков формальный характер актов Гамлета. Но волевой акт определяется мотивами. Наличность противоборствующих актов указывает на наличность противо^ борсгвующих мотивов. Однако, мотивы прямо противоположные не могут совместно находиться в одном сознании; единство сознания исключает возможность этого. Значит, наличность взаимно исключающихся актов воли требует наличности двух несовместных сознаний, и этим глубокая трещина раскалывает личность.
Однако, будучи взаимно исключающими, сознания Гамлета, маски его, не могут быть даваемы зараз in actu, в действительности. Если бы это случилось, то было бы две разные личности и в таком случае не было бы основания актам вступить в борьбу; они протекали бы совместно, и никакой трагедии не было бы. Тогда вместо одного героя Гамлета получилось бы два различных Гамлета, — не–героя, сосуществующих между собою; тут, поэтому, должно быть одно существо и две ипостаси его, две личины, две маски.
Значит, раз оба сознания Гамлета не даны in actu, то по крайней мере одно из них должно быть in poten- tia, в возможности. Но т. к. какое-нибудь сознание всегда должно быть in actu, то именно и выходит, что одно сознание дано in actu, другое–in potcntia. Какое же именно? Какое бы то ни было дано in actu, все равно, если только оно дано так, а другое всегда остается in potentia, то нет и не может быть борьбы актов. А раз так, то оба сознания должны бывать in actu и, следовательно, оба должны бывать in potentia.
Но, как сказано, они не могут быть оба сразу in actu. Значит, in actu они бывают одно за другим. Однако, если бы они были даны так, что по окончании некоторого периода одно сознание переходило бы in potentia и вполне сменялось другим, то было бы два различных лица, последующих одно за другим, но не один герой, — два различных лица, сменяющих одно другое во времени, т. е. два последующих не–героя.
Итак, борьба состоит в альтернативной, попеременной смене взаимно исключающих сознаний героя, происходящей таким образом, что одно сознание сменяется другим прежде, нежели первое успеет проявить себя в действии. Чередование снимающих друг друга актов и происходящее отсюда взаимное уничтожение их — вот что создает действие «Гамлета».
Мы пришли к заключению, что трагичность гамлетовского положения обусловлена глубокой расколотостью его сознания, корневой двойственностью его. Но сознания одной личности, взятой чисто формально, ничем не разнятся между собою; формальное единство сознания исключает возможность формальной двойственности его, а последняя, если бы она была возможна, то могла бы основываться исключительно на нумерическом различии сознаний. Поэтому наличность двоякого сознания указывает на наличность соответственно разнящихся что сознаний, содержаний той и другой формы сознания. Сущность трагического в Гамлете может быть понята, когда анализ вскроет, что это за содержание сознаний и в чем их разница. Однако, это возможно не ранее чем будет установлено яснее, чем именно наша трагедия разнится от обычной трагедии; такое разъяснение может быть получено из более проникновенного вскрытия самой борьбы.
Впечатление трагического производит борьба, но не борьба вообще, не всякая борьба, а борьба интенсивная и развивающаяся. Если трагедия основана на внешней борьбе, борьбе проявляющихся в виде действий актов с внешними, враждебными силами, то интенсивность борьбы требует мощности вступающих во взаимодействие сил, а развитие ее — приблизительной уравновешенности борющихся сил, т. к. значительное преобладание одной из сил сразу, без развивающейся борьбы, повело бы не к развязке, а к простому прекращению борьбы за истоща- нием средств для нее. Далее, борьба эта может быть и может не быть; но если она есть, т. е. если есть трагедия, на ней основанная, то она есть необходимо. Роковым последствием этой борьбы является гибель героя; но гибель непременно должна быть следствием борьбы и притом развивающейся: неожиданная смерть от случайной пули или нежданная гибель от удара молнии не трагична; если веселая процессия на улице внезапно приводится в беспорядок черепицей, упавшей с крыши и расшибающей кому-нибудь голову, или разрывом сердца одного из ее участников, то тут нет ничего трагического. Необходимым условием трагизма является неотвратимый нарост ужаса, развивающегося, подымающегося, накатывающегося
[452].
Такова должна быть борьба внешняя, основывающаяся на взаимодействии воль различных личностей; она будет такой и при наличности страсти или страстей, потому что для впечатления они имеют значение лишь постольку, поскольку сказываются проявлениями, вовне, — поскольку они являются импульсивными агентами: если страсть безусловно снижена в своих проявлениях, если она никак не может воздействовать на внешний мир, достигая желаемого, то такая страсть не годится для трагедии.
Но рассматриваемое произведение совсем иного типа.
Не забудем, что в нем нет внешней борьбы, что акты воли там не проявляются в действиях; принципиально говоря, мы можем мысленно устранить все, кроме самого Гамлета, — трагедия останется трагедией, потому что внешний мир является для Гамлета скорее возбудителем двух сознаний, чем объектом воздействий; внешнее более воспринимается и созерцается, нежели подвергается воздействиям. Одним словом, в нашей трагедии нет внешней борьбы, если же и есть отчасти, то она не трагична сама по себе, потому что Гамлет не сопротивляется Клавдию, а Клавдий не знает о действиях против него со стороны Гамлета, и действия его поэтому попадают в пассивную среду; если Гамлет что-нибудь делает, то все это является случайным и не преднамеренным, как например, убийство Полония, влекущее борьбу с Лаэртом.
Таким образом, трагичное в рассматриваемой пьесе есть и только и может быть одно — внутренняя, вовне не обращенная борьба в принце. «Гамлет» — это диалог двух сознаний в датском принце, борьба их, раздирающая несчастного принца. А с точки зрения сценической, с точки зрения постановки, можно сказать, что «Гамлет» — один гигантский монолог.
Вот эта-то исключительность и особенность трагедии заставляет вникнуть в то, какие же именно содержания у обоих сознаний Гамлета и в чем их особенности. При этом уже a priori
[453] можно утверждать, что они не могут быть чем-то неглубоко затрагивающим дух и чем- то случайным для него. Серьезность борьбы заставляет искать источник ее не на периферии сознания, не в области мимо идущих поверхностных волнений духа, а в корнях его, в недрах, наиболее тесно связанных с самым бытием духа.
Всякая борьба, если она трагична, то она не может быть случайна; она должна иметь внутреннюю необходимость, независимо от желания или нежелания автора трагедии и читателей ее прекратить ее ход, или не дать ей возникнуть. Если есть трагедия, то отсюда с роковою необходимостью следует выставленная в ней борьба и притом именно в раскрытой художником форме, как производящей максимум трагического впечатления. — Только неминуемая борьба, борьба действительно, неустранимая и заканчивающаяся таковой же развязкой — а она есть борьба необходимая — может произвести впечатление трагического.
В рассматриваемом случае трагичность обусловлена
становлением и борьбою взаимно исключающих актов. Чтобы эта борьба была необходимой, должны быть необходимы для сознания акты, т. е. они должны быть не случайными явлениями духа, а должны оправдываться, как таковые, для сознания в своих мотивах. Но мотивы, взятые в отдельности, всегда случайны. Необходимыми они становятся тогда и только тогда, когда вытекают из принципа, данного сознанию как безусловный и в себе оправдываемый. В самом деле, ведь борьба в Гамлете не есть борьба простых, фактически данных сил; такая борьба не могла бы не проявляться вовне; нет, борьба в Гамлете есть борьба сознаний, а сознание только тогда и лишь постольку становится силою, поскольку оно внутренне сильно, т. е. оправдываемо через принцип. Каждое из сознаний Гамлета должно, значит, относиться к некоторому безусловному принципу и воспринимать его как таковой: в противном случае он не мог бы оправдать мотивов для сознания и для него сам стал бы только фактически данным.
Однако, безусловный принцип воспринимается сознанием как таковой тогда и только тогда, когда он всецело определяет собою сознание, так что не может быть уже никаких частных содержаний сознания в себе, изолированно, но каждое относится определенным образом к тому принципу, безусловному. Сознание в таком состоянии, — заполненное безусловным принципом, всецело определяющим содержание сознания в отношении должного, — есть сознание религиозное, ибо оно relegit
[454] личность, субъекта сознания, с субъектом безусловного принципа–с богом.
Таким образом, мы приходим к заключению, что у Гамлета должны сосуществовать два альтернативно выявляющиеся сознания, — две маски, поочередно выныривающие из глубин духа, — и оба они всецело заполнены, по крайней мере в моменты высшего напряжения, богом; этот принцип определяет собою правду, нормы у того и другого сознания, он направляет собою жизнь духа. Отсюда следует, что Гамлет должен обладать двойным религиозным сознанием, — для Гамлета должно быть два несовместимых бога.
Если борьба внутренняя, то правда, борющаяся с неправдой не даст зрелища трагического. Ведь если нет злой в о л и, — а таковая исключена самим признанием борьбы за внутреннюю, — то тогда неправда сильна
только бессилием правды; не могут тогда они быть сильными совокупно, и если сильна одна, то бессильна другая, и наоборот; а это не создаст борьбы.
Если нет речи об эгоистическом самоутверждении личности, хотящей неправду сделать правдой и тем сообщающей первой известную силу для борьбы, то неправда безоружна перед правдой. Тут нет и не может быть борьбы: неправда без самоутверждения личности добровольно положит оружие. Если же ёсть то, что сообщает силу неправде, если есть самоутверждение, то происходит уже не борьба правды с неправдой, как таковою, а с тем, что прикрывается последнею–со злою волею, страстями и т. п., и тем самым борьба выявляется наружу, т. к. злая воля — и страсть стремятся к внешнему, и проявляет, или старается проявить, себя вовне.
Трагизм состоит в борьбе двух правд; только такая борьба неизбежна, интенсивна и раскрывается постепенно в действии. Трагизм состоит в несовместности одной правды с другой правдой же.
Итак, Гамлет одержим борьбою двух принципов, владеющих недрами его сознаний. Борьба богов — вот что вызывает в глубинах духа альтернативную смену религиозных сознаний; теомахия — вот истинное содержание «Гамлета» и его нутряное, глубинное действие. Корни трагического проходят через личность Гамлета далеко, в область религиозных переживаний, и это обстоятельство, не воспринимаемое, быть может, зрителем вполне отчетливо, не опознанное им ответчиво, не переживаемое предметно, — это обстоятельство и вызывает мистический ужас при созерцании «Гамлета». Шекспир сдергивает покровы с таких глубинных процессов в развитии духа, о которых сами мы, переживающие их, почти не догадываемся, порою даже стараемся не догадываться. Он ведет нас к черным расселинам и бездонным провалам сознания, житейскими словами; он бередит едва сросшиеся раны хаоса; кажущейся реалистичностью ой прикрывается от нашей пугливости, а потом, успокоив ее, заставляет нас заглянуть в такие тайны, которые страшно узнавать живому человеку. Подымается волос дыбом, безумно тоскующим криком несется из бездонностей сознания указание на тайны неизглаголанные, тайны тех областей, откуда нет возврата, и гулким эхом тысячекратным ширятся вскрики.
Однако, безусловный принцип по самому существу своему, в себе- един; следовательно, те два взаимно–исключающие принципа, о которых мы говорили ранее, — они должны быть не самим Принципом, моментами, аспектами его для другого. Однако, эти моменты взаимно исключаются между собою. Раз так, то они не могут быть просто сторонами того принципа, характеризующими тот принцип как готовый: тогда бы они не исключали друг друга, а восполняли и прекрасно уживались между собою. Их исключительность указывает на то, что эти моменты Принципа определяют собою исключающие взаимно состояния Принципа; но т. к. такие состояния принципа суть диалектические моменты его развития — звенья теогонического процесса, то отсюда следует, что два принципа Гамлета суть два последовательных звена теогонического процесса. Таким образом, двум сознаниям Гамлета даны два последовательные звена теогонического процесса.
Каковы бы ни были изменения в содержании сознания, — оно развивается без принципиального изменения, покуда принцип, сознание определяющий, остается один и тот же; тут сознание крепнет, растет, обогащается, но оно не претерпевает ломок. Этим развитием сознания определяется период времени в истории. Но, когда принцип заменяется следующим звеном теогонического процесса, тогда начинается новый исторический период. Будучи качественно отличным от предшествующего, будучи существенно новым, он по необходимости не может постепенно сменять предыдущий период: он по необходимости сменяет его разом, прерывно.
Впрочем, изменение принципа обусловлено не тем, что меняется сам Принцип: в нем его диалектические моменты даны зараз. Изменяется принцип от изменения в духе, имеющем то или другое сознание. Изменение его вызывает и изменение отношений к Принципу, а потому и восприятие иных диалектических звеньев теогонического процесса. Изменение духа и составляет главное в историческом процессе. Гамлет, как имеющий два принципа, есть человек, попадающий на рубеж двух периодов; он попадает в перелом, в кризис духа. Два сознания–две правды, Гамлет не имеет права и не может признать одну из правд — неправдой, обе же они для одного сознания несовместимы. Датский принц по необходимости должен разрываться, и единственный выход из этого — гибель; но, сознавая ту и другую правду за правду, Гамлет не имеет права убегать от разрешения их спора, следовательно, не может сам положить конец трагическому конфликту двух правд. Гамлет должен не погубить себя, а погибнуть, и в этом — трагичность пьесы.
Переходность Гамлета — вот разгадка его; Гамлет — жертва исторического процесса и в то же время наблюдатель самого интересного места его, самого бурлящего водоворота. На нем, на этом «слишком раннем предтече слишком медленной весны»
[455] — ответственность за мировое дело, и он гибнет, не будучи в состоянии выполнить непосильную миссию — преждевременно перевести человечество к новому религиозному сознанию. Гамлет гибнет за то, что он — неудавшийся пророк. Но чего?
V. — Личность Гамлета
Чтобы ответить на этот вопрос, мы напомним о существовании другой трагедии, тоже изображающей кризис религиозного сознания, — об «Орестейе» Эсхила. Сопоставление этой трилогии с «Гамлетом» уже многократно само собою напрашивалось критикам, и тут, действительно, есть много черт сходства. Но, хотя на них шекспировская критика указывала уже, однако самое главное не было подчеркнуто с достаточной силой; а в этом главном сходстве содержится и главное различие, последнее и делает «Гамлета» существенно новым.
Помните ли слова стража
[456], дежурящего на кровле Атридов, — слова, чуть что не начинающие трагическое действие? «Как прежде, и теперь, — говорит он, — не хорошо в дому!»
[457] И, будто повторяя своего древнего сослуживца, Марцелло, страж на террасе Гамлетова дома, замечает: «Нечисто что-то в датском королевстве» (Д. ї, сц. 4), а по более точному переводу, «подгнило»: «Есть какая-то гниль в Дании». Эти два замечания, резюмирующие глас народа, чрезвычайно важны.
Конечно, ближайший и непосредственный смысл этих утверждений относится к тем страшным преступлениям, которые неминуемо должны раздавить обе династии, — Атридов и датский королевский дом. Мы не говорим о пустоте, испачканности и распаде всей жизни; преступления более тяжкие падают на головы их: убийство благородного и высокого человека усугубляется братоубийством, мужеубийством, цареубийством, узурпацией власти, кровосмесительством, рядом измен, цепью коварных казней, словом, нарушением всех божеских и человеческих норм, всех нравственных и естественных отношений и связей. Конечно, вся эта система преступлений заставила подгнить и ту, и другую династию, сделала дом царский нечистым. Но это — не все.
Вся смутно чувствуемая, но томительная тревога стражей, весь ужас слов их идет глубже и дальше, чем простое констатирование преступлений.
Что предвещает нам его (т. е. Духа. — П. Ф.) явленье -
Я не могу сказать; но по всему
Мне кажется, что Дании грозит
Переворот ужасный…
Земля и небо ниспослали……знак переворотов страшных,
Предвестника грозящей нам судьбы.
Близко великое падение, великие перевороты. Но и не это–самое страшное. Страшны не обстоятельства, которые делают возможным великое падение, страшна расшатанность в более глубоких слоях действительности, — гнилость корней страшна. Пусть сдергивают пестро–затканные покровы, пусть сумятица уничтожит одежды! Но когда стражи намекают, что за покровами мы не увидим ничего, кроме черной трухи из гнилого ореха, то тогда есть от чего содрогаться.
Грядущие перевороты — только симптом основной, «центральной» гнилости. Подгнили не только люди с их личной волей; подгнили не только внешние порядки; подгнило не только исполнение правды, — сама π ρ а βλ а подгнила, подгнил принцип жизни, подгнил, страшно сказать, б о г, и пустыми очами глядит в такие моменты серое небо. Безверье — охлажденье — равнодушье. Бог перестает быть безусловной правдой для сознания, бог делается нечистым, бог готов перейти не сегодня–завтра в нечисть, побораемый новыми порождениями теогонического процесса, прикрывающий свое бессилие хмурой маской небесных покровов. Но тут назрела религиозная революция, лучше сказать, [„.]
[458] переворот на небе. Вспыхнет борьба, озарятся серые облака красными вспышками молниевых ударов. Колеблются престолы, новое молодое племя рвется к мировластительст- ву, вырывает скипетры и державы. А старые боги готовы пасть в черный Тартар, чтобы колебать оттуда почву
нового религиозного сознания. Темной нечистью ех–боги станут подыматься из бездонностей; мрачными Духами, — так напоминающими былое, когда-то милое, станут тревожить молодое миросозерцание. Генерация небожителей, оттесненная от власти над сознанием, превращается в свое противоположное; носители правды делаются нечистью. Это слишком хорошо известное явление в генезисе религии, чтобы стоило распространяться о нем, и его мы видим в «Орестейе».
Все религиозное развитие идет тут внутри родового сознания. Носитель правды — род; родовой уклад, родовое начало — это безусловный принцип для сознания. Но гинекратия сменяется андрократией, матриархальный уклад — патриархальным. Безусловное — род; но кто в роде — представитель его, мать или отец? Если безусловным началом является материнское право, то для Ореста нет суда над матерью, и для него–она права. Но материнское право подгнило; безусловная правда матери сделалась нечистою, и новая правда, молодая правда отцовского права бурно вытесняет старую. Спокойствие наступит тогда только, когда борьба закончится, когда новая религиозная идея, с задором кипучей энергии, сможет воскликнуть, как в «Персах» Тимофей:
Старых песен я не пою, — мои молодые сильнее.
Нам юный Зевс повелитель,
А дреале царствовал Ҟронос.
Но, покуда этого еще нету, покуда происходит тео- махия, покуда темными призраками копошатся осколки прежней правды, или, наоборот, покуда под старой кожей впервые шевелится новая правда, новая мощь–до тех пор сознание глубоко трагично, насквозь пронизано трепетным смятением.
И покуда обе правды — все еще правды, покуда правда подгнившая и правда недоразвившаяся борются между собою, — стонет и мучается надвое разрываемое сознание, надвое разрывается сердце, две души живут в груди. Потеряв живое знание древней правды, едва чувствуя новую, люди преступают уставы той и другой. «О, страшное это состояние! Грудь черна, как смерть! Погрязшая душа силится освободиться и вернет еще больше…» Напрасно, совершая преступления, ждут помощи от неба. Напрасно молятся: «Слова возносятся, а мысли — на земле, слова без мыслей никогда до неба не доходят». Прежняя доблесть — доблесть викингов, доблесть сильных и высоких духом представителей родового сознания исчезла, и «добродетель должна просить прощенья у порока».
Но те, кто не имеет в такое время никакой правды, те, чьи молитвы тяжелыми могильными комьями падают обратно, — они счастливы сравнительно с другими, проснувшимися в гробах преждевременно. Горе неудачным пророкам, горе нарушающим тишину склепа возгласами о правде, которой они сами еще не имеют. Не вполне сознавая, что они подсматривают за великой тайной — за тайной рождения новой правды, не будучи в состоянии отрешиться от прошедшего, мучаясь, колеблясь, спотыкаясь и падая, они вынуждены идти, все идти, изнемогая под непосильным бременем; и тяжкое шествие их — роковая внутренняя борьба — рано или поздно будет прекращено гибелью, поломкою, если только не спасет их сверхъестественная Сила.
Таков Орест, таков же Гамлет. Время вышло из колеи своей, подгнило в религиозном сознании народа, и горе принцу, рожденному на то, чтобы перевести время на правильную дорогу, чтобы либо произвести революцию сознания, либо суметь затормозить его и вернуть на прежний путь.
Слишком тонко организован, слишком глубоко чувствует, слишком умен, чуток и высокообразован принц датский, чтобы не замечать гнилости религиозного сознания: но он недостаточно гениален и самобытен, чтобы смочь хотя бы лично для самого себя отбросить, как негодную тряпку, прогнившее, вступить в новую фазу жизни. А с другой стороны, он недостаточно груб для того, чтобы со спокойствием рыцарственно- благородного Фортинбраса, пирата царской крови, последнего могикана вымирающего язычества, оставаться при старом. Отсюда происходит, что новое сознание — совесть — парализует старое — храбрость. «Так всех нас совесть делает трусами, так блекнет естественный румянец решимости от тусклого напора размышления, и замыслы великой важности совращаются с пути, утрачивают название деяний» (Д. III, сц. 1). Желая стать новатором, Гамлет делается консерватором; и наоборот, консерватизм перебивается новаторством. Но тогда встает прежнее сознание, Дух прошлого выходит из могилы и тревожит едва рождающуюся новую правду. Чередование нового и старого, тезиса и арзиса, ослаблений и подъемов — такова система трагедий.
Гамлет кипит; Гамлет несется в страстном монологе, закусив удила, — громами и едкими сарказмами и порывами внезапного гнева он способен уничтожить все, попадающееся на пути, все противящееся. Но
…мгновение — и он, как голубица,
Родив на свет детей золотоперых,
Опустит крылья на покой (Д. V, сц. 1).
Эта порывистость заставляет Гамлета обвинять себя в слабохарактерности, и с легкой руки его многие критики слишком всерьез приняли такое обвинение и заключили, что Гамлет — слабохарактерен. Но ведь не говоря уже о ригоризме Гамлета по отношению к себе и к другим, нельзя не отметить, что мы имеем в пьесе целый ряд факторов, доказывающий противное.
Несмотря на внутренние и внешние препятствия, он упорно «идет против рожна», неутомимо думает о своем деле — о мести. Моментами, когда одно сознание не парализуется другим, он совершает стремительные действия и энергичные поступки, доказывающие ловкость, храбрость его, — его находчивость и смелость. Он первый входит на судно пирата; он закалывает Полония, подменяет с опасностью для жизни указ и отправляет своих палачей на казнь; он терзает мать и Офелию, «надвое разорвав им сердце», казнит короля, дважды вступает в борьбу с Лаэртом и т. д.
Но после каждого подъема начинается движение вспять. Бурный разговор с матерью вызывает смятение, убийство Полония — раскаяние, борьба с Лаэртом — уныние; можно сказать, что каждая вспышка его заканчивается опустошенностью души. Действия Гамлета импульсивны и порывисты, проявление внутренней жизни внезапно и резко. Или же, если на него успеет нахлынуть волна второго сознания, то действия разрешаются в абстрактные тени размышлений о них.
Вот почему напрасно искать целого в поступках Гамлета, какой-нибудь связной обдуманности. Это — разрозненные, внезапные и отрывочные вспышки, бесследно тающие для дальнейшей деятельности. Деятельность, — «деяния», по слову Гамлета, — распалась, и остались одни только действия. «Время вышло из пазов; о, проклятие судьбе, что родился на то, чтобы сплачивать его» (Д. I, сц. 5). И это говорит не один только Гамлет. Это, очевидно, — общее мнение, раз Клавдий, король, заявляет публично: «Нужно вам знать, что юный Фортинбрас… полагая, что со смертью дорогого нашего брата государство наше расшаталось, вышло из пазов, увлекся этим благоприятным обстоятельством…» (Д. I, сц. 2). Да, прошлая правда убита преступлениями, убит доблестный представитель ее, и кому же, как не Фортинбрасу, подлинному наследнику старого Гамлета, знать о расшатанности всего уклада.
В таком поведении Гамлета психиатры
[461] видят проявление психо–патологи ческой организации датского принца
[462]. Но какую бы оценку ни давала Гамлету психиатрия, внутренняя жизнь его останется тем, что она есть, и от того, что мы узнаем, о правильности или неправильности в психо–физической организации Гамлета, мы не прибавим этим ровно ничего для оценки его религиозных переживаний. Было указано уже на двойственность Гамлета как на формальный характер его жизни. Но как охарактеризовать ее конкрет- н о? Думается, что лучше всего это можно сделать, указав на литературную революцию Гамлета, и вскрыть ad oculos
[463]*, как возникла эта двойственность. Вот что рассказывает о нем «отец датской историографии» Сак- сон Грамматик (род. в 1140 г. (?), ум. в 1206 г.): Фенго (у Шекспира Клавдий) явно и открыто убивает своего брата Горвендилла и женится на его супруге. Чтобы отмстить за отца и спасти свою жизнь, сын покойного Амлет притворяется безумным и в это время проявляет всю варварскую цельность своей натуры. «Quotidie maternum larem pleno sordium torpore complexus, abjectum humi corpus obscoeni squaloris illuvie respergebat. Turpatus oris color illitaque; tabo facies rediculae stoliditatis dementiam figurabant. Quidquid voce edebat, deliramentis consentaneum erat. Quidquid opere exhibuit, profundam redolebat inertiam. Quid multa? Non virum aliquem, sed delirantis fortunae ridendum diceres monst- rum» (p. 70)
[464][465].
Но делая глупости, Амлет не останавливается ни на минуту, не задумавшись и перед проявлениями холодной жестокости, превосходящими, по–видимому, все границы. Заколов подслушивающего придворного под одеялом (прототип убийства Полония), он разрезывает труп на кусочки, варит и бросает свиньям. В дальнейшем, желая отомстить Фенго, окружает во время празднества во дворце залу, где собрались все гости, давно приготовленной сетью и затем поджигает ее, а короля убивает в спальне, отняв у него меч.
С подобными же глупостями и ненужными жестокостями представлен Амлет в «Histoircs tragiques» у Belle- forest
[466], и тут, как и у Саксона Грамматика, нет никаких следов того, что составляет идею Гамлета- борьбы сознаний. Нет тут никакой раздвоенности, нет даже намека на задержку действия, составляющую действие в «Гамлете». Но даже у самого Шекспира всю философскую глубину и загадочность получила эта трагедия только во втором издании in quarto, т. е., по всей вероятности, во вторичной обработке ее поэтом. Шекспировская критика связывает эту вторичную переработку с появлением «Еѕѕаіѕ» Монтеня и диалогов Бруно
[467]. Впрочем, для нас это несущественно, а существенно то, что Шекспир сохранил в сравнительно нетронутом виде внешнюю обстановку, в которой должен был быть Амлет, и требования, которые к нему предъявляло родовое сознание язычества, но самого Амлета облагородил, модернизировал и превратил в Гамлета. Основная задача — месть — осталась та же, как те же остались и взаимоотношения действующих лиц. Но начатки христианского сознания, которые вносит Шекспир в своего героя, мешают ему действовать так, как он обязан был действовать ранее. А с другой стороны, он не может отрешиться и от прежних взглядов, от начал родового сознания.
- «Помни, помни обо мне, Гамлет. Ты должен отмстить!» Вот что твердит один голос. Это дух прошлого говорит с настоящим, это мертвецы встают из своих могил, чтобы вернуть потомка своего к культу рода.
- «Оставь, не убивай, не мсти. Прости и иди за Мною…» Вот что твердит второй голос — голос нового сознания, стремящегося перенести центр в Абсолютное.
- «Что бы ни случилось, не упускай из виду своей обязанности… Отмсти. Всем пренебрегай, но не забудь обязанности к роду…»
- «Хотя бы Ангел с неба, не то что Дух, говорил тебе иначе, чем я, — оставь месть, предоставь мертвым заботиться о своих мертвецах, а сам иди за Мною. Не оборачивайся вспять, Гамлет!»
Так спорят голоса за сознание.
[468] Но дело вовсе не идет только о мести. Эта борьба за месть — только одно из проявлений гораздо более глубокой внутренней борьбы — борьбы за всю жизнь. На Гамлета, по замечанию Гӧте, возложено «великое дело»
[469] — дело непосильное для него. Но это дело — переход к новому миросозерцанию, окончательный и бесповоротный, радикальная очистка своего рода от всего того, что вызвано ослаблением родового начала.
Я… дух— в огне обязанный страдать,
Пока мои земные прегрешенья
Не выгорят среди моих страданий (Д. 1, сц. 5), —
переводит Кронеберг слова Духа. Но, в цитированной выше статье, Блюменау замечает, что это — перевод неверный, т. к. речь идет не о его преступлениях, не о преступлениях Духа, а о преступлениях его времени. И Дух тоже видит, что время вышло из колеи своей, сознает необходимость перемены, но толкает Гамлета на путь, где могут выгореть преступления, потому что к пережитому нет возврата, и родовое сознание вернуться не может.
Вся тонкость организации Гамлета, вся сила его ума и великость сердца оказываются недостаточными для такого дела. Не только для Гамлета, но и для родного отца его, Шекспира, дали просветлялись лишь моментами, и, по словам Гервинуса, эта трагедия явилась «плодом духовного прозрения и развития, опережающего время»
[470] — плодом, который, скорее, принадлежит XIX веку, чем XVI или XVII, Прозрения, но не знания. Шекспир как и Гамлет, не разрешил борьбы, не засиял ему в благородные очи свет Эммауса и Фавора. Он поставил борьбу в хрустальной ясности, так что неуловимые тайны природы и неизглаголанные глубины сознания делаются осязательными. «Кажется, — говорит Гёте, — будто он сам разгадал все загадки, хоть и нельзя сказать определенно: вот тут или там слово разгадки. (…) Эти таинственнейшие и сложнейшие создания действуют перед нами в пьесах Шекспира, словно часы, у которых и циферблат, и все внутреннее устройство сделаны из хрусталя; они, по назначению своему, указывают нам течение времени, и в то же время всем видны те колеса и пружины, которые заставляют их двигаться…» «Это не стихотворения! Кажется, что стоишь перед раскрытыми необъятными книгами судьбы, в которых веет вихрь самой кипучей жизни, быстро и мощно переворачивая то в ту, то в другую сторону их страницы…»
[471] Но, как ни прозрачна борьба, неясным остается, как выйти из нее, и эта неясность налагает на «Гамлета» тот таинственный флер, который неразрывно соединен с самим произведением.
Да, Гамлет не выполнил своей задачи и не мог выполнить ее. Но он боролся до конца, и, если он не сделался христианином, то он не мог быть язычником. Особенно характерно в этом отношении то, что все время мысль его возвращалась к факту смерти. Он не мирится с языческим пониманием смерти как явления нормального, ссылка на всеобщность этого факта не удовлетворяет его, как не удовлетворяет и языческое представление о посмертном существовании — призрачном и мнимом блуждании под гулкими сводами Аида, представление, что по смерти навеки будет
на взорах облак черный, черной смерти пелена
и что даже самому бесконечно близкому и милому человеку только и можно будет сказать:
Помню счастье, друг мой бедный,
И любовь, как тихий сон.
Но во тьме, во тьме бесследной
Пусть все силы ада восстают на Гамлета; как могут они окончательно погубить его бессмертную душу! Но организм принца не выдерживает непосильной борьбы, он идет в поединок с предчувствием верной гибели и гибнет как герой, хотя и не на поле брани. Недаром же благородный представитель родового сознания, еще не успевший раздвоиться и бодро идущий своим путем, погребает Гамлета как героя.
Тяжелое наследие, непосильная борьба и невыносимо гнетущие внешние условия исключили принца, заставили во многом быть суровым и даже жестоким, холодно- жестоким. Но, несмотря на угловатую неровность принца, мы не можем не любить его за его до конца благородное сердце, за его ум, подернутый дымкой меланхолии и сознанием экклезиастической «суета сует», за его бесконечные страдания в искании правды; мы не можем не вспоминать о нем как о самом близком и родном для нас человеке. Правда, он носил в себе рудименты Амлета, он не был христианином. Но можем ли мы сказать, что мы — подлинные христиане, что в нас нет Амлета, «Ветхого Адама»? А если бы и могли, то ведь мы воспользовались работой Гамлета, ведь и для нас мучился он, и из-за нас погиб он, ища пути, по которому можно перейти к новому сознанию. Не откликается ли сердце наше на его тихие, мучительные речи — его, никем не понимаемого, ни от кого не имеющего помощи. Не чувствуем ли, слушая его, что нет времени между ним и нами, что это подлинный брат наш, говорящий с нами лицом к лицу. И если хороший язычник Фортинбрас сумел почтить память дорогого нам Гамлета и величавой отходной с пушечными выстрелами проводил его в место, где он найдет разрешение своих тяжелых обстоятельств, то неужели мы откажем всем Гамлетам, жившим и живущим, в том единственном даре, который в нашей власти–в молитве?
Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка
больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии Божием больше его.
Лк. 7:28.
В Житии св. Пахомия Великого повествуется, как однажды один из иноков попросил этого святого рассказать ему о каком либо видении. — «Самое чудесное видение, — отвечал Пахомий, — это то, когда ты увидишь лицо человека, в котором отражается чистота и глубокое смирение сердца. Может ли быть лучшее видение, чем видеть невидимого Бога, обитающим в человеке, как в своем храме…»
[475]В этом высшем прозрении человеческого бого- сродства, как в еле–уловимых переливах простого сочувствия и щемящего душу сострадания; в платоновском эросе ко все–превозмогающей красоте, в исступленном пафосе восторга, дающем выразуметь неземное, осиянное ядро личности, как и в крепко–уплотненном сознании братства, — во всяком реальном касании к другой душе, во всяком переживании личности человеческой, при всяком выхождении из процессов внутри–субъективной жизни, с необходимостью выступают два момента и, притом, на взгляд, исключающие друг друга. Оба они с беспримесною красочностью отмечены в словах Пахомия.
С одной стороны, личность предстоит сознанию, как ценность безусловная, как некоторая актуально являющаяся ему бесконечность. Но с другой стороны, она–ценность условная, сравнительная и, как таковая, способная быть больше и меньше, — от «украшения мира», эеооүюӯ κόσμου
[476], даже до «звериного образа» включительно. Личность — храм Божий, но она же–и Живущий в нем, конечное и бесконечное, животное и бог, сочетанье ангела и зверя (если верить иудейским раввинам)
[477] — существо двойственной жизни или амфибия, как назвал ее Плотин
[478].
Это кажущееся противоречие между двумя характеристиками личности устраняется различением в ней двух сторон бытия: идеального момента и момента реального, ценного постольку, поскольку в нем отпечатлелся первый; — некоторого я, знание которого о себе, сове- дение или совесть которого есть глас Божий, и другого я, неразрывно связанного с первым, которое τ о — ж е безусловно, но только в возможности, а не в действительности, — «в действительности же ничтожно» (Вл. Соловьев).
[479]Сейчас было бы неуместно обсуждать их взаимную связь
[480] [481]. Нам важно только одно: имеются переживания, когда происходит откровение личности, когда знание о личности сопровождается знанием личности, т. е. когда нормативная идея о личности, как транс–субъективной действительности, идет рядом с живым, имманентным сознанию бытием личности. Анализируя эти переживания, мы с необходимостью должны мыслить не только актуальность безусловной ценности ее, но и потенциальность ценности, так что последняя может возрастать или убывать.
Отсюда — переход к постепенному раскрытию личности безусловной, — к идее о процессе изменения для личности условной. При этом, бесконечность раскрывающегося ведет к возможности бесконечного раскрытия личности, сверх всякой данной ценности, т. е. к признанию за личностью, помимо бесконечности актуальной, еще и бесконечности потенциальной. Если личность в одном смысле есть бесконечность в акте, то в другом — она бесконечность в потенции. Выражаясь богословскими терминами
[482], скажем: у личности не только образ Божий (цэлэм элогим — О ӋУ), но еще и подобие Божие (демуф элогим — ГЛОТ) — возможность бесконечного раскрытия в реальном обнаружении; не только данность бесконечности, но и бесконечность данности.
Если человек не всецело поглощен жаждой Бесконечного, если не с головой ушел в запечатление реальной стороны своей личности печатью безусловного, то эта реальная сторона, вообще говоря, может меняться по своей ценности, делаясь более или менее совершенной. Не то при неудержимо–влекущем желании совершенства, — при сознательной работе, направленной неуклонно всегда в одну сторону, «к почести вышнего звания»
[483]. Тогда раскрытие ценности идет поступательно, ценность нарастает, и этот процесс, как рост, подчиняется общим формальным законам всякого возрастания. Раз это признано, то тем самым и априорно–выведенные следствия этих общих законов неминуемо находят себе место в учении о совершенствовании. Таким образом тут, в обсуждении процесса развития, теснейше соприкасаются дисциплины, на первый взгляд вполне чуждые друг другу; это — математика и нравственное богословие. Постараемся показать одну–две точки такого соприкосновения, — слегка очертить, каким формальным условиям должно удовлетворять развитие личности, — процесс ее оббжения, если говорить языком христианской аскетики
[484].
II
«Математика и нравственное богословие?.. Очевидно, речь идет о каких нибудь аналогиях и сравнениях из той и другой области. Ведь первая говорит о величинах, тогда как последняя имеет дело с тем, что не подлежит измерению и что, следовательно, не может быть обрабатываемо математически. Эти две области столь различны, что если можно находить между ними какую нибудь связь, то вся она исчерпывается намеками, подобиями и образами». Такое мнение слишком распространено, чтобы могли быть обойдены молчком возникающие на его почве речи возражателей. Красивы переклики сходств и узоры созвучий; красиво всякое ана- логизирование, обрамляющее осознанную связь и поясняющее то, в чем мы уже уверены; но без такой опоры, и принимаемое всерьез, оно легко становится украшением дурного научного вкуса, если только мы вышли из области чистых переживаний. Поэтому важно подчеркнуть, что нижеприводимые соображения — не аналогии или сравнения, а указания на сходство по существу, — не что либо, что можно принимать, но можно и не принимать, в зависимости от вкусов, а нечто, правомерность чего определяется достаточно раздельными посылками; короче — необходимо–мыслимые схемы.
Главная же из этих посылок безусловно отрицает, чтобы математическому ведению подлежали только величины. Основная математическая идея, — идея гρуππы
[485] ‚ относится ко всему тому, в чем сознание производит синтез множественности в единство; уже этот синтез, будучи основной функцией сознания
[486], делает математику, как науку о группах, применимой повсюду, где только функционирует сознание.
Следующая основная идея математики, — идея функции
[487] или функциональной зависимости между группами, — находит свое применение всякий раз, как
сознание производит синтез двух или большего числа групп с сохранением их индивидуального единства, т. е. там, где группы приводятся в соотношение активностью сознания, с одной стороны удерживающим элементы групп распределенными в их первоначальных единствах между собою, а с другой — образующим новую группу, высшего порядка, но уже не из первоначальных элементов, а из тех или иных связей, соответствий между элементами разных групп или, если угодно, рассматривающим подгруппы, образованные из элементов основных групп, как элементы вновь синтезируемой группы.
Установить соответствие между элементами групп — вот с формальной стороны все то, что мы мыслим, говоря о законе или о закономерностях. А так как размышление только и начинается с установки общего явлений, т. е. с подведения их под закономерность, хотя бы самую примитивную, то мы можем сказать, что вторая основная идея математики применима там, где начинается рефлексия.
Отсюда ясно, что математика, вообще говоря, вовсе не занимается величинами. Величиною объект ее, — группа, — становится при весьма специальных условиях
[488]; основные же требования применимости имеются всегда, — имеются и в области духовного развития. В самом деле, несомненную данную прямого опыта составляет наличность, многих состояний в человеческой личности, — разумею просто то, что человек не остается абсолютно тождествен себе. Множественность различных состояний, объединенная в единство, поскольку все они относятся к единому субъекту, образует группу. Устанавливая связь отдельных состояний с соответственными моментами времени, мы получаем функциональную зависимость между духовной жизнью и временем.
Иной вопрос, можно ли реализовать эту функцию единообразными аналитическими приемами, и кӑк именно. Но, как и в математике чистой, самая наличность соответствия и знание некоторых его свойств ужб позволяют нам сделать некоторые заключения насчет природы функции чисто–формальным путем, а потому выполняемые всякой функцией, если только для нее указаны такие же свойства. Ведь и в общих исследованиях функция часто не реализуема в виде формулы, по крайней мере при наличных средствах математики; часто также формула оказывается ненужной, хотя и возможна
[489] [490].
В известных случаях (а на практике — всегда) возможно расположить элементы групп, синтезированных в функцию, в некотором необратимом распорядке, руководствуясь тем или иным соображением; тогда между элементами будут отношения по рангу, и мы сможем говорить символически о возрастании и убывании функции (зависимого переменного) в соответствии с возрастанием или убыванием аргумента (независимого переменного).
В вопросе о развитии личности, независимое переменное — время. Но іггсрагаЬіІе tempus fugit
[491]; время–группа, необратимая по природе своей, и тем самым элементы его ужб расположены по рангу. Зависимым переменным, в нашем вопросе, является раскрытость личности; состояния же духа, подвергнутые оценке непосредственного самосознания, определенные по своим отношениям к нормам, тоже выстраиваются в необратимый ряд по достоинству, и «лучше и хуже» является признаком, устанавливающим ранговое отношение. Последнее мы можем ради краткости условно называть «больше и меньше», ибо отношения по величине, как и отношения по достоинству — частный случай отношений по рангу; у нас нет нарочитых слов, обозначающих ранговые отношения, и волей–неволей пользуешься словами значения более узкого.
Отсюда — возможность говорить о возрастании и убывании личности в связи с ходом времени, как вообще мы говорим о возрастании и убывании функции в связи с ростом ее аргумента. Тут, впрочем, не сказано ничего нового сравнительно с обычным словоупотреблением, когда говорят, например, что данный человек «усовершился», «сделался лучшим» и т. п.
Сейчас нам нет интереса рассматривать всевозможные закономерности при таком изменении личности. Мы вникнем в тот наиинтереснейший случай, когда, с течением времени, рано или поздно, начинает личность расти, неуклонно уносясь к бесконечности. Другой же характерный случай, — случай прогрессивного оскудения, — рассматривается по тому же плану, и потому выгодно, в целях краткости, ограничиться первым
[492] [493].
Из сказанного понятно, что необходимо рассмотреть предварительно общий вопрос о так называемых монотонно–возрастающих функциях, или, по крайней мере, становящихся таковыми после известного значения независимого переменного и стремящихся в своем росте к бесконечности. Этот вопрос даст неожиданные точки зрения для взгляда на процесс совершенствования личности.
III
Таким образом, мы имеем право рассматривать состояние духовной жизни (
y), как некоторую функцию Φ времени (
x), так что символически
y=Ф(x); при этом
χ изменяется непрерывно, течет. Кроме того, рано или поздно
у получает монотонную возрастаемость до бесконечности
[494]. Если принять во внимание эти обстоятельства, то рассуждение переходит на почву чисто–математическую.
Функцию
Φ (χ) станем исследовать для некоторой области изменения ‚ѵ от
а до й, т. е. на протяжении известного промежутка времени. Дополним наши условия еще одним: пусть
у будет непрерывной функцией χ для всей рассматриваемой области а — b, исключая верхний предел b, по мере приближения к которому
у беспредельно возрастет, превышая всякое данное значение. Около этого by следовательно, — период ρ а с τ а
[495], стремнина духовного потока. Верхний предел b сам может быть бесконечностью; может быть,
у беспредельно возрастает только при беспредельном же возрастании χ. Но мы берем общий случай, не предрешая ничего о значении by хотя в примерах, ради простоты, будем предполагать именно, что b =∞.
Время b, применительно к нашему случаю, не должно непременно быть действительным моментом жизни. Ведь нам важно не фактически–осуществленное достижение бесконечного результата, а лишь quomodo духовного движения, его πώς — «растучесть» духа, закон возрастания; закон же этот нисколько не изменится по своему характеру, если процесс развития прервется хотя бы, например, смертью до настатия момента і. Это by если угодно, может быть таким фиктивным временем, в которое личность стала бы бесконечной, если б ы продолжала развиваться по тому же закону, как развивалась до поры до времени. Вот почему условие непрерывности
у не вносит в рассуждения существенной узости: если бы функция была прерывной, то мы могли бы рассматривать ее по кускам, от перерыва до перерыва. Самые же разрывы интересны не с точки зрения τ и- пов возрастания, а с точки зрения возрастания типов и потому будут рассмотрены в следующей статье
[496][497].
Законов роста, т. е. функций, удовлетворяющих сказанным условиям, бесконечное множество, но между ними можно установить связи, весьма важные для понимания развития в духе. Уясним эти связи сперва на простейших примерах.
Возьмем функцию
. С возрастанием x от 0 до ∞ это у
1 тоже непрерывно растет от 0 до ∞, равно как и функция
; обе они удовлетворяют условиям, о которых говорено было ранее. И та и другая возрастает, но возрастает не одинаково быстро, т. к. отношение
, т. е. у
1 всегда вдвое больше
у2. Т. к. отношение
, при всяком χ‚ остается конечным, то при всяком χ функции у
1 и у
2 сравнимы между собою; как говорят, они стремятся к бесконечностям одного порядка. Стоит помножить
у2 на постоянный множитель 2, чтобы получить у
1. Эта во–всевременная сравнимость двух функций заставляет называть типы возрастания их равными.
Но легко представить функции, удовлетворяющие вышесказанным условиям, однако с неравными типами возрастания. Таковы, например, функции
и
.
, как и
, стремится к бесконечности вместе с беспредельным возрастанием х, но отношение их
, с беспредельным возрастанием х, вовсе не остается ни неизменным, ни конечным: оно само стремится к бесконечности, и это показывает, что
возрастает гораздо стремительнее, чем
так что разница между ними все увеличивается и превосходит всякую конечную разницу. Ввиду этого, бесконечности, к которым стремятся функции
и
, называются бесконечностями разных порядков, именно, порядок бесконечности
больше, чем бесконечности
. А самые типы возрастания считаются неравными, про них говорят, что тип возрастания
больше типа возрастания
. Несмотря на то,
и
все таки остаются еще сравнимыми между собою; по крайней мере мы видим, чтб нужно произвести с
, чтобы перейти к
, Нужно, именно, повторить над
ту самую операцию, при помощи которой мы перешли к нему самому от
‚ или, другими словами, над
и над результатом первой операции дважды повторить процесс возвышения в квадрат: итерация дает то, что делает сравнимыми
и
; ничего существенно–нового не требуется.
От одной функции можно перейти к другой посредством операции, аналогичной основной функциональной операции, т. е. придется повторить то, что раз уже сделано, что изведано на опыте.
Во всех этих случаях мы имеем дело с различными порядками бесконечностей. Но оказывается, что так — далеко не всегда, и существуют функции безусловно не сравнимые таким образом. Другими словами, отношение функциональных значений стремится к бесконечности с возрастанием
и, какие бы итерации и действия им подобные мы ни производили над функцией меньшего типа возрастания, функция ббльшего типа окажется для нее недостижимой, имеющей бесконечность не только другого порядка, но и другой породы, по терминологии † Н. В. Бугаева
[498][499].
Если мы возьмем, например, показательную функцию
, где
— некоторое постоянное, и функцию степенную
, то обе они удовлетворят указанным ранее условиям, т. к. обе безгранично возрастают при стремлении
к ∞; отношение их
, как доказывается в дифференциальном исчислении, тоже стремится к ∞ с возрастанием
, а из этого следует, что тип возрастания
больше, чем тип возрастания
. Но мало того. В дифференциальном исчислении доказывается, что сколько бы раз мы ни применяли итеративный процесс к
, т.е. как бы ни повышали порядок бесконечности его, увеличивая показатель степени при
, мы никогда не уравняем типов этих функций, никогда не сделаем предел отношения этих функций конечным; как бы ни было велико целое число
в выражении
, тип возрастания
менее типа
: они не сравнимы;
и
стремятся к бесконечностям разной породы
[500]. Это — математическое выражение того, что народная мудрость выразила рядом пословиц вроде: «и маленькая рыбка лучше большого таракана», «мал золотник, да золото весят; велик верблюд, да воду возят» и т. п.
[501]Мы подошли к наиболее важному понятию этой статьи, — к понятию о таких типах возрастания, которые безусловно трансцендентны для данного типа, лежат вне сравнимости с ним, хотя бы сравниваемый тип беспредельно повышал свой порядок. Чтобы лучше пояснить это понятие, составим ряды из бесконечного множества функций, все увеличивающих свой тип беспредельно, если двигаться вдоль строк слева направо, но не могущих достигнуть малейшего из типов ниже–лежащей строки. Получится таблица следующая:
Тут, в первой строке, равно как и в последующих, — бесконечное множество функций; бесконечно также множество (Menge, mullitudo, ensemble) строк. Однако, как типы каждой из строк, несмотря на свое возрастание, не достигают наименьшего из типов строки последующей, так же точно и вся скӑла типов, строимая по объясненному принципу беспредельно далеко и не имеющая наивысшего типа, потому что после каждого, сколь угодно далеко стоящего типа, имеется другой, еще больший, — вся она не достигает типов функций, образованных по иным законам. Нет наибольшей породы бесконечности, и нет даже метода строительства, позволяющего достаточно большим рядом шагов подойти ко всяком у типу. — Это приблизительная формулировка знаменитой теоремы Поля дю Буа Реймона
[502], и нам необходимо тщательнее вникнуть в ее смысл
[503].
Пусть имеются функции
и
переменного
. Мы рассматриваем их внутри известной области изменения
, т. е. для всех значений
, которые заключены между числами a и b; в частности это могут быть 0 и ∞. По мере возрастания
и приближения его к верхнему пределу b , функции
и
стремятся к бесконечности. Тогда отношение
возрастанием
, может вести себя различно.
1
0, Оно может беспредельно убывать. Тогда мы скажем, что тип возрастания функции
менее, чем тип возрастания функции
, и символически напишем:
.2
0, Оно может беспредельно возрастать. Тогда имеем случай обратный, и
.
30, Оно может быть постоянным или меняться, всегда оставаясь конечным. Тогда типы возрастания, как говорят, равны, что символически обозначается: f g.
4 ‚ Наконец, может случиться, что отношение
не стремится ни к какому пределу, делаясь, с возрастанием
, волнообразно то бесконечностью, то убывая до нуля, и так для всякой области, выделенной около
.
Первые три случая, где типы возрастания сравнимы, соответствуют выставленным в § III условиям; они нам особенно важны, т. к. можно расположить соответственные функции в некоторую скӑлу, привести в систему, выстраивая «по величине» типа возрастания, в ранговом порядке.
Примеры таких строчек или скӑл мы имели выше. Мы строили их итерацией определенных действий. Но легко доказывается, что всякая операция
, повышающая тип возрастания
при получении из него
, может, при помощи итераций, создать скӑлу типов. Поэтому такая скӓла, такая лестница типов в общем виде может быть представлена так:
или, проще:
или, наконец, совсем сокращенно:
У этих строчек нет последних членов, — нет максимального типа. Однако, легко построить и продолжение их в обратную сторону, так что получатся строки, не имеющие первого, наименьшего члена. Доказывается, именно, что если заменить операцию
ей обратной
[504], то, итеративно применяя ее к
и к последовательно получаемым результатам, мы получим все меньшие и меньшие типы возрастания. По отношению к функции
например, обратной будет функция
, т.е. логарифмическая. Итак, можно получить ее скӑлу типов такую:
или, сокращеннее,
причем каждый последующий тип более предыдущего.
Производя итерацию 1, 2, 3, 4,…‚ n,… и т. д. число раз подряд, мы тем самым приписываем нумера построяемым функциям или, иначе, сосчитыва- е м их. Итеративно полученная группа функций бесконечна (потому что нет последнего числа, а потому нет и последней, ему соответствовавшей бы функции: после всякой функции можно построить хотя бы еще одну, типа высшего). Но за сказанную возможность установить соответствие нашего ряда с рядом натуральных чисел 1, 2, 3,…‚ n‚… и т. д., наша скӑла получает название счетовой (аЬгӓһІЬаг, denombrable).
Вообще, счетность (АЬгӓһІЬагкеН) группы определяется тем признаком, что возможно перенумеровать все члены ее, так чтобы каждому соответствовало одно из чисел ряда: 1, 2, 3… и т. д. Итерация–не единственный способ создавать счетовую скӑлу возрастающих типов; существует еще сколько угодно иных способов. Поэтому мы не станем, в условиях теоремы Поля д ю Буа Реймона, определять, кӑк именно получена группа восходящих типов, расположенных, по–прежнему, так, что каждый предыдущий имеет после себя больший, непосредственно за ним следующий, ввиду чего можно написать:
сокращенно —
. Но мы только отметим счет- н о с τ ь этой группы. Это уже достигнуто тем, что типам приписаны нумера: чем более нумер, тем более тип.
Пусть же стремливость к бесконечности (если читатель разрешит такой оборот) у функции связана с нумером ее по каким угодно законам, так что лестница типов сама идет вверх как у г о дно быстро. Но, по каким бы законам мы ни строили этот бесконечный ряд, каким бы принципом создания его ни руководились, все равно
невозможно построить его так, чтобы некоторая, произвольно выбранная, возрастающая функция
непременно имела свой тип менее, чем како й–л ибо из типов группы, нами построенной; другими словами,
невозможно отыскать скӑлу типов, восходящую так быстро, чтобы член, достаточно далеко стоящий в ней, непременно перегнал любой тип
— чтобы для всякого
имело место неравенств о
при достаточно великом
. Это и есть теорема дю Буа Реймона в ее отрицательной форме. А в положительной она выражается так: если дан какой угодно счетовой ряд возрастающих функций, образующих скӑлу
‚ то
можно на самом деле найти возрастающую функцию
такую, что
‚ как бы ни было велико
.
Мы видели, что нет и не может быть наибольшего типа возрастания. Но этого мало: теорема д ю Буа Реймона говорит, что нельзя дать даже общего метода, следуя которому можно было бы подойти к любому типу, хотя бы метод давал возможность создавать все большие и большие типы, продолжать скӑлу далее и далее, и, притом, подымающуюся вверх произвольно быстро. Каков бы ни был тип, всегда имеется тип бблыпий его, т. е. развитие трансцендентное по сравнению с данным. Но, кроме того, каков бы ни был метод стройки возрастающих типов, всегда найдутся типы трансцендентные даже для данного метода, хотя и позволяющего отыскивать бесчисленное множество типов, восходящих по скӑле как угодно быстрой.
Доказательство, данное дю Буа Реймоном, идет ab esse ad posse
[505]. Он показывает, именно, что, пользуясь самым рядом
‚ руководствуясь его свойствами, мы можем на самом деле построить функцию
, обладающую искомым свойством быть по своему типу более всякого типа
, как бы ни было велико
п. А т. к. мы исходим при этом построении из свойств ряда
‚ нами же установленного совершенно произвольно, то отсюда будет следовать, что полученное построение возможно при всяком ряде, каков бы он ни был, чем теорема будет доказана. Мы не имеем возможности развить здесь это доказательство, но на геометрической схеме поясним, в чем дело.
Откладывая, как это делается на диаграммах, вдоль некоторой линии
ОХ‚ начиная
[506] от точки О, то или другое значение
(черт. 1), а на перпендикуляре к
ОХ, восстановленном из конца отложенного отрезка, соответствующее значение у, тем самым мы отметим некоторую точку, характеризующую своим положением на плоскости состояние функции
при данном значении
. Кривая, как геометрическое место таких точек, изображает закон, связующий
и
, — функцию. Прием этот («метод координат») слишком хорошо известен из всевозможных статистических и метеорологических диаграмм, чтобы стоило на нем останавливаться.
Беспредельное возрастание функции представится в виде беспредельного подъема кривой, а тип возрастания охарактеризуется стремительностью этого подъема по мере приближения к быстрине
. Чем более тип, тем стремительнее подъем соответствующей кривой. Ввиду этого понятно, что если тип
более типа
‚ то это не значит еще, что самая функция
для всякого
сама более функции
нет, она может быть и меньше (тогда кривые пересекаются), но после известного значения
, достаточно близкого к
, функция
будет более. [Заметим однако, что этот пункт пересечения в опыте может не быть данным. Может, он наступил бы, если бы жизнь развивающихся личностей не была прервана, смертью например, и, несмотря на это, все же тип
будет более типа
. Меньший же по типу иногда всю жизнь мнимо торжествует над бӧльшим по типу, но меньшим по фактически данному значению]. А в геометрической интерпретации это представится тем, что, после известного места, кривая, имеющая бӧльшую стремительность подъема
окажется над кривой с меньшей стремительностью
.Итак, пусть у нас построена система бесконечного множества кривых
,
, …,
, … и т. д., подымающихся все стремительнее и стремительнее к бесконечности; на чертеже 1 представлены только четыре из них:
,
,
,
. Задача наша — пояснить, что
можно‚ на основании их, построить новую кривую, вздымающуюся еще стремительнее, т. е. соответствующую функции
с типом, недостижимым скӑлою
. Другими словами, потребно указать, кӓк построить такую линию
, которая пересекла бы рано или поздно каждую из линий семейства
‚ как бы ни был велик ее нумер, и подымалась бы при
достаточно близком к
, над каждой кривой
‚ сколь бы ни было велико
. Возможность описанного построения надо доказать; это нетрудно сделать следующим образом:
Подменим прежде всего функции
,
, …,
, …и т. д. новым рядом функций, обладающим тем свойством, что каждая предыдущая не только имеет тип меньший, чем последующая, но что и значения ее никогда не более значений последующей. Предположим первые
кривых таковыми, что в рассматриваемой области
расположены друг над другом, так что линии
,
, …,
останутся без изменения; ради симметрии в обозначениях мы назовем их теперь через
,
, …,
; на чертеже они (кроме
) не представлены. Пусть первая линия, не удовлетворяющая этому условию —
, и она, пересекшись в некоторой точке с
, подходит под
‚ когда
достаточно близко к
. Построение наше начинаем с нее. С этою целью проводим линию
(на чертеже — пунктир), совпадающую с
вправо от точки пересечения ее с
‚ а влево от этой точки идущую над линией
и совпадающую с наивысшей из всех предыдущих линий, т. е. с
. Построив
, мы приступаем к стройке следующей,
. До точки пересечения
с линией
, она должна совпадать с
, затем располагаться по наивысшей из всех предыдущих кривых, т. е. по
, доходить до точки пересечения ее с
и далее идти по этой последней.
Таким образом, возможность построения системы кривых
,
, …,
,
, … и т. д. не подлежит сомнению. На чертеже они отмечены пунктиром, и понятно, что левые концы их должны совпасть; чем более нумера двух последовательных кривых, тем на большем протяжении совпадают соответствующие кривые.
Поступая, как описано, с каждой из линий семейства
, мы получим новое семейство линий
,
, …,
и т. д., для которых типы идут в порядке, возрастающем с их нумером, так что
и равны соответствующим типам семейства
. Но только вновь проведенные линии уже не пересекаются друг с другом, и ни одна из них не имеет частей, лежащих выше, чем кривая большего ранга. Иначе говоря, кривая высшего ранга идет или над, или вместе с кривыми всех предыдущих рангов.
Если мы покажем теперь, что
можно построить кривую
, пересекающую рано или поздно каждую из линий семейства
,
, … и т. д., так что она подымется рано или поздно над каждой из линий
, как бы ни был велик ее нумер, то этим будет доказано существование функции
, тип возрастания которой более, чем тип возрастания
как бы ни был велик ее нумер
. Но если теорема доказана для функций
,
… и т. д., то тем более она доказана для функций
,
… и т. д., так как типы возрастания их соответственно равны, а значения каждой из функций
,
… и т. д. либо равны, либо менее соответственных значений функций
,
… и т. д. Поэтому
‚ в стремливости подъема опережающая рано или поздно каждую из функций
,
… и т. д., в том же самом месте опередит тем более и функцию из основного ряда
. Но раз проведены кривые
,
… и т. д., то уже легко построить искомое геометрическое
.С этой целью возьмем на прямой ОХ бесконечный ряд точек, накопляющихся (ѕісһ haufen) около верхнего предела
т. е. все ближе и ближе подходящих к нему, но однако никогда его не достигающих, так что
является точкою накопления (Haufungs- punkt) взятого ряда. Такую группу можно получить, например, если станем делить пополам отрезок
, потом разделим пополам правую половину его и т. д., каждый раз обращаясь к наименьшей из частей, лежащей правее всего. Ясно, что сколько бы мы ни делили так
‚ мы никогда не исчерпаем его, никогда не получим нуля в результате какого нибудь деления, а потому и не придем никогда к точке
, хотя расстояние до
будет делаться меньше сколь угодно малой величины.
Черт. 2.
Занумеруем затем систему точек деления, начиная от
, в последовательном порядке числами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,…‚ n,… и т. п. Нужная нам группа получена (см. черт. 2). — В случае же, если точка b лежит в бесконечности, то мы возьмем точки 1, 2, 3… n… и т. д. на произвольных конечных расстояниях, хотя бы на равных между собою; так именно сделано на черт. 1 ради простоты и изящества построения.
В каждой из точек сказанной группы восставим перпендикуляр к ОХ до пересечения с тою кривою семейства
,
, … ,
, и т. д., которая имеет нумер, соответственный с нумером точки, так что перпендикуляр в 1–ой точке пересечется с
во 2–ой — с
и т. д.; и вообще, перпендикуляр в n–ой точке пересечется с
в (n + 1) — ой–с
и т. д. Принимая далее начерченные прямые за ординаты, соединим концы их ломаной линией. Это и будет искомое геометрическое место
. Из чертежа 1 видно, что вправо от n–ой из проведенных ординат все оно,
, целиком лежит над n–ой кривой
и, тем более, над
, ибо переходит от точки, лежащей на этой кривой или над нею, к точке, заведомо находящейся над этой кривой, — к точке кривой
.
Раз так, то после всякого
, достаточно близкого к
, именно после
, определяемого n–ой точкой, ломаная
подымается вверх круче, чем всякая кривая семейства
, до n–ой включительно, и это — так, как бы ни был велик нумер кривой
. Поэтому ясно, что ни про какую функцию
нельзя сказать, что тип ее равен типу функции
, изображаемой посредством геометрического места
, как бы ни было велико
n, т. е.
при всяком n. Это и требовалось доказать.
Подобным же образом можно доказать, что какую бы мы ни дали счетовую группу типов возрастания, расположенную так, что каждый последующий тип менее предыдущего, — всегда найдется тип, меньший всех их. Аналогичные теоремы можно доказать и относительно типов убывания функций, когда функция стремится, например, к нулю. И тут тоже невозможно представить себе счетовой группы их, позволяющей превзойти всякий тип убывания. Но после сказанного читатель и самостоятельно может убедиться в правильности последних утверждений.
Бесконечное возрастание имеет свой тип, т. е. функция стремится к бесконечности по–своему, особенно, не так, как другая, взятая с маху. Правда, имеются бесконечно–многие функции такого же типа, но группа функций иного типа бесконечно мощнее, чем группа — такого же типа. Вероятность вытащить из группы всех функций равнотипную — бесконечно мала: функции, вообще говоря, различны по типу; у каждой -свой облик.
Но тип возрастания — это «стремливость» развития, характеристика стремительности, с которой раскрывается потенция, или еще — мера «всход чивости», мера «растучести» развивающегося. Она дает нам зафиксированную оценку закона, по которому развитие идет далее и далее, не довольствуясь ни одним конечным определением, отпихивая позади себя пройденные лестницы.
В этом смысле, понятие о типе есть по преимуществу религиозное понятие, а теорема д ю Б у а Реймона–по преимуществу религиозная теорема: ни в одной области неуемное томление по сверх–данному, безудержное стремление к сверх–фак- тическому — «алчба и жажда правды»
[508], перерастающие, а затем и преоборающие всякую условность, не залегают так глубоко, — в самом ядре, — как в области богообщения, при посулах Абсолютного, в бого–вещих трепетах и полночных вздрагиваниях души, обнаженной перед Вечностью. Прорывшись достаточно глубоко в напластованиях души и дойдя до водоносного ее слоя, все другие русла к бесконечности рано или поздно сливаются с этим основным, превращаясь в феософию и в феургию, или же, при противлении Абсолютному, в оккультизм и в магию
[509]. То или другое, но непременно что нибудь. При бесконечности стремлений надо считаться положительно или отрицательно со стремлением Бесконечного, иначе — восторженность полета, рвущая из груди крик мятежного восторга, неумолимо сменяется тупым, усталым бормотанием: «довольно, довольно», а жажда высей — тяжелыми позывами все–брезгливости.
Но мы отклонились от прямой задачи. — Этот по преимуществу религиозный характер рассмотренной теоремы делает тип, быть может, самою личною из всех логических характеристик личности, — всецело не исчерпываемой, понятное дело, никакими признаками; но из всех их наиболее глубинным представляется этот.
Характер подъема, стремительность воспарения вовсе не дает еще понятия о достигнутой высоте; равно- стремливые функции, т. е. имеющие одинаковые типы, могут весьма разниться по величине, одна — может намного упредить другую. Но, чем далее идет развитие, чем выше восходят кривые, тем более уничтожается это упреждение в конечном, тем бесповоротнее меркнет это конечное преимущество пред отблеском бесконечной цели, светящей дорогу им обеим одинаково. И, в пределе, эта разница перестает быть разницей. Работники, обрядившиеся рано поутру, как и позванные в шестой, девятый и одиннадцатый час, получают поровну, когда приходит вечер. Напрасно ропщут те, которые пришли ранее: все они получили справедливо, так как все устремлялись к Идеалу по одному закону, имели одинаковый характер работы, одинаковый тип, как одинаковый тип имеют какие нибудь функции:
хотя, для каждого данного дс, значения их весьма различны. Ведь не за «сделанное», не за конечный результат деятельности получают работники бесконечную плату — полноту бытия, а за порывание ввысь, за жажду бесконечного; она же одинакова у всех их.
Но–более того. Если типы у возрастающих не равны, то у имеющего больший тип может быть в данный момент полное ничтожество в проявлении пред носителем низшего типа, детское обнаружение своих потенций. Но пусть оба подойдут к своим быстринам. Дух, более восходчивый по своей природе, расправит крылья, и далеко внизу останется ползущий по тропинке.
Может быть, изменение типа (падение личности)
[510] или смерть прервет его развитие задолго до того, как он сравняется с другим, в проявлении превзошедшим, в тип превосходимым им. Может быть, кривая судьбы его оборвется до пересечения с кривою другого. Может, подвигу, — орбите его, — не суждено дойти до крутизны. Может быть, всю жизнь будет величаться над ним с надменной высоты личность низшего типа. Однако внутренний нерв всей деятельности, жар духовного горения у него качественно более ценен, чем у другого: идеалы и законы стремления к идеалам различны
[511].
Чаще же всего случается, что личности разных типов приблизительно равны по достигнутой ими высоте. «Деяния» видит и охотно признает почти всякий, потому что этот «гардероб старых одежд»
[512], как выражался Гейне, понятен и без смирения. Но трудно, очень трудно для человеческой гордости признать высоту типа в другом человеке и особенно если за последним не числится ни плаща, ни эффектных моментов жизни, — дела наживного и потому всегда достижимого, по крайней мере в отвлеченной возможности, для каждого и, следовательно, не столь колющего самолюбие.
«Говорится, — заметил Карлейль
[513], — что никто не может быть героем перед своим слугою, — и это справедливо. Но вина в этом деле заключается столько же в слуге, сколько и в герое, потому что для простых глаз, как известно, многие вещи имеют только тогда значение, когда они не отдалены. Людям чрезвычайно трудно убедиться, что человек, простой человек, бьющийся в поте лица своего о бок с ними из за жалкого существования, создан из лучшего материала, чем они»
[514].
Было бы неуместно разбирать здесь гносеологический вопрос о познании личности. Но беря (покуда) таковое, как факт, мы можем сказать: в каждом конечном проявлении личности отражается как то еще и закон, тип роста, поэтому самое проявление делается символом, освящаясь трепетными вспыхиваниями идеала. Эти то мерцания и производят соответственные качественные разницы в действиях–символах, заставляя одинаковое высвечивать по–разному. Уже в искусстве, где замысел неотделим от формы, и потому совершенство выполнения значит очень много, различие типов развития бросается в глаза. Неопытная рука ребенка- Моцарта
[515] дает понять, что перед нами первые ступени возрастания, происходящего по типу высшему, чем музыкальное развитие какого нибудь, по–своему ушедшего далеко, Сальери, не говоря уже о тапере. В области же нравственной деятельности, где значение результата минимально, это еще очевиднее: чуть заметное дуновение «милости» бесконечно ценнее величайшей «жертвы»: движение любви, от полноты внутреннего содержания, качественно выше справедливости, — движения от недостаточности, и «лепта вдовицы» порою приобретает значение большее, чем несомненное «благодеяние всему человеческому роду».
Но там, где проявления сами по себе не обозначают ничего, там, где начинается мистическое единенье с личностью, где неуловимые для сторонних полу–тоны выражений и невольные движения тела с очезритель- ностью отражают тончайшие внутренние волнения личности, где личность обнажается ото всего явленного, — там мы сталкиваемся порою с такими пропастями в типах, что с превозмогающею яркостью победно рвется наружу различие пород: уже не о порядках бесконечностей, а о породах их приходится задуматься ослепленному от потоков светозарности сознанию. Не об этом ли говорил поэт:
Есть речи — значенье
темно иль ничтожно,
но им без волненья
внимать невозможно...
их многие слышат,
один понимает...
Лииіь сердца родного
коснутся в дни муки
волшебного слова
целебные звуки,
душа их с моленьем
как Ангела встретит,
и долгим биеньем
Если личности одной породы, то между НИМИ ВОЗМОЖНЫ еще сопоставления, хотя бы типы их были различны, хотя бы они грезили о бесконечностях разных порядков. Правда, одна бесконечность превосходит другую «в бесконечное число раз», т. е. так, что разница между ними сама делается бесконечною в пределе. Но каждая из этих личностей разумеет, какие конечные процессы (итерация, например) необходимы были бы для уравнения их типов. Мало того, каждый может представить бесконечный ряд все более и более высоких типов, и все они не разнятся от его собственного типа настолько глубоко, чтобы нельзя было мысленно подойти к нему. Но в какие бы выси ни вел данную личность е е подвиг, как бы далеко ни заходила она по своей траектории, как бы ни грезила о новых путях развития, все более высоких типов, — при столкновении с личностью иной породы она ясно видит, что в ее власти стремиться к бесконечности этой породы, — не только в действительности, но и в мечте. Фантазия безусловно отказывается представить личности, как бы она выглядела, стремясь к бесконечности иной породы. И однако, живое воплощение такого невообразимого и неизреченного для нее типа совершенствования она видит и осязает ж близком себе, в живущем с нею, — в брате, превосходство которого она ясно чувствует, совершенно не умея рассудочно понять.
Напрасно появилась бы в движении ее утороплен- ность. Напрасна нервическая напряженность и вскидывания, напрасно метание и само–мучительство, напрасно надсаживание и надмогание себя,
Напрасно дух о спод железный
стучится крыльями скользя, -
он все один, над той же бездной,
упасть в соседнюю нельзя...
Железные рельсы проложены несокрушимо, и не сойти личности своими усилиями на новую орбиту: личность может только замедлять или ускорять движение на ней, тброком пронестись по полотну своему или застыть в штильной сонливости. И, озираясь на лучезарный блеск брата, завидев рядом с собою потенцию бесконечности другой породы, — друга, который идет «с ясной улыбкой на милых устах» (А. Белый)
[518], — спокойно, ровно, неизменно переходя «от меры в меру», она сознает, как пораженная молнией, скудость свою и богатство другого. И, будто споря с собою, будто все еще не веря себе, сотни раз она повторяет фетовское «невозможно, несомненно»
[519]‚ пока не убедится окончательно. Тогда тот, кто
«в упорной думе сердцем беден» (Λ. Блок)
[520],
с протестом или со смирением сознӑет, что надрывом не возьмешь, и вспомнятся ему слова: «кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть»
[521]. Не то, чтобы усовершение не было в его власти. Тут он свободен. Но перейти собственными усилиями к иному закону усовершения, стремиться к бесконечности высшей породы- это так же невозможно для него, как невозможно для него из суммы нулей составить конечную величину, как невозможно из каких угодно груд сухого песку выжать холодную каплю влаги. В лучшем случае получится то, что Фр. Ницше называл «обезьяною идеал а»
[522]. Свобода — в движении по траектории, но не в создании произвольной новой, — в предоставляющемся в известные моменты выборе одной из данных траекторий, но не в произвольной смене их
[523].
Но не будучи в состоянии даже понять высшую породу в другом, он всем сердцем чует ее, воспринимая, как святость. Доброта и великодушие, отрешенность от себялюбия и бескорыстие, величие духа и скромность, глубокий ум и творчество, подвиги и мученичество, как бы все это ни было велико, но его недостаточно еще для создания высшей породы. Никакою, сколь угодно высокою степенью совершенства, добродетели, высоты духа и т. п. святость, хотя бы самая минимальная, не достигается: она трансцендентна для всего только- человеческого, и мы безусловно не в состоянии даже мысленно построить образ того, который свят в сравнении с нами. Мы можем только переживать святость, относясь к ней, как к факту, воспринимать ее, открываясь навстречу ея воздействий; мы можем склонять колени пред нею, в несказанной радости плакать и благоговеть пред нею, или же, наоборот, противиться ей. Но мы не в силах анализом ухватить ее суть, не в состоянии из себя вообразить ее: — последнее особенно ясно сказывается на неуспехе в создании творческою фантазией «идеальных типов». Поэт должен был бы оперировать с тем, что для него трансцендентно, или же испытать в реальном переживании изображаемое им..
Но там и тут в потоке истории сверкнет порою образ высшего типа. Я сейчас не хочу говорить ни о пророках, ни о «Величайшем между рожденных женами»
[524] ‚ ни, тем более, о «Честнейшей херувим и славнейшей без сравнения серафим»
[525]. Все это, по своей серьезности, требует особого рассмотрения, как особого рассмотрения требует и Представитель абсолютного типа, Воплощение Абсолютной Бесконечности — Господь Иисус. Образы Франциска Ассизского, Серафима Саровского или
Амвросия Оптинского
[526], думаю, достаточно намекают, что такое человек высшего типа, что такое «Ангел во плоти». А более конкретно — хорошо передает свои впечатления от Оптинского Старца (прототипа для старца Зосимы из «Брат. Карамазовых») одна особа.
«Об о. Амвросии, — пишет она, — я ничего прежде не знала, и только накануне встречи с ним слышала, что в Скиту сеть Иеромонах о. Амвросий, который часто болен и редко выходит из Скита и который очень ученый. Больше ничего не знала, и понятия о монастырской жизни, полученные в миру, были самые неясные. Итак, мое впечатление ничем не было подготовлено. — Я увидела его подле Скита в старой–старснькой накидке, с палочкой в руках. Он шел легко и имел вид совсем не такой, как другие монахи, — он шел, казалось мне, не касаясь земли. — Я была сзади его; но он вдруг обратился в нашу сторону и благословил меня. Впечатление моего сердца было такое, что это должно быть дух Ангела во плоти. Я ни одного слова ему не сказала»
[527].
«Все, что до сих пор напечатано было об о. Амвросии, меня совсем не удовлетворяет; впрочем, полагаю, что меня никогда ничто не удовлетворит, хотя бы потому, что теперь еще очень многого нельзя о нем писать… Что вы скажете, или как выразите чувства того, кто лично пришел к Старцу с негодующим помыслом на него самого, в мучительном раздумье, как бы прс- побсдить себя, чтобы высказать ему этот самый помысл свой? Что вы скажете, если старсц сам избавил от этого неприятного чувства — пересказа такого помысла; встретив меня, он улыбнулся и положил свою руку себе на голову, изображая кающегося человека! Такие таинственные душевные движения, эту жизнь душ никак не возможно положить на бумагу»
[528].
Подобных рассказов об о. Амвросии, как и о прсп. Серафиме — множество. Наудачу выбираю один из них, — рассказ о. Иоасафа
[529][530], попросившего святого рассказать ему о своем видении небесных обителей. О. Серафим стал подготовлять своего ученика, несколько раз повторил: «Радость моя! Молю тебя, стяжи мирный дух!», «и вслед за этим, — пишет самовидец, — в нсизобразимой радости, с усилием голоса сказал: «Вот, я тебе скажу об убогом Серафиме»; и потом, понизя свой голос, продолжал: «Я усладился словом Господа моего Иисуса Христа, где он говорит: в дому отца моего Обители мнози суть (т. е. для тех, которые служат Ему, и прославляют Его святое Имя). ІІа этих словах Христа Спасителя я, убогий, остановился, и возжелал видеть оные Обители, и молил Господа моего Иисуса Христа, чтобы он показал мне эти Обители; и Господь не лишил меня, убогого, Своей милости; Он исполнил мое желание и прошение: я был восхищен. А о той радости и сладости небесной, которую я вкушал, сказать тебе невозможно».
«И с этими словами отец Серафим замолчал. В ото время он склонился несколько вперед, голова его с закрытыми взорами поникла долу. Лице его постепенно изменялось, просвещалось, на устах же и во всем выражении его была такая радость и восторг небесный, что по–истине можно было назвать его в это время земным Ангелом и небесным человеком. Во все время таинственного своего молчания, он как будто созерцал что то с умилением, и слушал что то с изумлением. 1І0 чем именно восхищалась и наслаждалась душа праведника, знает один Господь».
«Я же, недостойный, сподобясь видеть отца Серафима в таком благодатном состоянии, и сам совершенно забыл бренный состав свой в эти блаженные минуты. Душа моя от одного созерцания таинственного молчания праведника, и от чудного света, исходившего от лица его, а равно и от всей благоговейной непрерываемой тишины, была в такой радости и восторге, каких я не ощущал в продолжение всей своей жизни».
«Праведник Божий, по немощи человеческого языка, не мог словами объяснить дивного видения своего; зато показал мне его чудным светом своего лица и таинственным своим молчанием…»
Повторяю, что привел эти два рассказа наудачу. И в них, как и во множестве других сообщений, унисонно звучит выражение «Ангел во плоти». И так же унисонно что то поет во всех подобных повестях о непосредственном, принудительном, так сказать, сознании, что рассказчик столкнулся с чем то качественно- новым.
«О. Амвросий (Оптинский), — говорит, как раз по поводу приведенного нами рассказа В. В. Розан о в
[531][532], — принадлежал к тому порядку людей, которых мы назвали бы «озаренными». Представьте на верху горы людей: ранним утром светло уже и в долине, но серо–светло, без блеска. Все можно видеть, все ощупать руками можно, не ошибешься. Но фигуры стоящих на горе светятся не таким светом, а совершенно особенным, с блеском и игрою. Они «озарены», —и вот если такое физическое озарение переложить на психологические термины, то мы и получим определение этих людей, «ноги которых не касаются земли», которые при первом на них взгляде дают впечатление ангела во ллоти и угадывают и знают, во всяком случае, больше обыкновенного. Есть горные люди, есть долинные люди. Констатировали же юристы и медики присутствие в человечестве почти не подлежащего и лечению «преступного типа». Если есть долина — значит есть гора, где минус–там возможен и плюс. Историк и психолог может договорить то, что не договорено юристом и медиком. Раз врожденно и неисправимо существует «преступный тип», существует столь же неодолимо при том постоянною составною единицею в человечестве «святой тип». Принадлежащие к нему праведность не приобретают‚ а имеют. И если «врожденный» «преступник» имеет печать своего «минуса» на лице, так что антропологи зарегистрировали их в сериях фотографий, в обширных атласах, а при встрече мы поражаемся неблагообразном их, — то совершенно следует допустить особенное и мгновенное впечатление, даваемое лицом «врожденного святого» на зрителя, на встречного. В рассказах о них нет никакого преувеличения…
«Святой человек» есть совершенно обыкновенный, но с плюсом у него этого «загробного сияния», «вечной жизни». От этого он производит впечатление ангела (в противоположность преступнику)».
Эта длинная тирада В. В. Розанова приведена не потому, чтобы автор соглашался с теоретическими соображениями В. В.; но нам важно свидетельство стороннего человека, также констатирующего между людьми какую то качественную, существенную разницу. Но это — явления чрезвычайные. Однако человек высшего типа не так исключителен, как кажется сперва.
В жизни иногда выпадет счастье соприкоснуться с человеком высшего типа, высшей породы. Для рассудка, может быть, там нет ничего особенного: способности не ослепительные, хотя и выше среднего, ум и воля сами по себе тоже не дали бы ему положения совершенно исключительного. Ни особенной глубины мысли, ни особенной силы творчества или интенсивной деятельности не видишь в нем. Живет человек изо дня в день, делает, как будто, то же, что и все, валандается в обыденном. И однако каждое обыденнейшее движение его сопровождается ч е м–т о почти неуловимым и в то же время осязательным, — чем то, что делает движение его качественно отличным от движений окружающих: невидимый оркестр аккомпанирует чуть слышно каждому действию. Еда и питье, безделье и болтовня — даже это все как то одухотворено: Духом веет от него, от каждого жеста, от каждого слова, хотя он этого и сам не знает, и неизъяснимая свежесть приносит с собою аромат «о τ τ у д а», с благоуханных лугов Эмпиреи.
...слепым, а не зряіцим,
бессмертные о славе чудесной себя открывают:
им мил простоты непорочныя девственный образ -
и в скромном сосуде небесное любит скрываться.
Презреньем надежду кичливой гордыни смиряют:
свободные силе и гласу мольбы не подвластны.
(Шиллер — Жуковский)
[533]Но после встречи остается неуловимое чувство, так быстро тающее, что самому не верится в только что пережитое:
Точно случилось жемчужную нить
подле меня тебе врозь уронить:
чудную песню я слышал во сне, -
несколько слов до яву мне прожгло.
Эти слова то ищу я опять
все, как звучали они, подобрать...
С первого момента встречи, этот аромат и свежесть, эта «глубинная красота» (А. Блок) души чувствуется ясно; но после, при упорном желании понять их, при выискивании «добродетелей» и «совершенств», обоняние притупляется, серая пелена застилает поле зрения; а далее, справедливо не видя особого в этом отношении, невольно начинаешь отрицать и наличность особого вообще. Только возвращение к прямому опыту и доверчивое отношение к непосредственному переживанию вернет, при таких обстоятельствах, величайшее из счастий- счастие касаться миров иных через общение с братом.
Пусть будет красою краса-не завидуй, что прелесть
ей с неба,
как лилиям пышность, дана без заслуги Цитерой;
пусть будет блаженна, пленяя; пленяйся — тебе
наслажденье.
(Шиллер — Жуковский)
[535]Не ту же ли разницу типов отмечает другой поэт в этой истории:
Муза, богиня Олимпа, вручила две звучные флейты
рощ покровителю Пану и светлому Фебу.
Феб прикоснулся к божественной флейте, и чудный
звук полился из безжизненной трости. Внимали
вкруг присмиревшие воды, не смея журчаньем
песни тревожить, и ветер заснул между листьев
древних дубов, и заплакали, тронуты звуком,
травы, цветы и деревья; стыдливые нимфы
слушали, робко толпясь меж сильваноп и фавнов.
Кончил певец и помчался на огненных конях,
в пурпуре алой зари, на златой колеснице.
Бедный лесов покровитель напрасно старался припомнить
чудные звуки и их воскресить своей флейтой:
грустный, он трели выводит, но трели земные!.,
горький безумецI ты думаешь, небо не трудно
здесь воскресить на земле? Посмотри: улыбаясь,
с взглядом насмешливым слушают нимфы и фавны.
Чтобы не расплываться в общих характеристиках, приведу
[537] обрывок частного письма, конкретно изображающий интересующие нас переживания. Понятно, их имеется не один вид; но боязнь удлинить статью заставляет ограничиться только следующим примером.
«…Ты спрашиваешь об Э.
[538] — Ничего не смогу написать толком: вьется около меня «нечаянная радость» моя, а
как бы ее поймать? — Поймай!
это веселый, веселый май…
(П. Фор)
Я видел его в слезах, когда носилось дыхание смерти, — видел радостным и игривым, как расшалившийся котенок; слышал его голосок тоненький в церкви, — слышал в лесу, среди стволов, обтянутых белым атласом. Присматривался к жизни самой обыденной; — разговаривал о самом важном для меня. Я присутствовал, наконец, при моментах сильнейшего раздражения и вспышках неудержимого гнева на несправедливость, так что рассмотрел Э. с разных сторон и вынес впечатление не расплывчатое. И всегда, серьезный или брызжущий divina levitate — божественным легкомыслием, он оставался верен себе: всегда доверчив и чист, как голубь; всегда мудр, как змея… Именно, чист и ясен, без малейшего туска и без малейшего пятнышка. Может быть, самое подходящее тут слово — девственность, девственность не в смысле παρϋενεία или αγαμία, (безбрачие), а в смысле αγνεία (беспорочность). Это — внутренняя свежесть всего существа, бесхитростная простота, душистость лесного ландыша, окропленного утреннею росою; это — прохладная кристальность горного ключа, журчащего по гранитному ложу.
У Э. почти не сходит с уст ясная улыбка, но за нею (хорошо узнал это из разговоров) — неизменная тоска по небу. Будто про эту душу сказано:
…на свете томилась она,
желанием чудным полна…
[539]Однако не подумай, что тут что нибудь бледное и фарфоровое. Нет, — ничего подобного: здоровее тебя со мною и уравновешеннее. Нет в нем наших издерганности и надломов, — растет под благодатным воздействием, как снежно–убеленная лилия распускается под омытым
солнцем, и сама не знает о своей благоуханности… Э. представляется мне не иначе, как в широкой белой одежде, из грубой льняной ткани, мерцающей матово- жемчужно. Вспоминается (пишу тут же: все равно, порядку в письме не более, чем в Коране) одна из наших прогулок зимою. За деревней была полная тишина, и только похрустывал под ногою наст. Солнце было недалеко от заката; на неровной настовой корке трепетали световые пятна. Казалось мне, что бесконечно–милое солнце засыпает путь, навстречу Э., лепестками чайных роз. Снежная чистота, а над нею–свет, тепло и аромат, — подумалось тогда, — да это характеристика моего соседа. Ведь не то, чтобы он не ведал добра и зла. Далеко нет. Но в каждом слове у него сквозит, что постоянно–б ы в а ю щ е е, fiens, в нем бесповоротно преодолено вечно–с у щ и м, спѕ. Ясным солнцем он стоит над копошащимся хаосом, осиянный; и не хочет знать его, покрывая всю действительность серебряными ризами, — живя в той действительности, где уже нет хаоса, а есть Благо, да зло, которое будет просто уничтожено. Над Э. же–ή πάντων Βασίλισνα
[540]. Мне трудно без феософических терминов выразить свое впечатление. Может быть короче всего сказать, что в нем Μήττ)р ΰεών
[541] безусловно подчинена Μήχηρ ΘεοΟ
[542], всегда рождающая и никогда не имеющая устойчивого Жена — единожды родившей Девою. Он — под особым и специальным покровительством Пречистой, вполне прикрыт честным омофором Ее, так что даже нечистое очищается около него.
Припоминается: в катакомбной стенописи голубь был символом Духа святого, невинной души и мира. Теперь мне понятно, какую связь имеют в переживании эти три аспекта единого символа: Освящающая Сила, освященная душа и состояние умирен- ности, как результат освящения. В переживании эти три момента нераздельны, хотя и не сливаются между собою; только для рассудочного рассмотрения, как и всегда, единый символ голубя раскалывается на три несовместные аспекта.
Мир души -вот что нужно оттенить в Э., реализовавшем слова «нашего» Святого, апокалиптического Серафима: «Радость моя, радость моя, стяжи мирный дух, и тогда тысячи душ спасутся около тебя!» Вот именно, радость моя, нечаянная радость моя. — Мир духа–не нирвана, наоборот, это — повышение жизненного пульса, так что и радость с горем становятся
интенсивнее, и все впечатления конкретнее и сочнее. Но сознание всякий раз допускает в себя только осиянную сторону их и не дает врываться хаосу. Для Э. зло не степень и не абстракция, оно — реальная сила; однако мы никогда не должны допускать его в сознание, как нечто имманентное ему, а должны всегда относиться ко злу как к чему то безусловно чуждому и внешнему, с викингской яростью нападать на него, устремляясь копьем, но не переживать, как реальность, — одним словом, относиться ко злу, как Кант — к вещи в себе, т. е. видеть в нем «предельное понятие», отрицать которое не должно, но исследовать которое невозможно, оставаясь имманентным области добра.
Вижу отсюда, что улыбаешься: «Зафилософствовался, и опять начинается всегдашняя «вода на облацех»». Возвращаюсь к удовлетворению твоей просьбы. Еще одно восприятие, — думаю, самое характерное. Когда смотришь на Э., то видишь (нарочно подчеркиваю это слово, чтобы ты не принял его за метафору) — видишь какое то сияние. Мне хотелось проверить свое впечатление, и как то недавно я нарочно смотрел на Э. целый день, не сводя глаз. Какая лучистость, какая благодатность, даже, когда он говорит несуразное (случается и это). От лица и, в особенности, от глаз, исходит что- то, — тихое, ясное и лучезарное ч τ о–т о, — то разгораясь сильнее, то почти угасая. Не знаю, как определить эту благодатную силу, но ближе всего она сродна со спокойным светом. Понимай, как знаешь: лучше не могу выразить. Но помни только, что я говорю о действительном восприятии, простом, как звук, а вовсе не так называемыми в нашей публике «поэтическими сравнениями»
[543] [544] [545].
Одним утром, когда я лежал еще в полусне, мой друг разговаривал в соседней комнате с проворовавшимся мужиком м убеждал его покаяться, говорил о мучениях совести. Ты знаешь, как нестерпимы для меня всякие наставления и как выводит из себя морализирование. Навязчивость их, их неделикатность и обычное неуважение к живой личности во имя «принципа» и схемы заставляют из одного только протеста поступить наоборот. Но тут… тут впервые, может быть, я услышал голос «власть имеющего». Такая убежденность в силе добра звенела с каждой нотой его голоса, столько жгучей любви, столько бесконечной бережности и уважения к личности было в его речах, — простых и безвычурных, что я был потрясен и уничтожен. Тут я окончательно убедился, что между нами и ним — пропасть, которой не перескочить без особой благодатной помощи, — не перескочить никакими стараниями, никакими совершенствами. Но, в неудержном благоговении, стирался всякий след гордости пред этим существом высшей породы, умолкали последние отголоски протестов: «почему он, а не…», «но, может, всякий мог бы достигнуть, если бы…» и т. п. Только овеивала чистая, бескорыстная радость, — радость, что есть предо мною живое существо, качественно иначе воплощающее идеал, что добро перестает быть объектом одного только внутреннего созерцания, и становится реальной силой, проницает телесность, вспыхивает во всем организме Э. исступленно–сияющей красотою. Я могу органами чувств воспринимать красоту–добро, осязать, видеть, слышать ее, — впивать то, что неизмеримо, качественно, существенно выше меня!
Мне приходилось наблюдать действие Э. на других. Видел я, как рыдал испачкавшийся и изгадившийся фабричный, при виде этой красоты духа оглянувшись на себя в глубокой тоске; видел еще многое другое. Но я знаю больше. — Однажды Э. и я были вынуждены прождать со сторожем при вокзале всю холодную ночь в ст0- рожевой будке. Обессиленный двумя бессонными ночами и иззябший, я невольно опустил голову на колени своего друга и заснул. Во сне он явился мне, сияющим, как Архангел, и я знал, что он отгоняет от меня все злые силы. Может быть, в эту холодную НОЧЬ, голодный и измученный, я впервые за всю свою жизнь был безусловно спокоен. Мне казалось, что я плаваю в нежно- сияющем море благодати; будто неземная сила льется в помощь мне широкими потоками света, баюкает и оживляет меня, наполняя светоносною водою живою все существо… После того вот уже прошло несколько месяцев, но до сих пор звучат в ушах у меня отголоски какой то все–умиряющей музыки, до сих пор еще разрывается грудь от радости, и восторг душит меня. До сих пор еще чувствую струю благодатной силы.
О счастье, счастье! Я видел Ангела–хранителя, — и ничего более осязательного я никогда, ни во сне, ни наяву не видал. Этот сон поднялся над явью и сновидением, дал такую реальность, которой не отнимут у меня все разрешители действительности во мнимость… Никогда с такою силою не волновало меня прошение: ‹Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим»
[546][547], как теперь, — никогда не звучал с такою победною надеждой ответный возглас лика:
«Пода–ай, Госпо–оди!»
Понятие Церкви в Священном Писании
Список пособий и справочников для настоящей работы[548] I. Монографии о Церкви и курсы догматики
1. Александр Беляев. Любовь Божественная. Опыт раскрытия главнейших христианских догматов из начала Любви Божественной. Изд. второе, исправлен, и знач. дополн. М., 1884 (особенно см. гл. V, с. 334–415).
2. Е. Аквилонов. Новозаветное учение о Церкви. Опыт догматико–экзегстического исследования. СПб., 1896.
3. И. Мансвстов. Новозаветное учение о Церкви. М., 1879.
4. Ф. Тернер. Церковь ‹философско–исторический очерк). М., 1885.
5. А. С. Хомяков. Полное собрание сочинений. Т. П. Сочинения Богословские. Прага, 1867. (Особенно см. с. 3–23. «Опыт Катехизического изложения учения о Церкви».)
6. Священник Андрей Свстлаков, законоучитель Нижегородской гимназии. Изложение учения Православной Церкви о Церкви, церковной иерархии, благодати и таинствах. Нижний Новгород, 1878.
7. Архимандрит Сильвестр, профессор Киевской духовной академии. Учение о Церкви в первые три века христианства (Исторический очерк). Киев, 1872.
8. Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский. Разговоры между Испытующим и Уверенным о Православии Восточной Греко–Российской Церкви. СПб., 1815.
9. Филарет, митрополит Московский и Коломенский. Слова и речи. Т. IV, 1836–1848 гг. М., 1882.
10. Филарет, митрополит Московский. Слова и речи. Ч. И. М., 1844.
11. Проф. И. Корсунский. Определение понятия о Церкви в сочинениях Филарета, митрополита Московского. СПб., 1895.
И. А. Иванов. О Церкви небесной. «Богословский вестник», 1906, 4, декабрь, с. 343–356.
12. А. И. Булгаков. Церковь и ее отношение к прогрессу. «Труды Киевской духовной академии», год XLIV, 1903, кн. IV, с. 548–573.
13. Владимир Соловьев. Россия и Вселенская Церковь. Перевод с французского. Краков, 1904*.
14. Вл. С. Соловьев. Собрание сочинений. Понятие о Церкви красною нитью проходит решительно через все сочинения; особенно же определенно говорится о Церкви в:
т. III «Чтения о Богочсловсчестве», с 1–151;
т. III «Духовные основы жизни», ч. II, гл. II, с. 347368;
т. IV «Великий спор и христианская политика», с. 1–95. Особенно: гл. IV, с. 44–56, гл. V, с. 57–69, гл. VI, с. 70–95;
т. IV «История и будущность теократии», книга пятая, §§ ІХ–ХХІѴ, с. 542–582;
т. VIII «Идея человечества у Августа Конта», с. 225–245.
15. II. Г(ородснский). Новозаветное учение о Царстве Бо- жисм в новейшей богословской литературе Западной. «Чтения в Обществе любителей духовного просвещения», год 31, 1894, 2, с. 747–814
[549].
16. Протоиерей П. Я. Светлов. Идея Царства Божия в се значении для христианского миросозерцания (Богословско–апо- логетическое исследование). Свято–Троицкая Сергиева Лавра, 1906.
17. В. А. Керенский. Школа ричлианского богословия в лютеранстве. «Православный Собеседник»: 1901, ч. I, с. 585622, 744–783; 1901, ч. II, с. 180–225, 378–422, 693–727; 1902, ч. I, с. 104–134, 290–303, 412–432, 593–601, 612–626, 696–722, 821–841, ч. II, с. 197–248, 389–416; 1903, ч. I, с. 288–292, 355–381, 522–534; 1903, ч. II, с. 200–242, 366–412, 639–681, 851–870
[550].
18. (Сили (Ѕееіеу)). Ессе homo. Обзор жизни и дела Иисуса Христа. Псрсв. с английского Ф. Тернера. Ч. I, СПб., 1Ѕ77, ч. II, СПб., 1878
[551].
19. Д–р Коннингэм Гсйки. Жизнь и учение Христа. Псрсв. с английского священника Михаила Фивейского. 4 выпуска. М„ 1893–1894.
20. Александр Беляев. Любовь Божественная. Опыт раскрытия главнейших христианских догматов из начала Любви Божественной. Изд. второе, исправлен, и знач. дополн. М., 1884 (особенно см. гл. V, с. 334–415).
21. Рудольф Зом. Церковный строй в первые века христианства. Пер. А. Петровского и П. Флоренского. М., 1906.
22. Епископ Сильвестр. Опыт православного догматического богословия (с историческим изложением догматов). Т. IV. Киев,; 1889, §§ 116–123: О Церкви (с. 224–305).
23. Филарет (Гумилсвский), архиепископ Черниговский. Православное догматическое богословие. Втор. изд. Чернигов, 1865,
24. A. Westphal. Qu'est-ce qu'une Eglisc? Paris, 1896.
25. Т. Fallot. Qu'est-ce qu'une feglise. Un Chapitre de Christianlsme pratique. Seconde id. Paris, 1817.
26. P. Jalaguier. De l'fcglise. Paris, 1899.
27. #
[552]D. Grca. De I'Eglise et de sa divine constitution. Paris, 1885.
28. J. Bovon. Thdologie du Nouveau Testament. Lausanne. T. 1. La vie et Tenscignement de Jdsus. 1893. Т. 2. L'enseignement des Ap0trcs. 1894. (См. особенно Т. 1, Seconde section, Chp. «La proclamation du royaume de Dieu»; T. 2, Trois. subd., Chp. L'6glise, p. 227–247.)
29. B. Weiss. Lehrbuch der Biblischen Theologie dcs Neucn Testaments. Berlin, 1868.
30. II. J. Iloltzmann. Lehrbuch der neutestaraentlichen Theologie. ВВ. 1, 2. Freiburg i. Β. υ. Lpz., 1897.
31. R. Sohm. Kirchenrecht. Bd. 1. Die geschichtlichen Crund- lagen. Lpz., 1898. (Особенно Erstes Kapitel, «Das Urchristentum».)
32. 0. Pfleiderer. Das Urchristentum, seine Schriftcn und Lchren in geschichtlichen Zusammenhang beschrieben. Zweite, neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Bd. 1 und 2. Berlin, 1902.
33#. С. B. Stevens. The Theology of the New Testament. Edinburgh, 1901.
34#. The rev. John M. King. The Theology of Christ's Teaching. With an introduction by the rev. James Orr. London, 1902.
35. P. de la Grasserie. Des religions companies au point de vue sociologique. Paris, 1899.
36. Преосвященный Антоний, епископ Уфимский. Нравственная идея догмата Церкви. «Вера и Церковь», 1901 г., т. И, отд. 1, с. 369–390.
37.# J. Gottschik. Die sichtbare und die unsichtbare Kirche. Worauf beruht dicse Unterschied und was lehrt die heilige Schrift dartiber? «Theologische Studien und Kriti- ken», Jahrgang 1873, erstes Heft, SS. 3–77.
II. Толкования на Священное Писание и справочники
38. С. Смирнов. Филологические замечания о языке новозаветном в сличении с классическим при чтении послания Апостола Павла к Ефесянам. М., 1873.
39. Д. Богдашсвский. Послание святого Апостола Павла к Ефесянам. Исагогическо–экзегстичсское исследование. Киев, 1904.
40. Епископ Феофан. Толкование пастырских Посланий святого Апостола Павла. М., 1882.
41. Епископ Феофан. Толкование Посланий святого Апостола Павла к Колоссаям и к Филимону. M. t 1880.
42. Епископ Феофан. Толкование Послания Апостола Павла к Ефссеям. М., 1882.
43. Епископ Феофан. Толкование первых восьми глав Послания святого Апостола Павла к Римлянам. М., 1879.
44. Епископ Феофан. Толкование ІХ–ХѴІ глав Послания святого Апостола Павла к Римлянам. М., 1879.
45. Епископ Феофан. Толкование Первого послания святого Апостола Павла к Коринфянам. М., 1882.
46. Епископ Феофан. Толкование Второго послания святого Апостола Павла к Коринфянам. М„ 1882.
47. Епископ Феофан. Толкование Послания св. ап. Павла к Галатам. М„ 1875.
48. М. Голубев. Обозрение Посланий святого Апостола Павла к Коринфянам. Т. I. Первое послание. СПб., 1861.
49. II. II. Глубоковский. Благовсстие христианской свободы в Послании святого Апостола Павла к Галатам. СПб., 1902.
50. II. Н. Глубоковский. Благовсстие святого Апостола Павла по его происхождению и существу. Библейско–богослов- ское исследование. Книга 1–я. СПб., 1905.
51. Толкование на Апокалипсис святого Андрея, архиепископа Кесари йского. Перевод с греческого. Издание второе иеромонаха Антония. М., 1894.
52. Обсрлсн. Пророк Даниил и Апокалипсис Иоанна. Псрсв. протоиерея А. Романова. Тула, 1882.
53. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Деяний св. Апостолов и Апокалипсиса, с библиографическим указателем. Составил инспектор Симбирской духовной семинарии М. Барсов. Симбирск, 1894.
54. (Герике). Введение в новозаветные книги Священного Писания. Перевод с немецкого под редакцией епископа Михаила. Изд. 2–е; М., 1888.
55. Ф. Думский. Церковь и Христос. Экзегетический анализ Εφ. 1, 23. «Странник», 1900, май, с. 26–51.
56. Перевод Хомякова Посланий к Галатам и к Ефесянам. (Полн. собр. соч., Т. II, сочин. Богословские, с. 379–396.)
57. В. Weiss. Die paulinischen Briefe im berichtigten Text mit kurzer Erlauterung zum Ilandgebrauch bei dcr Schriftlektlire. Lpz., 1896.
58. Chr. W. Μ tiller. Ober Matthaus 18, 15–20. «Theo- logische Studicn und Kritiken», 1857, Erster Bd., SS. 339351, особ. 347.
59. Ε. Engelhardt. Der Gcdankengang des Abschnittcs Eph. 4, 7–16. «Theologische Studien und Kritiken», 1871, Erst. Bd., SS. 107–145.
60. II. Cremer. Biblisch-theologische WOrterbuch dcr Neutestamentlichcn Gracitat. Zweite Aufl. Cotha, 1872.
61. S. Ch. Schirlitz. Griechisch-deutsches WOrterbuch zum Neuen Tcstamente. Von dritte vcrbcs. u. vcrmehrle Auflage. Giessen, 1868.
62. Carolo Ludovico Wilibaldo Grimm. Lexicon Graeco- latinum in libros Novi Testamcnti. Lipsiae, 1868.
63. loh. Caspari. Suiccri Thesaurus ccclesiasticus, e patribus graccis elc…. Amstelaedami, 1682.
64. Греко–русский словарь по Бснзслсру. Издание Киевского отделения Общества классической филологии и педагогики. Киев, 1881.
65. Gviliclmi Gesenii Thesaurus philologicus critic us linguae hebraeae et chaldaeac Veteris Testament!. Lipsiae, 1839. 3 T.
66. Fr. Blass. Grammatik dcs Neutestamentlichen Gric- chisch. Cottingen, 1896.
67. Novum Tcstamentum graecum cum lectionibus varian- tibus Codicum MSS., Editionum aliarum, Versionum et Patrum nec non commcntario pleniore ex scriptoribus veteribus Hebraeis, Graecis et Latinis Historiam et vim verborum il- lustrante opera et studio Ioannis Iacobi Wetstenii Tomus I. Continens quatour Evangelia. Amstelaedami, MDCCU.
68. Real-Encyclopadie fUr Bibel und Talmud. Ausgebreitet von Dr. J. Hamburger. Neustrclitz, 1870.
69. HandwOrterbuch dcs Biblischcn Altertums… Ileraus- gegeben von Dr. Eduard. C. Aug. Richm. Bielefeld u. Lpz., 1884. 2 Bd.
Остальные пособия будут указаны по мере надобности. За основной текст было принято издание Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Text without critical Apparatus. Published by the British and foreign Bible Society, 1904. Текст обработан Eberhard'oM Nestle, принявшим во внимание издания Тишендорфа, Вссткотта и Горта, Вейсса. Кроме того, помимо вышеупомянутого издания Вейсса, для справок я пользовался изд. Тишендорфа.
ПОНЯТИЕ ЦЕРКВИ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ
'Ημων 6ε σύμφωνο* η γνώμη τη ευχαριστία. ҡаі η ευχαριστία βεβαιοΤ την γνωμην —
«Наше учение согласно с евхаристией, и евхаристия, в свою очередь, подтверждает учение»
(Св.
Ириней Лионский: Ігеп. Пасг., IV, 18, § 5)
[553]ГЛАВА ПЕРВАЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ I
В начале исследования смутно и спутанно представляются обводы того понятия — понятия о Церкви, — которое нам предстоит выяснить. Но, каковыми бы они ни представлялись нам, одно необходимо положить наперед: Церковь не есть дело только человеческое, стоит над каждым из верующих и потому требует не просто обсуждения, но непременно обсуждения благоговейного, — с трепетом пред «великою тайною» Церкви (Еф. 5, 32). Это благоговение, этот трепет в области науки выражается со своеобразным оттенком, — характеризуется как великая осторожность. «Мы должны, — говорит Жалагье (26, 69–70), — окружить себя здесь защитой) осмотрительности, потому что мы находимся в порядке сверхъестественном. Каким бы достоверным само по себе ни казалось данное (fait), подлежащее обсуждению, индукции, из него исходящие, — очевидные и надежные, когда они непосредственны, — постепенно теряют эти свойства по мере своего отдаления; это — стези, которым нельзя доверяться вполне, иначе как под условием не продолжать их произвольно. С религиозным тщанием надо беречься не остаться по сю сторону библейской данной и не выйти за нее, ничего от нее не отнимая и ничего туда не прибавляя: работа тонкая…» Делать слишком развязные выводы из слова Божьего так же претит непосредственной вере, как невыносимо было бы видеть манипуляции со св. Дарами: и тут и там Божественное воплощено в естественном, и
тут и там — пресуществление природного (слова — в одном случае, хлеба и вина — в другом) в новую тварь.
Целомудрие в обращении с «текстами» есть основное требование богословской работы.
Но трудность этой работы еще более крепчает, а осторожность при ней должна только возрасти, если мы вспомним, что ни Господь, ни Апостолы не давали отвлеченно–логического, научного или философского понятия о Церкви (1, 7–10) (это понятие приходится вырабатывать самостоятельно) и, вдобавок, самые слова вроде εκκλησία, σωμα,
άγιος[554] и др. употребляли в особом, дотоле неслыханном смысле, полновластно влагая в них новое содержание: так «всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое» (Мф. 13, 52). «В каждой черте Слова Божия скрывается свет, в каждом звуке премудрость» (9, 49). Собрать отдельные черты, там и тут находимые в Священном Писании, объединить их в одно систематически–стройное целое и в то же время не исказить объединяемого — такова задача науки в данном случае. «Царство науки, — говорит один исследователь (1, 8–9), — есть часть Царства Божия, которое силою берется», и только «употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12)
[555] [556]. Но как это возможно?
II
Последний вопрос переводит мысль к некоторым методологическим соображениям, и нам приходится забежать несколько вперед.
Церковь имеет задачей водворить в твари Царство Божие, т. е. приобщить конечное и временное бесконечному и вечному. Как желающая даровать вечную и бесконечную жизнь, Церковь сама должна обладать ею: как желающая даровать эту жизнь конечным и временным тварям, она сама должна находиться в среде их, приобщаться их конечности и временности. Отсюда — двойственность Церкви: отсутствие одной из указанных сторон делало бы Церковь несоответствующею ее цели.
Но, заранее говоря о двойственности Церкви, мы в то же время можем предуказать, что чисто филологические изыскания не могут обнаружить этой двойственности: филологический анализ всегда будет обнаруживать одну только земную, конечную, временную сторону Церкви, и понятно, что иначе не может быть. Ведь слова сами по себе вообще относятся к конечному и временному и не могут захватить вечное и бессмертное. Филологи правильно утверждают, что всякое слово, понимаемое буквально, подвергнутое, так сказать, химическому анализу, т. е. сведенное к первичным корням, непременно обозначает что-нибудь чувственное. Отсюда уже a priori можно видеть, что сверхчувственное не в состоянии быть передано адекватно и зафиксировано тавтегорично
[557] [558] посредством слова, но может–только символически. Духовное содержание, таким образом, никогда не имманентно слову, но всегда трансцендентно ему. Нужно пресуществить слово, дабы придать ему духовность. Но и пресуществленные святые Дары для химического исследования кажутся только хлебом и вином. Тем более это относится к пресуществленным словам, даже простой, человеческий смысл которых менее доступен грубому опыту, нежели материя святой Евхаристии. Вот почему нечего нам ждать какой-то безусловно–решающей и властной резолюции от этимологических изысканий, хотя они бывают весьма поучительны как иллюстрация и пояснение уже выясненного или же как предварительное изъяснение («начерно»).
Получается, как видится, тягостная безвыходность: то, что мы можем точно исследовать, — то мало интересно и проходит мимо главного и воистину живого; а то, что интересно, — то оказывается не подлежащим точному розыску. Важное и существенное улетучивается из слов ранее, нежели мы бросили их в филологический тигель. Одним словом,
Что нужно нам, то мы не знаем,
Как же выскользнуть из этой ловушки?
Ill
Мы старались показать (см. также приложение I, где в виде примера разобрано слово altos') недостаточность, порою же и ложность исследования, базирующегося на чисто–внешнем анатомировании слова и не начинающего с живой души его. Имя предмета заступает и подменяет самый предмет, а в результате — последний оказывается порою не только спорным, но часто даже искаженным. Примеры такой подмены слишком общеизвестны (см., напр., 1, 11–17), чтобы стоило указывать их. Для нашей же темы смешение догматического богословия с языкознанием повело к явному вреду, и наивысшим выражением его была фиксация односторонне–земного, решительно–эмпирического и правового понятия о Церкви в катехизисах митрополита Филарета (Московского)
[561]: явно, что определение его исходило из той мысли, что «уже самое наименование предмета обыкновеннее всего дает и понятие о нем» (10, 20); действительно, фила- ретовское определение выводится из названия, как это тонко показывает покойный И. Корсунский (10, 21 след). Но если изучение имени (при котором изучается вдобавок слово–оболочка, созданное давно и совсем для иного содержания) не дает и не может дать само по себе несомненного постижения предмета мистического, каковым, конечно, является Церковь и, с другой стороны, источник нашего понимания — Священное Писание — написан именно словами, то мыслимо, значит, одно только: изучать не самые слова, но возбуждаемые ими переживания в духе, т. е. видеть в словах как бы живые образы, душа которых остается невредимой лишь при непосредственном прикосновении к словам, обнаженным духом
[562]. При этом, троякое существование слов- образов, и оно, как увидим, всецело находит себе оправдание в дальнейшем, а именно:
1. Слов а–гі о н я τ и я, возбуждающие наиболее отвлеченные идеи, причем переживаемое душою, так сказать, адекватно воспроизводит содержание, душу слова. Из этих слов построяется в Священном Писании догматик о–м етафизическое определение Церкви, если только термин «метафизический» прилагать к Священному Писанию.
11. Слов а–с и м в о л ы, возбуждающие в духе известные конкретные образы и представления, являющиеся типическими заместителями некоторой категории бытия — некоторого рода бытия, взятого в его всеце- лостности. Эти слова подобны художественным типам и дают своими сочетаниями догматик о–с и м в о — лическое определение Церкви, Переживаемое в духе художественно воспроизводит содержание слова, как тип воспроизводит свой род во всей его всецелост- ности, — как образец известного вещества дает полное понятие о свойствах всего вещества.
12. Слов а–э м б л е м ы, возбуждающие в духе известные представления, но уже не типические, а только подобные по некоторым своим качествам содержанию слова. Они образуют догматик о–а л л е — горическое определение Церкви.
Первые два рода определений стоят в теснейшей связи между собою и совокупно взятые дают не метафору, а точную метафизическую и мистическую формулу для изучаемого объекта, — в данном случае — Церкви.
Сделав эти предварительные методологические замечания, мы можем приступить к прямому изучению понятия о Церкви. Заметим только, что указанные замечания — не предвзятые схемы, под которые мы намерены подвести данные Священного Писания, но отвлечения от самой работы, могущие ориентировать читателя и потому предпосылаемые самой работе. Не предпослав этих замечаний, автор рисковал бы подвергнуть себя вопросам, на каком основании известные слова Священного Писания он использовал так, а не иначе.
ГЛАВА ВТОРАЯ ДВОЙСТВЕННОСТЬ ЦЕРКВИ I
Как бы в ответ («а Я говорю» — χάγώ
δέ σο с λέ^ω) на торжественное исповедание ап. Петра (Мф. 16, 16), говорившего от лица Апостолов, по крайней мере, с молчаливого их согласия, Богочеловек Иисус торжественно обещал создать святую Церковь Свою (Мф. 16, 18–19)
[563]. Воля Божеская и воля человеческая встретили друг друга, как встретились они в момент благовещенья Пресвятой Деве Марии. И, как тогда родился Богочеловек, так теперь, после благовещенья Господня Петру, родилось Богочеловечество. Неразрывно связанная с Творцом Своим и божественным Виновником и неотделимая вместе с тем от человеческого условия своего, Церковь по самому происхождению своему носит двойственный характер, и ее существенная дуальность, dualite constitutive (26, 65) или двойственность характера (26, 63) дает себя знать в каждом движении церковного тела (если понимать его по–библейски). Мало того, эта двойственность природы простирается (хотя и в ином виде) даже на Основателя и Главу Церкви и, в конечном счете, в двуединстве последнего находит свое конечное объяснение, равно как в Нем же находит себе объяснение двойственная, земно–божественная природа таинств. Церковное двуединство Божеского и человеческого под несколько иным углом зрения определяется иначе, а именно как двойственность основания веры и результата ее, как основание для единства людей и ассоциация их, как теократия и антропократия (26, 64), Именно- двуединство, ибо каждый из дуальных терминов, взятый односторонне и исключительно, или же взятый вне должного отношения к другому, повел бы к экклезиологическим ересям, весьма напоминающим хри- стологические ереси первых веков и евхаристиологи- ческие — эпохи реформации и позднейшей (1, 60–99). Мало того, равновесие и единство двух начал Церкви (подобное же должно сказать и о двух природах в Иисусе Христе и о двух началах в Евхаристии) дается только непосредственному религиозному опыту, для человека, находящегося в Церкви, и всякая попытка рационализировать его содержание ведет к антиномической борьбе двух начал, которые для рассудка являются взаимно–исключающими и несовместимыми, тогда как разумом требуются именно в своем двуединстве. Однако, эти антиномии полезны тем, что ясно подчеркивают, что нет Церкви без наличности двух начал. Укажем же детальнее некоторые из таких столкновений.
Церковь есть собрание верующих. Но чтобы это собрание не было отвлеченным понятием, чтобы Церковь была чем-то большим, нежели простая сумма индивидов, простая куча, необходимо ей иметь сперва свое собственное бытие. «Церковь не есть только собрание людей (верующих) ‚ но прежде всего то, что их собирает, т. е. данная людям свыше существенная форма единения, посредством которой они могут быть причастны Божеству» (14, т. III, с. 351). Своею проповедью святые Апостолы присоединяли к Церкви новых членов; но, чтобы присоединять, они сами должны были сперва присоединиться к Церкви, и, значит, Церковь есть нечто, лежащее в основе общества людей, а не один только результат их объединениія (26, 39). Это выразительно указуется в Деян. 2, 41, где про уверовавших сказано, что они присоединились (προσοτέφησαν) после проповеди апостола Петра. Предсуществование Церкви видно и из Εφ. 1, 4, где говорится, что Бог избрал верующих во Христе «прежде создания мира» (έξελέξατο ημάς си αύτω (Χριστώ) προ καταβολή?
κόσμου).
Таким образом, «Церковь есть одновременно: выраже ние христианской жизни и среда, в которой христиан екая жизнь совершается. Она — и содержание, и сосуд» (3, 1; ср. 3, 16).
«Церковь представляет, следовательно, — говорит Жалагье (26, 29–30), — два указанные вида или две формы, — два вида весьма различные, хотя они беспрестанно переходят один в другой. Она открывает миру истоки духовной жизни и, однако, сама она рождается в тех, кто рождается в эту жизнь. На первый взгляд, она есть причина, а на второй — следствие».
Эти два взгляда, обособленные друг от друга, производят соответственно две экклезиологические теории. По первой из них, Церковь–всӧ, верующий — ничто. Это — своего рода экклезиологическое монофизитство, ех орсгс орсгаіо
[564] обожествляющее человеческую сторону Церкви и уничтожающее индивидуальную волю, индивидуальный подвиг и индивидуальную веру.
По второй из таких теорий, Церковь сама по себе- ничто, верующий же — всӧ, ибо Церковь рассматривается как «естественный продукт христианской веры и жизни, как простой постулат евангельских начал и чувствований» (26, 30). Это — «род индивидуалистического идеализма» — «плод того крайнего субъективизма, который характеризует умственное течение наших дней» (26, 30). Его можно сравнить с арианством
[565] в области христологии.
И, наконец, крайнее разделение Церкви на «Церковь невидимую» или «Церковь мистическую» и «Церковь видимую» или «Церковь эмпирическую» соответствует у реформатов ереси несторианской
[566] в области христологии.
Единственное средство поддержать в рассудочном исследовании гармонию двух церковных начал — это менять точку зрения, то смотря на Церковь снизу вверх, восходя от субъективного, человеческого начала, то- сверху вниз, нисходя из объективного, божественного.
Продолжаем прослеживать две стороны Церкви.
Снизу Церковь является только «королларием христианства», «случайным продуктом веры» (26, 54)
[567] и «раскрытием веры» (26, 78)
[568], «учреждением» и «ассоциацией» (26, 54). Естественно, что при таком понимании Церковь приобретает характер исключительно антропократическйй — то аристократии, то (и по преимуществу) демократии. Но в этом злоупотреблении принципом человеческого права, человеческой свободы и автономии (26, 51) церковный порядок с необходимостью переходит в анархию (26, 51), Истина церковного сознания (догмат) раздробляется в «простую смесь личных верований» (13, 134) и «произвольных мнений» (13, 102), а в жизни церковной, преимущественным моментом которой являются таинства, «испаряется содержание» (25, 70)
[569]. Одним словом, при таком воззрении, Церковь представляется «слишком человеческой» (Fallot)
[570], а вера уступает место субъективному «ве- ренью» (выражение Хомякова)
[571].
Но Иисус Христос не сказал: «будет созиждена тобою, Петр (или: вами, апостолы; или, наконец: людьми вообще), Церковь твоя (или, соответственно: ваша, их)», но сказал: «Созижду, οικοδομήσω» (Мф. 16, 18), т. е. «Я, Иисус Христос, Которого только что ты, Петр, исповедал Сыном Божьим» и, притом, «Созижду Церковь Мою, μου την сэеэеЛђсгсаі›», а не Церковь апостолов, Петра или вообще людей. Этим самым точно указывается, что Церковь есть дело более, нежели человеческое, дело Сына Божия, благовещенное Им в один из самых торжественных моментов земной жизни и потому имеющее для Него особую, исключительную ценность. Следовательно, Церковь не есть один только результат человеческий (26, 42), не только результат веры, но и основа для нее (26, 46); не только цветок веры, но и ее корень. «Учение Церкви не есть смесь личных мнений» (13, 1), но истина, «столпом и утверждением» каковой является Церковь (1 Тим. 3, 15) (26, 46). Сказано: στυλό? зеас
εδραίωμοί τη? αλήθεια? (1 Тим. 3, 15)
[572][573]η?, т. е. не одной из истин, не человеческой частной и дробящейся истины, но Истины всецелостной, Божественной и единой. Но может ли быть таким утверждением «море» (Откр. 13, 1; 21, 1) мятущихся человеческих мнений? Ответ несомнителен: Церковь, как чисто человеческое учреждение, как «общество», никогда не может породить чего-то выше себя, чего-то сверхчеловеческого, т. е. не может быть носителем и поддержкою, «столпом и утверждением» τη? αλητεία?
[574]. Но она–именно такова, по слову Апостола, и, значит, при взгляде на нее сверху сказывается надмирной и пре–мирной, божественной, сверхъестественной.
Однако и в подчеркивании этой стороны Церкви не должно переходить границ: преувеличение божественного момента в Церкви ведет к пантеистическому обожествлению ее (26, 52 и др.). Таким образом, для образования Церкви индивидуальная вера необходима, но недостаточна (28, т. II, 230). Такая вера, — да и всякое действие человеческое, как бы оно ни было прекрасно, — есть и остается все-таки не более, как человеческой верой и не носит, следовательно, того характера божественной абсолютности, который необходимо присущ церковному
[575] [576].
Дуальная природа Церкви ведет к необходимости различать в ней два элемента, две стороны: безусловную и относительную. На этом устанавливается возможность понимать историю Церкви, ее рост.
«По божеству своему Церковь, как святыня, охраняемая преданием, есть нечто безусловно–неизменное и неподвижное (статический элемент, στάσι? Церкви), по человечеству своему, напротив, Церковь имеет относительный и практический характер, есть нечто подвижное и изменчивое (динамический элемент Церкви, ее ХІѴЛСГis). Церковь движется и изменяется, но это движение и изменение не может быть бесцельным и хаотическим. Многообразные силы человечества объединяются, их действия направляются руководящим началом духовной власти, божественной в своем существе, человеческой в своем проявлении и деятельности. На неподвижной основе церковного предания свободные силы человечества должны согласно двигаться под общим руководством духовной власти. Таким образом, вторая, человеческая сторона — ее практический подвижной элемент — в свою очередь представляет два противоположные полюса: власть и свободу» (14, т. IV, 49).
Но, будучи элементами различными и потому неслиян- ными, Божеское и человеческое нераздельно соединены в церковном организме друг с другом. Господь Иисус Христос не есть только Основатель Церкви, внешний для нее самое и для ее жизни, потому что Он одновременно и Учитель и Содержание учения, и Норма жизни и Источник такой жизни, и Начало Церковной истории и ее сердцевина и жизненный нерв. Отношение Христа к Церкви существенно отлично от отношения разных религиозных деятелей к основанным ими религиозным обществам. В то время как такие деятели, даже самые великие, всегда являются только primi inter pares
[577], Христос есть явление исключительное и несравнимое со своими последователями. Ученики Магомета жили его учением, а ученики Иисуса Христа — Им Самим. «К нему, — говорит преосвященный Феофан (42, 67) ‚ — тяготеет всё течение событий, как периферия к центру, к Нему сходятся все радиусы круга времен».
Итак, элемент Божеский и человеческий необходимы в Церкви. В свою очередь не случайны друг для друга и оба момента человеческой стороны Церкви -власть и свобода, и возможность роста Церкви «в мужа совершенного» (Еф. 4, 13) обусловлена гармонией и равновесием их. Ведь Церковь не может «увлекаться по стихиям мира» (Кол. 2, 8), не может меняться, как меняются зыблющиеся человеческие институты. Земные учреждения — «как прах, возметаемый ветром с лица земли» (Пс. 1, 4); но Церковь растет органически в высшем смысле этого слова. Новое не отменяет, не уничтожает старое, но утверждает и раскрывает его. Таков истинный рост в отличие от простого б ы — в а н и я. Следовательно, старое Церкви не исчезает в потоке нового, не затопляется им, но неотменно охраняется властью; и новое не топчется в чуть пробивающихся ростках старым, но подымается, питаемое свободою.
Власть и свобода в своей гармонии делают здоровою жизнь Церкви. Но в своей исключительности каждый из этих принципов имеет следствием болезненное состояние той части, того органа церковного тела, в котором объявилась такая исключительность.
Принцип власти, взятый в своей односторонности, как начало насильственного объединения, неминуемо уничтожает вес новое, и Церковь поместная окоченевает в мертвенной неподвижности единства. Происходит окостенение церковного организма, а психический поток чрезмерно замедляется, переходя в моноидеизм. Таков результат тирании коллективного сознания над индивидуальным.
Напротив, принцип свободы, взятый в своей односторонности, как начало раздробления, тоже насильственного, неминуемо уничтожает всё старое, и Церковь поместная разлагается в сектантском безудержье множественности. Происходит, так сказать, размягчение костей у поместно–церковного организма, а психический поток делается бурным, так что отдельные элементы его теряют между собою всякую связность. Таков результат «тирании индивидуального сознания над коллективным» (24, 54).
Впрочем, дальнейшие подробности этих вопросов относятся скорее к каноническому праву, истории западных исповеданий, сектовҫдению и т. п., так что мы не считаем нужным развивать их
[578] [579].
III
Из всего сказанного (носящего несколько предварительный характер) нам особенно важно, что Церковь есть бытие Богочеловеческое, и отсюда вытекают два положения, которые необходимо запомнить. А именно:
1. Церковь, с догматической стороны, всегда должна рассматриваться соотносительно как с Иисусом Христом, чрез Которого Она сродна Божеству, так и соотносительно с людьми, в нее входящими, посредством которых Она роднится с миром.
2. Церковь, по своей мистической природе, необходимо имеет неизгладимые черты Своего Господа, а по эмпирической — черты тех людей, которые в Нее входят.
Это и будем видеть в дальнейшем.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ДОГМАТИКО–МЕТАФИЗИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ I
Чтобы составить себе правильное и живое представление о Церкви, как ее понимает Священное Писание, необходимо, конечно, раскрыть идею Церкви с помощью всех трех видов определений: метафизического, символического и аллегорического. Только совокупность всех их даст наглядную картину, а не одни только контуры или одни только цветные пятна.
Но из сказанного выше (гл. 1, § III) о догматико- символическом и, тем более, догматико–аллегорическом определении явствует, что правильность их понимания есть естественное последствие правильного непосредственного отношения к тексту. Где же истинный центр, откуда отношение между отдельными элементами само собою складывается в перспективное целое? Где корректив непосредственного отношения? Где вход в библейское представление о Церкви? С чего начинать?
Ответ на это ясен. Догматик о–м е τ а φ и — зическое определение Церкви, как наиболее бедное живым содержанием, но вместе с тем наименее подверженное субъективным искажениям, одно только может быть ключом к идеям о Церкви в Священном Писании, Так, — по крайней мере постольку, поскольку известное понимание этих идей притязует на общезначимость, не хочет оставаться чисто–субъективным, но в то же время не смеет ссылаться на озарение свыше (то, что католические богословы называют rcvelatio sccundaris), подобное бывавшему у многих святых.
Чтобы иметь возможность правильно воспринять слова–эмблемы, необходимо руководиться для них коррективом в словах–символах; коррективом для последних же будет догматико–метафизическое определение. И начинать необходимо именно с него, чтобы затем пополнить его отвлеченность конкретным содержанием, даваемым определениями символическими и аллегорическими.
Вместе с тем ясно, что последних может быть по нескольку, но первое — необходимо одно и единственно. Иначе Священное Писание могло бы быть понимаемо ad libitum
[580] — и так и этак.
II
Основной вопрос в учении о Церкви–это отыскать догматико–метафизическое определение Ее — начало клубка, после которого размотается и весь намот. Но отыскать такое определение еще не достаточно: надо доказать, что оно именно таково, а доказав, надо затем уяснить его. Этим и займемся.
С формальной стороны полное определение Церкви находится в Εφ. 1, 23. Но, прежде нежели приводить текст, установим последовательность предшествующей мысли Апостола (Εφ. 1), чтобы тем облегчить дальнейшую задачу.
Святой Апостол благословляет Бога за Его дело спасения, имеющее конечною целью «всё, небесное и земное, возглавить во Христе» (1, 10), в Котором — «залог» спасения. Поэтому, услыхав о вере ефесян во Христа, Апостол благодарит за них Бога, вспоминая в молитвах своих чтобы и ефесянам дано было постигнуть искупительное дело Божие и величие Его могущества. Это величие проявилось в следующих отдельных моментах истории спасения: «Бог воскресил Христа из мертвых и посадил одесную себя» выше всех горних сил и выше всякого имени; хаі. πάντα ύπέταξεν (о Ѳсоѕ) ѵпӧ τоиӯ πόδαг осѵхоѵ (του Χρίστου), χαL αυτόν (τον Хрмгхӧѵ) έδωκεν κεφαλήν υπέρ πάντα ττ} εκκλησία, ήτι^ έ<ττίν
τό σωμα αυτοί), τό πλήρωμα του τά πάντα έν πάσο ν πληρουμένου (Εφ. 1, 22, 23) -«И всё (Бог) покорил под ноги Его (Христа) и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего всё во всем»
[581].
Общее стремление Апостола не возбуждает сомнений. Ему надо, именно, раскрыть величие дел Божьих, направленных к спасению всего «небесного и земного». Поэтому немыслимо допустить, чтобы в этой переполненной содержанием тираде, где экономия слов доведена до максимума и предложение лепится на предложение, а сжатость их весьма затрудняет понимание текста, — чтобы в такой тираде было бы хоть что-нибудь, не идущее прямо к той цели, которую ставит себе Апостол. И потому мы не можем предположить, чтобы стих 23–й был простым констатированием, простым заявлением. Несомненно, и он тоже (даже по преимуществу он!) служит общей цели. Какой же именно? Всмотримся: Апостол говорит, что Бог:
1) воскресил Христа, т. е. выделил Его из ряда всех других существ, не воскресающих;
2) посадил выше всего, т. е. доказал делом, что выделил, явно обнаружил его превосходство;
3) покорил это всё под ноги Его, т. е. это всё заставил признать обнаруженное превосходство Христа;
4) поставил Главою Церкви над всем.
Тут, несомненно, идет усиление, climax, и Апостол выдвигает на вид моменты всс более и более сильные, чтобы убедить читателя в главной мысли своей аргументации. Но могло бы показаться неясно, в чем же разница между покорением всего под ноги Христу и поставлением Христа Главою над всем. Вот эта-то разница и уясняется стихом 23–м, определяющим, что такое Церковь.
Всё покорено Христу, всс под ногами Его. Но это — именно покорение, т. е. нечто насильственное, внешнее. Бог же хочет полного преодоления всего. Он имеет в виду всс, «небесное и земное возглавить Христом» (Εφ. 1, 10), и потому Ему недостаточно, чтобы всё было только покорено Христу. Необходимо органическое соединение, а не механическое подчинение. Залогом первого и служит Церковь. Бог, говорит апостол Павел, поставил Христа главою Церкви, т. е., значит, сделал Церковь внутрен- н е связанною со Христом. Последнее и выражается словами: «ибо Церковь есть тело Его, всецело наполнена Его благодатными силами»
[582], т. е. существует в полной, не только внешней, но и внутренней зависимости от Христа — Главы. Это и значит быть телом Главы, как и наоборот: потому-то Он и Глава, что Церковь такова, какою ее описывает Апостол (Тело).
В подтверждение этого понимания можно сослаться и на авторитет Иоанна Златоуста и Экумения
[583]‚. говорящих, что Апостол прибавляет: «…Которая есть тело Его», чтобы кто-нибудь, услыхав слово «Глава», не понял его в смысле «Начальник», «власть», но понял в смысле собственном; другими словами, сказанное добавление сделано, чтобы показать «родство и близость» Церкви ко Христу
[584] и высоту, на которую вознесена Церковь
[585].
Отсюда следует, что стих 23 б (т. е. предложение, начинающееся с τίχсѕ
[586][587]) ‚ поставленный на конце рассуждения, по смыслу имеет центральное место, ибо в нем — ключ ко всей аргументации. Не будь этого последнего по месту стиха — являются сомнения, точно ли, что осуществляется дело спасения. Последний стих (23 б) разрешает вопрос, и поэтому он-как бы балка, на которой уравновешиваются все отдельные тяги аргументации. В этом — его существенная, незаменимая значимость, которая, в конечном итоге, вся приводится к слову с‹гхіѵ
[588] в ст. 23 б. Этот важнейший скреп не может быть непрочным, это єсгѵі ν не может иметь метафорическое значение. Необходимо следует из всего предыдущего, что εστίν имеет реальный, буквальный, метафизический смысл.
Евхаристийные формулы (Мф. 26, 27; Мр. 14, 22; Лк. 22, 19; 1 Кор. 11, 24), в грамматическом отношении тождественные с разбираемым определением, признаны Церковью за метафизические, а не за метафорические; не метафорическое значение в них kcrciv было главным базисом в полемике с протестантами (1, 43–44). Помимо всех прямых требований понимать это Ь‹гтСѵ и в Εφ. 1, 23 как выражение метафизической истины, как подлинное «есть», а не только как «подобна», — помимо этих прямых требований, мы должны были бы сделать это из-за простой последовательности, дабы не нарушить православное учение об Евхаристии. Да тут и более глубокая, нежели чисто формальная, связь двух «εστίν». Евхаристия стоит в теснейшем мистическом отношении к Церкви*; можно даже сказать, что «Таинство Тела и Крови» есть один из моментов общей церковной жизни. Было бы непонятно, как Церковь, которая не есть Тело Христово, а только подобна ему, может быть органом для совершения одной из своих функций (Евхаристии), которая бесконечно выше ее. И вместе с тем оказалось бы, что каждый из верующих, вкушающих Святые Тело и Кровь, ассимилирующий их, выше, нежели Церковь.
До сих пор, желая сохранить цельность рассуждений, мы не разбавляли их филологическим анализом, хотя и опирались на него молчаливо. Однако не лишне привести доселе подразумевавшийся разбор слова тһгсѕч
Слово ӧ‹гтіѕ или Ӧӯ–ТСӯ (женский род -^farts') основным своим значением имеет: кто бы ни, который бы ни,
qui aliquis, welcher eincr. Но по большей части (особенно в позднейшее время, а в новозаветном языке чуть не всегда)
ӧ‹гres
[589] имеет более специальные значения, среди которых мы отметим два, как чаще всего встречающиеся и, вместе с тем, наиболее отклоняющиеся от основного.
1. і›сггсг, вообще имеющее неопределенное значение, в Новом Завете часто (Гримм (62, 313)
ф указывает 34 случая) «относится к определенному предмету (но, однако, так, что он чрез то подводится под лежащее в основе его общее понятие» (61, 263)
[590][591] и имеет значение: некоторый каковой, некоторый который, сіпег der, еіпег welcher — «ad unam quidem personam vel rem refcrtur, sed ita ut respiciatur ad universam notio- ncm vel classem ad quam haec una persona vel res per- tinct eoque modo qualitas indicetur; aliquis qui; (von der Art wie; ein soicher, welcher)» (62, 313).
2. «В ӧ‹гссѕ· может также лежать указание на основание, ибо он, поскольку он, как латинское ut qui, quippe qui» (62, 313)
[592]. «Usui jam illustrato (см. 1) finitimus est, qua reddendae rationi inservit: tales qui-quippe qui, ut qui» (61, 264)
[593][594].
Таким образом, неопределенное &rris (основного значения) получает эссенциальное или каузальное значение указанных частных случаев, т. е. приобретает характер термина. — В первом случае им устанавливается индивидуальный предмет в его сущности; во втором — в его соотношении с некоторым следствием, из него вытекающим. Ясно, что оба этих частичных значения не исключают друг друга.
Это «аргументирующее» (57, 374)
[595] значение особенно оттенено в Рим. 16, 3 сл. ф
[596] посредством радом стоящего ӓӯ
[597], причем ставится ӧ‹гг с ѕ* или ӧѕ в зависимости от того, нужно ли сделать простое заявление или же дать характеристику (66, 109) Поэтому употребленное в Εφ. 1, 23 местоимение "ђхчу нельзя переводить просто: «который», ибо оно заключает пояснительный к предшествующему момент, как в Рим. 2, 14, 15. Для оттенения этого пояснительного момента, заключающегося в іј тс у, можно с полным правом в переводе прибавить «именно»
[598]: «которая, именно (quae quidcm), есть тело Его» (39, 328). Все предложение построено «argumentiercnd», подобно как Кол^ 2, 23; 3, 5 и др. (57, 374).
"Нтсу подчеркивает последующее за ним Ь‹гхСѵ‚ делает логическое ударение на нем. Последнее при указывает либо на эссенциальность всей фразы, либо на каузальность ее, либо на то и другое вместе, так что ею устанавливается не случайное сходство Церкви с τό σαμα, а тождество сущности там и тут, являющееся причиною того, что Христос — Глава не в метафорическом, а в подлинном смысле. Христос — Глава, ибо Церковь — тело, и тело не в его акцидентальных признаках, а в его существе; значит, и Христос — Глава по существу, существенно, внутренне, а не случайно и внешне.
Этим, собственно, мы считаем доказанным догматико- метафизическое значение разбираемого текста Εφ. 1, 23. Но сейчас мы увидим новое основание для того же утверждения.
III
Разобрав, имеет ли экзистенциальное значение связка c<rr£i\ мы обращаемся к предикату всего определения, к τό σώμα и к τό πλήρωμα
[599]. Прежде всего обращает на себя внимание член τό при σώμα, равно как и при параллельном ему πλήρωμα. Член при существительном обычно является индивидуализатором, выделяющим объект из ряда ему подобных (66, 143 след.), тогда как без члена объект имеет смысл одного из многих, или же слово употреблено как абстракт.
Но как понимать член при сказуемом? Ведь, вообще говоря, при сказуемом–существительном и сказуемом–прилагательном не бывает члена. Однако при особенных обстоятельствах случается и обратное сказанному. Так, например:
ουχ ουτός εστίν о τ έκτων (т. е. который известен под этим именем; Мр. 6, 3).
ύμεΕ? έ<ττε τό αλας τη? Tffi? (Мф. 5, 13)
υμεΖς έστε τό φως του κόσμου (Μφ. 5, 14)
ό λύχνο? του σώμα το? εστίν ό όφϋαλμο'ς(Μφ. 6, 22) σύ εΓ ό χριστός о υιός του θεου (Μφ. 16, 16) σύ εΓ ο βασιλεύς των 'Ιουδαίων (Μρ. 15, 2)
εγώ είμι ή άνάστασο? και ή ζωή (Ин. 11, 25),
далее Ин. 1, 4, 8 и проч. (66, 153)
[600]. Смысл приведенных мест прозрачен: тут говорится не о соли, свете и проч. вообще, не о некоторой соли (сіп Salz) и т. д. наряду с другою солью и т. д., а о том, что одно только имеет или доступно иметь это название, — о том, что несет в себе самую суть тех свойств, за которые обычная соль, обычный свет и проч. получают свое имя (66, 153).
Итак, τό σώμα в Εφ. 1, 23 б значит: не одно из тех, не тело вообще, а тело κατ9 εξοχήν, — тело, по преимуществу заслуживающее этого названия, — бытие, несущее в себе самый принцип телесности, — тело в чистейшем и совершеннейшем виде и смысле, — объект, в высочайшей степени совокупляющий в себе все то, за что отдельные тела называются телами, — Само тело или, одним словом, — Тело. Отсюда еще раз усматривается, что Εφ. 1, 236–не метафора, не сравнение Церкви с телом, но онтологическая формула, в которой за Церковью утверждается самая сущность телесности (в противоположность внешним и случайным признакам сходства, на которых основываются всякие уподобления и на которых так часто играют ходячие уподобления Церкви, как известного общества, — организму). Апостол говорит со всею решительною отчеканенностью и лаконическою энергией, как бы сосредотачивая все внимание читателя на небольшом количестве слов:
«Церковь есть Тело Христа», И на этом утверждении висит вся аргументация 1–й главы.
Как сказано, член τό, поставленный при сказуемом, делает явным, что Апостол не хочет говорить об одном из признаков Церкви (напр., о ее неодолимости), не хочет оставаться на ее периферии, но углубляется в самые недра ее бытия, в ее метафизическую природу. Поэтому-то мы и сказали, что апостольское определение Церкви есть определение онтологическое, а не метафорическое или акцидентальное. Что это так, можно сослаться еще на одно обстоятельство.
Из восьми случаев, где стоит σώμα в качестве подлежащего (во всем Новом Завете), только в двух (1 Кор. 12, 12; 12, 20 б) оно поставлено без члена, тогда как в остальных шести–с членом. Из них два (Кол. 2, 17, 19) говорят прямо о Теле Христовом, а четыре остальных (1 Кор. 12, 12 а, 14, 17, 20 а) — о теле вообще, но применительно к Телу Христову, имея его в виду, равно как и вышеупомянутые два случая σώμα — подлежащего без члена.
Отсюда явно, что σώμα — подлежащее вообще, а тем более означающее Тело Христово, ставится с членом.
Но, кроме того, мы имеем еще три случая σώμα- сказуемого. В двух из них, а именно:
ос πολλοί сѵ σώμα έσμεν (Рим. 12, 5) и
υμεΖς δέ έστε σώμα Χρίστου (1 Кор. 12, 27)
σώμα — сказуемое стоит без члена, тогда как в тјтсӯ (ή εκκλησία) εστίν τό σώμα αύτου (του Χρι,στου) (Εφ. 1, 23).
Это и понятно. Первые два места указывают на акци- дентальный признак людей — входить в состав Тела Христова (акцидентальный, ибо человек может быть и лишен его) ‚ тогда как в последнем указывается признак уже не акцидентальный, но конститутивный. То, что для человека — приобретение, для Церкви — самая сущность. Этим еще раз доказывается онтологичность определения Церкви в Εφ. 1, 23.
В таком же выделяющем и усиливающем значении член при σώμα с особою наглядностью употребляется Евангелистами также в применении к евхаристийному Хлебу, и тут устанавливается (уже раз — гл. III, § 2 — указанная мельком) связь Церкви и Евхаристии. Имеем следующие места:
τουτό έστιν τό σώμά μου (Μφ. 26, 27)
τοϋτό εστίν τό σωμά μου (Μρ. 14, 22)
τουτό έστιν τό σωμά μου τό υπέρ υμών διδόμενον (Лк. 22, 19)
τουτό μου έστι τό σώμα τό υπέρ υμών (1 Кор. 11, 24).
Везде при сказуемом σώμα стоит член τό, ибо речь идет не о теле вообще, а о теле κατ' εξοχήν‚ о Теле истинном. Напротив того, всюду, а именно в:…λαβών о › Ιησού? αρτον зеас ευλογ–ησας (Мф. 26, 27)…λαβών αρτον ευλογ–ησas (Μρ. 14, 22)
…και λαβών αρτον ευχαρίστησα? (Лк. 22, 19)
…ελαβον αρτον και ευχαρίστησα? (1 Кор. 11, 23).
Хлеб назван άρτος без члена, ибо этот хлеб до «благодарения» (которое следует за актом взятия и, в свой черед, предшествует евхаристий ному «примите, ядите») есть просто хлеб, один из хлебов. По освящении же его молитвою благодарения, во время произнесения евхаристийных «примите, ядите» и при вкушении его он уже не простой хлеб, но хлеб по преимуществу, Сам Хлеб, о άρτος -Хлеб, и в этом убеждаемся, сличая данные места с 1 Кор. 10) 16–17 и Ин. 6, 33, 34, 35, 41, 55 и др. Тут везде говорится о αρτο? (с членом), и притом этот ό άρτο? мыслится тождественным с τό σώμα. Истинный Хлеб=Истинному Телу. Этим опровергаются рационалистические возражения, будто в Священном Писании не содержится учения о Евхаристии.
Итак, комбинируя все сказанное, мы делаем заключение: Церковь есть (метафизически, субстанционально, а не образно
[601] [602]) Истинное Тело Христово.
Но что такое, собственно, Тело, понимаемое метафизически? Посмотрим сперва, не даст ли чего лингвистика.
IV
Греческое σώμα–тело происходит, по–видимому, от корня санскритского ska, греческого σω?, лежащего также в основе слов: σάο?, σόο? — здравый, целый; σώο?, σώ? — благополучный, здравый, спасенный;
σώχος — сильный, здоровый; σαόω, σώζω (вернее — σώζω) — лечу, излечиваю, спасаю; σω–τήρ — спаситель, целитель. Сопоставляя поэтому σώμα с σωτήρ и с σώζω, мы можем сказать, что эти слова относятся друг к другу как результат или орудие действия
(ενέργημα, effectus vis) к действующему (о
ενεργών, auctor) и к процессу действования (ένεργέω). А так как окончание τήρ равносильно окончанию τή^, то σώμα: σωτήρ: σώζω»ποίημα: ποιητή?:
ποιέω -χτίσμα: χτίστη?:
κτίζω κτλ
[603]. В параллель греческому можно притянуть и русское словообразование… (по Хомякову). Тело от санскритского корня тал, тил — быть полным, жирным
[604] (т. е., по древним представлениям, — здоровым, крепким).
Выясним (1, 26 след.; 60, 539–542; 64, 730–731; 61, 373; 62, 417–418) теперь словоупотребление σώμα. Собственное значение σώμα, вероятно, оболочка (от ska). Отсюда у Гомера оно употребляется как «бездыханное тело», cadaver. Позднейшие писатели употребляют σώμα в значении одушевленное тело, видя в нем «сосуд жизни» (60, 539) и, как таковой, противополагая его душе — содержимому, Ψυχή. В других случаях (у апостола Павла и в позднейшей церковной литературе) это дихотомическое воззрение на человека уступает место трихотомическому и тогда делается возможным соединять понятия σώμα и ψνχη (σώμα ψνχιχόν), как не исключающие друг друга. В иных случаях σώμα с присоединением ανθρώπου или без него означает лицо, индивид. У святых отцов σώμα означает вещество или материю, из соединения которой с душою состоит целый человек; жилище души, — всякое творение; покров и одеяние души; человека, особенно же подвластного господину своему. Наконец, греческое σώμα означает всякого рода людей, объединенных в целое, в корпоративное тело или σωματεΖον, σωμάτιο v.
Вглядываясь в вышеприведенное словоупотребление σώμα, мы можем сделать некоторые общие выводы. Прежде всего, σώμα мыслится не само по себе, а как стоящее подчиненным высшему началу, для которого σώμα является сосудом, оболочкою, орудием, обнаружением и без которого σώμα — только труп. Σώμα — это начало пассивное, воспринимающее, имеющее источник действия в другом, но не самодействующее, хотя и имеющее реальность. Как таковое, оно имеет характер подвластности и в силу этого особенно подходит к обозначению раба, служащего как бы телом для своего господина. Отмеченное чертою служебности, σώμα естественно имеет инструментальное, орудное назначение: не оно действует, а посредством него совершается действие, и тем самым σώμα делается выявлением внутренней мощи, в противоположность σάρξ, обозначающему всего человека (17, 1902 г., ч. II, 38, 94) или же телесность по ее материальной стороне (60, 521—524) и т. п. Посредственность тела особенно явствует из слов Апостола: ♦…всем нам должно явиться пред судилище Христово^ ІѴа κομίσηταο έκαστο? τα δια του σώματος тгроӯ а стграҪсѵ›» (2 Кор. 5, 10). Это бса не достаточно подчеркивается в обычных переводах
[605] и обозначает опосредствование (Vermittelung) действий посредством тела, так что приводимый текст имеет смысл: ♦средством для чего было ему тело» (60, 540).
Из того факта, что σώμα означает по преимуществу физическую, видимую, наиболее осязательную, так сказать, часть человеческой природы, — из этого приходится видеть в нем не отвлеченное нечто, не абстракт, а вещь (в широком смысле) ‚ — нечто, обладающее объективным бытием. Эта сторона σώμα с настоятельной энергией представлена теми случаями, когда σώμα значит совокупность, целое, как, например, τό του κόσμου σώμα
[606] [607].
Корнесловие же σώμα (от σω?) показывает, что σώμα, будучи орудием, есть орудие, направленное ко благу, спасению, целости, невредимости, защите его обладателя и других.
Объединим отдельные штрихи, отмеченные в значении σώμα. Мы можем при этом охарактеризовать σώμα как некоторое реальное (в противоположность призрачному, мнимому, словесному) бытие, являющееся орудием, посредством (в противоположность бытию самостоятельному, самодовлеющему, самодеятельному и всецело автономному) спасения и вообще всякого блага (в противоположность орудию вреда и всякого зла) для целостного существа и, значит, отдельных его органов, поскольку они связаны со всем организмом (в противоположность частным целям и задачам, являющимся сепаратными от общих и целокупных, каковы, например, эгоистические интересы отдельных: органов)·
Таково метафизическое, наиболее очерченное зерно этого, вообще говоря, расплывчатого и многомысленного, понятия σώμα.
Учение о Церкви развито по преимуществу у апостола Павла, и потому важно было бы проверить раскрытое только что понимание σώμα как орудия духа и, следовательно, Тела Христова — Церкви, — как орудия Христова Духа, на словоупотреблении этого Писателя. Этого достигаем, сличая соответствующие
[608] места, где упоминается σώμα. Во всех этих местах σώμα имеет значение орудия, «да, притом еще, такого орудия, посредством которого верующие освобождаются от житейских скорбей и несчастий, исцеляются от всяких, телесных и душевных, недугов, очищаются от грехов, становятся причастниками Христовой святости, короче: опять живут истинною жизнью в единении с Богом». Формула: «Церковь — Тело Христово» значит: «Церковь есть спасительное орудие Христова Духа» или, короче, «спасительное Христово орудие» (1, 27).
V
Такова идея о Теле Христовом при известном рацио- нализировании. Но отвлеченность ее допускает довольно легко подсунуть туда несоответствующее конкретное содержание, которое, по–видимому мало разнясь от надлежащего в начале, с необходимостью отклонит сознание в решительно неподходящую сторону при своем усилении. Этот подмен может быть совершен на почве соотношения Церкви и верующих. Чтобы ближе выяснить отношение Церкви к верующим и обратно, разберем, как именно квалифицирует Священное Писание совокупность верующих. Апостол говорит: οι πολλοί сѵ σώμά с‹гџсѵ с ν Χροστώ (Рим. 12, 5); сѵ σώμα оі πολλοί с‹гџсѵ (1 Кор. 10, 17); νμεΖ? St с‹гхс σώμα Χρήστου (1 Кор. 12, 27), т. е. «мы многие составляем одно тело во Христе» (Рим. 12, 5); «одно тело составляем мы многие» (1 Кор. 10, 17); «а вы (верующие) — тело Христово» (1 Кор. 12, 27).
Замечательно, что во всех трех случаях стоит не εν τό σώμα, но просто εν σώμα (без члена), откуда следует
[609], что верующие (ήμει?, ύμει?) не суть само Тело (=Церковь), а только причастны ему, — присоединяются к нему, входят в него, тоща как само оно есть нечто большее, нежели простая совокупность верующих
[610]. Верующие — тоже Тело Христово, но не существенно, не в себе (per ѕе); не образуют и пополняют его, а только входят в него, приобщаясь его. Напротив того, ή έκκλησία εστίν
το σώμα αυτού (του Χρίστου) (Εφ. 1, 23). Итак, было бы крайней погрешностью против логики (не говоря уже о вере) повторить за сплошь и радом делающимся силлогизмом:
major: ή έκκλησία τό σώμα του Χρίστου;
minor: οί πιστοί «σώμα του Χρίστου;
ergo, conclusio:
οί πιστοί -ή έκκλησία
[611], —
силлогизм тем более заманчивый, что филологически, согласно корнесловию εκκλησία (см. гл. ѴІЇ, § I), conclusio, действительно, выходит правильное. Чудовищность подобной ошибки делается особенно чувствительной (и уже не только формально–логически (quaternio terminorum), но и содержательно), если переписать сделанное в таком виде: ό πιστό? α + ό πιστό? β + ό πιστό? γ +…+ ό πιστό? κ«ή εκκλησία. Выходит, что механическое прикладывание «верного» к «верному» придает их сумме новую метафизическую природу, делает их ή εκκλησία или, что то же, τό σώμα του Χρίστου. Проведенная мысль о нелепости такого силлогизма резко подчеркнута в 1 Кор. 10, 16–17. Τον αρτον оѵ κλώμεν, ουχί κοινωνία του σώματο? του
Χρίστου έστιν; ό'τι ει? αρτο?, £ν σώμα οί πολλοί έσμεν οί γαρ πάντε? εκ του ένό? άρτου μετέχομεν (I Кор. 10, 16–17) — «Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один Хлеб и мы многие- одно тело; ибо все причащаемся от одного Хлеба».
Тут сопоставляется рядом ό αρτο?, т. е. ό αρτο? έκ του ούρανου ό αληθινό? — «истинный Хлеб с неба» (Ин. б, 33; ср. Ин. 6, 34, 35, 41, 55 и др.), Хлеб по преимуществу, который и есть истинное Тело Христово (τό σωμα του Χρίστου), Тело по преимуществу
[612], и целокуп- ность (ос πάι>τε?) верующих, которые–тоже суть Тело Христово (ио уже не Само Тело), но не тело в себе, а только тело по причастию Истинного Тела. Общение
(κοινωνία.) Тела истинного делает целокупность верующих тоже Телом Христовым. Чтобы стать Телом Христовым, верующим нужно
μετέχειν[613] в Вечном, Едином Хлебе — Теле.
Массивность понятия Церковь — Тело защищена от атаки номинализма. Но как же конкретно представить, что такое Церковь? Если нам недостаточно отвлеченных характеристик, то необходимо обратиться к созерцанию конкретного, к опыту. Но, конечно, чувственный опыт не может раскрыть существа Церкви — объекта мистического в самой своей основе и во всех своих проявлениях. Поэтому только мистический опыт способен удовлетворить нашему желанию. Но тут кончаются границы догматики и начинается область аскетики.
Чтобы в этом смысле уразуметь природу Церкви, необходимо жить в церковной атмосфере, быть членом Церкви
[614]. «Только тот понимает Церковь, — говорит А. С. Хомяков (4, 63), — кто понимает Литургию». А «вера не только мыслится или чувствуется, но, так сказать, и мыслится и чувствуется вместе; словом, — она не одно познание, но познание и жизнь». «Истина не поддается отвлеченным понятиям» (Отрывки из соч. св. Иринея Лионского, цит. по 1, 68).
Не задаваясь, однако, целью излагать святоотеческое учение о Церкви, мы не станем множить мест вроде приведенных. Да, в сущности говоря, свидетельствами и разъяснениями невозможно дать не знающему в личной своей жизни общения с Церковью конкретного представления о ней как о Теле Христовом. «Кто вышел из Церкви, для того она перестает быть образующим Тело Христово обществом верующих, но является только религиозною общиною, — ни больше, ни меньше» (1, 1956)
[615]. «Norunt fidelcs corpus Christi, si corpus Christi esse non negligant
[616] [617]», — говорит блаж. Августин.
Но как же представилась бы Церковь для религиозного опыта высшей ясности? Священное Писание прямо не говорит о том. Но авторитетный толкователь, архиепископ Солунский Николай Ҟавасила
[618], известный не только как глубокий мыслитель и богослов, но и как жизненно изведавший истину догматов, дает следующее важное указание. «Церковь, — пишет он, — указуется тайнами, не как символами, но как сердцем указуются члены, как корнем дерева — отрасли и, как сказал Господь, как виноградною лозою ветви: ибо здесь не одинаковость только имени и не сходство подобия, но тождество дела, так как тайны суть тело и кровь Христа… Если бы кто мог увидеть Церковь Христову в том* самом виде, как она соединена со Христом и участвует в плоти Его, то увидел бы ее не чем иным, как только телом Господним. По этой-то причине Павел пишет: «…вы есте тело Христово и уди от части» 1 Кор. 12, 27»
[619].
Вот как была бы воспринята Церковь в мистическом опыте. «Итак, Церковь есть совершенно новое, особенное и единственное на земле бытие (unicum)
[620], которого нельзя с точностью определить никаким понятием, взятым из мирской жизни»
[621]. Этот unicum можно
[622] также отождествить с богозданным Естеством Человеческим, раздробленным в грехопадении и собранным в Тело свое Господом Иисусом Христом. «Тем самым действием, — говорит митрополит Филарет (7, 24–25)
[623], — которым ты вступил в союз с Церковью Греко–Российскою, ты насажден, яко член в теле Христовом: не ясно ли, что в оной видимой Церкви таинственно находится невидимое тело Христово, или как бы часть сего тела, составляемого из верующих всех времен и мест?»
Вот этим отношением Тела Христова к верующим обусловлено то, что Господь, Адам с неба (ср. 1 Кор. 15, 47), может быть назван не только Богочеловек, но еще и Человеко–человечеством (25, 21), ибо Тело Христово — Церковь — «типически реализована»
[624].
Как величина «премирно–религиозная» (17, 1903 г., ч. II, 646)
[625], Церковь не должна и не может рассматриваться как результат или естественный продукт исключительно человеческой деятельности. Объектом оправдания (так учит, между прочим, и А. Ричль
[626] (17, 1903 г., ч. II, 671)) является Церковь, — «Естество Человеческое», — а дело индивида — усвоить себе оправдание уже через посредство Церкви. Но «усвоить оправдание» — это не значит быть в Церкви, точнее сказать — числиться ее членом, но значит — быть вчле- ненным в самое Тело Христово. Священное Писание (например, 2 Тим. 3, 5; Мф. 5, 22 и др.) резко различает эти два случая, говоря об истинной принадлежности к Церкви и лукавой. «Се sont deux сһоѕсѕ fort differentes que d'etre dans l'Eglise ct d'etre de TEglisc» (26, 172)
[627]. Иначе и быть не может, раз верующие присоединяются к Церкви, но не составляют ее в подлинном смысле этого слова (26, 39); см. Деян, 2, 41–47. Но, раз «привитые к Церкви», верующие не являются чем-то внешним для нее. Они в подлинном смысле ассимилируются Телом Христовым, делаясь его членами. Поэтому в страданиях и муках бывают не они только, индивидуально, но и все Тело Христово и, значит, также Глава Его — Христос. Страдания Христа — страдания Церкви, и обратно, страдания Церкви и членов ее суть страдания Христа. Сам Господь сказал: «Пребудьте во Мне (т. е. вы, ученики Мои) и Я в вас» (Ин. 15, 4). Это и было на деле, например, во время гонений, поднятых Савлом. Савл гнал членов Церкви Христовой, как сам он о том свидетельствует: так, церкви иудейские услышали, что «преследовавший их некогда ('0 διώκων ήμаӯ) ныне благовествует» (Гал. 1, 23); «вы слышали…, — обращается Апостол к Галатам, — что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее»
(εδίωχον τ–ην εκκλησίας του Θεου seat
επορ&ονν αυτήν, Гал. 1, 13, ср. 1 Кор. 15, 9); когда Савл обратился, то «все дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие (Христово), да и сюда за тем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам» (Деян. 9,21: ό πόρθησα?.;. του? εγκαλουμένου? τό δνομα τούτο; αυτούς), и Савл сам сознается в том, что он «даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин и женщин» (Деян. 22, 4: την
οδον έδίωξα αχρι θανάτου, δεσμεύων χα
L παραδί,δού? cisr φύλακα?
ανδρας τε xat τυιχχΓχα?). Но Господь Иисус, явившийся Савлу на пути в Дамаск, не сказал ему: «Савл, Савл, за что гониши Церковь Мою?», как не сказал и того, «за что гонишь членов Церкви», но сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня, τ£ με διώχει?» (Деян. 9, 4) и затем пояснил еще: «Я — Иисус, Которого ты гонишь, '
Εγώ сіџс Ίησου? ον <τύ δί,ώχει?» (Деян. 9, 5). И первое восклицание Христа Павел повторяет еще в Деян. 26, 14; 22, 7, второе же, пояснительное, в Деян. 26, 1Ј; 22, 8. Так относительно страданий.
Так же и в благоденствии. «Принимающий вас (учеников Христовых) принимает Меня», — говорит Господь (Мф. 10, 40; Ин. 13, 20); «Кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает» (Мф. 18, 5). Поэтому-то Господь скажет: «Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 35–36), тем, которые «сделали это одному из братьев Моих (Христовых) меньших», потому что «сделали это Мне (Христу)» (Мф. 25, 40). Напротив, те, которые не сделали это «одному из меньших», не сделали и Христу (Мф. 25, 41–45).
Подобных мест можно было бы легко привести много еще. Но достаточно и приведенных для общего вывода, что страдания и радости членов Церкви суть в то же время страдания и радости Церкви и Христа. Если только не хотим обратить это положение в пустую метафору, то неизбежно признание, что Христос, Церковь и верующие связаны реальным (а не нравственным только) единством.
Напротив того, страдания Христа — в то же время страдания Церкви и членов ее, равно как и прославление Христа — прославление Церкви с ее членами. Эта идея с особою силою раскрыта в творениях аскетов и слишком общеизвестна, чтобы стоило подробно останавливаться на ней. Кто не знает, что верующий должен сораспинаться и соумирать Христу, чтобы с Ним же со- воскреснуть и сопрославиться? (Ср. 1, 141).
«Я ношу язвы Господа на теле моем», — пишет апостол Павел (Гал. 6, 17); «а я не желаю хвалиться, — заявляет он же, — разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, Которым для меня мир распят, и я для мира» (Гал. 6, 14); «я сораспялся Христу» (Гал. 2, 19); «неужели вы не знаете, — пишет он римлянам, — что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?., погребались с Ним крещением в смерть… мы умерли со Христом» (Рим. 6, 3, 4, 8) и т. д. Поэтому Господь требует от каждого, хотящего идти за Ним, взять крест свой (Мф. 10, 38; 16, 24) и быть готовым на самые тяжкие страдания и лишения (Мф. 20, 23, 26–28; Ин. 13, 15, 20), «носить в себе мерт- вость Господа» (2 Кор. 4, 10; Рим. 6, 6–8), чтобы, по мере умножения в нас страданий Христовых, умножалось Христом и наше утешение (2 Кор. 1, 5). «Если мы–тело Христово, — поучает св. Иоанн Златоуст
[628], — то неси крест, ибо и Он нес; переноси заплевания, заушения, прободение гвоздьми: таково было Его тело, хотя оно было безгрешно».
VI
Выяснив до известной степени понятие о Церкви, как Теле Христовом, мы возвращаемся к разбору Εφ. 1, 23, потому что там осталось еще дополнительное определение, раскрывающее понятие Церкви. Определение это предвосхищает результаты экзегезиса — раскрывает, чем и как живет Тело Христово. Пояснение это тем более необходимо, что ранее Христос был назван «Главою» Церкви. Нужно теперь пояснить, чем именно Он исполняет функцию «Главы» и как заметна на церковной жизни Его Бого–человеческая природа. Ведь голова сама по себе есть орган один из многих, хотя бы и первый по значению, primus inter pares. Но вместе с тем она является физическим носителем разума в человеке, начала уже сверхфизического, как бы наполняющего все тело, все органы. Так же и Христос, по человечеству своему будучи главою, как отдельным органом, вместе с тем, по Божеству, стоит выше, так сказать, органических категорий и, подобно душе, наполняет все Тело. Впрочем, не останавливаемся пока на этом, ибо еще будем иметь случай вернуться к тому же.
Церковь, говорит Павел, — τό πλήρωμα του τά πάντα сѵ πασ<.ν πληρουμένου (Εφ. 1, 23 б)
[629]. Слова эти, по признанию всех толковников, отличаются высокою степенью непонятности, происходящей главным образом от слишком большой сжатости речи, «составляют своего рода экзегетический сшх и потому изъясняются весьма различно» (39, 330). Западные исследователи (о том- ниже) видят тут «гностические влияния», и это еще более запутывает понимание текста. А так как от решения его зависит очень многое, то мы не должны жалеть места для подробного разбора загадочных слов.
«Имея в виду теснейшую связь их с предшествующими, наиболее естественно предполагать, что они составляют ближайшее определение: τό σώμα αύτου, т. е. Церковь, будучи телом Христовым, есть в то же время πλήρωμα и, именно, πλήρωμα Христа–του τά παντα сѵ πασον πληρουμένου, Поэтому нельзя принять толкования, что субъектом при πλήρωμα служит Христос, а под του τά πάντα с ν πάσι,ν πληρουμένου разумеется Бог–Отец, причем получается мысль, что Христос есть πλήρωμα Того, Кто все во всем наполняет» (39, 330). (Это — толкование Эразма, Ветштения, Мейера и др., считающих ^тсу с‹ггсѵ τό σώμα αύτου за вводное предложение, а τό πλήρωμα κτλ непосредственно относящимся к αυτόν έδωκεν из Εφ. 1, 22.) (там же, прим. 3.) Точно так же трудно считать субъектом при πλήρωμα Церковь; а του… πληρουμένου относить к Богу–Отцу невозможно, ибо, начиная с 20–го стиха, лицо не меняется и под αύτου разумеется Христос.
Другим основанием того же утверждения (а именно утверждения о цельности 23–го стиха) может служить параллелизм двух половин стиха 23–го:
τό σώμα αύτου τό πλήρωμα… πληρουμένου.
В силу этого параллелизма субъектом при πλήρωμα и при σωμα служит одно и то же понятие; а так как при σώμα субъектом стоит, несомненно, Церковь, то то же должно сказать и относительно πλήρωμα. Субъектом же при του… πληρουμένου, равно как при αύτου, должно разуметь Христа.
Наконец, третьим основанием для того же заключения будет параллельность Εφ. 1, 23 б с Еф. 4, 10. Последнее место указывает (АӦ: в том же послании) цель «нисхождения и восхождения Христова» как то, «чтобы он наполнил все», Ι'να πλήρωση τά πάντα. Отсюда опять вытекает, что του… πληρουμένου подразумевает Христа; а тогда τό πλήρωμα нельзя разуметь иначе как относящимся к Церкви.
Этим доказана цельность стиха 23–го.
VII
Нет сомнения, что в рассматриваемой 2–й части 23- го стиха слово πλήρωμα, как ближайшим образом определяющее Церковь, имеет наиважнейшее значение, и отсюда понятны многочисленные попытки выяснить смысл этого слова. Но экзогетика, по–видимому, исчерпала филологические средства, а чего-нибудь действительно бесспорного и незыблемого так и не удалось добиться. Ни попытки (Робинзона, Ляйтфута и др.), полагавшие в основу изысканий окончание исследуемого слова на μα, ни исследования, опирающиеся на словоупотребление, не могут
[630] быть признаны решающими, и потому, сославшись на источники
[631], мы только пробежим бегло основные моменты в значении πλήρωμα.
Слово πλήρωμα, равно как и глагол πληρόω, имеет санскритского родственника в виде слова пул — быть великим, быть в сборе, в кучке — русское полнить, полный, полк
[632], откуда и латинское populus, plenus и проч.
Отсюда πληρόω — 1) наполняю, делаю полным, заставляю изобиловать; 2) дополняю, восполняю, совершаю, заставляю превосходить все, привожу к концу, осуществляю (verwirklichen) ‚ привожу в исполнение задуманное и проч.
[633]Из значения πληρόω явствует и общее содержание πλήρωμα, но затруднительность более точного разбора в modus'e этого содержания. Вообще говоря, под πλήρωμα можно разуметь:
1) in quod impletur seu impletum est; все то, что чем-нибудь наполнено, восполнено, т. е. видеть в πλήρωμα форму страдательного залога и значения действительного. Так понимаемое πλήρωμα — πίτπληρωμένοί'.
Тут действие полноты направлено от того объекта, который поставлен в родительном падеже.
2) id, quod implet seu id quo aliquid impletur; все то, чем наполнено что-нибудь, т. е. тогда в πλήρωμα нужно видеть форму действительного залога, а значение — страдательного. Так разумеемое πλήρωμα
= πληρούν. Тут действие полноты направлено на тот объект, который поставлен в родительном падеже.
3) соріа, abundantia; изобилие, т. е. нужно рассматривать πλήρωμα абсолютно, как результат акта, отвлеченный от самого акта.
«Само по себе слово πλήρωμα не указывает ни на действительное, ни на страдательное значение, ни на конкретный, ни на абстрактный характер предмета» (55, 31), и потому, взятое отдельно от других членов предложения, не может самоопределять своего значения, которое формируется лишь контекстом (55, 32). Рассмотрение πλήρωμα ео ipso
[634] естественно перебрасывается на рассмотрение стоящей при πλήρωμα конструкции. Последняя-то и служит реактивом для той или другой окраски соответственного πλήρωμα.
Рассматривая примеры
[635] вроде: πλήρωμα τη? γης (1 Кор. 10, 26; Пс. 24, 1 и проч.); πλήρωμα τη? οικουμένη? (Ис. 50, 12; 88, 12); πλήρωμα τη? θαλασσή? (Пс. 96, 11; 97, 7; πλήρωμα δρακός (1 Пар. 16, 32); Еккл. 4, 6) и т. п., убеждаемся, что здесь говорится о том, что вещи наполняют землю, вселенную, море, горсть и проч. Действие полноты переходит здесь на землю, вселенную, море, горсть и проч., и, следовательно, их родительный падеж есть родительный объекта. Πλήρωμα имеет смысл «id quod implet», т. е. материальной полноты. Следовательно, если со словом πλήρωμα соединяется представление о материальной полноте, то конструкция непременно должна иметь такой вид: πλήρωμα — действительного значения, а существительное — родительный объекта.
Напротив, в примерах вроде: τό ήττημα αυτών… τό πλήρωμα αυτών (Рим. 11, 12) τό πλήρωμα τών εϋνών (Рим. 11, 25)
πλήρωμα ευλογία? Χρίστου (Рим. 15, 29)
παν τό πλήρωμα τη? Φεότητο? (Кол. 2, 9) и т. п., говорится, что «они», язычники, благодать, Божество и
проч. наполняют. Не на все это направляется действие полноты, а от всего этого, причем главное внимание обращено на конечный результат наполнения; πλήρωμα значит: quod implelur scu impletum est. Поэтому при таком представлении полноты, как результата (вот причина, почему такое πλήρωμα может быть передано чрез perfectum
[636]) ‚ конструкция будет следующая: πλήρωμα — действительного значения, а существительное — родительный субъекта.
Наконец, третий случай, это когда πλήρωμα имеет значение
πλ–ηροχτις (62, 355; 61, 303 ff.), т. е. акта наполнения. Подобно этому (62, 233)
[637], καύχημα, θέλημα, ϊαμα, κήρυγμα, κλαυμα,
φρόνημα, γέννημα употребляются иногда заместо χαύχησι?, θέλησα?,
ιαχτις, (ppovqcrts, γέννησις.Так, например, в фразе: «Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть исполнение закона» — πλήρωμα
ουν τον νόμου ή
αγαπη (Рим. 13, 10) — πλήρωμα имеет значение исполнения, соблюдения
[638], obscrvatio (62, 303), Beobachtung (61, 303) и потому может быть передано как actio implcndi
[639]. Чтобы уяснить, какова должна быть конструкция при πλήρωμα в данном случае, сократим предложение: «вы исполняйте заповеди» (Ин. 14, 15). Чтобы сокращение было правильно, т. е. чтобы сохранилось указание на процесс, необходимо сказать: «ваше исполнение заповедей» или «исполнение вами заповедей». Действие переходит с субъекта («вы») на объект («заповеди»). Таким образом, конструкция при πλήρωμα будет иметь новый вид: πλήρωμα действительного значения, и при нем имеется два родительных падежа — субъекта и объекта. Итак:
«1) при выражении словом πλήρωμα материальной полноты конструкция принимает такой вид: πλήρωμα имеет действительное значение и требует после себя родительного объекта;
2) при выражении чрез πλήρωμα результата наполнения конструкция совершенно иная: πλήρωμα имеет страдательное значение и требует после себя родительного субъекта;
3) при выражении словом πλήρωμα процесса наполнения употребляется отличная от первых двух конструкция: πλήρωμα в действительном значении и два существительных — родительных объекта и субъекта» (55, 34).
VIII
Вопрос сводится к тому, какая именно конструкция стоит при πλήρωμα. Но решить этот вопрос не так-то просто. Однако, чтобы конкретный смысл того или иного решения был явен, мы пробежим a parte priori
[640] основные типы экзегезиса для данного места Εφ. 1, 236. При этом все несчастье — в том, что каждое толкование, правильное или нет со стороны текстуальной, по смыслу не является безусловно неприемлемым и даже не исключается смыслом остальных. Епископ Феофан заявляет: «Слова эти темноваты и дают разные мысли» (42, 110), а после того перечисляет все возможные толкования (там же, 110–114).
Первое из них, получающееся, если отнести πλήρωμα ко Христу, мы уже отвергли. При нем «будет такая мысль: Бог дал такую главу Церкви, которая выше всего; ибо сама есть полнота божества, полнота Того, Кто наполняет Собою всё» (там же, ПО). Второе понимание, если относить πλήρωμα к Церкви, двоится, смотря по тому, кого разуметь под о πλιηρονμενος — Бога–Отца или Иисуса Христа. «Если Бога–Отца или вообще Божество, то мысль будет такая: Бог всё наполняет, но дӱши и сердца отпадших людей не наполняет; ибо они закрылись для Него. Верою в Господа Иисуса Христа они отверзаются, и Божество входит в них и исполняет их. Все верующие составляют Церковь и, быв исполнены Богом, ее делают исполненною Им. Так понимает блаж. Феодо- рит» (там же, 110–111).
Если разуметь под о πληρούμενο? Иисуса Христа, то вся 2–я половина 23–го стиха будет продолжением 1–й, поясняя ее, давая ей дальнейшее движение и приложение… Св. Златоуст говорит: «Апостол считает как бы недостаточным название главы для того, чтобы показать родство и близость Церкви ко Христу. — Показать родство и близость… т. е. показать, что в Церкви и христианах всё Христово. Она полна Христом; Он ее наполняет всю, во всем составе и во всех членах по частям, — и в ней и в членах ее Он всё исполняет.
В таком случае слова сии переложить можно так: я же есть Тело Его, — полнота Его, исполняющего всс во всех (членах ее). Его–свет ведения, присущего Церкви, которым Он исполняет ревнителей святости. Его — благотворения, любовью к коим исполняет Он благотворителей. Его — всякие другие дарования духовные, видные в Церкви, ибо Он ими исполняет способных вмещать их верующих. В Церкви — всяческая и во всех Христос (Кол. 3, И)» (там же, 111–112).
Πλήρωμα можно также понять как восполнение или пополнение. «В таком случае слова Апостола будут внушать, что Церковь дополняет Христа» (там же, 112). Как это возможно, поясняет Златоуст: в стихе 23–м последние слова «значит, Церковь есть исполнение Христа точно так же, как голову дополняет тело и тело дополняется головою… Видишь, Апостол представляет, что для Христа, как главы, нужны все вообще члены… Тело Его вполне составляется из всех членов. И значит: тогда только исполнится глава, когда устроится совершенное тело» (там же, 112). Так полагают и Эку- мений с Феофилактом. Последний пишет: «…исполняется Христос, и как бы пополняется членами чрез верующих; рукою пополняется в человеке милостивом, ногою — в ходящем с проповедию или посещающем немощных, всяким другим членом в других верующих» (там же, 112–113). Наконец, сам епископ Феофан пишет: «Церковь — исполнение Христа, может быть, подобно тому, как древо есть исполнение семени. Что в семени совмещено сокращенно, то в полном развитии является в дереве. И Христос Господь сказал о Себе: аще зерно пшенично, пад на земли, умрет, мног плод сотворит (Ин. 12, 24). По смерти Его, воскресении и вознесении, в каком обилии стали прилепляться к Нему верующие; а дотоле Он был будто один. — И точно — спасенное и обоженное в Господе Иисусе Христе человечество, и одно, всё совмещает. Но как оно не для себя самого, а для людей, то, пока оно одно, все еще будто не полно, поколику не исполнено еще то, для чего оно таково. Прилепление верующих к Нему исполняет то, для чего оно таково, и тем пополняет Его. Как верующие суть Церковь, то выходит, что Церковь есть восполнение Христа — Своего главы. Сам в Себе Он полон и всесовершенен; но еще не во всей полноте привлек к Себе человечество. Оно постепенно все более и более общится с Ним, и чрез то как бы Его пополняет, — делу Его давая приходить чрез сие в полноту исполнения» (там же, 112–113).
В сущности говоря, из круга этих толкований не выходят и западные ученые· Некоторые исторические соображения их, независимо от правильности или неправильности их, не меняют догматического содержания разбираемого места. Важно отметить только то, что πλήρωμα, по словам Гольтцманна (30, И, 240–244), во многих местах является, как terminus tcchnicus
[641], не требующий объяснения для читателей и, за утерей точного его смысла сейчас, чрезвычайно затрудняющий наше понимание, — понимание людей нового времени. Проще всего, по мнению того же богослова, понимать πλήρωμα, как оно разумелось в гностических кругах (30, I, 481–483; 32, И, 219)
[642] (т. е. в онтологическом смысле). Но большой вопрос, имеет ли πλήρωμα и этическое значение; по крайней мере Еф. 3, 19 мы не можем разуметь «в смысле этического идеала», как это полагает Гольтцманн (30, II, 242). Заметим, кстати, что мысль западных ученых о параллелизме πλήρωμα у Павла и у гностиков не может считаться неправославною, ибо гностики, весьма возможно, заимствовали этот terminus technicus у Апостола и придали ему несколько иное содержание.
То или другое понимание πλήρωμα, будучи существенно различно для понимания текста, не вносит существенных различий в догматическое содержание его. В самом деле, каждое из возможных решений логически влечет за собою, как- выводы, и все остальное. Начнем с того, которое, как будет впоследствии доказано, текстуально более правильно, а именно с того, что Церковь — τό πλήρωμα, ибо она исполнена благодатными Христовыми силами и энергиями. Но ведь благодатные силы Христовы не что-нибудь внешнее для Него Самого, а обнаружение и раскрытие Его природы, актуальное выявление того, что имело своим назначением раскрыться в Церкви. Это — в развернутом виде мессианство Христа, бывшее до своего обнаружения только потенцией, ибо если Иисус — Сын Божий в отношении к Отцу, то Мессия — в отношении к человечеству. А раз так, то Церковь, так сказать, напитанная Христовыми силами, является, конечно, восполнением Господа, дополнением к Нему, как к Мессии, а мир есть дополнение, восполнение Божества, как Творца. Ведь всякое актуальное выявление известной потенции и внутренней мощи всегда
служит ее восполнением; художник, конечно, не зависел от своего творения, но тем не менее оно восполняет его. Так и Церковь, наполненная внутренней полнотою Христа, сама является восполнением Его, тем более что на ней в раскрытом виде отпечатлеваются основные черты ее Наполнителя, Его внутреннее содержание. Но этого мало. Христова полнота — Божья полнота, и в этом смысле придется повторить о Боге–Отце все сказанное о Христе. Тогда Церковь придется рассматривать как наполненность Отцом и, вместе с тем, восполнение Его (в выше раскрытом смысле). И, наконец, так как Христос «наполнен» Божеством, то и про Него можно сказать, что Он — восполнение Божества. Следовательно, все толкования находят свое место и, установив одно из них, со ipso, мы устанавливаем все остальные. Прочее же для догматики не важно. Во всяком случае, если только мы станем относить πλήρωμα к Церкви, а о πληρούμε ѵоѕ
[643] — ко Христу, то этим будет установлено «между Христом и Церковью отношение взаимной обусловленности» (32, II, 219), в силу которого Церковь будет наполненностью Христом и дополнением ко Христу одновременно.
IX
Оттенок слова πλήρωμα неопределим вне конструкций при разбираемом слове. Поэтому последующей (за πλήρωμα) ступенью является решение вопроса о залоге πληρουμένου. Но так как глагол πληρόω может образовать и participium medii, и participium раѕѕіѵі
[644] в такой форме, то поставленный вопрос в свою очередь заставляет обратиться к зависящему от πληρουμένου — τά πάντα έν πάσο v.
Робинзон (см. 55, 36) видит в нем наречное выражение, равносильное английскому all in all и означающее в с е ц е л о, — нечто вроде усиленного παντάπασιν. При таком понимании πάντα с ν πάσο ν есть «стереотипное наречное выражение», в котором обе части слились в одно неразрывное целое. И если прав Робинзон, то πληρομένου имеет значение страдательного залога. Но многочисленность случаев этой комбинации, и притом слегка вариируемой (1 Кор. 15, 28; 16, 6), показывает, что мы имеем дело не со «стереотипным выражением», а с terminus tcchnicus. В (τά)* πάντα και, έν πασον
Χριστός (Кол. 3, 11) союз
και свидетельствует о самостоятельности каждого члена, а выражение
τοις πασιν γέγονα πάντα (1 Кор. 9, 22) еще более убеждает в самостоятельности этих речений и собственной их силе. Итак, в Εφ. 1, 236 должно разбирать порознь τά πάντα (вин. пад.) и
εν πασιν (дат. с предл.) (55, 35). Прежде всего, как понимать τά
πάντα? Если это- винительный отношения, то πληρουμένου — страдательного залога, если же τά πάντα — винительный прямого дополнения, то πληρουμένου — среднего залога. Но τά
πάντα не может быть понимаемо в первом смысле и, следовательно, непереводимо чрез речение «в отношении ко всему». В самом деле, местоимение πα? без члена имеет общее, неопределенное значение в с я к и й, каждый (не каждый в отдельности, как ίίχαστο?, но любой), и тогда только πάντα (без члена) употребляется в форме винительного отношения. Ό πα^ означает весь, весь до единого, исключительно весь и «противополагает целое или совокупность его частям»; от о πας винительного отношения не может быть
[645]. Это различение πάντα и τά πάντα поясняется на следующих примерах: του τά πάντα
ενεργούντος (Εφ. 1, 11)
о… Ѳєоӯ ο ενεργών τά πάντα έν πασ4ν (1 Кор. 12, 6) του τά πάντα έν πασιν πληρουμένου (Εφ. 1, 236) αυτό? διδονς πασι ζωήν seat πνοήν και τά πάντα (Деян. 17, 256),
т. е. «Сам давая всем жизнь и дыхание и всӧ». і'ѵа η о Θεός πάντα εν πασιν (1 Кор. 15, 286)
πάντα και εν πασιν Χριστός (Кол. 3, 116)
Κά^ώ πάντα πασ<,ν αρέσκω (1 Кор. 10, 33),
т. е. «и я угождаю всем во всем».
Итак, τά πάντα означает совокупность, целокуп- ность, всецел остн ость чего-то, определяемого ближайшим образом в словах
εν πασιν. Вместе с тем τά πάντα есть непременно винительный прямого дополнения. А так как это слово не зависит ни от выражения έν
πασιν, ни от
το πλήρωμα, то остается признать, что оно зависит от причастия πληρουμένου. Следовательно, του πληρουμένου есть причастие среднего залога и должно быть переведенным чрез форму действительного с добавлением «себе», т. е. «для исполнения, для реализации, для осуществления своих планов, своих намерений» (62, 354)
[646].
Обращаемся к Ьѵ иа‹гіѵ.
Различие этого выражения от τά πάντα заключается прежде всего в отсутствии члена тосӯ, что, в противоположность τά πάντα, указывает на нечто частичное, — скорее многое, нежели всӧ, и во всяком случае на все (или многое) незаконченное, не обладающее единством. Τά πάντα — это множественность, ставшая законченной и объединенной, всеединство (на что указывает и средний род), тогда как Ьѵ πασί,ν–только множественность, без характера единства, в своем противоположении все — единству и законченности. Но вопрос в том, какого рода это έν πασιν — среднего или мужского. Если верно первое, то Ьѵ πασιν имеет космический характер, если второе — социальный. За мужской род высказываются почти все исследователи, и он подтверждается параллельными местами (1 Кор. 12, 6; 15, 28. Кол. 3, 11), где Ьѵ па‹гіѵ, входящее в комбинацию с πάντα, подразумевает верующих и, следовательно, стоит в мужском роде. Отсюда понятно, почему не поставлено Ьѵ тосӯ пдс‹тсѵ: число членов Церкви не есть что-то зафиксированное, неизменное и законченное; оно по существу своему растет и должно расти, никогда (в этом веке) не делаясь завершенным.
Тут возникает еще вопрос, поднятый некоторыми толковниками (см. 55, 37), не имеет ли
Ьѵ пдс‹гсѵ инструментального значения, т. е. «чрез посредство всех, многих» (dativus instrumcntalis)
[647].
Нужно выяснить, являются ли «все» орудием для наполнения «всего» или местом этого «всего». Г. Думский (55, 37) приходит к заключению, что «новозаветная конструкция глагола πληρούμαι при дательном падеже с Ьѵ выражает мысль, что предмет, обозначаемый им, представляет из себя вместилище наполнения, область действования и т. п.», т. е. видит в пӓ‹гіѵ дательный вместилища. Но аргументация Думского (которую одобряет и проф. Богдашевский (39, 337)) является несостоятельной, ибо дважды основана на недоразумении: во–первых, приводимые им места (кроме Ин. 17, 13): Кол. 1, 9; 2, 10; 4, 12; Еф. 5, 18 (по лучшим рукописям, впрочем, тут стоит иной глагол: πεπληροφορημένοι)‚ по всей видимости, имеют εν с дательным падежом не как с дательным вместилища, а как с дательным лица (dativus aucloris) с инструментальным оттенком, и так рассматривает дело, например, Кремер (60, 503). Во–вторых, и главным образом, во всех приведенных местах стоит страдательный залог, а не общий (medium), так что заключать о значении εν с дательным при общем залоге было бы несправедливо на основании предлагаемых примеров. Но, будучи неправ в своей аргументации, г. Думский прав в своем основном положении (не задеваемом критикой аргументации), что εν с дательным падежом имеет локальный характер. Это можно выяснить чрез последовательное сопоставление Εφ. 1, 23; Еф. 4, 13; Кол. 2, 9, вместе с тем разрешающим вопрос о значении πλήρωμα. Тождественные тексты (см. § VI)
τό πλήρωμα του πληρούμε νου (Εφ. 1,23)
и τό πλήρωμα Χρίστου (Εφ. 4, 13)
имеют свое разрешение в словах Апостола
εν αύτω κατοικεί παν τό πλήρωμα τη? Φεότητο?
σώματιχω? (Кол. 2, 9)
[648],
где εν αύτω (во Христе) имеет несомненно локальное значение и относится к τό πλήρωμα. Действие наполнения исходит от Бога и направлено на Христа, в силу чего Он есть τό πλήρωμα τη? Φεότητο?. Вместилище наполнения обозначается тут через
εν с дательным, откуда заключаем, что и в Εφ. 1, 236 εν πασιν обозначает вместилище наполнения, «Слова εν πασιν не могут означать ни «во всех вещах»
[649], ни «повсюду», ни «всем» (в инструментальном значении): особенно же последнее толкование, будто Христос наполняет всю вселенную посредством всего, не дает мысли»
[650].
Чтобы объединить все сказанное о τα πάντα εν πασιν, нам полезно сопоставить Εφ. 1, 23 с Кол. 3, 11, где Апостол говорит, что πάντα και εν πασιν Χριστό?, — буквально: «всякое и во всяком — Христос». Христос есть все во всех верующих (или шире — во всех разумных тварях), изображается на всяком духовном их движении, но есть лишь постольку, поскольку каждый из них использовал и воспринял то церковное наполнение (πάντα), которое дал самому существу их (τά πάντα) Наполняющий. В Кол. 3, 11 рассматривается незаконченная христианизация всей жизни в незаконченном, «вскисающем» еще человечестве, т. е. процесс христианизации, идущий в глубь индивида и в ширь человечества, увеличение христианского сознания как по интенсивности, так и по экстенсивности. Напротив, в Εφ. 1, 23 говорится о данном каждому из верующих (число их — незаконченно), а потому и всецелостном, завершенном обновлении самых тайников человека, так сказать, его цельного, всецелостного ядра. Все внутреннее существо во всяком из верующих наполнено, запечатлено Христом, говорит Εφ. 1, 23. Многое, но еще не все в каждом человеке из его жизни, из эмпирических обнаружений его существа наполнено и запечатлено Христом, говорит Кол. 3, 11.
X
Разобрав по частям весь текст Εφ. 1, 23, мы получаем теперь возможность окончательно определить смысл слова πλήρωμα (55, 46–47). С этой целью заменим του πληρουμένου равнозначащим ему του Χρίστου. Тогда τό πλήρωμα, сделавшись зависимым от πλήρωμα, перейдет в форму родительного падежа, так что получится конструкция τό πλήρωμα των πάντων του Χριατοϋ έν πασιν. Родительный падеж воспринимающего действие объекта (των πάντων) совокупно с родительным падежом действующего субъекта (του XpttrroO), стоящие в зависимости от τό πλήρωμα, обнаруживают наконец-то давно искомую конструкцию. Оказывается, что мы имеем дело с третьим случаем (см. § VII) конструкции, а именно, когда πλήρωμα относится к процессу наполнения. Мысль Εφ. 1, 236 можно передать поэтому как: «исполнение всего во всех верующих Христом», или, отдаленнее: «Жизнь Христова (и только Христова) в воссозданных людях».
«Вечная жизнь Церкви во Христе — всегдашнее ее свойство, — говорит Думский (55, 50–51). — Развитие ее не есть что-либо новое, не данное Христом, а есть осуществление того идеала, который дан ей во Христе. Каждый новый момент ее развития имеет для себя и благодатные силы во Христе Богочеловеке, главе Церкви. Благодать полностью принадлежит телу Христа, и каждый член его усвояет ее себе, чтобы выработать в себе постоянную христианскую настроенность. Это является условием постоянного пребывания в теле Церкви, и раз человек не причастен благодати, — он оставляет Христово тело. Общая жизнедеятельность тела–Церкви, совершаемая Иисусом Христом, есть органическое воплощение данного идеала и дарованной благодати в действительных ее членах. Будучи по самому своему основанию живым организмом, Церковь всегда и остается живым организмом, созидающим себе идеал полноты Христовой, и вечно останется таким жизнедеятельным телом Христовым в зависимости от вечности самого идеала».
«Итак, начало и продолжение Церкви являются процессом развивающейся в людях новой жизни и реализующегося в них идеала Богочеловека. В этом смысле и назвал апостол Павел Церковь полнотою — «исполнением» Христа. Она есть развивающаяся жизнь во всех членах чрез Христа, во Христе и Христом. Это название не обозначает всех ее сторон, а указывает лишь на одну — на всегдашний ее процесс развития, начавшегося от страданий Христа и имеющего продолжаться до бесконечного ее идеала во Христе».
При таком понимании πλήρωμα, — говорят иные толкователи (см. 55, 46), — получается тавтология. Выходит как будто, что «Церковь есть наполненность тем, кто наполняет», причем определение этой наполненности является чистейшим плеоназмом. Это соображение основывается, однако, на недостаточном вглядывании в текст, читаемый, очевидно: πλήρωμα τά πάντα έν πασιν πληρουμένου (когда он действительно плеонастичен) вместо τό πλήρωμα του τά πάντα έν πασί,ν πληρουμένου. Как было указано ранее (§ III), член при сказуемом устанавливает исключительную принадлежность предиката субъекту. В данном случае он придает смысл, что Церковь есть полнота κατ* εξοχήν‚ полнота эссенциальная, а не акцидентальная — полнота по существу, а не по причастию. Короче, Церковь — не одна из полнот, но Сама Полнота. Это — во–первых. Во–вторых, стоит член του при πληρουμένου. Член при самостоятельном и ни к имени, ни к местоимению не относящемся причастии встречается довольно часто (66, 153, 37) и в данном случае обозначает, что действие наполнения не просто констатируется за субъектом действия (Христом), но вменяется Ему, как нечто существенное для Него, и именно для Него.
Другими словами, του πληρουμένου = πληρουμένου κατ' εξοχήν « του Χρίστου (ср. 55, 46), что, впрочем, видно и из параллелизма του πληρουμένου с αύτου. Это делается тем более явным, что του πληρουμένου стоит не одиноко, но с τά πάντα έν πασιν, определяющим ближайшим образом деятельность του πληρουμένου, и тем лучше оттеняется выразительность подмены του Χρίστου чрез του πληρουμένου. Итак, окончательно получается: το πλήρωμα (наполненность по преимуществу, единственная в своем роде полнота энергий и сил, и потому отпечатлевающая в себе существенные черты) του τά πάντα έν πασιν πληρουμένου (т. е. Христа, Того Самого, Которого она есть тело и Который есть Глава тела).
«Все апостольское выражение, — говорит Думский (55, 46) ‚ — будет чрез это содержать такую мысль: Христос вообще заботится обо всем в мире, но особливо о Церкви, которая в силу этого является центром мирового развития». «Таким образом, в апостольском выражении нет тавтологии, а глубочайшее выражение общения Христа и верующих» (там же, 47) и, следовательно, тем определеннее отмечается онтологический характер всего определения.
Определив Церковь, как Тело Христово (Εφ. 1, 23 а), т. е. в ее статическом моменте, Апостол определяет ее затем в моменте динамическом, как Жизнь Христову. Первое характеризует Церковь, так сказать, со стороны анатомической; второе–со стороны физиологической. Синтез же того и другого дает цельное представление, как об Организме, энергия жизни которого исходит из Все–верховного Главы — Христа.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЦЕРКВИ I
Уяснив двойственную природу Церкви, мы дали затем определение Церкви как Организма, жизненная энергия которого исходит от центрального органа, Христа- Главы. Теперь надлежит более глубоко вскрыть двуединство этого Организма, как оно запечатлевает самый процесс жизни церковной, и затем, исходя из обнаруженного, отметить те существенные черты жизненного процесса, которые необходимо и неотменно запечатлеваются на каждом его моменте.
Исходным пунктом для наших соображений является место Εφ. 4, 15–16
[651], гласящее:
άληΦεύοντες δε εν αγάπη αύζήσωμεν
εις αυτόν [τον
Χριστόν] τά πάντα, δςέστιν f) κεφαλή, Χριστός, εξ ου παν το σώμα συναρμολογούμενον χαι συμβιβαζόμενον δια πάση? άφης τη$ επιχορηγιας κατ' ένέργειαν έν μέτρω fevos*
εκάστου
μέρους την αυξησί,ν του
σώματος ποιείται εις οίκοδομήν έαυτου έν
αγάπη, т. е., по славянскому переводу
[652], «истинствующе же в любви, да возрастим в него всяческая, иже есть глава Христос, из Него же все тело–составляемо и счленеваемо приличие всяцем осязанием подания, по действу в мере единыя коеяждо части — возращение тела творит в создание самого себе любовью». Русский (синодальный) перевод читается так: «(дабы мы) — истинною любовью все взращали в Того, Который есть Глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви» (Еф. 4, 15–16). Подобно тому передает его и Хомяков (4, 392): «правдивые в любви да возрастим все в Того, Кто есть глава, во Христа, от Которого все тело, согласуясь и слаживаясь во всякой пребывающей связи, деятельностью силы, соразмерной с каждым членом, производит рост тела самосозидаемого в любви».
Несмотря на значительные экзегетические трудности
[653], представляемые данным текстом, общий смысл его достаточно ясен: Апостол желает рассмотреть рост церковного Организма, почерпающего силу для того из Христа–Главы; это–главная мысль приведенного текста Еф. 4, 16, делающаяся особенно рельефной при сличении с Кол. 2, 19: ου κρατών την Κεφαλήν,
εξ ου παν το σώμα
δια των άφων και.
συνδέσμων έπιχορηγούμενον και,
συμβιβαζόμενον αύξει την αυξησι,ν
τον θεου, т. е. «…не держась главы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим».
Мысль же вводная, заключенная в словах: συναρμολογούμενοι (πάν τό σώμα) και
συμβιβαζόμενο ν διά πάση? аҫ›тјѕ
[654] τη?
έπιχορ–ηγία? κατ
1 ένέργειαν έν μέτρω ένό? εκάστου
μέρους (Εφ. 4, 16 а), или в словах:
δ toe τών
άφών και, συνδέσμων έπί,χορηγούμενον και
συμβιβαζόμενον (Кол. 2, 19), ближайшим образом развивает определение Церкви, данное в Εφ. 1, 236. Займемся сперва именно ею. Παν τό σώμα указывает* на Церковное Тело в его целокупности, на внутренне- единое и целостное бытие. Это тело Апостол квалифицирует как συνα
ρμολογονμενον και
σνμβιβαζόμενον[655] — предикатами, разнящимися лишь в оттенке и по общему своему смыслу указывающими на объединение некоторого множества во единство, и притом не механическое, а органическое. Это объединение мыслится не как мертвое само–тождество, но как живой процесс, что видно из настоящего времени причастной их формы. «Следовательно, тело разумеется не образовавшимся окончательно, не приведенным в законченную форму, но продолжающим формироваться. В нем происходит постоянная перемена элементов, обновление существующих и привнесение новых» (2, 143–144). Может быть, подобная мысль содержится в тексте. Но, во всяком случае, тут нужно считаться и с вечным само–обновлением Церкви, разумея его как сверхвременную деятельность, как вечную жизнь, а не только с прогрессивно–поступательным движением Церкви во времени.
Разница того и другого речения — в следующем: συναρμολογούμενον, происходящее от αρμό? — член, сустав, связь и сочетание суставов (в речи о теле) или отдельных сторон (в речи о здании), указывает на сочленение чего-либо, т. е. приведение в связь, в соединение чего-нибудь расчлененного (в Еф. 2, 21 оно употреблено применительно к строению здания) (2, 144); глагол же συνα
ρμολογεϊν обозначает: связывать, соединять, прилаживать, согласовать одно с другим (39, 659). Другой из предикатов, συμβί,βαζόμενον, происходит от глагола συμβι,βάζειν, вообще говоря означающего связывать вместе, совокуплять; применительно к людям он выражает утверждение, укрепление дружбы, сообщества. Это слово относится преимущественно, если только не исключительно, к людям (2, 144)
[656]. Между с
τυναρμολογούμενον и
συμβιβαζόμενοι? некоторые экзегеты пытались установить разные различия, но, не останавливаясь на этих малоуспешных попытках
[657], укажем одно, действительно имеющее место. Первый из предикатов имеет более физический характер, употребляясь о вещах; второй — нравственный, как относимый к людям. Таким образом, первым предикатом устанавливается по преимуществу связанность членов Церкви между собою, их органическое единство; вторым же — их свобода, их нравственное признание этой связи (2, 144–145). Поэтому второй предикат является усилением первого (39, 560), но не грамматическим усилением, а логическим, поскольку вносит в понятие единства новый момент единства свободного. Таким образом, «Апостол мыслит Церковь, как единый стройный организм, состоящий из бесчисленного множества самостоятельных живых членов или частей…. Эти члены суть существа личные, живущие самостоятельною жизнию. Вступая в общество Церкви, входя в тесную связь с другими членами, ту связь, которая образует из себя единое, строго гармоническое тело, они, однако, не уничтожаются лично; живут и действуют здесь, как живые существа, без порабощения своей личности иному строю, иной жизни. Встречают они здесь определенный закон, управляющий жизнию Церкви, которому они, как члены, подлежат безусловно; но в то же время не лишаются своей нравственной свободы и самостоятельности…. Церковь Христова, возрождая человека, не пересоздает его существа. Неискоренимые свойства его личности и индивидуальной природы остаются нерушимыми, но только им сообщается новое начало, новый принцип, который дает новое правильное направление всей жизни человека. Церковь, принимая в состав свой различного рода и свойства людей, не оставляет каждого из них таким, каким он был до освящения, но облагораживает, оживляет и возвышает его, делает из каждого то, что может сделать из него, — применительно к новой, святой жизни в обществе верующих во
Христа. Существо христианина, проникаясь новыми элементами и благодатными силами освящения, ощущает в них возвращение себе тех живительных начал, отсутствие которых вне христианства томило и крушило дух его. Получив их, христианин чувствует, что они сродны и вполне применимы к потребностям жизни его существа;…подчинение христианина строю жизни Церкви выходит из основ его нравственного существа, стремящегося к совершенству, — и потому есть дело свободного личного произволения, но не плод автоматического необходимого исполнения» (2, 145–146).
Тело Христово есть гармоническое и стройное целое. Последующие слова (δια πάση?
αφης τη? επιχορηγίа?) объясняют, посредством чего достигается это единство. Но истолкование данных слов довольно затруднительно. Обратимся сперва к έπ с χορηγία?.
ΧορηγεΖν (от
χόρος и
αγειν) и
επιχορηγεΖν означают собственно: «поставлять на свой счет хор для празднеств» (39, 560). Но вместе с тем дается еще и известная квалификация этого по- ставления, потому что поставляющий хор был, вместе с тем, главным его управителем,
«.,.χόρος дает понятие о стройном, известным образом соединенном в одно целое. Производное от
χόρος — χορηγία значит управление хором. Предлог επί в сложении значит на, над, сверху. Оттуда
χορηγία с предлогом επί, т. е.
έπιχορηγίа дает понятие о средоточном управлении хором в одном лице, не принадлежащем непосредственно к самому хору, но как бы возвышающемся и властвующем над ним, управляющем им. Управление хором происходит таким образом, что известное мановение руки управителя непосредственно вдруг сообщается всем членам хора и, сообщаясь, каждому дает известное, соответствующее направление голоса. Этот акт передавания или сообщения от одного лица вдруг всему хору сообщается на основании каких- то невидимых мысленных связей, соединяющих управителя со всем хором и с каждым его членом в отдельности. В хоре есть свои связи, — как их ни назовите, — связи, совокупляющие отдельных лиц в один хор, посредством которых, сцепляясь друг с другом, они сцепляются также и с управлением хора. Без них невозможно управление. Посредством этих-то мысленных связей и происходит передавание известного направления от хорега к хору» (2, 151–152). Таким образом,
έπιχορηγία не есть просто подавание, но подавание, имеющее цель гармонизировать целое, подавание, носящее в себе разумный смысл и ведущее к идеальной цели. Как таковое, оно по преимуществу приличествует Божеству. Действительно, священное словоупотребление его именно подразумевает благодатную энергию, дары Св. Духа. Так употреблено это слово в: Гал. 3, 5; 1 Петр. 4, 4; 2 Петр. 1, 11; Флп. 1, 19; 2 Кор. 9, 10. Так же толкуют его святые отцы: Златоуст (см. (39, 560)): ή
χορηγία των χαρισμάτων, блаж. Феодорит–τά
του πνεύματος χαρίσματα (см. там же)
[658].
Апостол говорит:
δια πάσης άφης της έπιχορηγίας. Слово
άφη толковалось и толкуется весьма различно, то —как «соприкосновение» (см. (39, 561)), то -как «связь, junctura, Band, jointure, joint», разумея при этом
της επιχορηγίας или как родительный объекта, или как родительный субъекта (см. (39, 561)), то-как чувство, восприятие, ощущение, осязание
[659] — понимание по преимуществу святоотеческое. Но, если первое понимание безусловно исключается (будучи непереходным,
άφη не может объяснить последующего за ним родительного падежа), то второе и третье вовсе не являются взаимно исключающими. Из них второе — более правильно филологически, но оно логически влечет за собою третье. Истинный путь к пониманию открывается чрез сличение рассматриваемых слов с параллельными в Кол. 2, 19, а именно: δια
των άφων эсас
συνδέσμων έπιχορηγούμενον. Прежде всего обращает внимание единство рода для слов
άφαί и σύνδεσμο с, обнаруживаемое общностью члена
των. Но
σύνδεσμο с — связки, которыми соединяются разные части тела, сочленения, мускулы (39, 563; 41, 130), почему под
άφαί надо разуметь нечто однородное по функции с σύνδεσμοι, т. е. какую- то ткань, делающую возможною передачу нервной энергии от головы через посредство одного органа к другому. Удобнее всего толковать
άφαί‚ как нервы, тем более, что с ними естественно ассоциируется и идея о самом потоке нервной энергии, упорядочивающей и централизующей жизнь всего тела. Чрез нервы отдельные органы как бы ощупывают или осязают многоразличные
(πάσης) подаяния Духа (39, 563), и так как главное–не передающие нервы, но передаваемая энергия и «осязание» ее, то естественно, что святые отцы, изучая смысл Священного Писания, преимущественное внимание обратили на эти последние.
Вместе с тем, сокращая приведенный текст Кол. 2, 19 «(все тело), составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо» в «(все тело) объединяемое чрез составы и связи скрепления», убеждаемся, что слово επιχορηγίας есть родительный падеж объекта, ибо собственно скрепляют άφαί. Поэтому рассматриваемый текст Еф. 4, 16 нужно толковать в том смысле, что животворящая и организующая энергия, распространяемая чрез посредство нервной системы Церкви (под каковой можно разуметь как тех или других лиц, так и те или иные церковные должности, учения, обряды и проч.), является причиною объединенное™ и цельности всего Церковного Тела. «Признав такое толкование довлеющим, — говорит еп. Феофан (41, 131), — не затруднимся уже в иносказательном его понимании. Системе костей с мускулами, определяющей строй тела, в Церкви Божией отвечает видимый строй ее: под Апостолами и пророками, пастырями и учителями Церкви стоят все христиане, каждый с особым дарованием на пользу Церкви; все связаны взаимоподчинением, любовию и радением об общем благе духовном». «Что в теле сочленения, то в составе Церкви Апостолы, пророки и учители», — говорит блаж. Феодориѓ. Системе питания в Церкви соответствуют все способы, коими сообщаются верующим вбдение богооткро- венных истин и излияние божественной благодати, преимущественно проповедь слова Божия и божественные таинства. Ими доставляется то, чем единственно может питаться Церковь и расти возрастанием Божиим, именно: благодать и истина. Нервы же, из главы исходящие и все тело проникающие и возбуждающие, есть Сам Христос Господь, Который и состав тела Церкви держит и живительно проникает ее силою. Блаж. Феодорит пишет: «Как в теле головной мозг есть корень нервов, а посредством нервов тело получает ощущение, так тело Церкви от Владыки Христа приемлет и источники учения и орудие спасения».
Но возникает далее естественный вопрос: что же, это «подавание» жизненной энергии происходит, так сказать, напором, насильственно заставляя функционировать органы? Но ведь такое функционирование не есть жизнь, а есть своего рода механизм. Потому естественно ждать отрицательного ответа на предположенный вопрос. Апостол говорит, что
επιχορηγί α происходит κατ
1 ενέργειαν εν μέτρω ενός εκάστου μέρους. Эти слова разъясняются Εφ. 4, 7 («каждому из нас дана благодать по мере дара Христова») и Еф. 4, 11: («Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями») и обозначают то же, что κατά την άναλογοαν
[660], Рим. 12, 6, т. е. пропорционально, соответственно с силами и назначением воспринимающих «подавание» членов или, если брать слово μέρους в его буквальном значении, — частей тела (39, 564).
'Ενέργεια[661] указывает на деятельное участие членов или частей в жизни целого; ένό? έκαστου имеет смысл «решительно каждой части», т. е. ни одна, самая ничтожная, не подвергается насильственному воздействию благодатной «подачи»; всякая получает то, и только то, что сообразно с мерою ее деятельности, что не раздавит ее свободы. Органы не превращаются в «трость скорописца» в руках Божиих, но их индивидуальность, так сказать, расцветает под благодатным воздействием, а «благодатные дарования, так сказать, прививаются к их личным качествам и дарованиям, возвышая и усовер- шая их» (2, 155). «Как дух, — говорит св. Златоуст
[662], — спускаясь из головного мозга, не просто сообщает, посредством нервов, чувствительность всем членам, но — сообразно с каждым из них, и тому, который способен принять больше, больше и сообщает, а который — меньше, тому — меньше (ибо дух есть корень жизни), так и Христос. Так как наши души так же зависимы от Него, как члены от духа, то Его промышление и раздаяние даров, сообразно с мерою того или другого члена, производят возращение каждого».
Обращаемся теперь к главной мысли Еф. 4, 16: εξ ου (Χρίστου) παν το σώμα…την αύξησαν του σώματος ποιείται εις οίκοδομήν έαυτου έν αγάπη, параллельно
к чему являются слова Кол. 2, 19: εξ ου παν τό σώμα…
ανξει την αύξησαν του θεου
[663].
В только что разобранных словах изображалась, так сказать, анатомия и физиология Церковного Тела, и те слова служили пояснением для приводимых теперь и содержащих описание жизни Церкви, ее роста, ее цели.
С грамматической стороны особых затруднений в этих текстах нет, и плеонастическое του σώματος в Εφ. 4, 16 легко объясняется необходимостью напомнить читателю, о чем, собственно, идет речь: του σώματος поставлено как бы в скобках. «Прямо бы сказать: из коего тело возращение свое творит, но Апостол сказал: тело… возращение тела творит, потому что вставлено было много посредствующих мыслей и можно потерять, кто это возращение творит» (42, 276). Далее, форма ποιείται (а не ποιεί) указывает, что тело имеет внутреннюю жизнь в самом себе (ибо подача благодати происходит соразмерно деятельности каждой части), заимствует питательные для себя соки только в Своей
Главе
(εξ ου), а не откуда-нибудь извне, из другого источника (39, 565). Это подтверждается еще тем, что тело α
υξησιν εν αγάπη: тело растет в любви, в деятельности любви со стороны каждого члена, как и сказано в ст. 15: «(чтобы) истинною любовью все возра- щали в Того, Который есть Глава Христос»; было бы неправильно
εν αγάπη относить к
εις οίχοδομήν, ибо любовь — не цель Церкви, а только условие достижения цели (39, 564)
[664] — полноты духовного совершенства, когда Господь возглавит все.
Обратим еще внимание на глагол αυξει и на существительное αυξησιν. Этот глагол в собственном смысле употребляется в речи в отношении к растениям (Мф. 1) и имеет основное значение органической категории, что может применяться и к людям, к народу, к слову Божию, к вере, к умножению благодати (см. 2, 51); (тут же цитаты). Поэтому словами αΰξησις и αΰξει подчеркивается еще раз органичность роста, который поэтому должен разуметься не только экстенсивно, в смысле увеличения числа верующих, но и интенсивно, в смысле углубления христианского сознания в верующих, в смысле укрепления связей между ними (проводящих все лучше благодатные силы), в смысле умножения количества этих связей и проч.
Текст Кол. 2, 19 должно разделить на
δια των άφων επιχορηγούμενον и
δια των συνδέσμων συμβιβαζόμενον, т. е. «питаемое нервами» и «сочленяемое мускулами». Может быть, первая из этих систем объединения указывает на должности, имеющие своею задачею проводить благодатные воздействия по всему организму Церкви и потому не носящие местного характера, как, например, древние харизматические должности апостолов, пророков и учителей; вторая же система будет тогда указывать на более местные должности, должности общинного характера, своею деятельностью любви сплачивающие отдельные члены в одно. К последним можно было бы отнести, например, должность диаконов и т. п.
[665]II
Жизнь Тела Церкви всецело зависит от Главы–Христа. Мы видим, что Апостол многократно
[666] называет Христа главою, как бы желая внушить читателю, что это–положение существенной важности. И действительно, из него вытекают основные свойства Церкви, как Самою Главою определяется вся жизнь. Это вполне понятно, если вспомнить, что такое, собственно, есть «голова». Как по воззрениям русского народа
[667] голова является центральным по важности органом тела, так это убеждение проходит и чрез другие мировоззрения (60, 355). В главе, по Библии (Быт. 3, 15), сосредоточивается жизнь, и потому победа над главою — победа над всем организмом: глава — цель движения жизни, идущего от сердца, почему «поднять голову» значит оживиться, быть в бодром состоянии (Лк. 21, 28; Деян. 27, 34), а «опустить голову» указывает на ослабление, на убыль жизненной энергии. Поэтому глава является ответчицей за преступление всего человека, и равнозначительно, сказать ли «кровь ваша на главах ваших» (Деян. 18, 6) или кровь — на вас (Мф. 23, 35) и т. д. Уже в древности голова всегда считалась носительницей идеального начала в человеке, его духа, его интеллектуальных способностей.
Естественно поэтому, что природа Главы отражается на всякой функции Тела, что всякое жизненное проявление Тела запечатлено свойствами Главы, «из Которой» берутся силы для роста.
«Непоколебимость и неразрушимость» (8, 324, 325 и др.) Церкви — это основная черта ее, аналитически вытекающая из самого понятия о Церкви. Вечная и неподвластная злу Глава Церкви непрестанно обновляет все Тело, подавая ему благодатную силу. Если «Христос, Сын Бога Живаго» (Мф. 16, 16) положил создать свою Церковь·, то побежденный им диавол не может поколебать Тело Христово — Его Церковь. Сам Господь, бла- говествуя Петру и, в лице его, всему человечеству, в ответ на торжественное исповедание Петра, сказал ему: κάγώ δε сго с λέγω δτι ‹гѵ εΐ Πέτρο?, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την έκκλησίαν, και πύλαι αδου ου κατισχύσουσιν αύτη? (Μφ. 16, 18). — «и Я говорю тебе: ты Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Ввиду важности этих слов Спасителя, мы остановимся несколько на их экзегезисе, поскольку он нужен для нашей ближайшей цели.
Иисус Христос сказал: «созижду», οικοδομήσω, т. е. говорил о будущем, а не о прошедшем и не настоящем; точно так же и Архангел Гавриил, благовестивший Деве Марии о рождении Спасителя, сказал ей: «Дух Святый найдет на тебя и сила Всевышнего осенит тебя», т. е. опять-таки говорил о событии грядущем. Это замечательное сходство двух благовещений не будет казаться случайным, если вспомнить, что Плод первого благовещенья, Христос, есть «начаток, первенец из мертвых», т. е. начаток и первенец обновленного человечества
[668], начаток Церкви–Тела Его (Кол. 1, 18), являющегося Плодом благовещенья второго. Но для стоящих на юридической точке зрения при рассмотрении Церкви, т. е. для исходящих из понятия о Церкви как об «обществе верующих» и потому не могущих не видеть Церкви в совокупности учеников Христовых, будущее время οικοδομήσω является совершенно непонятным. Желая избегнуть этой трудности, Штир (Stier) утверждает, будто тогда не было общины верующих и Христос говорил об общине будущей. Мейер (Meyer) справедливо возражает ему, что «принять cine solche historische Prolcpsis было бы произвольно, ибо qahal верующих был налицо, хотя бы и не построенный формально» (58, 347)
[669]. Но для нас община Апостолов есть только община — и не более; только тогда она вошла в Церковь, когда родилась Церковь. Но самый глагол οικοδομείν и будущее время имеют, на что не неосновательно ссылается Штир (там же), смысл «длящегося построения Господа, ибо Церковное Тело взращивается энергией своей Главы». Наиболее важными в данной фразе являются слова «врата ада не одолеют ее (Церкви)»
[670]. Чтобы понять их, должно вникнуть в выражение — πύλαο
&δον или κύλαο άΐδου, что соответствует
еврейскому шааре гашшеӧл. Еврейские представления о шеоле или аде таковы (см. (69, 628–630); (68, 527–530 также))
[671].
Шеол (ѕс'оі)
[672] есть самое древнее и самое употребительное название ада в Священном Писании Ветхого Завета (Быт. 37, 35; Ис. 14, 15; 38, 10; Иона 2, 3 и др.). В Талмуде он называется еще «геенной» (gcyhinom) и «мехозой» (mehoza), причем первое название, собственно, значит «долина Эннома», где приносили жертвы Молоху
[673] и куда впоследствии стали свозиться нечистоты для сожигания их в вечно горевших кострах, а второе название (от hoza* — город, mehoza* — укрепленная местность) может быть переведено буквально как «место, куда берут или забирают, место заключения, тюрьма»
[674]. К нему же относят встречающиеся в Ветхом Завете имена: «гибель», «колодезь» и «яма», «тень смертная», «колодезь пены и грязного ила», «страна нижняя», «долина Тофет», «долина плача». Как видно из талмудических названий для места душ нечестивых, талмудисты полагали его в особой области мирового пространства, которая имеет вид укрепленного места или тюрьмы и представляет собою место нечистоты, грязи, разложения, порчи, вообще гибели и смерти. Сотворенный до творения мира, шеол наполнен огненной стихией «ор» Оог), сотворенной во второй день. Талмудисты с точностью вычисляют величину геенны, но в глубину считают ее бездонной. Земная поверхность разделяет область шеола от области рая и является для первого как бы крышкой горшка. По словам раввина Иеремии, сына Елеазарова, в ад ведут с земли три входа: один в пустыне (ср. Чис. 16, 33), другой в море (ср. Иона 2, 3) и третий в Иерусалиме (ср. Ис. 31, 9). (Эрубин, f. 19, а). По словам раввина Мариона, в долине сына Энномова стоят две пальмы, из средины которых подымается дым и. это, должно быть, есть вход в геенну (Эрубин, L 19, а).
Безмерный по величине ад (Таанит, f. 10, а), как сказано, наполнен особым огнем, и в него впадает особая огненная река, падающая на головы нечестивых. Ад имеет своего князя (geyhinom ѕаг) и своего привратника (taphetcn somcr). Князь ада представляется владыкой обитателей геенны, которые даны ему Владыкой мира (Шаббат, f. 104, а). Привратник ада представляется охраняющим врата ада, пройти чрез которые можно лишь с его изволения. Впрочем, относительно раввина Иоха- нана говорится, что ему после смерти удалось сойти в ад и выйти отсюда вместе с освобожденным раввином Ахеровом без изволения привратника ада (Хагига, f. 15, б). Относительно своей алчности в требовании все новых и новых жертв ад сравнивается с утробою женщин и с землей, не насыщенной водою (Берахот, f. 15, б; Сангедрин, 9, 2, а). Но все ли язычники попадут в ад или только нечестивые, забывшие Бога, — этот вопрос получает в Талмуде несколько ответов. К непременным обитателям ада относятся: минеи, предательницы, отступники (от веры), эпикурейцы, отвергавшие закон (Моисеев, т. е. его небесное происхождение), отвергавшие воскресение мертвых, удалявшиеся от законов общины, наводившие страх и вводившие других в грех (Рот гашана, f. 17, а; ср. Сангедрин, 90, а). Из грехов, влекущих за собою обязательное поселение грешников в аду, кроме греха против веры, называются блуд, прелюбодеяние и унижение ближнего или несправедливое осмеяние его и др. Из отдельных родов, поколений и лиц к жителям ада относятся: 1) род, погибший в потопе (Быт. 6, 3); 2) род разделения (Быт. 11, 8); 3) жители Содома (Быт. 13, 13); 4) посланные Моисеем соглядатаи Палестины (Чис. 13, 31); 5) род пустыни, т. е. израильтяне, вышедшие с Моисеем из Египта и умершие в пустыне; 6) Корей, Дафан и Авирон с единомышленниками (Чис. 16, 33); 7) принадлежащие к десяти коленам израильским и не принесшие покаяния; 8) люди проклятого города (Втор. 13, 13–17); 9) малые дети нечестивых израильтян; 10) Иеровоам, Ахав, Манасия, Валзам, Доег, Ахитофал и Иезий; 11) занимающиеся чтением внешних книг и волхвованием (Сангедрин, f. 90, а). — Вообще же число обитателей ада«2/з всех людей (Сангедрин, f. Ill, а).
Адские мучения весьма разнообразны и бывают как физические, так и нравственные, но по преимуществу состоят в жжении геенским огнем
[675].
Таково талмудическое учение об аде. Вҕиду того, что, вероятно, именно таковы были ходячие мнения во время Христа, мы не останавливаемся подробно на библейском учении на ту же тему. Нарицательные имена шеола (вероятно, значит пропасть, бездна) (Иона 2, 3; Быт. 37, 35; Ис. 14, 15, 38, 10): бор; Ьог–ров (Ис. 14, 15, 19; 38, 18 и др.); Ьог tahctiyot (Пс. 88, 7) «ров преисподний; 'ercs tahetiyot (Иез. 31, 14) — страна преисподняя; sahat (Пс. 16, 10; Иов. 17, 14) «тление; dumah (Пс. 94* 17; 105, 17) «страна молчания; beer sahat (Пс. 55, 24, по евр. м.)«ров погибели; 'егсѕ псѕіуасһ (Пс. 88, 13) «страна забвения; 'abadon (Пс. 88, 12) «гибель; salemawet (Пс. 23, 4; 107, 10; Иов. 12, 22; Ам. 5, 8) «сень смерти. Как ясно из этих названий, ад представляется обширной пропастью, лежащей ниже земного пространства, имеющей вид обширной ямы, где видны следы тления, нечистоты, вообще смерти. Эта область лишена света, так что является в то же время областью мрака (Иов. 10, 21, 22). В аду находятся особые отделения (Притч. 7, 27), которые имеют неодинаковую глубину (Притч. 9, 18). Самые отдаленные из них называются «краями могилы» (Иез. 32, 23). Ад в Священном Писании представляется имеющим врата, которыми проходят идущие в него (Ис. 38, 10). Обитателями ада являются люди грешные, стремившиеся исключительно к достижению чувственных удовольствий (Пс. 16, 14).
Классический α
δΐ)ς или
αιδ–ης[676] (от a, negativ и
ιδεΖν), т. е. невидимый, невидимая страна, как говорится у Плутарха, Is et Оѕіг. 79, 382, Ғ (τό ά
είδες και άόρατον), первоначально служивший названием Бога подземного мира, имеющего власть над мертвыми (Ζεύ^
χθόνιος), впоследствии стал названием самой страны мертвых. В Новом Завете это слово служит, несомненно, для обозначения шеола, и потому нам нет надобности пересказывать взгляды греков и римлян на подземный мир
[677].
Теперь делается понятным ходячее выражение ѕа *ӑгсу ѕе оі (шаарей шеол) (по переводу Делича Мф. 16, 18) или равносильное ему ηνλαι άΐδου, πύλαι άδου, άίδαο πύλαι.
Слово sa'ar
[678] (plur. se'arim, constr, sa'arey) означает, собственно: 1) дверь, ворота, входы разных видов; 2) часть — примыкающую к городским воротам свободную площадь; 3) затем — собрание горожан на этой площади и вообще граждан, принадлежащих к общему собранию и имеющих право голоса; 4) наконец, людей, собравшихся около ворот на площади. В числе последних мыслятся, конечно, привратники и более видные представители города. Поэтому выражение «шаарей шеол» есть двойная метафора, в которой употреблена часть вместо целого («ворота ада» вместо «ад») ‚ и затем содержащее вместо содержимого («ад» вместо «обитатели ада»), и, в конечном итоге, равно «смерть»·
[679]. Но смерть надо разуметь не только как физиологический процесс, а как родовое понятие, включающее в себя и грех с нечистотой и страданиями. «Врата адовы»««силы ада».
Проследим несколько пользований ходячим выражением «врата ада» у классиков и в Ветхом Завете.
Выражение «врата ада» в Ветхом Завете находим в следующих местах: Иов. 37, 17. Пс. 9, 14; 107, 18. Ис. 38, 10. Прем. 16, 3. Макк. 5, 51.
«Открывались ли тебе врата смерти и врата мрака ты можешь ли видеть?» (Иов. 38, 7). — «Воззри на страдание мое от врагов моих, Ты, Который возносишь меня от врат смерти» (Ис. 9, 14). — «От всякой пищи отвращалась душа их, и приближались они ко вратам смерти» (Пс. 107, 18). — «Ты бо живота и смерти власть имаши, и низводиши даже до врат ада, и возводиши» (Прем. 16, 13). В классической литературе это словосочетание весьма часто; примеры собраны Ветштением в его издании Нового Завета
[680] [681] на с. 430–431 1–го тома. Они показывают, что «врата ада» метафорически означают неумолимую, непобедимую, ни пред чем не останавливающуюся в своем победном шествии смерть, но рассматривают ее более узко, нежели Ветхий Завет, потому что не ассоциируют со смертью идею греха, идею нечистоты. Эта всевластность смерти изображена в Ветхом Завете у Иезекииля (32, 18–32), Исайи (28, 15–18) и во многих других местах. Поэтому слова Господа о «неодолимости вратами ада» означают, что все злые обитатели бездонного, мрачного и грязного ада во главе со своим князем и с привратниками, даже собравшись на вылазку у ворот адских, не смогут одержать победы
[682] [683] в данном случае, хотя нет ничего, чего они не побеждали бы. Параллель к ним — слова Апостола: «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» (1 Кор. 15, 55–Ос. 13, 14). Но является вопрос, над кем, именно, не одержат победы. Сказано осѵгсђг
[684], причем под аіпгтју можно разуметь как rffr πέτρα?
[685], так к xifr сэе*Хт? счау
[686]. Некоторые святые отцы высказывались за первое понимание
[687] [688], но если это и правильно, то не имеет существенного значения. Конечно, если Господь говорит о непоколебимости скалы — основания, то вместе с тем имеет в виду, и даже по преимуществу имеет в виду, непоколебимость Самого Строения. Тщетна была бы вера Петра и суетно было бы торжественное обещание Господа, если бы преимущественное Дело Христово, так торжественно благовещанное, было бы поколебимо вратами ада. Что ни подразумевалось бы под аитђӯ, Церковь ли или Камень —Петр, или Камень —вера Петрова, мысль разбираемого места в том, что созидаемая Христом Церковь будет иметь божественную крепость, божественную неодолимость для зла во всех его видах и во всем его могуществе. Поэтому, оставляя дальнейший разбор Мф. 16, 18, перейдем к выяснению свойств Церкви.
III
Как Тело единой Главы, Церковь неизбежно отражает во всем своем бытии характер единства. Как Тело Главы внутренне–законченной, Главы абсолютной, Церковь есть бытие единое и целостное по преимуществу пред всеми иными бытиями. Как Тело Главы единственной, Церковь сама существует только в единственном числе. Церковь — едина и единственна; и в силу непоколебимости ее этот характер единства и единственности не может быть преодолен злыми силами, стремящимися нарушить абсолютное единство Церкви. В этой области единство Церкви отрицательно выражается как ее нераздроби- мость, тогда как неодолимость Церкви принимает частное определение в положительной форме в виде единства и внутренней цельности. Церковь — одна, но не в смысле простого отсутствия других церквей, не в смысле исключительности, но в смысле абсолютной целокуп- ности. Церковь — Тело Сына — так же едина, как един Бог и Сын Его.
Господь сказал Петру: «на этой скале построю Цер- ҡовь Мою, μου την έκχλησίαν» (Мф. 16, 18), как и в другой раз сказал: «скажи Церкви, είπόν τη έχχλησία» (Мф. 18, 17), но не сказал: «построю Церкви Мои», как не сказал и «скажи Церквам». Единство церковное подчеркнуто Господом в Его прощальной беседе с учениками, при совершении первой Евхаристии Христос молится, чтобы члены Церкви были в абсолютном единстве между собою, как и Сам Он с Отцем (і'ѵа wrtv έ'ν χαϋως ήμει?, Ин. 17, 11), и несколько раз повторяет свое прошение о единстве членов Церкви в абсолютном единстве Отца и Сына (Ι'να πάντε?
£ѵ акте ν χα^ώ? σύ, Πατήρ, έν
Ьџоі *αγώ έν σοί, ίνα хас αύτοι έν ήμ£ν Zxrtv, Ин. 17, 21), — о единстве славою, данною Сыну
(χαγώ την δόξαν ην δέδωκα? μοι δέδωχα αυτοί?, £να
ьхтсѵ εν ήμε£? Ин. 17, 22), о единстве, получаемом от Бога чрез посредство Сына, вселяющегося в верующих (Еф. 3, 17; Кол. 3, 16; 2 Кор. 6, 16; Ин. 14, 23)
(εγώ εν ашгоїїѕ* эе‹хі, σύ
έν έμοί ίνα Zxtlv τετελειωμένοι είς εν, Ин. 17, 23)
[689]. Единство церкви–это манифестация объединяющей Мощи Христовой — «Славы» Господа, т. е. Его единосущия с Отцем (Ин. 17, 21, 22, 23, 24). Этими молитвами заканчивает Господь свою последнюю беседу, в которой сосредоточена вся сила Его проповеди. Важность момента, когда эти слова были произнесены, заставляет признать особую, чрезвычайную значимость этих слов и тем более заключения их. И действительно, мысль о единстве — один из лейтмотивов позднейшего развития. Она проходит, кажется, чрез все Послания ап. Павла, а в Послании к Ефесянам она является господствующей. «Основным, центральным понятием в послании является понятие единства, которое здесь господствует и все, можно сказать, себе подчиняет. Апостол говорит о единстве (возглавлении) всего существующего во Христе (1, 10), о теснейшем единении Христа, как Главы, с Церковью, как Его телом (1, 23; 5, 25 и дал.), о единстве Церкви и всех проявлений ее жизни (4, 4 и дал.), о единстве иудеев и язычников во Христе (2, 13 и дал.), о единстве веры и знания (4, 13), — послание все вообще проникнуто мыслью о необходимости единства христианской веры и жизни, христианского слова и дела, теории и практики» (39, 123–124).
Единство и единственность Церкви указаны в самом определении Церкви (Εφ. 1, 23), как абсолютного Тела (το <τωμα) абсолютной Главы. И, будучи диспаратными, если взяты условно и ограниченно, понятия единства и единственности оказываются взаимно–обосновывающими при применении их безусловно и во всей силе. Единство по преимуществу может быть только универсальным по своему содержанию, а универсальное единство тем самым единственно, unicum. И наоборот, безусловная единственность необходимо предполагает безусловное единство; если бы не было последней, если бы возможно было дробление, то тем самым не было бы и безусловной единственности. Итак, все равно, сказать ли: «Церковь — едина» или «Церковь — единственна», потому что в обоих случаях догматический смысл будет один и тот же. Но это — если Церковь универсальна по содержанию. Что иначе быть не может, это следует из понятия о Церкви как о Теле по преимуществу, как о τό σωμα, т. е. включающем или имеющем включить в себя всю истинную телесность мира
[690]. Что это — так, будет доказано при обсуждении понятий «Соборная» и «Апостольская».
Церковь — едина. А так как верующие делаются принадлежащими к Церкви чрез свое соучастие в таинственной жизни Церкви, чрез свое внедрение, чрез свое вро- щение и втелеснение в Церковь, то единство мистической жизни делает и их «сонаследниками и сотелесни- ками и соучастниками в обетовании», τά
εϋνΐ) συγκληρονόμοι χα
L σύσσωμα[691] эеаі συμμέτοχα тђӯ
ευαγγελίας (Εφ. 3, 6), т. е. некоторым единством. Будучи сотаинниками (συμμύσταΟ, верующие совопло- щаются в Теле Христовом («mit cinverlcibt», Cremcr). Но, как «Церковь — Тело» и в устах ап. Павла есть не нравственный предикат, но реальный субъект, то единство Церкви — не нравственная только или корпоративная солидарность, не номинальное только единство «начала и основания», «организации» и «цели» (хотя несомненно, что все это–частью действительно имеется, частью составляет задачу, предстоящую верующему сознанию), но единство онтологическое и, как таковое, не могущее быть создано путем каких угодно человеческих усилий. Единство «начала и основания» может быть от человеков; единство организации, равно как и единство цели, не безусловно исключены из человеческих возможностей. Те, кто стоит на номинальной точке зрения (каково большинство богословов), с полною последовательностью вынуждаются признать, что существует «церковь» буддийская, магометанская, бра- маническая и проч. Ибо и там есть единство «начала и основания», «организации» и «цели», и нисколько не меньшие, нежели у христиан. В сущности говоря, подобные богословы не имеют права говорить слово «Церковь» в олицетворенном смысле, а должны говорить только прилагательное «церковный» или отвлеченное имя «церковность». «Церковь» в их устах всегда должно являться лишь юридическим или моральным предикатом, но никогда — субъектом, подобно тому как Л. Толстой, на деле не признавая Бога, откровенно сознается: «Выражение «Бог» сознательно я, кажется, очень редко употребляю отдельно. В связи же с другими выражениями оно представляется мне в словах «жить по Божьи». Когда я говорю это, я внутренно хочу сказать: «жить по правде, по любви, по разуму или разумно»»
[692]. Оказывается, что «Бог» даже не отдельное существительное, а только прилагательное. Но то же самое оказывается и у всех тех, которые, фактически не признавая Тела Христова, все-таки продолжают говорить о номинальном его единстве, которое может быть чисто человеческим единством или, лучше сказать, схожестью стремлений и воззрений, существующей решительно во всяком сообществе. Но онтологическая объединенность верующих требует единящего Начала, которое было бы не приобретенным, не выработанным людьми, но данным им от Бога. Таково единство Тела Христова и Его таинственной жизни. Верующие становятся чрез приобщение к Церкви уже не подобно–сущими, не όμοιούσιοι между собою, но единосущими, ομοούσιοι. Вот почему Священное Писание настойчиво связывает объединенность верующих с единством таинственной жизни Церкви — с единством евхаристийного Хлеба–Тела (см. гл. III, § III) и крещения (Гал. 3, 27, 28).
Особенно важно в этом отношении место Гал. 3, 27, 28. Сперва Апостол говорит о том, что верующие «крестились во Христа (єіӯ Χριστόν έβαπτίσΑητε)», чем указывается «на таинственно–неразлучное сочленение» (49, 97). Потому (όσοι γάρ в ст. 27 а) «во Христа облеклись», т. е. приобщились Его единства. Затем Апостол замечает, что все различия перестали иметь значение, все сплавились в одного (ει?), «все вы, — обращается Павел к галатам, — один (εϊς) во Христе Иисусе, πάντες γά.ρ νμεΖς εΖς έστε εν Χριστώ Ιησού»
(Гал. 3, 28 б)
[693]. Этим
εϊς вместо
ёѵ Апостол еще сильнее подчеркивает, что тут дело идет не о подобии и сходстве, но о существенном объединении многих в одного (Гольцманн (30) разумеет под этим «одним» Небесного Человека, Христа).
Подобным же образом в тексте Еф. 4, 4–6 «одно тело и один дух
(εν σώμα χαό
сѵ Πνεύμα), как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и чрез всех и во всех нас», под «телом» разумеется Тело Церковное, единство которого является необходимой параллелью к единству Духа, оживляющего Тело, к единству надежды, Господа, веры, крещения и Бога
[694]. В конце концов, единство Церкви — следствие единства Бога–Отца. Язычники и израильтяне, — два полюса истории, бывшие далеки между собою, «стали близки кровию Христовой», «ибо Он есть мир наш, со- делавший из обоих одно (о
ποιησας τά αμφότερα
ёѵ) и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем» (Іѵа тоиӯ δύο
χτίση έν αύχώ cLs ενα χαινόν ανΰρωπον ποιών είρηνην хас άποχαταλλάζη του? ίμφοχέρους έν tvi σώματι χω Θεώ δια του σχαυροϋ…) (Εφ. 2, 13–16)
[695]. Тут под εν
σώμα «весьма многие»
[696] разумеют Церковь. Если и правильно возражает Богдашевский, что тут, собственно, разумеется Тело Христа, то это не опровергает мысли названных экзегетов, потому что Тело Христа есть начаток Церкви.
Приведем, наконец, отчасти разобранный уже текст 1 Кор. 10, 17: «один хлеб, и мы многие орно^тело; ибо все причащаемся от одного хлеба, ӧхі с с ν артоў,
σώμα οι πολλοί έσμεν οι γαρ πάνχες εκ του ένό^ άρτου μετέχομεν». «Евхаристия есть приобщение единого Тела Христова, которое делает приобщающихся подобными Себе, т. е. объединяет их в Тело Христово»
[697]. Так же и при других жертвенных вкушениях: «Посмотрите на Израиля по плоти: те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?» (1 Кор. 10, 18). «Участники жертвенника» (хосі›‹л›оі του
ϋυσιαχτχ–ηρίου) указывает на представление об Израиле, как об органическом целом, к которому верующие присоединяются чрез соучастие в жертвоприношениях. По поводу разбираемого места св. Иоанн Златоуст говорит: «Сказав: общение тела, хочет выразить еще теснейшую связь и говорит: яко един хлеб, едино тело есмы мнози. Что я говорю: общение? — продолжает он, — мы составляем самое тело Его. Ибо что такое этот хлеб? Тело Христово. Чем делаются приобщающиеся? Телом Христовым, не многими телами, а одним телом. Как хлеб, составляясь из многих зерен, делается единым, так что хотя в нем есть зерна, но их не видно, и различие их неприметно, по причине их соединения: так и мы соединяемся друг с другом и со Христом. Ибо мы питаемся не один одним, а другой другим, но все одним и тем же Телом. Посему Апостол и присовокупляет: вси бо от единого хлеба причащаемся. Христос соединил с Собою тебя, столько отдаленного от Него…» (см. (45, 329».
Отсюда явно, что единство Церкви имеет реальную манифестацию в единстве таинств. Нет ничего более чуждого библейскому представлению о Церкви, как современные индивидуалистические и демократизирующие утверждения, будто Церковь — абстракция
[698] [699], а таинства — nuda et тега signa, signes nus
[700], как утверждают про них лютеране, цвинглиане и кальвинисты и соци- ниане (26, 432–433). Последнее мнение необходимо связано с первым, и наоборот, первое с последним, так nudum et merum signum
Corporis Chnsu
[701] является коррелатом указанного отрицания таинств. Таинства — это залоги мистической природы Церкви, как сама Церковь есть одно великое Таинство. Все, что сказано об одном из этих коррела- тов, тем самым относится к другому. Недаром св. Ири- ней Лионский в этом параллелизме таинств и учения о Церкви усматривал верховный критерий истинности. «Наше учение, — заявляет он, — согласно с евхаристией, и евхаристия подтверждает учение — ημών 8с
σύμφωνος ή
γνώμη τη
ευχαριστία, και ή
ευχαριστία βcβaιoι την
γνώμ–ην».[702]Единство Церкви доказывается также и текстом 1 Кор. 12, 12 и др., а связь единства с таинством крещения -1 Кор. 12, 13: «ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом, — *ас γαρ εν έν ί πνεύματι πάντες εις έν σώμα έβαπτίσϋ–ημεν,
είτε
Ιουδαίοι είτε "Ελληνες, είτε
δούλοι είτε
έλεύϋεροι, και πάντες εις εν πνεύμα έποτίσ&ημεν» (1 Кор. 12, 13)
[703]. «Смысл слов его (an. Павла) ‚ — говорит Златоуст (см. 45, 405) ‚ — следующий: один Дух составил из нас одно тело и возродил нас; ибо не иным Духом крещен один, а иным другой. И не только крестивший нас Дух есть один, но и то, во что Он крестил, т. е. для чего крестил, есть едино; ибо мы крестились не для того, чтобы составлять различные тела, но чтобы все мы в точности составляли одно тело, т. е. крестились для того, чтобы всем нам быть одним телом. Таким образом н составивший нас един, и то, во что Он составил нас, едино. И не сказал Апостол: дабы мы принадлежали одному телу, но чтобы были едино тело: мы вси во едино тело крестихомся…»
Но, будучи единою, Церковь может проявляться в отдельных группах людей, подобно тому, как Истинное Тело Христово являет Себя во множестве отдельных литургий, присутствуя все целиком ж каждой частице Святых Даров; так, как нельзя сказать, будто частица Святых Даров есть «кусок» Тела Христова, так же нельзя сказать, что данная поместная Церковь есть «часть» Церкви — Тела. Она несет его все целиком. «Таким образом, — говорит Р. Зом (21, 41–42), — существует единая только экклезия, собрание всего христианства в целости, но у этой единой экклезии бессчетные формы явлений. Она является в собрании местной общины и в бесчисленных других собраниях христиан, даже когда они и не представляют непременно собрания местной или домашней общины». «Основоположительная идея древности–это идея церкви (экклезии). Единственное известное древности собрание есть собрание церковное (собрание экклезии), собрание христианства. Вообще не существует собрания местной или домашней общины, как такового. Что мы фактически можем назвать собранием местной общины, именно общее собрание христиан известного города, есть то, что оно есть, не как это собрание местной общины, но как форма явления экклезии, собрание всего народа христиан. И собрание местной общины (которое в древности вовсе не необходимо встречалось везде) отнюдь не составляет единственной формы явления экклезии. Наряду с ним всякое другое собрание христиан есть также экклезия, и потому всякое христианское духовное действие (крещение, евхаристия, избрание) может происходить также и в любом другом христианском собрании. Совершенно безразлично, может ли считаться собравшейся местная община или нет. Важно только, чтобы было собравшимся христианство».
«Идея местной общины
[704], вообще идея более тесной общины в современном смысле слова, вовсе не имела места в организации церкви (христианства). Не существует ни собрания, ни, следовательно, органов местной или домашней или какой-либо иной общины, как таковой. Этим исключается всякое местно–общинное или союзное устройство, вообще всякая местная или корпоративная форма устройства…»
IV
Трансцендентный для мира и мирского, стоящий над греховностью эмпирического Бог — абсолютно свят (Откр. 4, 8; 15, 4; 16, 5). Так же и Христос, «Который есть образ Бога невидимого» (Кол. 1, 15; Флп. 2, 6; 2 Кор. 4, 4), «сияние Славы и образ Ипостаси Его» (Εφ. 1, 3), в Котором «обитала вся полнота Божества телесно» (Кол. 2, 9) ‚ — абсолютно свят (Деян. 4, 27, 30; Мр. 1, 24 = Лк. 4, 34; 1 Петр. 1, 15; Рим. 11, 16). Этот предикат святости есть только в положительной форме выраженный предикат «не от мира». Как Бог, действуя в мире, остается «не от мира», трансцендентным миру, так и Христос, живя в мире и вечно продолжая быть с пребывающими в мире учениками Своими, был и есть «не от мира» (Ин. 8, 23; 17, 16). «Не от сего мира — ουκ έκ του κόσμου τούτου» указывает на метафизическую и мистическую природу, равно как на нравственное совершенство, а не на простую вне–мирность, простую отрешенность от мира (2, 5, 16, 6 сл.). Быть не от мира — это не значит не быть в мире, не быть здесь, но значит иметь внутреннее существо свое свободным от мирского, над мирским, и потому носить в себе залог победы над миром и победить мир (Ин. 16, 33; Откр. 2, 21; 5, 5). Трансцендентность для мира существа и имманентность миру действия — вот что значит быть святым или быть не от мира. Будучи «не от мира сего», Христос есть «свет» миру (Ин. 9, 5; 12, 46; 8, 12 и др.), который «светит во тьме» (Ин. 1, 5), но не может быть охвачен тьмою, потому что «нет в нем тьмы» (1 Ин. 1, 5), а Сам он над тьмою. Но своею победою над тьмою Он, естественно, вызывает ненависть тьмы к свету (Ин. 3, 19–21 и др.), ненависть зла к добру и греха к святости. Тут, в антагонизме тьмы, восстающей на Свет и стремящейся уничтожить Его, равно как и в вечном торжестве Света над отдельными атаками тьмы, обнаруживается, что Он — не от мира сего. Исключительная, единственная ненависть мира ко Христу (Ин. 7, 7) есть признак Его избранничества в полном и подлинном смысле (Лк. 23, 35; 1 Петр. 2, 4; 6. Мф. 12, 18), преимущественной любви к Нему со стороны Отца; поэтому ненавидящий Христа ненавидит и Отца Его (Ин. 3, 23). Избранничество — таков еще один момент святости. Но, возлюбленный Богом, Сын в свою очередь возлюбил Его, почему всецело смирил Себя (Флп. 2, 8 и др.), имея полноту нравственного совершенства. Таков конечный момент в понятии святости.
Все эти моменты, так или иначе, непременно имеет и Церковь — «полнота» Христовой благодатной силы. Святость Церкви — необходимое следствие ее реальной связи со Христом. Но если все стороны святости уже даны во всей их силе самой Церкви, то различно даны они верующим, членам Церкви.
Как и Господь, Церковь — свята. «Христос, — говорит Апостол, — возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятиа, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5, 25–27)
[705]. Под «банею водною» (τω λουτρω του
ύδατος) разумеется здесь таинство крещения, как единогласно признается всеми древними и новыми экзегетами, но «посредством слова» (έν ρήματι) вызывает разногласия. Наиболее основательное толкование, согласное к тому же со святоотеческим, видит в ρήμα
[706] тайноводственные слова, произносимые при крещении, т. е. крещальную формулу «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» (39, 632)
[707]. Святость Церкви — святость Христа, ибо Христос — «нача- ток» Церкви (Кол. 1, 18), «лоза» (Ин. 15, 5), наполняющая живительным соком свои «ветви». «Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви» (Рим. И, 16). Следовательно, и все Тело Христово свято. (Ее
δε τι απαρχή
αγία, και το φύραμα και
εί ή
ρίζα αγία, και οί κλάδοι. — Рим. 11, 16). Данный текст относится, собственно, к ветхозаветной теократии (44, 152–153). Но так как первая половина стиха (где, собственно, идет дело о закваске, «от которой зависит и хорошая замесь и хороший всход или вскиса- ние теста» в замешенном месте
φύραμα) параллельна Мф. 13, 33«Лк. 13, 21, а вторая — Ин. 15, 5, то данный текст может (вне контекста) относиться и к Церкви.
Как святая, Церковь по своему бытию в то же время поднята над мирским бытием, Глава — Христос все Тело свое поднял выше мирского. Поэтому Христос сказал: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18, 36) — ή
βασιλεία ή έμή ουκ εστίν
εκ του κόσμου τούτου. «Царство Мое, — парафразирует эти слова блаж. Феофи- лакт
[708], — не отсюда, откуда ждет себе царя народ; оно не мирского происхождения, но высшего, небесного, божественного, и Я сам не простой человек, не из числа земных существ, но Бог и Сын Божий». «Но Царство Христово, — говорит Мансветов (2, 5 сл.), — будучи не от мира сего, не есть, однако же, царство исключительно духовное, т. е. царство невидимое, существующее в премирной сфере, ведомое одному Богу, нет; Господь не сказал, что оно не в мире, не здесь. Выражение «не от мира сего» указывает на первоначало или первооснову Его царства, которое свыше и прежде веков, а не на земле возродилось путем естественного развития народной жизни. Но этим не исключается его пребывание и распространение в мире сем… Царство Божие или Церковь, имея начало премирное, должно, по учению Спасителя, пребывать, действовать среди мира в мире — в обществе избранных от мира сего, отделившихся от его жизни, но пребывающих в нем; следовательно, должно действовать и распространяться видимо, осязаемо среди настоящего мира… Она получает свое первобытие вне области мира сего, но и в то же время должна жить и развиваться здесь, т. е. на земле».
Церковь — «не от мира сего», и потому «мир сей» гонит ее, видя в самом факте ее существования обличение себе. Так Савл гнал Церковь Христову (см. гл. 3, § V), так продолжалось во всю историю церкви, так, и по преимуществу, будет в последние времена (см. гл. 5, § V). В ненависти мира и в вечной вражде его к Церкви открывается онтологический антагонизм мира и Церкви. А другою стороною того же антагонизма является любовь Христа к Церкви (Еф. 5, 25) и избранность Церкви, ее обособленность, выделенность из всего мира. Церковь называется «соизбранной Церковью» (1 Петр. 5, 13) (ή έν Βαβυλώνι (τυνεκλεκτ–η), и «избранной госпожою» (2 Ин. 1, ср. 2 Ин. 13) (έχλεχτη κυρία). Возлюбленная и избранная, Церковь сама возлюбила Бога, почему является «чистою» «непорочною» (Еф. 5, 25–27) и вообще этически совершенною. Такова святость Церкви. Но к Церкви органически принадлежат члены ее, верующие, образуя вещество ее. Они не могут быть святыми в том смысле, в каком этот термин применяется к Богу и Сыну. Но в то же время они не могут вносить в Церковь своих грехов. Они тоже должны быть святы в своей органической связи со святою Церковью, но святость их может быть иного характера — святостью заимствованною или, точнее, освященностью. Однако эта святость состоит в обновлении тайников бытия, внутреннего ядра бытия; этическое же совершенство не дано, а только задано: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Мф. 5,48), — заповедал Христос ученикам своим. А Брат Господень пишет: «…с великою радостью принимайте, братия мои, когда впадете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» (Иак. 1, 2–4; ср. Кол. 4, 12; Иак. 3, 2; Евр. 6, I; 2 Кор. 13, 9; 1 Ин. 4, 18; 2 Тим. 3, 17 и др.).
«Неодолимость» Церкви в сфере святости есть именно эта невозможность нарушить святость Церкви для всех усилий злых сил, вторгающихся в души членов Церкви. В крайнем случае самые члены, духовно умерев, отваливаются вон или только кажущимся образом продолжают пребывать в Церковном Теле, тогда как на деле они не входят в органическое единство с Церковью. Церковь же остается непоколебимой в своей святости и чистоте.
«Мы святимся святостью Церкви, но Церковь не оскверняется нашими грехами, ибо ее святость не от нас, а от Бога чрез Христа и она сама не в нас, хотя и из нас состоит (как наше тело состоит из тканей и волокон, но сущность его не в них, а в их органическом сочетании в форме одного целого). Церковь не есть только собрание людей (верующих), но прежде всего то, что их собирает, т. е. данная людям свыше существенная форма единения, посредством которой они могут быть причастны Божеству» (14, III, 351). «Церковь, Богочеловеком Христом основанная, имеет и состав бо- гочеловеческий. Но разница в том, что Христос есть совершенный Богочеловек, а Церковь еще не есть совершенное Богочеловечество, а только совершающееся…. Церковь Христова еще не достигла прославленного состояния, и ее человечество хотя и связано внутренно с божественным, но далеко еще не во всем его выражает и не вполне ему соответствует. Церковь свята и божественна потому, что освящена кровию Иисуса Христа и дарами Духа Святого; то, что прямо исходит из этого освящающего Церковь начала, божественно, непорочно и неизменно; дела же церковных людей, по человечеству, хотя бы и ради Церкви, исполняемые, представляют нечто весьма относительное и далеко не совершенное, а только совершенствующееся. Это есть человеческая сторона Церкви. Но за изменчивым и волнующимся потоком церковного человечества пребывает и образует самую Церковь Божию вечный и бесконечный источник божественной благодати, непрерывное действие Святого Духа, дающего человечеству истинную жизнь во Христе и Боге. Это благодатное действие Божие всегда существовало в мире; но от воплощения Христа оно вошло в видимую и осязательную форму. В Церкви христианской божественное не есть только внутреннее, неуловимое действие духа, но является и в некоторой уже осуществленной форме или телесности. Были формы и в Церкви ветхозаветной, но там это были лишь иносказательные прообразы или предзнаменования; священные же формы новозаветной Церкви суть настоящие, подлинные образы Божественного присутствия и действия в человечестве. Вследствие несовершенства человеческих стихий, входящих в Церковь, эти божественные формы являются лишь как начатки или залоги божественной жизни в человечестве, которые своей полноты должны достигнуть лишь в Новом Иерусалиме — в прославленном Богочеловечест- ве. Но и ныне этот Новый Иерусалим — град Бога живаго — существует не в одних только помыслах, желаниях и внутренних чувствованиях христиан: те божественные формы Церкви, о которых мы говорим, составляют уже и теперь действительные камни его основания, на которых воздвигнется и таинственно уже воздвигается непрерывно все божественное здание; так что хотя не все в видимой Церкви божественно, но божественное в ней есть уже нечто видимое. Эти видимые камни непоколебимы, неизменны, и без них нет Церкви» (там же, 352–353)·
«Принимающие эту всеобщую и неизменную форму божественного действия, образуемые ею во Христе или входящие в живое тело Христово, не могут своими частными и преходящими недостатками нарушать вечного достоинства Церкви как целого. Даже и в физическом теле отдельные члены его могут быть поражены и парализованы, а все тело живет и действует, и воздействием своей жизни может исцелить и пораженные члены. Тело необходимо умирает только тогда, когда поражены основные его части — голова и сердце. Но Глава и Сердце церкви — Христос и Богородица — находятся в вечном божественном мире и поражены быть не могут. Из порочных слагаемых не может произойти святого и непорочного целого: и если бы Церковь была только собранием отдельных людей, то она не могла бы быть святой и непорочной, так как безгрешных людей на земле не существует. Но видимая Церковь получает свою жизнь и силу помимо грешных людей от Самого Христа, в Котором обитает вся полнота Божества телесно, чрез посредство Пресвятой и Всенепорочной Девы и всей невидимой Церкви святых; поэтому наши людские несовершенства никак не могут упразднить святость Церкви. А затем уже для нас, людей, принадлежащих к Церкви, но не образующих ее, является нравственная задача стараться о соответствии и сообразовании нашей жизни с жизнью божественной, начаток и образ которой мм получаем через священные формы видимой Церкви. Это есть цель христианской деятельности — исполнение Церкви в людях или наступление Царства Божия на земле. Эту цель мы не должны принимать за действительность, ибо в действительности Царство Божие на земле еще не исполнилось и Бог царствует более над людьми, нежели в людях» (там же, 349).
Таково взаимоотношение святости Церковной и нравственного несовершенства верующих. Церковь, вечно обновляющая своих членов благодатным притоком духовной энергии, может смыть и тот или другой дефект в деятельности отдельных членов. Тут делается ясен смысл права «вязать и решить», которое чаще всего бывает камнем преткновения для неверующих. Это право или, лучше сказать, эта сила, дарованная Церкви Самим Господом (Мф. 18, 17), обычно предоставлено церковной иерархии на основании слов Спасителя (Мф. 16, 19; 18, 18)
[709].
Но единство верующих было бы абсолютно непонятно, если бы Церковь только освящала и очищала верующих, не входя в имманентное общение с ними, хотя, с другой стороны, столь же непонятна была бы святость Церкви, если бы мы признали имманентное участие грешных (хотя бы и вечно очищаемых) людей в самом существе Церкви. Эта проблема разрешается различием в искупленном человечестве двух сторон: искупленной идеальной сущности, образа Божия и совершенствующегося эмпирического характера, подобия Божия. Эта идеальная сущность, составляя самое вещество Тела Христова, свята и чиста, тогда как другая, эмпирическая сторона освящается и лишь постольку принадлежит к телу Христову, ассимилируется Телом Христовым, поскольку уподобляется образу Божьему. Но каждый из верующих носит святыню в душе своей, и этой святыней он вчленяется в Тело Христово, чрез нее получая от этого Тела освящающую энергию. Поэтому сказано
[710]: «Бога святите в сердцах своих» (1 Петр. 3, 15). Ибо верующие «приняли не духа мира сего» (1 Кор. 2, 12), но Духа Святого (Деян. 1, 8; 8, 18; 10, 44; 11, 15; 19, 2; 19, 6); Дух славы, Дух Божий почивает на них (1 Петр. 4, 14; 1, 11), живет в них (Рим. 8, 9; 1 Кор. 3, 16; ср. Ин. 7, 39), изливается на них (Деян. 2, 17) и дается им (1 Ин. 4, 13). Живя в верующих, Дух Святый научает их (Лк. 12,
12) , вдохновляет их (Деян. 2, 4, 7, 55, 4, 8 и проч.), утешает (Деян. 9, 31), обнадеживает (Рим. 15,
13) , внушает, что говорить (1 Кор. 2, 13; Деян. 21, 4), дает Свои силы и причастие Себя (Евр. 2, 4; 6, 4), ведает сокровенное человека (1 Кор. 2, 11), на- поевает все существо верующих (1 Кор. 12, 13). Поэтому верующие именуются святыми (1 Кор. 6, 2; 2 Кор.
13, 12; Флп. 4, 22; Кол. 3, 12; Евр. 3, 1; Мр. 8, 38; Рим. 15, 26; 2 Кор. 1, 1; Еф. 3, 18; 1 Фес. 3, 13; Откр. 13, 7; Деян. 9, 13; 9, 32; Иуд. 3; Рим. 1, 7; 15, 25, 31; 16, 2; 1 Кор. 1, 2; 16, 15; 2 Кор. 8, 4;
9, 1; Εφ. 1, 1, 15; Кол. 1, 4; Еф. 5, 3; Флп. 1, 1; Кол. 1, 2, 26; 1 Фес. 5, 27; 1 Тим. 5, 10; Тит. 2, 3; Флм. 5; Евр. 6, 10; Откр. И, 18; Деян. 9, 41; 26, 10; Иуд. 14; Рим. 8, 27; 12, 13; 16, 15; Евр. 13, 24; 1 Кор. 14; 16, 1; 2 Кор. 9, 12; Εφ. 1, 8; 38; 4, 12; 6, 18; Кол. 1, 12; 2 Фес. 1, 10; Флм. 7; Откр. 5, 8; 8, 3, 4; 13, 10; 14, 12; 15, 3; 16, 6; 17, 6; 18, 24; 19, 8; 20, 8; 22, 6; 1 Петр. 3, 5), освященными (Евр.
10, 14; 10, 10; 2, 11; 1 Кор. 1, 2; 2 Тим. 2, 21; Ин. 17, 19; Иуд. 1). Но будучи святыми и освященными, верующие тем самым выделены из мира, не от мира (Ин. 15, 19), как и Христос не от мира (Ин. 17, 16), ибо «имеют начаток Духа» (Рим. 8, 23) и «приняли не духа мира, а Духа от Бога» (1 Кор. 2, 12), «не приняли духа рабства…, но Духа усыновления» (Рим. 8, 15), «Духа истины, которого мир не может принять» (Ин. 14, 17). Ранее и они были от мира (Ин. 8, 23; 17, 6; 1 Ин. 4, 5; Еф. 2, 2), но стали не от мира, ненавистными миру (Ин. 2, 15), позорищем мира (1 Кор. 4, 9), безумием (1 Кор. 1, 13), сором (Иак. 4, 4). Но если мир ненавидит их, то эта ненависть стоит в связи с ненавистью к Спасителю, в этой ненависти обнаруживается их инородность миру (Ин. 15, 18, 19). Ненавидимые миром, они избраны Богом (Ин. 15, 16, 19; Гал.
1, 15, 25; Мр. 13, 20, Ин. 13, 18; Деян. 1, 24; Деян. 15, 7; Иак. 2, 5; 1 Кор. 1, 27, 28; Εφ. 1, 4; 2 Фес.
2, 13; 2 Петр. 1, 10; 1 Фес. 1, 4; Рим. 9, 11; 11, 5, 28. Рим. 16, 13. Рим. 11, 7; Кол. 3, 12; Откр. 17,
14. Деян. 9, 15; 1 Петр. 2, 9; Рим. 1, 1; 1 Петр. 1, 1; Лк. 20, 16; 22, 14; Мф. 24, 22; Мр. 13, 20; Мф.
24, 24; Μρ. 13, 22; Μφ. 24, 31; Μρ. 13, 27; Лк. 18, 7; Рим. 8, 33; 2 Тим. 2, 10; Тит. 1, 1) и притом прежде создания мира (Εφ. 1, 4)., возлюблены Им и Христом (2 Фес. 2, 16; Ин. 13, 1; Ин. 3, 16; Ин. 13, 24; 15, 9; 17, 23; 1 Ин. 4, 11, 19; Еф. 2, 4. Еф. 5, 2; 5, 25; Откр. 3, 9; Ин. 14, 23; Рим. 9, 25; 1 Петр. 4, И; Рим. II, 28; 1 Фес. 1, 4; Откр. 20, 8; Рим. 1, 7; Ин. 14, 21; Еф. 5, 1; Ин. 14, 21). Они остаются в мире (Ин. 17, 15) и пользуются мирским, но, однако, как не пользующиеся (1 Кор. 7, 31), потому что носят в себе нового человека (Еф. 2, 15), облеклись в Него (Еф. 4, 24; Кол. 3, 10), а кто во Христе, — тот новая тварь (2 Кор. 5, 17) и ждут нового неба и новой земли (2 Петр. 3, 13). Поэтому они–соль земли (Мф. 5, 13; Лк. 14, 34) и свет миру (Мф. 5, 14). Они–в мире, но мир не достоин их (Евр. 11, 38). Но запечатленные обетованным Духом Божиим (Εφ. 1, 13), имея помазание от Святаго Духа (1 Ин. 2, 20), представляя своим телом храм Святаго Духа (1 Кор. 6, 19), верующие, хотя и не совершенные нравственно, должны заботиться, чтобы не оскорбить Святаго Духа (Еф. 4, 30), соблюдать свой сосуд в святости (1 Фес. 4, 4, ср. 1 Фес. 4, 7), предоставив свои тела в жертву святую (Рим. 12, 1), будучи святы в поступках (1 Петр. 1, 15, 16) и непорочны (Еф. 1,4). Если Святый Дух дает силы и помощь во всех жизненных функциях, то все функции должны быть чистыми; весь человек должен стремиться к бого- уподоблению. «Сам Дух ходатайствует за верующих воздыханиями неизреченными» (Рим. 8, 26, 27), потому что верующие — сыны Божии, и Бог послал в сердца их Духа Сына Своего, вопиющего: Авва, Отче! (Гал. 4, 6, ср. Рим. 8, 15). Поэтому и ложь есть ложь Духу Святому (Деян. 5, 3).
V
Тело по преимуществу, само Тело, τό σώμα не было бы таковым, если бы исключало из себя какое-нибудь частное тело. Потому-то оно и стоит над всеми отдельными телами, что несет в себе всякое частное
со-› вершенство отдельного тела и, следовательно, не исключает из себя последнего. Но в то же время, будучи Телом совершенным, оно всегда и везде и при всяких условиях остается само собою. Всӧ для него, но оно — выше всего, не нарушая своего самотождества. Универсальность в смысле unum ѵсгѕиш alios — таково третье и последнее существенное свойство Церкви. Церковь есть полнота Христова, плирома Христа (Εφ. 1, 23 б). Но всё чрез Слово начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть (Ин. 1, 3); Христом — все, и мы Им (1 Кор. 8, 6), ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — всё Им и для Него создано; и Он есть прежде всего и все Им стоит (Кол. 1, 16–17). Полнота Христова — полнота всех энергий, которыми создано все бытие. Если сейчас Церковь–не всё актуально, то она–всё в потенции, ибо исполнена полнотою Христа. Ведь Господу Иисусу Христу все предано в руки Отцем Его (Мф. 11, 27; Лк. 10, 22; Ин. 3, 5; 13, 3); Отец все покорил под ноги Сыну (1 Кор. 15, 27; Εφ. 1, 22; Евр. 2, 5, 8), так что что принадлежит Отцу, то принадлежит и Сыну (Ин. 16, 15). А от Бога — всё (1 Кор. 11, 12, 8, 6); всё из Него, Им и к нему (Рим. 11, 36), ибо Он все создал Иисусом Христом (Еф. 3, 9); Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и чрез всех, и во всех нас (Еф. 4, 6). Значит, Христос — сущий над всеми Бог (Рим. 9, 5): Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам (Ин. 5, 20). Воля Отца, чтобы все небесное и земное соединить под главою Христом (Εφ; 1, 10). Отец дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Отец дал Сыну, даст Сын жизнь вечную (Ин. 17, 2). Когда же Сын все покорит Отцу, то и Сам покорится Ему, да будет Бог всё во всем (1 Кор. 15, 28). Цель домостроительства Божия — спасение всей твари. Спаситель хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины (1 Тим. 2, 4). А вместе с людьми — и вся тварь, ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, — потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, — в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего (Рим. 8, 19–23). Как природа Церкви заставляет заключить к ее универсальности, так и домостроительное назначение Церкви необходимо влечет за собою универсальность Церкви. Церковь не может исключать из себя никакой твари, ибо она не достигла бы тогда своего назначения. Ни пространство, ни время, ни те или иные эмпирические особенности людей не могут ограничивать участия их, вчленения их в Тело Христово. По пророчеству Спасителя Евангелие Царствия проповедано будет по всей вселенной (έι> ό'λη τη οικουμένη), во свидетельство всем народам
(πασιν τοις εΰνεσιν), и тогда придет конец (Мф. 24, 14). Действительно, апостолы проповедовали всюду (Мр. 16, 20). Уже ап. Павел благодарит Бога, что вера христианская возмещается во всем мире
(έν ό'λω τω κοσμώ) (Рим. 1,8), и говорит словами псалма (18, 5), что «по всей земле
(εις πασαν την γτ\ν) прошел голос их (т. е. проповедников Евангелия), и до пределов вселенной (ctsτά
πέρατα, τη? οικουμένης) слова их» (Рим. 10, 18). Господь заповедал: «идите, научите все народы (πάντα τά
έτνη), крестя их… уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19–20), и сказал по поводу возлияния мира на Его ноги Марией Магдалиной: «истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире
(έν ό'λω τω χόσμω), сказано будет в память ее и о том, что она сделала» (Мф. 26, 13). Когда наступит реализация спасения, то в Царство Божие придут с различных сторон, т. е. не взирая на национальные, этнографические и иные особенности; «и придут от Востока и Запада, и Севера и Юга, и возлягут в Царствии Божием» (Лк. 13, 29 = Мф. 8, 11). Универсальна природа Церкви, универсально ее назначение, универсально ее распространение. Универсальна и самая вера, исповедуемая Церковью, потому что при новом религиозном сознании Бого–поклонение не связывается с определенным местом, определенной нацией или определенной эпохой, но совершается в духе и истине (Ин. 4, 23), на всяком месте (1 Тим. 2, 8), а не в одном только Иерусалиме (Ин, 4, 23) и, следовательно, доступно всякому, независимо от его положения и состояния, от его ума и способностей, но вместе с тем способно удовлетворить человека всякого состояния и положения, всякого ума и всяких способностей. Но мало того, Спаситель велел ученикам своим: «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари»
[711] (ίίορευϋεντες εις τον κόσμο ν
απαντα κηρύξατε το εύαγγέλειον πάσιρ τ^
κτίσει. — Μρ.16, 15), «и благовествовать возвещено всей твари поднебесной» на самом деле (Кол. 1, 23).
Если, таким образом, задачею является проповедь Евангелия по всей вселенной, всей твари, то ясно, что правда Божия чрез веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих; ибо нет различия (δικαιοσύνη δέ θεου δια
πίστεως * Ιησού Χρίστου,
εις πάντα? και
επί πάντα?
τους πιστεύοντας ου γάρ εστίν διαστολή), потому что все согрешили… — получая оправдание даром (Рим. 3, 22, 24). Здесь, в Церкви, нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его (Рим. 10, 12); тут нет ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос (Кол. 3, 11). Ритуальные, национальные, социальные, экономические (Иак. 2, 1 сл.) и все прочие отличия потеряли силу или, лучше сказать, не составляют граней для универсальности Церкви. Дихотомическое деление человечества на обрезанных и необре- занных исчезло; в Церкви Христовой обрезание — ничто, и необрезание — ничто (1 Кор. 7, 19), ни то, ни другое не имеет силы (Гал. 5, 6; 6, 15, 11; 1 Кор. 7, 18; Гал. 2, 9; Гал. 2, 3; Гал. 5, 2; Деян. 21, 21 и др.), потому что Господь Иисус есть мир обрезанных и необрезанных, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном Теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на Нем (Еф. 2, 14–16). Сам Господь говорил: «Слушайте Меня все» (Мр. 7, 14); никто не лишен возможности слышать проповедь Евангелия, дабы все чтили Сына (Ин. 5, 23), да будут все едино… и да уверует мир, что Отец послал Сына (Ин. 17, 21). Христос предсказывал, что когда вознесен будет от земли, то всех привлечет к Себе (Ин. 12, 32); а пророк Исайя пророчествовал, что пред Ним преклонится всякое колено, и что всякий язык будет испо- ведывать Бога (Ис. 45, 23 = Рим. 14, П)
[712]. Эта универсальность в назначении Церкви есть необходимое следствие всеобщности греха. Полная победа над великим драконом, древним змием, называемым диаволом и сатаною, обольщающим всю вселенную (Откр. 12, 9), есть возглавление всего Христом (Εφ. 1, 10).
Если ни место, ни внешнее состояние верующего не может служить к исключению его из Тела Христова, то — не препятствие к соединению с Ним и то или другое время, та или другая эпоха, в которую выпало жить верующему. Господь обещал пребыть с верующими во все дни до скончания века (Мф. 28, 20) и, значит, тем более, по окончании этого века, когда наступит век трядущий, когда все будет возглавлено Христом, все войдет в состав Его Тела. Дух Утешитель, освящающий Церковь и верующих, пребудет с нею и с ними вовек (Ин. 14, 16). И таинство Евхаристии не прекратится до второго лришествия; «ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, — пишет ап. Павел, — смерть Господню возвещаете, доколе Он приидет» (1 Кор. 11, 26). Будучи полнотою святого бытия, Тело Христово вселенско или всемирно, всевременно и все- образно, т. е. не исключает из себя никакого бого- зданного многообразия космоса. Мало того, оно не только не исключает его, но оно положительно требует такого многообразия, ибо в нем раскрывается бесконечное богатство освящающих сил Господа. Как член Церкви, каждый верующий не механически, но органически входит в церковное единство, т. е. имеет в нем свое собственное, никем не заменимое, никем не устранимое место, свою собственную функцию, которую ему одному только дано от Бога отправлять по истине. Его индивидуальность не только не уничтожается, но освящается, находит себе высшую санкцию в Церкви. Тело Христово — не беспорядочная масса однородных частей, но стройное единство разнородных, взаимно–восполняющих, взаимно–нужных органов. Есть много различных даров духовных, служений и действий, но источником их является Триединое Божество (1 Кор. 12, 4–6). Каждому дается проявление Духа на пользу: одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом, иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков (1 Кор. 12, 7–10). Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, — так и Христос (1 Кор. 12, 12). Тело же не из одного члена, но из многих (1 Кор. 12, 14). Ни один орган не может считать себя не принадлежащим к Телу на том основании, что он индивидуален (1 Кор. 4, 15–16), потому что разнообразие требуется для совершенства Тела: если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело–одно (1 Кор. 12, 17, 19–20). Каждый член нужен всем остальным, и его кажущаяся невидность может скрывать за собою его большую важность (1 Кор. 12, 21–24), почему требует и большего попечения со стороны других органов. Но, будучи различны, органы взаимно–обусловлены; страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. Так и верующие — Тело Христово, составляют вещество Его, а порознь–члены этого Тела (1 Кор. 12, 24–27). Если разнообразие требуется для Церкви, то естественно, что и функции оказываются у разных членов разные, а не у всех одинаковые (1 Кор. 12, 28–30). Как в одном теле у нас много членов, но не у всех одно и то же дело, так и мы многие (верующие) составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены (Рим. 12, 4, 5; ср. 1 Кор. 10, 17). У каждого–свои дарования, свои способности, и потому каждый должен думать о себе скромно, не более нежели должно, — не мечтать о себе, найти истинное место свое в Теле Христовом, познавая, «что есть воля Божия» (Рим. 12). Премудрость Божия не исключает из себя частную премудрость, а включает ее в себя, потому что Она — «многоразличная премудрость Божия» (ή πολυποίκιλος ‹го‹рі‹х. του θεου, Εφ. 3, 10), и чтобы верующие могли быть «добрыми домостроителями благодати Божией» («ως καλοί, οικονόμοι ποικίλης χάριτος θεου», 1 Петр. 4, 10), каждый из них должен служить друг другу тем даром, какой получил, тою способностью, которою оделил его Создатель (1 Петр. 4, 10–11). В том и состоит существо смирения, чтобы сознавать свое место в Теле Христовом и вместе с тем видеть, что это место — даровано Богом, а не заслужено, ибо все индивидуальные особенности, делающие верующего определенным членом, созданы не им, а получены от Бога. Все эти отличия, как и вся вообще жизнь христианина, являются благодатными по существу, но по внешней форме они могут быть обыкновенными, естественными человеческими способностями, вроде, например, «дара заступления за угнетенных» (45, 417) пред властями и пред злыми людьми (άντιλήμν&εις), «дара правления» (κυβερνήσεις) (1 Кор. 12, 28), «дара учения» (1 Кор. 12, 28) и т. п. (21, 43 сл.).
Таким образом, Полнота Христова многообразно преломляется и изображается в многообразии индивидов, входящих в состав Церкви. Не исключая из себя никого, Церковь в то же время требует и предполагает особенности верующих, и в виду такого свойства называется кафолической καθολική έχκλτμτία. Слово καθολικό?
[713] не встречается, собственно, в тексте Священного Писания, а Церковь названа этим именем впервые у св. Игнатия (ad Smyrn., с. 8). В Священном Писании оно попадается в надписаниях посланий Иакова, Петра, Иоанна, Иуды, каковым термином характеризуется, что данные послания направлены ко всей Церкви, а не к отдельной общине. Встречается в Деян. 4, 18 (а также у Ев. 13, 3, 22; Ам. 3, 3, 41, затем у Ксенофонта, Платона, Демосфена, Аристотеля и др.) слово καθόλου, т. е.
δλου, которое удобнее всего перевести чрез всячески, всецело, omnius prorsus, uberhaupt. Поэтому
χα&ολιχός· означает всеобщий, universalis, generalis, das Ganze betref- fend, allgemein и сообразно содержанию слова
δλος — целостный, целокупный, имеет логическое ударение на всецелостности объекта, к которому относится. Кафолический есть всеединый, а если правильно, что есть эллиптическое
δλα εϋνη, то столь же правильно, что оно есть также и
χαϋ9 δλον χρόνον и κα£'
δλιην о ίχουμε
νην или
xotd* δλον хо‹гџоѵ. Поэтому предикат «вселенская», οικουμενική есть только частный вид καФоАсэет). Замечательно, что словенские первоучители свв. Мефодий и Кирилл
[714] перевели καθολική чрез «соборная», конечно, разумея соборность не в смысле количества голосов, а в смысле всеобщности бытия, цели и всей духовной жизни, собирающей в себя всех независимо от их местных, этнографических, исторических и всех прочих особенностей. «Соборный» Символа веры или καθολικό? есть нечто подобное тому, что в кантовой философии называется «объективный», «сверхиндивидуальный». «Церковь соборною называется потому, что находится по всей вселенной от концев земли до концев ея, что повсеместно и в полноте преподает все то учение, которое должны знать люди, учение о вещах видимых и невидимых, небесных и земных, что весь род человеческий приводит к истинной вере, начальников и подчиненных, ученых и простых людей, и что повсеместно врачует и исцеляет все роды грехов, душею и телом содееваемых, имеет в себе всякий вид совершенства, являющегося в делах, словах и во всяких духовных дарованиях»
[715].
Кафоличность Церкви яснее всего указуется, и притом во всем ее объеме в словах Иисуса Христа: «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20). Тут не указано, ни к какой национальности, ни к какой эпохе, ни к какой стране, ни к какому общественному и прочим нарочитым состояниям должны принадлежать собирающиеся. Нужно одно только, чтобы они собрались во имя Христово. Этого достаточно, и Он, как сказал, будет среди них.
Весьма понятно, что непризнание кафолического характера Церкви Христовой ведет за собою тяжкое искажение самого понятия о Церкви и создает особую филе- тическую ересь, желающую национальным и прочим человеческим отличиям дать место не служебное, а главенствующее, вводящую в сферу Божественного человеческое, как таковое, и своим экскоммуникативным отношением ко всем инородным элементам Церкви вносящую в нее племенные деления и распри. Византинизм, русизм, болгаризм, грузинизм и проч. — все эти направления церковной жизни или, лучше сказать, эти болезни, которыми «врата адовы» пытаются поколебать кафоличность Церкви, конечно не поколеблют и не одолеют ее твердыни, ибо «твердое основание Божие стоит, имея печать сию: «познал Господь Своих» и: да «отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа»». 2 Тим., 2, 19. Но несомненно, что доселе слишком мало сознается нелепость и еретичность словосочетаний вроде «византийская церковность» и проч. (14, IV, 69)
[716].
Но при действительной кафоличности формы Церкви содержание ее кафолично не в действительности, а только в возможности. В действительности же для вещества Церкви — верующих — кафоличность есть такая же задача, как и единство и нравственное совершенство. Церковь должна возрастать, ассимилируя себе, вчленяя в себя все большее и большее многообразие церковных органов. Этот рост совершается посредством научения и крещения тех, которые еще не включены в Тело Христово, а средством к научению и крещению служит апостольство в самом широком смысле слова (άποσττολή), как отправление Церкви в мир, чтобы проповедью, примером жизни, чудесами, знамениями, воспитанием, устроением всей жизни и т. д. научать других, пробуждать религиозное сознание в необращенных, углублять его и усиливать — в членах Церкви. В этом смысле Господь назван «Апостолом» [«Уразумейте Апостола и Архиерея Исповедания нашего, Иисуса Христа» (Евр. 3, 8)3‚ и тем же именем обозначаются первые ученики Его, как может быть обозначен и каждый член Церкви. Сама же Церковь в этом смысле зовется апостольской, αποστολική
[717], как сказано в Книге Премудрости Соломона. Премудрость «сама обходит и ищет достойных ее, и благосклонно является им на путях, и при всякой мысли встречается с ними» (Прем. 6, 16).
Как Господь заповедал ученикам своим: «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19–20), «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мр. 16, 15), так «они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями» (Мр. 16, 20). Эта проповедь, передаваясь из поколения в поколение, ширилась и захватывала все большие круги. Апостольство всегда составляло главнейшую из обязанностей церковных людей.
Но этим моментом еще не исчерпывается апостолич- ность Церкви. Церковь — реальный субъект, живое Существо, но не институт или отвлеченное понятие. Как и всякий индивид, она — unicum, единственное в своем роде; но вместе с тем индивид кафолический. Поэтому бытие Церкви не исчерпывается тем или другим научением, хотя бы и кафолическим, но предполагает собственное существование, для себя, выражающееся в самосознании Церкви. Если Церковь, будучи кафолической, не ограничена никакими внешними условиями, ни временем, ни пространством, ни социальным, экономическим и т. д. строем народа, то это только отрицательное определение ее свойства. Положительное определение заключается в Самотождестве Церкви, — в том, что всюду, всегда и при всяких условиях, во всех оболочках и под всеми одеждами Церковь остается тождественною себе и, притом, не только эссенциально тождественною, но и нумерически, ибо всякое иное тождество было бы только равенством. Как «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8), таково и Тело Его — Церковь. Подобно тому, как личность человека при всех условиях остается тождественной себе, что выражается в единстве самосознания, так же и Церковь, вечно одухотворяемая Одним и Тем же Духом, никогда не может сделаться иной. Чтобы быть «столпом и утверждением Истины» (1 Тим. 3, 15), «твердым основанием Бо- жиим» (2 Тим. 2, 19), Церковь непременно должна обладать нумерическим тождеством, реальным единством. Ведь при единстве формальном, единстве учения, поведения и т. д., всегда возможно под одинаковые формы подложить различное содержание. Тогда, без реального единства, мы не имели бы права говорить о Церкви, как Теле, а должны были бы говорить о церковных институтах, имеющих чисто эфемерную действительность. Но на чем основывается и чем гарантируется такое реальное единство? Что обеспечивает, что поток церковной истории говорит нам об истории Церкви, а не о сходных и причинно обусловливающих друг друга феноменах социального строя?
Это реальное единство и самосознание Церкви основывается на единстве Духа Святаго, Церковь оживляющего и освящающего. Но гарантируется оно для нас, для членов Церкви, главным образом преемством иерархии. В нем не учение переходит от верующего к верующему, но совершается реальное взаимодействие личностей посредством таинства посвящения. Этим устанавливается реальная, а не только формальная и идеальная связь членов Церкви, снимаются личные грани и, чрез ряд промежуточных звеньев, иерарх таинственно касается Самого Господа. А так как главными и преимущественными звеньями в этой цепи служат святые апостолы, то в этом смысле Церковь снова зовется апостольскою, и это второе апостольство служит гарантией первого, посланничества. Суть его в том, что соприкосновение двух, посвящаемого и посвящающего, совершается не путем идеатов, не путем продуктов сознания, а чрез реальное взаимодействие личностей. Спрашивается, но разве не может быть иерарха, не поставленного от другого иерарха? Конечно, может, ибо разве не властен Бог дать ему благодатные силы непосредственно. Но, если нет при этом определенных, предуказуемых внешних явлений, то только в исключительных обстоятельствах и состояниях мы могли бы отличить такового от неиерарха. Для церковных людей, вообще говоря, он так и остался бы как простой мирянин.
Вот почему в Священном Писании часто подчеркивается апостольское происхождение церковного человечества. Так, Господь обещал Петру воздвигнуть на нем свою Церковь (Мф. 16, 18). Не входя в разбор всех споров о том, как именно разуметь данное место, видеть ли под «Камнем» самого Петра, или его исповедание, или исповеданного Христа, мы можем заметить тот несомненный факт, что в том или ином смысле Петр полагается в основание Церкви, равно как и другие 12 Апостолов (Откр. 21, 14). Апостолы же получают право вязать и решить (Мф. 16, 19; 18, 18). На них построено и все церковное здание (Еф. 2, 20). А они, в свою очередь, ставили в Церкви своих преемников (Деян. 20, 28; Тит. 1, 5; 1 Тим. 5, 22).
Кафоличность Церкви и две, взаимно восполняющие, стороны ее апостоличности определяют Церковь как универсальный субъект и потому, равно необходимые друг для друга и неотделимые друг от друга, могут быть соединены в последнее свойство Церкви — ее универсальность
[718].
Неодолимость Церкви в сфере универсальности заключается в том, что «врата адовы» никогда не могут сковать и ограничить областью условного кафолицизм Церкви, как не смогут порвать и раздробить самотождество ее в том или ином условном проявлении. Та или другая часть церковного человечества («поместная Церковь»), изображаемая в Откровении под образом светильника, может нарушить кафолицизм Церкви, впадая в филети- ческую ересь, может оторваться от преемственности иерархии, образуя раскол. Тогда она будет сдвинута с места своего (Откр. 2, 5). Ходящий посреди золотых светильников (Откр. 2, 1) может переносить их из одной стороны в другую и вновь возжигает свет их сильнее прежнего. Но Церковь вовеки не поддастся «вратам адовым» и вовеки останется универсальной, как она останется вовеки единой и святой.
ГЛАВА ПЯТАЯ СООТНОШЕНИЕ АТРИБУТОВ ЦЕРКВИ И СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ I
Церковь есть Тело Христово и, как всякое тело, должна неминуемо иметь свойства, общие ей со всяким телом. Всякое тело с наиболее общего угла зрения есть «группа», выражаясь языком математики, и потому формально–логически мы не можем определить Церковь иначе, как группу. Но так как формально–логическое определение не захватывает божественной стороны Церкви адекватно, то потому у нас оно имеет условное, символическое значение. Но всякая группа есть некоторое (1) множество, объединенное известным (2) единством в (3) целое. Итак, в Церкви мы должны различать (1) множество, как совокупность отдельных частей и элементов, из которых может быть составлено тело; (2) единство, как форму, образующую из них действительное тело; (3) целое, как выражение множества во единстве и единства во множестве или, если угодно, фактически осуществляемую цель, ради которой множество собралось во–едино.
Говоря конкретнее, мы должны различать в Церкви: 1) ее вещество или людей, из которых слагается ее содержание; 2) ее объединяющее начало или Тело Иисуса Христа, ассимилирующее в себя эти отдельные человеческие единицы; 3) ее самосознание, идущее от Духа Святого.
А так как, хотя вся Пресвятая Троица участвует в каждом Божественном акте, но тем не менее отдельные моменты домостроительства Божия принадлежат по преимуществу Той или Иной Ипостаси Пресвятой Троицы, то, сообразно трем Ипостасям, мы можем различать в Церкви три момента: 1) дело Отца, как Творца, давшего бытие людям, входящим и имеющим войти в Церковь; 2) дело Сына, как Слова, организующего людей в Свое Тело; 3) дело Духа, как Освятителя, животворящего Тело Христово. Но Церковь есть Тело Христово, есть Тело по преимуществу, τό σωμα, равно как и полнота Христова, Полнота по преимуществу, τό πλήρωμα. Будучи абсолютным Телом и абсолютною Полнотою, Церковь не может быть символически представлена каким-нибудь частным бытием; полнота ее божественного бытия, носящего в себе потенции всего, изображается лишь совокупностью всего, всякого тварного бытия, данного в космосе. А так как «всего» порознь представить нельзя, то «все» должно быть взято по основным категориям существующего. Трем сферам, изучаемым в 1) физике (понимая ее как науку о неорганическом бытии); 2) биологии (понимая ее как науку об органическом бытии); 3) психологии (понимая ее как науку о бытии духовно- разумном), будут отвечать в области экклезиологии три типичные представителя: 1) мира безжизненной материи (минерального); 2) мира организованной материи (животно–растительного); 3) мира одушевленной материи (духовно–разумного), а именно: 1) здание, постройка, как прекраснейший продукт внешних для самого вещества сил физико–химических (сцепление, тяжесть и проч.); 2) живое тело, организм, как целесообразнейшее выявление внутренних для самой организации образовательных стремлений (органические силы); 3) невеста, жена, как совершеннейшее следование нравственному долгу, ни внутренне, ни внешне ее не связывающему и, следовательно, вполне свободное.
В силу сказанного устанавливается три модуса в отношении Божества к Церкви и Церкви к Божеству. А именно: 1) Божество (по преимуществу Отец) живет в (ει>) Церкви, как в Здании, и Здание–Церковь, тип множества, живет в Божестве. 2) Божество (по преимуществу Сын) живет чрез (δια) Церковь, как чрез Тело, и Тело–Церковь, тип формы, живет чрез Божество. 3) Божество (по преимуществу Дух) живет с (<rw) Церковью, как с Женою, и Жена–Церковь, тип целого, живет с Божеством.
Если таковы три аспекта Церкви, то понятно, что тремя атрибутами Церкви будут: 1) универсальность, как свойство абсолютно всецелостного содержания или вещества; 2) единство, как свойство абсолютно всеце- лостной формы; 3) святость, как свойство абсолютно всецелостного самосознания.
1) Зданию Божьему подобает универсальность, чтобы ничто не было исключено из числа его камней; 2) Телу Божьему подобает единство, чтобы всякий орган имел свое место; 3) Жене Божьей подобает святость, чтобы нравственное самосознание было всецелостным.
Но все эти свойства Церкви лишь мистической даны актуально, но у Церкви эмпирической, т. е. для церковного человечества, являются не столько данными, сколько заданными. Отсюда — задача, предстоящая пред церковным человечеством, достигать полного осуществления названных трех атрибутов Церкви, т. е. необходимость изменения в сторону все большего и большего воплощения этих свойств. 1) Как Здание, Церковь механически увеличивается и укрепляет свои связи; 2) как Тело, Церковь органически растет и делает пропорциональнее свои члены; 3) как Жена, Церковь совершенствуется и подчиняет нравственной идее отдельные свои состояния.
Неодолимость Церкви для «врат ада» означает, что: 1) прочность и неразрушимость Здания не поддадутся вражьей силе. Церковь–Здание не будет разрушена, несмотря на все механические повреждения; 2) здоровость и бессмертие Тела не уступят вражьей силе, Церковь- Тело не будет умерщвлено, несмотря на все болезни; 3) нравственность и чистота Жены не изнемогут от вражьей силы, Церковь–Жена не будет развращена, несмотря на все соблазны.
Это — во–первых; во–вторых, неодолимость Церкви для «врат ада» означает, что: 1) увеличение Здания (к универсализму), несмотря на частные стремления отдельных частей церковного человечества ограничиться данным содержанием Церкви, не остановится; 2) рост Тела (к единству), несмотря на отдельные уклонения отдельных органов, чтобы получить преобладание, не прекратится; 3) совершенствование Жены (к святости), несмотря на временно появляющиеся помыслы, стремящиеся занять собою сознание, не нарушится.
Таким образом, «врата ада», т. е. совокупность всех злых сил, а именно: 1) раздробления; 2) смерти; 3) греха, — не одержат верха над Церковью и она пребудет ненарушенной по всем своим трем атрибутам.
Христос, полнота Божества (Кол. 2, 9), сказал: «Я–путь, истина, жизнь-'Εγώ сіџі ή οδός και ή αλήθεια κοα ή ζωή» (Ин. 14, 6). И Церковь, полнота Христова (Εφ. 1, 23 б) есть, поэтому, путь, истина и жизнь. Но то, что во Христе дано как в личности, в церковном человечестве отображается коллективно.
1. Путь в Церкви–это та часть церковного человечества, которая является распространительницей идеи церковной и вместе с тем главным мостом, по которому идут в Церковь новые элементы церковного человечества. Это–миряне, ибо фактическое проведение христианства в жизнь служит главным путем для вовлечения в Церковное Здание новых камней.
2. Истина в Церкви — это та часть церковного человечества, которая является охранительницей идеи церковной и вместе с тем главным коррективом, которым поддерживается гармония новых элементов со старыми. Это — священство, ибо контроль вновь возникающих сторон церковной жизни является главным коррективом для охранения старых членов Тела.
3. Жизнь в Церкви — это та часть церковного человечества, которая является очистительницею идеи церковной и вместе с тем главным импульсом, которым живет усовершение старых элементов. Это — пророчество, ибо творческое очищение уже существующей церковной жизни является главным побуждением для усовершения имеющихся уже сторон в духовной жизни Жены. Если миряне, 2) клирошане, 3) харизматики образуют главные ткани церковного организма, то 1) авторитет, предание, 3) откровение суть главные начала в жизни каждой из названных тканей. 1) Авторитет есть по преимуществу руководящее начало мирян; он дает внешнее для верующего начало действия, ибо оно заключено в зафиксированном и неизменном виде (Священное Писание, каноны и т. д.); 2) Предание есть по преимуществу руководящее начало клирошан; оно дает для верующего живое, хотя и внешнее для него, начало действия, заключенное в общецерковном сознании; 3) Откровение есть по преимуществу руководящее начало харизматиков; оно дает для верующего живое и внутреннее действующее начало действия, заключенное в личном сознании.
При этом: 1) миряне, увеличивающие содержание Церкви, по преимуществу изображаются Зданием, главное достоинство которого — твердо держать то, что в него вложено (авторитет); 2) клирошане, охраняющие форму Церкви, по преимуществу изображаются Телом, главное достоинство которого — упорно сопротивляться внесению в него чуждых элементов; 3) харизматики, очищающие самосознание Церкви, по преимуществу изображаются Женою, главное достоинство которой — свободно следовать голосу свободной совести. Таковы некоторые из троичных подразделений бытия Церкви. Несомненно, что как между отдельными членами триад, так и между отдельными триадами имеется теснейшее касание, хотя невозможно сказать, чтобы каждый из членов каждой триады в точности соответствовал члену с таким же номером другой триады. Тут все время надо прибавлять «по преимуществу», и это «по преимуществу» вызывается самым существом дела. Живое Целое, — Церковь, — невозможно анатомически рассечь на части какими бы то ни было схемами, подобно тому как нельзя на живом теле человека в точности разграничить, где начинается одна часть тела и где кончается другая. Потому-то Церковь и есть нечто Целое, что не может быть разложена на части. Но тем не менее и эта условная схематизация имеет свои выгоды, помогая ориентироваться в Целом.
Тесное же сродство отдельных моментов отдельной триады обусловлено самим принципом схематизации. Так, святость воплощается в универсальном содержании посредством единящей формы; целое возникает из множества чрез объединение; πνεύμα действует в <τάρξ чрез посредство
ψνχ–η[719]; жизнь достигается путем, проходящим чрез истину, и т. д. Заметим, кроме того, что каждая из триад не есть, следовательно, простое перечисление трех моментов, но есть восходящий ряд, каждый член которого до известной степени включает в себя предыдущий. Так, например, символ Тела включает в себя символ Здания, которое он носит в себе в виде костяка; а символ Жены включает в себя символ Тела, ибо Жена имеет Тело. Клирик есть в то же время, как член Церкви, и мирянин, а пророк есть также и клирик. Предание подразумевает авторитет, а откровение — предание. Истина несет в себе и путь (к истине), а жизнь подразумевает истину. Рост включает в себя и увеличение, а совершенствование включает в себя рост. Одним словом, каждая триада есть восходящая прогрессия, а не случайно сгруппированные моменты.
Церковь, как абсолютный Организм из Духа, души и тела, наиболее совершенно символизируется в трех словах–символах: Здание, Тело, Жена–Невеста. «Если мы желаем знать, что преподается нам Божественным откровением о существе Церкви, то мы должны прежде всего вникнуть в смысл этих образов, ибо никаких отвлеченных определений того, что есть Церковь, мы в Священном Писании не найдем, да и вообще относительно такого сложного реального и живого предмета, как Церковь, конкретные образы ближе к правде и содержательнее, нежели отвлеченные понятия. Здание Христово, тело Христово, невеста Христова — тут мы имеем самое прямое, точное и полное определение Церкви» (14, IV, 553)
[720].
II
Дальнейшее изложение заставляет нас рассматривать каждый из этих символов Церкви порознь. Но предварительно необходимо уловить некоторые общие черты их, — работа тем более целесообразная, что она позволит избегнуть в дальнейшем повторения одного и того же по три раза.
По двуединому характеру Церкви (см. гл. II) каждое определение ее должно неминуемо соотносить Церковь с Христом и церковным человечеством или, иначе говоря (в данном случае мысль остается одной и той же), с Божеством и с Человечеством Иисуса Христа. От этого каждое определение Церкви раскалывается на два, так что всего получается 6 символов или 3 сизигии.
Первая сизигия — Церковь–Здание, в состав которого входит «Краеугольный Камень» Христос, и Церковь- Здание, в котором живет Духом Своим Христос, — имеет оба сопрягаемых символа весьма далекими между собою. Тогда как в первом из них Христос есть как бы primus inter pares, во втором Он — нечто абсолютно инопри- родное, нежели все Здание, — не то, что тот или иной камень Его.
Вторая сизигия — Церковь–Тело, в организацию которого входит «Глава» Христос, и Церковь–Тело, которое оживотворяется Христом, — уже делает более близкими между собою оба сопрягаемые символа. Тут между Христом первого и второго символа нет такой бездны, ибо голова есть в то же время орган, своею деятельностью живущий во всем теле.
Третья сизигия — Церковь–Жена, в общении с которой находится «Муж» Христос, и Церковь–Невеста, которая только ждет «Жениха» Христа, — почти уже отождествляет оба сопряженные символа, и естественно считать их за тождественные.
Отсюда — двойственность предикатов, которыми наделяется каждая сизигия. Рассматриваемая, как она дана в Боге, Церковь имеет абсолютные атрибуты свои данными, завершенными, актуальными; рассматриваемая же, как она дана в человечестве, Церковь не обладает данными, завершенными, актуальными атрибутами, но должна выполнить задачу их достижения: они даны Церкви лишь потенциально.
Этот дуализм, быть может, невыносимый для рассудка, является необходимым следствием истинной религиозной силы всех рассматриваемых понятий. Мы уже видели, когда говорили о догмӓтико–метафизическом определении Церкви, что слова–понятия неуловимо переходят в слова–символы, а догматико–метафизическое определение — в догматико–символическое. Точно так же мы увидим далее, что догматико–символическое определение незаметно превращается в догматико–аллегори- ческое, а слова–символы — в слова–эмблемы. Но мало того, отдельные аспекты символического определения сами не остаются устойчивыми. Образы переходят друг в друга, живут, колышатся, меняют свои очертания, растут. Здание начинает расти в Город, в Иерусалим Горний. Отдельные камни Здания сами делаются храмами. Здание вытягивается в колонну. Затем колебания делаются серьезнее. Камни оживают, Здание созидается в любви, приращивает само себя; от него требуется нравственная чистота.. Наконец, оно незаметно сделалось живым, одухотворенным Телом и превратилось в Невесту. Невеста делается Женою, а Жена — Тело своего Мужа, тогда как Муж — Глава его. И т. д. Одним словом–πάντα
ρε с
[721], но в этом всеобщем течении религиозных схем признак жизни — жизни, которая неуловима никакими схемами. Во всей полноте образов раскрывается одна тайна спасения, — в каскаде отдельных схем преломляется тысячами радужных цветов единая идея Церкви. Но они остаются взаимно исключающими лишь для рассудочного познания. Непосредственный же религиозный опыт снова собирает с бережностью каждый цветной луч, и, преломившись в сознании верующей души, они образуют ослепительный белый диск — изображение спасительного Солнца.
Ill
Символ Здания ведет свое начало от Самого Спасителя. В ответ на исповедание Петра (Мф. 16, 16) Господь сказал: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это (т. е. что Иисус — «Христос, Сын Бога Живаго»), но Отец Мой, сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16, 17–19). Текст этот многократно подвергался толкованиям и перетолкованиям (см., например, (32, I, 583584); (7, 136–144); (13, 95–106, 112); (10, 36–38); (8, 325)). Главный вопрос тут о том, каково отношение Петра к Церкви. Как известно, переименование всегда имело таинственное значение: особенно таинственно оно было на сей раз, когда Симон (
Σίμων‚ Συμεών, по- еврейски Шимгон), что по–еврейски значит Выслушивание. Выслушивающий
[722], как бы Внимающий Божественной Истине
[723], получил глубоко значительное имя Ҟифы или Петра, что значит скала, камень
[724], по общепринятому толкованию
[725] [726]. Смысл этого переименования станет ясен, если мы сопоставим разбираемый стих с предыдущим. Христос говорит о вере Симона, данной ему Отцом Небесным. Как таковая, она является, конечно, Камнем, на котором должен строиться всякий. «Не от Петра камень, но от камня Петр, так как не от христианина именуется Христос, но от Христа христианин», — говорит блаж. Августин
[727]. «Петр не означает Скала (Petra), но того, который от Скалы (Petra) назван.
Так, Мелисс από
του μέλιτος не пчелу (apem), но того означает, который получил имя от слова аріѕ. Так, Hesperus от ѵсѕрсгс»
[728] и т. д. Петр — Камень, но Камень за данную ему веру, так что, собственно, истинным Камнем является содержание его веры, Сам Господь. Петр без веры перестает быть Камнем. Замечательно, что Спаситель обыкновенно звал его Петром. Но когда Петр потерял свою твердость, отрекся от Христа, то Христос снова назвал его прежним именем: Симон. Только новое исповедание Апостола снова вернуло ему имя Петра (Ин. 21, 15, 16) (ср. также (19, 290)).
Таким образом, в основании Церкви–Здания лежит исповедание Христа, вера во Христа или, лучше сказать, Сам Господь, как Он воспринят человеческим сознанием. Апостол Петр, как первый воспринявший Божественное достоинство Иисуса, тем самым первый лег в основание, в фундамент Строения. Но он не один там. «…Бывши утверждены на основании апостолов и пророков…», — пишет ап. Павел (Еф. 2, 20). Сличая греческий текст данного места
(έποικοδομηϋέντες επί τω
Φεμελίω των αποστολών και προφητών) с текстом Мф. 16, 18 (
έπί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω[729]), убеждаемся, что тут и там идет речь о подобных друг другу основаниях. Но кто такие пророки? Много экзегетических браней о том, разуметь ли пророков новозаветных или ветхозаветных
[730]; но, не входя в детали этих пререканий, заметим следующее: 1) под
προφηται в Еф. 3, 5 разумеются, несомненно, пророки новозаветные; 2) здесь они сопоставлены с апостолами, и тесная связь тех и других указана единством члена
τοις; 3) такое же значение «пророки» имеют и в 1 Кор. 13, 1–3; 13, 8; Рим. 12, 6, 3. В 1 Кор. 12, 28 они стоят непосредственно после «апостолов» и в Еф. 2, 20; Еф. 3, 5; Еф. 4, 11. 4) В Еф. 4, 11 общностью члена в выражении
τους δε ποιμένας και διδασκάλους показано тождество класса или категории «пастырей» и «учителей», т. е. харизма- тиков, подобных «апостолам» и «учителям». 5) В «учении 12–ти апостолов» XVI тождество должности пророков и учителей подчеркнуто единством члена: «ибо и они (епископы) исполняют для вас служение,
των προφητών και διδασκάλων».Ввиду сказанного и в Еф. 2, 20
οί απόστολοι каI προφηται (как οί
ποιμένες και διδάσκαλοι) должно разуметь в том смысле, что это–люди, харизматики одной категории. Это воззрение подтверждается тем, что только о новозаветных пророках можно говорить, хак об основании Церкви, в том же смысле, что и об апостолах, а также и тем, что в современной церковно- исторической науке
[731] [732] пророки не рассматриваются как нечто отличное от апостолов по роду дарования, но как те же апостолы, поселившиеся в определенной общине и прикрепившиеся к ней.
Итак, в основании Церкви лежат апостолы и пророки. Но они там не как определенные личности, а по роду полученной от Бога харизмы и, следовательно, из-за своей деятельности в Церкви. Вообще, образ Здания, как подчеркивающий универсальность Церкви и, следовательно, реальное существование «вещества» Церкви, не принимает в расчет человеческой воли, а имеет в виду по преимуществу смиренное подчинение авторитету, воспрңимчивость к Божественному гласу со стороны индивидуума, выслушивание Божьего гласа. Симон, как Слушающий по преимуществу, лежит первым камнем в церковном фундаменте. За ним идут другие апостолы. Затем — должность апостольская и пророческая. Симон- Петр лежит первым, потому что нельзя всем двенадцати быть первыми
[733], но тут нет какой-нибудь разницы по существу, что видно из других, приведенных нами, мест Священного Писания. А что то или другое место для каждого Камня определяется премудрою волею Зиждителя и родом должности, но не преимуществом лица, это видно прежде всего из самого значения «основания». С него, как с апостольской проповеди (апостольской вообще, а не относящейся нарочито к апостолам в более тесном смысле) ‚ начинается построение здания, ибо основою Здания–Церкви служит Христос проповедуемый (28, 11, 230; 7, 133 сл.), Христос исповедуемый и воспринимаемый, — одним словом, вера во Христа, как Сына Божия (ср. Мф. 7, 24–27). Это значение апостоль- ско–пророческой должности, как проповеди о Христе Иисусе, указывается также и в Откр. 21, 14, где описывается Небесный Иерусалим («распространение» предыдущего образа Церкви–Здания) (14, IV, 552). «Стена Города, — говорит Тайновидец, — имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца» (Откр. 21, 14). «Основания стены Города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое -яс- пис и т. д.» (Откр. 21, 19–20). В этих текстах основания обозначены словом
ϋεμέλιος, тем самым, которым обозначено основание в Еф. 2, 20. Но истинный смысл этих оснований открывается из слов апостола Павла: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание
(ϋεμέλιον), а другой строит на нем (
έποιχοδομεΖ); но каждый смотри, как строить (
έποιχοδομεΖν)
Ф Ибо никто не может положить другого основания (Αεμέλοον), кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит (
έποιχοδομεΖ) ли кто на этом основании (επί
τον ϋεμέλιον) из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы — каждого дело обнаружится…. У кого дело, которое он строил, устоит, — тот получит награду; а у кого дело сгорит, тот потерпит урон…» (1 Кор. 3, 10–15; ср. Мф. 7, 24–27). Ни апостол Павел (ибо он полагает основание), ни Иисус Христос Сам (ибо апостол не может полагать Его Самого в основание) не есть основание,
ϋεμέλιος. θεμέλιος есть вера во Христа Иисуса, появляющаяся от слышания слова богодухновенной проповеди. Верою ни в кого иного, кроме как только в Господа Иисуса, нельзя положить основания Церкви. И потому, если то или другое лицо называется основанием, то это надо понимать, так сказать, функционально. Место в архитектоническом целом делает апостола основанием, а не он дает месту известное важное значение. Когда речь идет о Камне для здания, то дело не в форме камней (ибо они будут обтесаны), а в способности их быть легко обтесанными. Быть «глиною в руках Горшечника» (ср. Рим. 9, 21) — такова преимущественная добродетель членов Церкви в первом аспекте Церкви. Потому этот первый аспект относится по преимуществу к мирянам, а руководящий принцип деятельности тут–авторитет, как внешняя для самого материала форма, архитектурный план здания. Борьба же против «врат адовых» — чисто пассивная: каждый камень, не нападая на «врата» агрессивно, держится на своем месте — твердо стоит при том, что ему говорит авторитет. И, пока он не сдвинулся, он остается частью здания, а все Здание продолжает стоять. «Врата адовы не одолеют его», это значит, что всегда будет достаточно несдвинувшихся камней, так что все здание никогда не рухнет·
Но наряду с «основанием» Еф. 2, 20 упоминает еще «краеугольный камень»: «бывши утверждены на основании апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем (δ
ѵтоѕ Ιιχρογωνιαίου αύτου Хрс‹ггои Ιησού), на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе (су ω πδάτα
οιχοδομη συναρμολογούμενη αΰξει εις ναόν &γιον έν Κυρίω), на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом (έι>
ω хаі ύμεΐѕ συνοιχοδομεΖσϋε els χατοιχητηρίον του Θεου έν ΤΙνευματΟ[734] (Εφ. 2, 20–22)·
Прежде всего должно выяснить термин «краеугольный камень», упоминаемый также в текстах: Мф. 21, 42 (-Пс. 117
f 22, ср. 1 Петр. 2,7). «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла…
λίϋον оѵ απεδοχίμαχταν оі οίχοδομοϋντες‚ оитоѕ*
έγενηΰη ct
ѕ χεφαλην γωvLas*; 1 Петр. 2, 6 (-Ис. 28, 16); «вот
л полагаю в Сионе Камень краеугольный
(АіОоѵ… αχρογωνιαΖον), избранный, драгоценный*; и верующий в Него не постыдится». Несомненно, что под А
L'dos αχρογωνιαΖος разумеется Сам Господь. Но в каком смысле? У Исаии,
ћ кн. Иова
[735], он встречается под названием 'eben ріпаһ и из контекста явствует, что это–главный, существенный камень, который дает устойчивость и прочность целому зданию. В строительном деле краеугольный камень есть самый важный камень, на котором выстраивается и утверждается все здание. Это есть камень, полагаемый во главу угла и потому связующий и сдерживающий, «смыкающий две стены здания» (Творения блаж. Феодорита, т. VII, с. 428). Но этого мало. Камень этот полагается так, что служит опорою и твердынею самого основания; поэтому св. Златоуст и говорит: «Краеугольным камнем называется то, что поддерживает и стены, и основание, — на чем утверждается все здание» (Беседа на поел, к Еф., с.
90). Следовательно, этот камень сдерживает основание и стены здания (собственно, углы стен), т. е. две самые существенные части здания. Отсюда делается понятным и отношение краеугольного камня к основанию. Он не то же, что основание, но есть краеугольный камень самого основания; следовательно, есть нечто отличное от него, хотя и основание, краеугольный камень держит на себе стены или, точнее, необходимое, потому что связывает, сдерживает основание, связуя углы самого здания. Таким образом, положенный во главу угла, камень этот сообщает как самому основанию, так и целому зданию, возвышающемуся над ним, связь, прочность и устойчивость, поэтому все, входящее в самое здание, покоится и держится на нем
[736].
Отсюда ясно, в каком смысле Иисус Христос назван Краеугольным Камнем. Он — метафизический центр всей Церкви; без Него она рассыпалась бы на индивидов. Он же и метафизическое начало, сдерживающее основание — веру в Него. Без Него нет и невозможна вера в Него, ибо в Нем только она находит себе поддержку. Но тем не менее необходимо и основание — субъективная вера в Него.
Все остальное в разбираемом тексте не требует особого разбора. Отметим только некоторые черточки, непередаваемые в русском переводе. Во–первых, термины συναρμολογουμένη и αυξει имеют органический характер (см. гл. 4, § 1; также (2, 51, 144, 221)) и относятся скорее к Телу, нежели к Зданию. Это показывает на переход данного образа Здания в образ Тела. Во- вторых, слово (τυνοιχοδομεΖ(τ&ε указывает на соучастие (пассивное, в качестве материала) ефесян в построении храма, откуда видно, что поместная Церковь есть только часть храма. В–третьих, наконец, важно то, что пӓ‹та οικοδομή названо χατοιχητ–ηριον του θεου, т. е. представлено, что Бог живет в Жилище, параллель чего находим в текстах: «вы… Божие строение, θεου οικοδομή έστε» (1 Кор. 3, 9); «разве вы не знаете, что вы храм Божий (ναός Θεου) и Дух Божий живет в вас (έν υμΖν οίκεΖ)» (1 Кор. 3, 16); «вы храм Бога Живаго», как сказал Бог: «вселюсь в них и буду ходить в них…» (Лев. 26, 12; 2 Кор. 6, 16); «…как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога Живаго…» (1 Тим. 3, 15); «а Христос, как Сын, в
доме Его (Бога); дом же Его
(οίκος аілго£}) — мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца» (Евр. 3, 6); «вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога Живаго
(πόλει θεοϋ ζωιττο?), к небесному Иерусалиму С Ιερουσαλήμ
έπουρανίω) и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и Церкви первенцев, написанных на небесах (χα
і εκκλησία
πρωτοτόκων απογεγραμμένων έν ουρανοΖς…)» (Евр. 12, 22–23); «верою вселитися в сердца ваши, — κατοιχησαι
τον Χρκττόν δια έζі]Ѕ πίστεως
έν ταΖς χαρδίαις υμών» (Εφ. 3, 17; ср. Кол. 3, 16; 2 Кор. 12, 9); «Сидящий на престоле будет обитать в них» (Откр. 7, 15); «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим
(μονην[737] παρ9 αύτώποιησόμεθα)» (Ин. 14, 23; ср. Ин. 14, 17, 18, 20); «и Город (Небесный Иерусалим) не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его–Агнец» (Откр. 21, 23); «престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему, узрят лице Его, и имя Его будет на челах их» (Откр. 22, 3–4; ср. 22, 5) и проӵ.
Итак, Церковь есть Здание, дом, жилище, палатка, город, Иерусалим Небесный, Столп и проч., служащие местом обитания Богу. Она может реально быть представлена одним, двумя, тремя и т. д. человеками, народом, наконец, человечеством и даже всею тварью, всегда и везде, и при всяких условиях оставаясь сама собою. Не останавливаясь на дальнейшем разборе относящихся сюда текстов (который можно найти в указанных ранее толкованиях), вернемся к тексту (Мф. 16, 18–19).
Христос сказал: «созижду, — ο
ίχοδομ–ησω — Церковь Мою». Глагол οίκοδομέω, как имеющий тектоническое значение домостроительства, указывает с несомненностью на предносящийся пред Христом образ Церкви- Здания. Этот образ развивается в дальнейшем, когда Христос говорит о «ключах Царства Небесного —
τάς χλεΖδας ттјѕ*
βασιλείας τών ουρανών» (Мф. 16, 19). Заметим прежде всего, что поставление этой «власти ключей» рядом с «построением на» и «Царства Небесного» рядом с «Церковью» доказывает весьма большое сродство соответственных членов в парах этих понятий. Устанавливается какое-то тесное соотношение между Церковью и Царством Небесным. Но является вопрос такого рода: если построение Церкви будет, собственно, не на Симоне–Петре, но на исповедуемом им Христе, то «власть ключей», текстуально относимая к Петру («тебе», 601), по–видимому, тоже относится не к Петру, как к личности, а к Петру, как исповеднику Христа. «Власть ключей» принадлежит в собственном и точнейшем смысле Самому Иисусу Христу: «так говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет — и никто не затворит, затворяет — и никто не отворит; знаю твои дела: вот Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего» (Откр. 3, 7–8). Святый и Истинный есть о
εχων την κλείδα του Δαβ£δ, и Петр может только получить (δώσω): Я дам, говорит Господь, этот ключ из рук Имеющего его, — получить как отправляющий известную функцию, основанную на исповедании Христа. Что же это за функция? Христос говорит: «…что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16, 19). Это — «власть вязать и решить — бссѵ
косі λύειν», данная, как известно, также и лику 12–ти (Мф. 18, 18; ср. Мф. 18, 29; Мр. 3, 27; Мф. 13, 30; Лк. 13, 16; Откр. 9, 14). Ввиду параллелизма Мф. 18, 19 и Откр. 3, 7 приходится думать, что «власть вязать и решить» есть то же, что «власть запирать и отпирать» (Откр. 8, 7), тем более, что у Мф. 16, 19 не сказано, что, собственно, будет делать Петр с «ключами Царства Небесного». Если Христос передает Петру Свою власть, то, как видно из Откр. 3, 7, это именно и есть «власть запирать и отворять», т. е. «власть ключей». Вторая половина 19–го стиха Мф. 16 вполне соответствует второй половине 7–го стиха Откр. 3. Против такого понимания заранее протестовал в интересах папизма Вл. Соловьев (13, 132–135), мотивируя различие той и другой власти в следующих словах: «…когда говорят о ключах, то нужно было бы сказать: затворять и отворять, а не вязать и решить. И действительно, мы читаем в Апокалипсисе (ограничиваясь только Новым Заветом): «Тот, кто имеет ключи Давидовы, кто отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит» (Апок. 3, 7). Можно затворить и отворить комнату, дом, город, но связать и развязать можно только особые предметы и существа, находящиеся в комнате, в доме, в городе. Евангельский текст, о котором идет речь, есть метафора, но метафора не обязана быть нелепостью. Образ ключей царствия (царственной резиденции — beth-ha-melck) несомненно означает власть более обширную и всеобщую, чем образ связывания и разрешения» (там же, 132–139). Но, подкупающее сперва своею простотою, оно оказывается при ближайшем же обследовании простым археологическим недоразумением: «Двери в древности прикреплялись веревками, а при завязывании и развязывании их употреблялись ключи. Поэтому вместо того, чтобы говорить, подобно нам, об отпирании и запирании дверей, евреи говорили о завязывании и развязывании их» (Гейки).
[738]Итак, Христос дает Петру право отпирать и запирать двери — очевидно двери той Церкви, которая на нем построена. Отпирать и запирать двери — это значит пускать и не пускать в Церковь. Но в чем состоит обнаруженная в данный момент харизма (ибо то, что дано от Отца Небесного, как, например, в данном случае познание Божественной природы Иисуса, есть именно харизма Петра)? В исповедании Христа Сыном Божиим и вместе с тем в проповедании этой истины своим соапо- столам, в научении их. Следовательно, «власть ключей» сводится к способности богодухновенно проникать в Тайны Божии и богодухновенно передавать их другим так, чтобы в других зажигалась вера, пред ними открывались бы двери Церкви и они входили туда, чтобы затем стать одним из камней ее
[739]. «Власть ключей» по своей сущности есть апостольская харизма. И понятно, что все, объявленное за неистину на земле, будет неистиной и на небесах, а что будет объявлено за истину на земле, будет истиною и на небесах. «Власть ключей» есть дар проникновения в Божественную Волю, которая есть Истина. Отсюда делаются ясными дальнейшие слова: «тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть (Иисус)
[740] Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Мф. 16, 20–21). Апостол говорит: «тогда, τότε», «с того времени, από τότε». Почему «тогда» запретил говорить? Потому что говорить было еще преждевременно, но ученики Христовы уже получили силу говорить. А так как Он запретил
τοις μαΦ–ηταις, а не Πέτρω
[741], то, очевидно, Петр іҽво- рил со Христом «от имени» остальных учеников, хотя это и не было условлено заранее (ср. Мф. 16, 15 и 16, 16), а Христос, говоря <τύ Ӌ
[742]имел в виду не только Петра, но и всех остальных, хотя и в меньшей степени. Далее, почему «с тех пор» начал говорить? Потому что только с тех пор, как ученикам дана была апостольская харизма тайнозрения, открылись их очи, и они начинали понимать Божественные тайны. Таким образом, стихи 20 и 21 стоят в теснейшей связи с предыдущими, равно как и те — с начальными стихами главы, где говорится о непонятности, нечуткости к тайнам Божиим со стороны саддукеев и фарисеев, а затем и учеников Христовых. Вся 16–я глава раскрывает постепенное просветление взора у учеников, — начинающееся с полной слепоты, подобной слепоте фарисеев и саддукеев, проходящее затем чрез стадию смутного беспокойства и неясной догадки (ст. 7 и ср. ст. 12), затем чрез исповедание Христа Сыном Божиим (см. 16), далее чрез научение учеников Самим Христом (ст. 21), еще далее чрез решительную борьбу слепоты со зрячестью (ст. 22–23), чрез выставление Христом основного условия для полной зрячести (ст. 24) и, наконец, обещание показать пред- восхитительно полноту времен — «Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем» (ст. 28), что фактически и исполняется в Преображении Господнем, с повествования о котором начинается следующая глава (ст. 1–5). Таков путь прозрения, на поворотном пункте которого благовествуется Церковь, пред концом которого (при споре Петра с Господом насчет Крестной смерти (ст. 22–23)) предвосхитительно рождается Церковь и на конце которого (преображение) предвосхитительно Церковь торжествует, являясь как прославленное Тело Христово.
Такова общая связь мыслей в гл. 16, и она лучше всего доказывает установленное понимание 18–го стиха. Можно подтвердить его еще и тем, что «решить и вязать» — это было, как показал на большом множестве примеров Ляйтфут (Ног. Hebr., т. II, с. 238–241), выражение, ежедневно бывшее в ходу среди иудеев и означавшее: позволять и запрещать (в смысле квалифи- цирования вещи, поступка, действия и т. п. соответствующими закону, или не соответствующими; а Закон считался Божией волею, почему «решить и вязать» означает установление для себя и объявление всем и прочим воли Божией. — 77. Ф.). Оно было обычным выражением и раввинов, когда они должны были решать бесчисленное множество предлагаемых им дел. Они «связывали», т. е. запрещали, одно, «развязывали», т. е. дозволяли, другое ((19, III, 396); (1, 9, 88) со ссылкою на Іоѕ. Ғ1., Bel. Iud., 1, 5, 2). Что значит «власть ключей», данная апостолам и, преимущественно, Петру, делается яснее из притчей, передаваемых в Ин. 10, 1–18, где Христос сравнивает Себя с дверью. «Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам: ему придверник отворяет, и он зовет своих овец по имени и выводит их, и когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его; за чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса» (Ин. 10, 1–5) и «Истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам… Я есмь дверь: кто выйдет Мною, тот спасется, и войдет и выйдет,. и пажить найдет…» и т. д. (Ин. 10, 7–18). Тот, кто «входит и выходит» дверью, имеет, очевидно, «власть ключей», имеет возможность «развязывать и завязывать» замок. Только привратник да сам Пастырь знают секретные узлы замка — только Сам Христос да Апостол (или Апостолы) Его знают, каковы тайны входа и выхода в Церковь. Всякий иной, не имеющий харизмы апостольства, если пытается входить и выходить, то не справится с замками и окажется вором и разбойником, за которым не пойдут овцы, они не знают голоса его–он не имеет благодатного слова проповеди для стада Христова.
Выражение «вязать и решить» обычно толкуется, как основоначало таинства исповеди, где иерей имеет власть «вязать и решить грехи». Но это толкование было бы слишком узким и слишком натянутым. В чем суть отпущения грехов на исповеди? Конечно, не в том, что по своему капризу иерей может сказать: «хочу–отпущу, не хочу — не отпущу», ссылаясь при этом на слова Господа: «Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20, 23). Поистине правы были иудеи, когда помышляли в сердцах своих про Иисуса Христа: «Что Он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» (Мр. 1, 7; ср. Лк. 5, 21). Только они не знали, Кто пред ними. Но только Сын Человеческий «имеет власть на земле прощать грехи» (Мф. 9, 6; Мр. 2, 10; Лк. 5, 24; ср. Лк. 7, 47; Деян. 5, 31; 10, 43; 13, 38; 26, 18; Εφ. 1, 7; Кол. 1, 14; Евр. 10, 18 и др.). Иерей же может простить грех не в собственном смысле, а в смысле констатирования, свидетельствования, что Бог отпускает и прощает данный грех. Поэтому апостольское право отпускать грехи есть только частный случай апостольского тайнозрительства и объявления воли Божией.
Харизма апостольства — ведение тайн Божиих. Наиболее резкое выделение Апостолов из массы остального народа было в том, что им Господь говорил не притчами, непонятными даже для народа, а прямо: «Для того, — говорил им Господь, — что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано…; ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат» (ср.: «Блажен ты, Симон» и т. д. — Мф. 16, 17) (Мф. 13, 11, 16. См. также Мр. 4, 11; Лк. 8, 10; ср. Мф. 10, 26; Мр. 4, 22; 1 Кор. 14, 25; Лк. 8, 17; 12, 2). Знание тайн- это именно и есть то, что даровано Апостолам, потому что даже и дар чудес сводится к этому ведению: чудеса совершаются не волею Апостола, а волею Божиею, и Апостол является, так сказать, Поверенным Божиим, ведающим сокровенную волю Божию и строящим свои действия в виду этой воли. Вот почему апостол Павел так часто говорит о тайнах Божиих; в этом состояла его должность, потому что такова была его харизма (1 Кор. 15, 51; 13, 2; 14, 2; Рим. 11, 25; 14, 22; Кол. 1, 27; 2, 2; 12, 6; 4, 3; Еф. 3, 3; 5, 32; 1, 9; 6, 19; 3, 4; 3, 9; 2 Фес. 2, 7; 1 Тим. 3, 16), равно как и всех других Апостолов (кроме ранее приведенных мест см.: Откр. 1, 20; 10, 7; 17, 5; 17, 7). «С дерзновением возвещать устами тайну благовествования» (Еф. 6, 19; ср. Кол. 1, 26; 4, 3) — в этом Апостол видит свое назначение (Еф. 6, 20); «Каждый должен разуметь нас (т. е. самого Павла и, может быть, Апостолов вообще) как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих» (1 Кор. 4, 1), — пишет Апостол; точно так же и «диаконы должны быть… хранящие тайну веры в чистой совести» (1 Тим. 3, 9). И в момент высшего духовного подъема Апостол, прозревая в «пути Божии», восклицает: «О бездна премудрости и ведения Божия» (Рим. 11, 33). Не останавливаясь на дальнейших доказательствах тождественности «власти ключей», «власти вязать и решить» и «ведения тайн Божиих»
[743], перейдем к наиболее разительному и яркому примеру, где Церковь представлена, как Здание, как Храм, сдерживающим Краеугольным Камнем которого служит Тело Христово, и в котором живет Божество — «живет вся полнота Божества телесно» (Кол. 2, 9). Проявив свою власть в отношении ко Храму Иерусалимскому (Ин. 2, 13–18), Иисус, на вопрос иудеев о доказательстве законности Его власти, сказал им: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2, 19) («λύσατε
τον volоѵ τοϋτον9 каі εν τρισίν ημέραις εγερώ αυτόν»). «Он говорил, — по замечанию Иоанна, — о храме Тела Своего
(περί του να ου του
σώματος αύτου). Когда же (δτε
ουν) воскрес Он из мертвых
(ηγέρ&τ) εκ νεκρών), то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус» (Ин. 2, 21–22).
Эти слова Спасителя, очевидно, были сказаны весьма гласно, потому что даже через три года, когда Он был на кресте, окружающая толпа со злобою, насмешкою и издевательством напоминала Ему это решительное и загадочное предсказание победы над смертью (ср. Мр. 8, 31 и др.) — повторяла, правда, не понимая его и тем менее видя, что создает самый твердый оплот против покушений новейшей критики на факт воскресения (Мф. 27, 40; Мф, 26, 61; Деян. 6, 14; Мр. 14, 58; 15, 29)
[744]. Но загадочность их делается еще более, если мы припомним ремарку Апостолов (Ин. 2, 22). Чтобы распутать нить идеи, обратимся к последовательности мыслей. Иудеи говорили Христу о Храме Иерусалимском — мистическом центре ветхозаветной теократии. Христос отвечал им, говоря об «этом храме». Спрашивается, о каком же именно «этом»? Штраус
[745] [746] совершенно справедливо говорит о неосновательности предположений, будто Христос указал при этом пальцем на Свое тело. Конечно, буквально разбирая Его слова, мы вынуждены признать, что ближайшим образом говорил Он о Храме Иерусалимском. Но почему же тогда Евангелист замечает: «Когда же Он воскрес из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус» (Ин. 2, 22)? Потому, что когда иудеи убили Иисуса Христа, то вместе с тем они «разрушили» (собственно «разрешили», «уничтожили», «отменили», ср. глагол, употребленный Спасителем: λύσατε, Ин. 2, 19) Храм Иерусалимский в его мистической сути, ибо с этого момента он перестал быть единственным и исключительным местом истинного Бого- поклонения (ср. Ин. 4, 21): с этого момента Храм Иерусалимский, как Храм χατ'
εζοχην, развеялся повсюду, где только был в сердцах истинных поклонников Отца Новый Храм — Церковь, в которой живет уже не Шехина Божия, а Само Божество. Храм Иерусалимский был разрушен иудеями за 37 лет до нового, материального разрушения его Титом (в 70–м году по P. X.), и Титу пришлось сжигать уже не Храм, а «помещение под Храм», в котором ранее иудеи мистически порвали завесу святейшего» (Мф. 27, 51; Мр. 15, 38; Лк. 23, 45). Но когда иудеи разрушили Храм Иерусалимский, Христос, как обещал, «в три дня воздвиг его», ибо Христос воскрес и вместе со Своим телом воздвиг и воспринятый на Тело Храм его, т. е. Церковь. Это и отмечает Евангелист, когда говорит про Христа: «А Он говорил о храме Тела Своего, — сзєєсуоӯ <τέ ελε^εν
περί του να ου του σώματος αύτου» (Ин. 2, 21), почему Евангелист и продолжает: «вот поэтому-то (οτε ουν), когда Он воскрес из мертвых (τ)^έρ#7), — буквально — был воздвигнут, т. е. тут тот же глагол, что и в ст. 19 и 21, причем замечательно, что иудеи про Храм Иерусалимский говорили οίχοδομήΑη, так что Христос хотел подчеркнуть, что Он не говорит о простой стройке Храма- помещения, но имеет в виду нечто более важное), то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус» (Ин. 2, 21–22). Таким образом, иудеи действительно исполнили то, о чем говорил Иисус Христос, действительно разрушили его убиением Иисуса Христа, отчего разодралась завеса и окончился Ветхий Завет, и тем самым способствовали воздвижению (буквально пробуждению, ибо таково первое значение глагола
εγείρω; а этим ука- зуется на Церковь, как на Существо) нового, общего для язычников и иудеев, общего даже для всей твари, универсального, единого и святого Храма — Храма Нового Завета, и в этом Храме «истинные поклонники» «поклоняются Отцу уже в духе и истине» (Ин. 4, 4), как и предсказывал Господь Самарянке. Поистине сбылись Его пророческие слова: «Спасение — от иудеев» (Ин. 4, 226), на что и указывал Апостол Языков
[747]: «Итак, спрашиваю, — говорит последний, — неужели они (иудеи) преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность» (Рим. 11, 11). «Они теперь непослушны для помилования вас (язычников)…» (Рим. 11, 31). Это толкование Ин. 2, 19 делается особенно убедительным при сличении его с «Посланием к Евреям» и контролировании его «Посланием к Евреям» (особенно важна глава 10–я)
[748]. Но не имея места и времени входить в этот вопрос, отметим еще только следующее. По мнению Пфлейдерера
[749] [750], истинный смысл разбираемых слов Спасителя сохранен только у Марка, в обвинении лжесвидетелей, приписывавших Христу слова: «Я разрушу храм сей рукотворенный и чрез три дня воздвигну другой нерукотворенный» (Мр. 14, 58). Правильно или неправильно Пфлейдерер полагает, будто Христос сказал свою фразу именно в такой форме–это иное дело, но несомненно, что смысл слов действительно таков и подсказывается самою разницею глаголов
οίχοδομε Ζ ν (про Храм Иерусалима) и cyccpccv
[751] (про «Храм Тела»), Если толпа (что видно из насмешек над Господом во время крестных страданий) поняла слова Господа чересчур просто, то того нельзя сказать о лжесвидетелях, которые, несомненно, уловили мистическое содержание его ответа, но не могли уразуметь его до конца. Близко подходят к предлагаемому разбору Ин. 2, 19 и святоотеческие толкования
[752]. («Если рукотворенные и бездушные сооружения подзаконной веры называются возлюбленными жилищами Бога, — пишет блаженный Симеон, архиепископ Солунский, в своем толковании на символ веры, — и святыми святых, равно как и храм, построенный при Соломоне, называется святым домом и храмом Господу, то тем более тело Господне, созданное и счиненное в Нем Духом Божественным «разве греха», тело, которое, обожившись в соединении с Ним, само все освящает, служит Ему святым, одушевленным и неразлучным храмом». См. Писания святых отцев и учителей Церкви. СПб., 1857, III. 74. — Ср. Иоанн Златоуст, Беседы на разные места Священного Писания, русск. пер. СПб., 1862. ««Не сказал Он: разорите тело сие, но Церковь, для того, чтобы показать, что в Нем обитает Бог». Что тело Христово есть храм Божества- это, по вышесказанному, совершенная правда; но что храм Божий не непременно есть и тело Христово — это также правда». Cf. I. Сһгуѕ. In ер. 1 ad Сог. Нот. XLI. Орр. ed. Montf. Par. 1837, Χ. 452. Блаж. Феодо- рит, De incarnatione, с. 18, пишет следующее: «Спаситель говорит не «разорите Меня», но разорите «Церковь сию», т. е. воспринятый Мною храм (Лб)». См. у Н. Н. Глубоковского, Блаженный Феодорит. М., 189Ӧ, И, с. 103, ср. с. 109).
Образ Церкви–Здания воплощает в себе один из атрибутов Церкви — универсальность, и этот атрибут имманентен самому образу, поскольку материал в здании представляется чем-то наиболее существенным. Но два другие атрибута — единство и святость — имеют только внешнее отношение к рассматриваемому образу, так сказать, трансцендентны ему и налагаются на него извне, особенно последний — святость. В самом деле, нельзя в строгом смысле говорить о единстве здания, потому что отдельные элементы только внешне соприкасаются и внешне скрепляются между собою. Постороннее нечто для них самих — цемент или известь — делает из отдельных камней монолитическое целое. Но это «целое» — лишь условно–целое, ибо истинное «целое прежде своих частей» (Аристотель)
[753], а в здании–части прежде целого. Краеугольный Камень в здании не является почкою, потенцией здания, но лишь внешне сдерживающею массою, равно как архитектурный план не есть обнаружение внутренних сил здания, а нечто извне наложенное на строительный материал, к чему он относится и должен относиться совершенно пассивно. Это отсутствие единства в здании (хотя архитектурный план здания может быть внутренне един) особенно ясно видно на «распространении» образа здания — на образе Иерусалима Небесного (Откр. 21, 10–25
[754]; Евр. 11, 10; 12, 22; 13, 14; Откр. 22, 19
[755]). Тут не только отдельные камни скреплены внешними для них связями, но тем паче отдельные дома находятся во внешнем и условном единстве между собою, объединяемые случайным в отношении к ним планом, данным от Бога· Тут все–ничто пред Богом, и задача каждого сводится к полному подчинению Божественному авторитету. Раз так, раз нет единства, то тем более не может быть речи о святости. Святость является не только внешним для здания, но и чем-то условно приписываемым ему. Святы не камни, даже не архитектурный план, а свят Господь, в Здании обитающий, а стены Здания, так сказать, не способны усваивать себе эту Божественную Святость, ибо усвоение возможно только при существовании нравственной личности. Но, конечно, в применении к Церкви все это нужно сказать условно, так как при дальнейшем развитии образа, когда камни здания называются «живыми» и приглашаются к устроению из себя дома духовного
[756], когда про увеличение Здания говорится αυξει, когда идет речь про любовь в отношении к зданию (Еф. 4, 16), он незаметно переходит в образы, последующие за ним, а Иерусалим Горний прямо называется Невестою Агнца (Откр. 21, 9, ср. 21, 2).
Раз нет единства, т. е. сообусловленности отдельных частей, не имеющих строго определенной обособленности, то не может быть речи и о росте Здания; а раз нет еще более глубокого единства — единства нравственной личности, то тем более не может быть речи о совершенствовании. Есть только увеличение Здания, реализация его универсальности, совершающаяся извне («Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец», Ин. 6, 44; ср. 6, 45 и Мф. 16, 17) по заранее предначертанному плану Божьего Промысла
[757] [758].
Итак, во всей силе подчеркивая одну сторону Церкви, рассмотренный образ Здания оказывается недостаточным для уяснения двух других сторон. Отсюда возникает необходимость перейти ко второму образу — образу Тела.
IV
Отличительною особенностью живого тела в сравнении его с сооружением является организованность. Организованность есть такое свойство всего живого, в силу которого живое есть не собрание отдельных, безразличных к целому частей, но целое, внутренне единое, несмотря и даже вследствие различности частей, взаимно необходимых, и, следовательно, разнородных и незаменимых друг другом. Как единство целого, так и разнородность органов в живом теле есть не что-нибудь внешнее ему, но раскрытие, манифестация внутренней сути организма, — сил, имманентных самому организму. Главное, поэтому, — форма организма, как обнаружение организующих потенций, а не протекающее чрез эту форму вещество. В неостанавливающемся течении вещества стоит неподвижно форма, развиваясь планомерно под давлением развертывающегося изнутри организующего начала (nisus formativus). Отсюда ясно, что гармония и внутренний лад органов, с одной стороны, и рост организма — с другой, служат главнейшими чертами организма. Они-то и положены в основу Павлова образа Церкви–Тела.
Рассмотрим сперва рост Церкви. «Для Бога и в Боге, — говорит Вл. Соловьев (14, III, 355–358), — следовательно и для всех, кто уже в Боге, для блаженных духов невидимой Церкви, — царство Божие уже создано, т. е. в их очах весь иерархический строй вселенной во всем своем сложном совершенстве, все глубины истинного знания и вся полнота живого и таинственного общения Божества с творением, — все это трехсоставное целое является как один совершенный, во всех своих частях определенный и целесообразный организм бого- творения или тело Божие. И в историческом бытии видимой Церкви это божественное тело уже с самого начала дано, все, но не обнаружено или открыто, а лишь постепенно открывается или обнаруживается. Согласно евангельскому сравнению это вселенское тело (царствие Божие) первоначально дано нам как божественное семя. Семя не есть часть или отдельный орган живого тела; оно есть все тело, только в возможности или потенции, т. е. в скрытом для нас и нечленораздельном состоянии, постепенно раскрывающемся. При этом раскрытии обнаруживается в вещественном явлении лишь то, что само по себе, как образующая форма и живая сила, уже сначала заключалось в семени. Так при росте какого- нибудь дерева меняется и совершенствуется лишь его видимое состояние, а не существенная форма самого этого дерева, изначала уже содержимая всецело в его семени. Подобно этому и божественная форма Церкви, сама по себе (т. е. в Боге) совершенная и неизменная, в нас растет, развивается и совершенствуется, и этот поступательный ход ее явления образует историю Церкви. Но как невозможно сомневаться в этом историческом ходе, так же достоверно и то, что с самого начала Церкви божественная стихия ее в тройственном своем составе уже действительно присутствовала в Церкви, как вложенное в нее живое семя Духа Божия, а в силу этого и дальнейшее видоизменение и совершенствование происходило не путем механического приложения новых форм извне, а путем органического произрастания божественного семени, оно же постепенно претворяло человеческую почву в свое тело и воплощало в природном материале свои божественные формы, изначала скрывавшиеся в самом этом семени. Другими словами, собственная сущность Церкви, всегда ее образовывавшая, не всегда ясно сознавалась и точно определялась со стороны христианского человечества, в истории Церкви эта божественная сущность, искони в ней пребывающая, не сразу, а лишь постепенно из своего скрытого и безотчетного состояния переходит в ясное сознание видимой Церкви, определяется и осуществляется в ней».
«Посему хотя в Церкви всегда были видимые формы божественного, но сперва эти формы были очень просты и несовершенны, подобно тому, как видимая форма семени очень проста, несовершенна и далеко несообразна полной форме растения, хотя и заключает в себе это последнее потенциально. Но как был бы неразумен тот, кто, не видя в семени ни ствола и ветвей, ни листьев и цветов, заключил бы, что все это потом лишь искусственно и извне приделывается, а не выходит силою самого семени, и на этом основании отверг бы все будущее дерево, чтобы всегда сохранять одно только голое семя, — так же неразумно поступает всякий, кто отвергает более сложные, т. е. более раскрывшиеся формы благодати Божией в Церкви и непременно хочет вернуться к образу первобытной христианской общины»·
«Впрочем, как и в самом малом семени растения могут быть примечены главнейшие основания будущих форм (как-то: разделение на доли или слои, росток и т. п.) ‚ так в самом первом зародыше Церкви, в апостольской иерусалимской общине уже ясно различается присутствие трех образующих связей вселенского тела Христова», а именно: иерархическое преемство, догмат, таинства. «Итак, — продолжает Соловьев (там же, 358–359) ‚ — Церковь не только по материальному своему составу и внешнему распространению, но и по явлению своих образующих форм растет, развивается и совершенствуется. Ибо хотя божественная стихия Церкви сама по себе неизменна, но так как способ и степень ее обнаружения зависит от способа к степени усвоения этой божественной стихии человеческим элементом, изменчивым пӧ природе своей, то, следовательно, и явление божественного в Церкви в этом отношении изменяется, определяясь большим или меньшим соответствием между божественною и человеческою ее сторонами.
Такое возрастание, развитие и совершенствование церковных форм нисколько не исключает неизменного основания Церкви, не только самой по себе, но и в видимом ее явлении. Ибо, во 1–х, как бы ни видоизменялись и ни усложнялись формы иерархии, формулы исповедания веры и обряды совершения таинств, но никогда не было так, чтобы в Церкви вовсе не существовало правильной иерархии, истинного исповедания веры и настоящих таинств, а во 2–х, все эти видоизменения и усложнения в этих трех областях не упраздняли, а, напротив, сохраняли и утверждали прежнее, будучи лишь его раскрытием…. В росте дерева корень не упраздняется стволом, а напротив питается и сохраняется им, так же как и сам его сохраняет и питает; точно так же и ствол не упраздняется ветвями, листьями, цветами и т. д., но все это вместе своею целостью образует одно совершенное растение, живущее не сменою, а взаимосохранением своих частей. Так и для видимой Церкви истинное положение состоит не в том, чтобы в ней ничего нового не являлось, а в том, чтобы в ней появляющееся новое не противоречило старому и не разрушало, а утверждало и раскрывало его».
Церковь основывается на Христе, воспринимаемом человеческою верою. Если этот начаток Церкви в образе здания представлялся в виде скалы, в виде грунта, на котором воздвигается Здание, то в образе Тела он не может быть представлен иначе, как семя, зерно, зародыш, из которого вырастает Тело–растение или Тело- животное. Господь сказал своим ученикам: «Если бы вы имели веру с зерно горчичное
Фѕ κόκκον ‹гсі›‹Ѕстіса›г) и сказали смоковнице (т^ συκαμίνω; по другим
[759] шелковичному дереву) сей: «исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас» (Лк. 17, 6; ср. Мф. 17, 20). «Вера с зерно горчичное» —
і›ѕ χόχχρν συνάπεως — минимальная вера, ибо зерно горчичное — «наименьшее из всех семян» — δ
μικρότεροι? μεν с‹гсіѵ πάντων των σπερμάτων (Μφ. 13, 32; ср. Μρ. 4, 31). Но, несмотря на свои незаметные размеры, это самое горчичное зерно веры, посеянное в сердце человеческом (см. Мф. 13, 3 сл., Мр. 4, 3 сл., Лк. 8, 5 сл. — притча о сеятеле. Ср. Мф. 13, 24 сл., Ин. 4, 36 сл., Гал. 6, 5–10), как в поле, «когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его»
[760] (Мф. 13, 31; Мр. 4, 31–32; Лк. 13, 19), т. е. вырастает, по изъяснению Спасителя, в «царство небесное» (ή
βασιλεία τών ουρανών). В только что перечисленных местах настойчиво и властно повторяется один и тот же образ — образ сеяния зерна и вырастания семени в развитое растение. Целые главы у синоптиков заняты рядом притч, в которых terminus comparationis
[761] есть таинственная жизнь растения (Мр. 4; Мф. 13): «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва» (Мр. 4, 26–29). И как некогда в доктрине Элев- зинских мистерий, прорастание новой ликующей жизни из истлевающего в своей могиле семени служит символом обновления и воскресения, так же и в Христианстве: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12, 24. Ср. 1 Кор. 15, 35–38).
Отношение верующих ко Христу есть отношение отдельных членов растения к семени или к стволу, из которого вырастают они или на котором живут они. «Я, — говорит Христос, — есмь истинная виноградная Лоза
(Ь άμπελος ή αληθινή), а Отец Мой–Виноградарь
[762]; всякую у Меня ветвь
(παν κλήμα
εν έμοι)> не приносящую плода, Он очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены чрез слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе; так и вы, если не будете во Мне (έν
εμοί μείνητε). Я есмь Лӧза, а вы ветви, кто пребывает во Мне, и Я в нем (о
μένων έν έμοί, χαγώ έν αύτω), тот
приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего; кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают…» (Ин. 15, 1–6). Но Христос «послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф. 15, 24), и язычники должны смирить себя, признать факт своей зависимости от ветхозаветной теократии (Мф. 15, 26–28), чтобы получить возможность войти в состав новозаветной. Язычники тогда «прививаются» к «святому корню» Израиля. Если начаток свят, то и целое; и «если корень свят, то и ветви», — пишет ап. Павел, имея в виду теократический «начаток» праотцев, возглавленный Иисусом Христом. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины (здесь имеются в виду языко–христиане), то не превозносись пред ветвями; если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень — тебя. Скажешь: «ветви отломились, чтобы мне привиться». Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак; видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией; иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине» (Рим. 11, 16–24
[763]. Ср. Откр. 11, 4, где говорится о «двух светильниках и двух маслинах»
[764]).
Выросшая органически, Церковь имеет собственную, внутренне законченную идею, осуществляет свой план, и потому каждая ветвь этого Растения приносит определенный, так сказать, «церковный» плод. Без соков корня, без жизненной энергии ствола, ветвь не принесет плода, который «один только нужен» (Лк. 10, 42), ибо без Христа люди не могут делать ничего (Ин. 15, 5). Без Христа они и плоды принесут, соответствующие тому дереву, к которому привились, и это дерево может быть узнано по плодам (Мф. 7, 16, 20). В самом деле, «собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые: не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые…» (Мф. 7, 16–18). «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему; потому что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника» (Лк. 6, 43–44). И (по другому поводу) пишет ап. Иаков: «Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы…» (Иак. 3, 12). Поэтому, если древо не дает плода, если оно бесплодно, то этим изобличается его сущность, и оно достойно только быть срубленным и брошенным в огонь (Лк. 13, 6–9; Мф. 7, 19), секира уже лежит при корне его, готовая к рубке (Мф. 3, 10; Лк. 3, 9. Ср. Мф. 3, 8; Лк. 3, 9, где говорится о необходимости плодоношения); смоковница, не приносящая плода, проклята и должна засохнуть (Мф. 21, 19–20; Мр. 11, 13–14, 20–22–тут, впрочем, нужно еще выяснить, для чего проклял Иисус смоковницу: для того ли, чтобы наказать ее за бесплодие или чтобы показать ученикам силу веры), ибо уже показала свою безжизненность. Привившийся ко Христу не может быть бесплодным и безжизненным. Поэтому истинно живая смоковница самым процессом своей жизни указывает на параллельно идущие события в мире мистическом; когда начинается расцвет жизни, то, значит, близка победа Христа и конец истории. «От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето» (Мф. 24, 32 = Мр. 13, 28). Мы проследили все стадии в росте Церкви- Растения — видели, как сеется в землю семечко, как оно всходит, как делается взрослым, как выросшее дерево приносит плоды и предуказывает конец земного. Нас при этом может только восторгать удачность и простота символа. Растение, уже по своей этимологии (от расти), является воплощенной категорией роста. Растущее во все время своей жизни, оно лучше, чем что-нибудь иное, раскрывает в конкретном образе процесс органического роста Церкви. Церковью засеяны сердца верующих, верующие спят и встают днем и ночью, и не знают, как семя Церкви всходит и растет в сердце и дает плод, нежданный для самого верующего, как бы подарок ему, потому что сердце само собою произрастило плод (ср. Мр. 4, 26–29). И вот, оглянувшись, верующий видит то, чего не было раньше, и кажется ему, не во сне ли приснилось все произрастание.
«Если камень, превратившийся в гору, — пишет Вл. Соловьев
[765], хотя и по иному поводу, — есть лишь символ, то превращение простого и чуть видного зерна в органическое тело, бесконечно более обширное и сложное, — есть реальный факт. И именно этим-то фактом Новый Завет заранее объясняет развитие Церкви- этого большого дерева, бывшего вначале неприметным зерном, а ныне дающего обширный приют зверям земным и птицам небесным. — Среди самих католиков (мы бы сказали: вообще верующих) были ультрадогматические умы, которые, справедливо удивляясь необъятному дубу, покрывающему их своею тенью, окончательно отказывались допустить, чтобы все это обилие органических форм вышло из построения столь простого и элементарного, как обыкновенный желудь. По их мнению, если дуб произошел от желудя, то последний должен был заключать в себе, ясным и отчетливым образом, хотя не все листья, но непременно все ветви большого дерева; он должен был не только по существу быть тождественным с ним, но и походить на него решительно во всем. На этом основании умы противоположного направления — ультракритические — принялись до последних мелочей и со всех сторон разбирать бедный желудь. Естественно, что они не находят в нем ничего похожего на большой дуб — ни перепутанных корней, ни мощного ствола, ни густых ветвей, ни волнистой зеленой листвы. «Ерунда все это!» — говорят они. «Желудь — желудь и есть и никогда ничем другим быть не может. Что касается большого дуба со всеми его атрибутами, то не трудно догадаться, откуда он взялся: его выдумали иезуиты на ватиканском соборе, мы это видели собственными глазами… в книге Януса». — Рискуя показаться преувеличенным догматикам вольнодумцем и в то же время быть объявленным критическими умами замаскированным иезуитом, я должен удостоверить следующую истину: что желудь имеет строение вполне простое и элементарное; что невозможно найти в нем все составные части большого дуба; и что тем не менее последний действительно происходит от желудя, без всякой уловки и узурпации, а по полному праву, даже по праву Божественному. Бог, не подчиненный условиям ни времени, ни пространства, ни материального механизма, видит в нынешнем семени всю их огромную будущую мощь. Он, конечно, должен был и в маленьком желуде увидеть, определить и благословить мощный дуб, имевший произойти из него, в горчичном зерне веры Петровой Он увидел и предсказал необъятное дерево католической Церкви, имеющей покрыть землю своими ветвями».
Здание, безусловно, не обладает имманентным ему единством; отдельные части здания внешним только соприкосновением и наружным сцеплением объединяются между собою. Краеугольный же Камень, сдерживающий все здание, есть только механический центр всего построения. Растение связано органическим единством, но все же корень его имеет исключительное значение. Целое не настолько обусловлено гармонией частей, чтобы каждая часть, кроме корня, была безусловно неустранима. Ее можно отрезать без особого ущерба для целого, лишь бы оставался невредимым корень; и сама она до известной степени может пустить новый, самостоятельный корень, будучи посажена в землю в виде отводка. Если поэтому растение наиболее совершенно представляет органический рост Церкви, как первый момент ее единства, то оно не достаточно для символизации органического единства Церкви в смысле соотносительности и взаимообусловленности отдельных органов. Символом для этой стороны Церкви является Тело (<τωμα) в своем собственном и буквальном значении, как тело животного и, по преимуществу, тело человеческое, но в своей самостоятельности от разума. Поэтому нечего удивляться, что символом Церкви–Тела св. Апостол пользуется охотнее всего в тех случаях, когда ему нужно доказывать взаимонеобходимость членов Церкви и многообразие дарований и функций церковных (1 Поел, к Кор.) или единство Церкви (Поел, к Ќол. и, особенно, к Еф., где единство — основная тема и лейтмотив всего послания).
«Входя в мир (Христос) говорит: Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал мне» (σώμα δέ κατηρτίσω μοι) (Евр. 10,5 = Пс. 39 (40), 7, однако тут нет упоминания о «теле»). Об этом Теле уже было много говорено ранее, и метафизическое рассмотрение часто невольно переходило в символическое. Поэтому мы затронем только некоторые из соприкосновенных вопросов.
По мнению Вейцзэккера, разделяемому и Гольцман- ном
[766], «образ Церкви–Тела пересажен Апостолом с языческой почвы, где он имеет первоисточник в басне Ме- нения Агриппы
[767]. Но, если даже для такого простого образа непременно надо искать источников, то гораздо естественнее видеть их в раввинизме, где, несомненно, существовало представление об Израиле, как о теле
[768], на что, отчасти, указывает и упомянутый ранее образ маслины (Рим. 11). А что Тело, в устах Апостола Павла, не всегда является метафизическим определением Церкви, но иногда и простым символом (впрочем, метафизическое определение часто почти незаметно переходит в символическое, и проводить тут решительные границы, как и вообще в сфере религиозных идей, было бы схоластицизмом и грозило бы умерщвлением живого духа религии), — это явствует
[769] [770], например, из того, что Христу приписывается значение Главы не безусловно, а условно, и, в случае надобности, каждого верующего можно назвать главою: «Хочу также, — пишет Апостол, — чтобы вы знали, что всякому мужу глава — Христос, жене глава — муж, а Христу глава —
Бог»[771].Смысл разбираемого образа — в гармоничности органов тела и их различии в единстве. «Церковь, — говорит один исследователь
[772], — есть царство солидарности; каждая поместная Церковь — частная реализация ее. Организм не может приобресть крепости, если члены его остаются бездеятельными. Здоровье поместной Церкви зависит, следовательно, от деятельности ее членов. Мы видели выше, что духовный дар есть условие всякой плодотворной деятельности. Верующий, который желает жить, должен только попросить. Иисус Христос имеет в запасе дары для каждого из своих. — Мы знаем, что дар рождает служение: множественность даров производит, следовательно, различие и многочисленность служений. — Многочисленность служений есть норма, и если она не встречается в большинстве наших Церквей, то это потому, что им недостает жизни… Всюду единственное служение заступило место многочисленности функций, и множество Церквей приводят на мысль этих несчастных гидроцефалов, чрезмерная голова которых тяжело сидит на хилом туловище». «Разделение труда не только в церкви, но и во всей вселенной есть господствующий закон». «Многочисленность служений предполагает напряженную жизнь, которая выражается посредством правильно организованных деятельностей. Действительно, всюду, где пребывает жизнь, одиночное действие уступает место кооперации, и, когда на нее посмотреть с весьма близкого расстояния, то кончишь тем, что заметишь, что жизнь есть в итоге только чудо кооперации, столь хорошо устроенной, что ей удается продолжаться навсегда. — Доктрина служений позволяет, следовательно, сделать синтез между жизнью и порядком, между верующими и учреждениями» (25, 135).
Это — то же, что говорил блаж. Феодорит (см. 45, 407) в словах: «Тело есть не простое нечто, но сложное из многих частей». Поэтому даже известное различие в обрядах или воззрениях (теологуменах) отдельных Церквей поместных может не свидетельствовать о внутреннем их антагонизме. Так, московский митрополит Филарет даже католическую Церковь не считал за ложную Церковь. «…И Восточная и Западная Церковь, — говорит Испытующий, — равно суть от Бога». «Да, поелику и та и другая исповедует Иисуса Христа во плоти при- шедша, то в сем отношении, они имеют один общий Дух, который от Бога есть», — отвечает Уверенный. — Исп.: «Однакож это две Церкви разномыслящие между собою». — Увер.: «Да, каждая из них имеет и свой дух, или особливое отношение к Духу Божию» (7, 14). Но чтобы испытать, какой дух более соответствует Духу Божию, нужно «себя поставить» там, где дух двух великих Церквей граничит с Духом Божиим. «Можешь ли ты стоять и созерцать на такой высоте? Признайся, не туманно ли у тебя в глазах» (там же, 14–15). Но «в чем должно состоять сие испытание: именно в том, от Бога ли дух общества сего?» (там же, 15). «Испытание состоит не в том, чтобы сделать свою поместную Церковь единственно–истинной, но чтобы показать ее законное место в среде других законно занимающих свое место. Тем лучше для дела Христова, если найденным оружием защищаться может и другая Христианская Церковь» (там же, 28). «А ты, — обращается с упреком к Испытующему Уверенный, — все ищешь такого себе оружия, которое бы защитило тебя погибелью других… Ты непременно хочешь заставить меня судить. Знай же, что, держась вышеприведенных слов Священного Писания (т. е. 1 Ин. 4, 1, 2, 3), никакую Церковь, верующую, яко Иисус есть Христос, не дерзну я назвать ложною. Христианская Церковь может быть токмо либо чисто истинная, исповедующая истинное и спасительное Божественное учение без примешения ложных и вредных мнений человеческих, либо не чисто истинная, примешивающая к истинному и спасительному учению веры Христовой ложные и вредные мнения человеческие. Сие самое различие употребляет Апостол, когда говорит: несми бо, якоже мнози, нечисто проповедующие слово Божие, но яко от чистоты, но яко от Бога (1 Кор. 11, 17)…» (там же, 28–29). Один только «Ходящий посреди семи светильников золотых» (Откр. 2, 1) знает, в каком состоянии светильник Римской Церкви (там же, 126); «изъявленное мною, — высказывается Уверенный, — справедливое уважение к учению Восточной Церкви никак не простирается до суда и осуждения западных христиан и Западной Церкви…» (там же, 127). «Что принадлежит до восточной половины нынешнего видимого Христианства: я не по предрассудку и пристрастию, но по ревности, основанной на убеждении и совести, почитаю оное десною частою видимого Христианства…» (там же, 129). (Далее перечисляются некоторые доказательства этого положения.) «Вот новые признаки твердого соединения с древнею Вселенскою Церковью нынешней Восточной, которую посему и называю я десною частию в целом составе нынешнего Христианства…» (там же, 131). «Ты ожидаешь теперь, как я буду судить о другой половине нынешнего Христианства. Но я только просто смотрю на нее; отчасти усматриваю, как Глава и Господь Церкви врачует многие и глубокие уязвления древнего змия во всех частях и членах сего тела, прилагая то кроткие, то сильные врачевства, и даже огнь и железо, дабы смягчить ожесточение, дабы извлечь яд, дабы очистить раны, дабы отделить дикие наросты, дабы обновить дух и жизнь в полумертвых и онемевших составах. И таким образом я утверждаюсь в веровании тому, что сила Божия наконец, очевидно, восторжествует над немощами человеческими, благо над злом, единство над разделением, жизнь над смертию» (там же, 131–132).
Мы привели эти рассуждения Преосвященного Филарета (Дроздова) с целью показать, что даже столь глубокие разности, как разности Церкви католической, могут быть производимы из «особливого отношения к Духу Бо- жию» и, стало быть, сами по себе, в качестве разностей, не подлежат еще осуждению, но, в высшем единстве Церкви, может быть, являются по–своему нужными, как левая сторона тела нужна ему, хотя она и слабее по силе, нежели правая. Но чтобы видеть эту Божественную необходимость разностей и даже заблуждений, нужно подняться на ту горнюю высоту, с которой «Восхищенный до третьего неба» Апостол и «Слышавший неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12, 2–4), видел, что «всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим. 12, 32). Но если бы и впрямь заболел известный член тела, то он, по милосердному замечанию «мудрого»
[773] Митрополита, «со времени крещения есть ли не здравый, то по крайней мере немощный, или, хотя мертвый, но уже член тела Христова» (7, 33), ибо «сим только предположением изъяснить можно неповторимость крещения. Как член естественного тела никогда не престает быть членом, разве только чрез невозвратное отсечение и совершенную смерть, так человек, облекшийся в крещении во Христа, никогда не престает быть членом тела Христова, разве чрез невозвратное отпадение от Церкви Христовой и вечную смерть» (там же, 23–24). А покуда он член Тела, что заставит остальных перестать надеяться, что рано или поздно и этот обмерший член наполнится соками жизни и оживет? Даже «извержение развращенного из среды» христиан, например извержение кровосмесника (1 Кор. 5, 2, 13), не есть окончательное извержение во «тьму внешнюю», где «смерть вторая», т. е. нечто абсолютно бесповоротное, но только дисциплинарная мера, с одной стороны, вразумляющая согрешающего преданием его Сатане во измождение плоти
[774] и полным отъединением его от окружающих (1 Кор. 5, 11), «чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор. 5, 5), а с другой — останавливающая возможность дальнейшего, распространения заразы, потому что «малая закваска квасит все тесто» (1 Кор. 4, 6). Поэтому едва ли прав Пфлейдерер, сравнивающий эту экскоммуникацию грешника с ампутацией гангренозного члена, имеющей целью спасти жизнь остальных органов. Отрезанный член умирает «смертью второю», а отлученный кровосмесник, как известно, покаялся и был снова принят в общение. Правда, в Церкви могут быть члены совсем умершие, врутренно отпавшие от церковного организма. Но Один только Дух Христов, оживляющий Церковь, ведает, совсем ли умерли они или только обмерли. Оставаясь неассимилируемыми элементами в Теле Христовом, они не принадлежат ему и являются как бы инородными частями. «Как телу, растущему и продолжающему жить, некоторые вещества принадлежат только временно, и по времени, даже во множестве, отделяются от него, не препятствуя тем его возрастанию и совершенству, так возрастанию и совершенству тела Церкви не препятствуют, хотя бы и многочисленны были, люди, которые временем веруют, и во время напасти, или другого рода искушений, отпадают (Лк. 8, 13), которые от нас изыдоша, но не беша от нас (1 Ин. 2, 19)» (8, 325). Это и есть то самое различие между выражениями «быть в Церкви» и «быть от Церкви» — «etre dans l'Eglise» и «ctre de TEglise», о котором мы говорили уже ранее
[775]. Мы сказали вообще о различии отдельных органов Церкви. Рассмотрим несколько текстов, сюда относящихся; вместе с тем выяснится и единство отдельных членов.
В прощальной беседе с учениками Господь, изобразив Себя как Лозу, ветвями которой являются ученики (Ин. 15, 1–7), вслед за тем непосредственно переходит к учению о любви: единство ветвей с Лозою требует любви к Лозе и любви Лозы к ветвям. А условием последнего является исполнение заповеди Христа. «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас; нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 12–13). И далее Господь все не покидает образа Лозы, говоря о плодоношении (Ин. 15, 16). И, раскрыв в последующем Свое единосущие со Отцем, Господь кончает беседу молитвою о единстве (Ин. 17, 11–23). Но, как сказано, образ Лозы не так разительно выясняет взаимо–обусловленность отдельных ветвей, хотя он наиболее подходит к символизации зависимости ветвей от Самой Лозы: «без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5).
«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, предоставьте (παρασίτησαс) тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего…» Каждый должен познавать, какова воля Бо- жия, давшая ему то или другое место в Целом, и не «думать о себе более, нежели должно думать», но думать скромно, «по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены (οΰτω? οί πολλοί ёѵ σωμα έσμεν εν Χριστώ, τό δέ aeatf* els άλλήλων μέλη)». И так как, «по данной нам благодати, имеем различные дарования (εχοντε? δέ χαρίσματα κατά την χάριν την δοΦεισαν -ημιν διάφορα)», то каждый член должен функционировать в усвоенной ему сфере (Рим. 12, 1–6). Далее (12, 6–9) перечисляются различные дарования, после чего Апостол делает общее увещевание о «любви», «братолюбивости и предупредительности» и других видах христианского подвижничества. Все перечисляемые добродетели (12, 9–21) суть обнаружения внутреннего единства духа и служат к устроению единства внешнего. В последующих же главах излагаются правила христианского общежития, и все они составляют нравственную дедукцию из основного принципа — единства духа в многообразии служений. Всякое действие должно направляться к единству и исходить из единства. Таково отношение ко власти и к закону, к пище и т. д. Все это насквозь пронизано духом любви, ищущей единства. Если в приведенном месте из Послания к Римлянам Апостол развивает тему единства чрез внушение скромности и смирения каждому члену порознь, то в Послании первом к Коринфянам единство обосновывается взаимонеобходимостью членов. Если в первом случае Апостол как бы говорит: «помни, что ты–отдельный член, и потому не мечтай о себе, не приписывай себе тех функций, на какие ты не способен», то во втором Апостол как бы продолжает предыдущий аргумент: «однако и Целое Тело, и ты сам, как отдельный орган, нуждаешься в сотрудничестве всех остальных. Ты связан со всеми членами и потому, сотрудничая им, живи в любви с ними, что есть дар наивысший». Вот это место из 1–го Послания к Коринфянам (гл. 12): «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех· Но каждому дается проявление Духа на пользу: одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворе- ния, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, — так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу?
Если все тело глаз
[776], то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно-. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна»; или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения; и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют (в том) нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы — тело Христово, а порознь — члены. И иных Бог поставил в Церкви, во–первых, Апостолами, во–вторых, пророками, в–третьих, учителями; далее (иным дал) силы (чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?» (1 Кор. 12, 4–30). Но все эти дары–ничто, если нет любви, ибо она есть «путь превосходнейший» (см. 1 Кор. 13).
Ввиду того, что большинство текстов, касающихся названия Церкви Телом (в символическом или метафизическом смысле), уже разобраны, мы не станем далее останавливаться на них и приведем только перечень главнейших из них, а именно: Εφ. 1, 23; 2, 16; 4, 4, 12, 16; 5, 23, 30; Кол. 1, 18, 24; 2, 19, 3, 15; Рим. 12, 5; 1 Кор. 6, 15; 10, 17; 12, 13, 27
[777].
Мы сказали уже, что образ Церкви–Тела, как по преимуществу символизирующий единство Церкви, относится к священству, ибо его задача (по преимуществу) заботиться об охранении «формы» церковного организма в потоке сменяющихся верующих. В этом смысле священство является душою (ψυχή) церковного организма (в отличие от плоти–мирян и духа–пророков). Поэтому нормою деятельности является живое церковное предание, а целью ее–здоровье организма. Христос, по своей двойственной природе, имеет двойное значение в рассматриваемом образе: Главы и Одухотворяющего Начала. Но, будучи единым, Тело не может быть названо святым в собственном смысле слова, как не может быть назван в собственном смысле слова единым Храм. Как не духовное бытие, оно может быть освященным, а не святым, и потому, для конкретного представления этого последнего атрибута, необходимо нам перейти к третьему образу Церкви — к третьему ее аспекту — аспекту Невесты или Жены.
V
Отличительною особенностью одухотворенного существа в сравнении его с живым телом служит его самосознание, как духовной субстанции. В свободной отдаче себя освящающим энергиям Духа лежит залог святости такого существа, потому что только при свободном выборе чистоты и духовного благолепия они являются святостью, а не тогда, когда в них непроизвольно выражается слепое хотение тела. Святость — в свободном акте воли, и потому образ Невесты–Жены, как существа по преимуществу воспринимающего, наиболее пригоден для символизации женственной природы Церкви, воспринимающей в себя силы Святого Духа. Но если единство в многообразии — имманентное обнаружение внутренних сил тела, то самотождество сознания и результирующая отсюда святость (отступление от святости ко греху есть ео ipso и отступление от самотождества личности к распадению и разложению, как это бывает при психических болезнях, дезинтегрирующих сознание) есть самое существо личности, ибо личность лишь постольку личность, поскольку она усвояет себе образ Божий, в нее вложенный, поскольку она восприняла в себя свой Богозданный прототип и тем стала святой. Нет святости вне личности, и нет личности вне святости. Поэтому атрибут святости составляет самую душу рассматриваемого образа. Неодолимость Церкви «вратами ада» в сфере святости выражается как вечное самотождество и чистота Невесты Христовой. Вот почему образ Церкви- Невесты преимущественно относится к третьему чину церковного человечества — к харизматикам или пророкам, разумея последнее в широком смысле вдохновляемых Духом Святым людей. По этому же самому нормою деятельности здесь является личное религиозное сознание, вдохновляемое Духом, — «таинства» или «тайны» в широком смысле. По этому же самому процесс обожения в данном образе символизируется совершенствованием Невесты–Жены. Пророчество составляет как бы πνεύμα.‚ дух животворящий Церковного Организма, священство — ψνχη‚ душу живую, и наконец, миряне — ‹гарҪ, плоть его.
Таким образом, последний образ Невесты включает в себя оба предыдущие. И, как Жена есть Тело мужа, а Он, следовательно, ее Душа и ее Глава, то и Христос в символе Жениха–Мужа включает в Себя предыдущую символику. Обратимся же к рассмотрению текстов.
Образ Церкви–Невесты по преимуществу развит Автором Откровения, а также и апостолом Павлом; но вдохновителем того и другого был Сам Господь, неоднократно пользовавшийся этим образом, и притом в трех модификациях. Церковь со стороны своей преданности Иисусу Христу, со стороны своей подчиненности Ему символизируется, как «Дщерь Сионова» — выражение, находящееся у пророков Исаии и Захарии, — и тогда Сам Христос является Царем. «Скажите Дщери Сионовой
[778]: се, Царь твой (т. е. Сам Христос)
[779] грядет к тебе…» (Мф, 21, 5 = Ис. 62, 11; Зах. 9, 9; ср. Ин. 12, 15). Замечательно, что после 11–го стиха пророк Исайя прямо говорит о новой теократии: «И будут называть их: народ святой, искупленный Господом, а тебя назовут городом многопосещаемым, никогда не оставляемым» (Ис. 62, 12).
Со стороны своего целомудрия и чистоты, равно как со стороны своей радости о единении со Христом, Церковь представлена Самим Христом, как Невеста, и именно как Невеста в самый разгар брачных торжеств, т. е. готовящаяся стать Женою и Матерью. А Христос называется тогда Женихом (ό
νυμφίος), справляющим свою свадьбу в чертоге брачном. Этот образ употреблен Господом в притче о десяти девах (Мф. 25, 1–13), имеющей эсхатологическое значение. Но Христос–Жених не есть только эсхатологический образ, так как он отнесен Христом (Мф. 9, 15; Мр. 2, 19; Лк. 5, 34) и к земной жизни Его. Если Церковь — Невеста, а Христос — Жених, а бракосочетание Жениха с Невестою изображает единение Христа с Церковью, то верующие представляются как со–пирующие на браке, как друзья (ср. Лк. 12, 4; Ин. 15, 14, 15) Жениха и Невесты (оί
φίλοι μου, говорит Христос). Напротив, все те, которые были невнимательны к своим обязанностям, к Жениху и Его браку, остаются вне чертога брачного. Такова общая мысль нескольких притчей, из которых притча о десяти девах, по замечанию Пфлейдерера, «есть дальнейшее развитие и преобразование более краткой притчи Лк. 12, 35 сл.» (32, I, 595). «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху; из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла; мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих; и как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «вот, жених идет, навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир
(εις του?
γάμους), и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи! Господи! отвори нам». Он же сказал им в ответ: «истинно говорю вам: не знаю вас». Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа (в который приидет Сын Человеческий)»
[780] (Мф. 25, 1–13 и ср. след.). Такова эсхатологическая притча о браке Христовом
[781]. Но, как сказано, она применяется и к земной жизни Спасителя. Иоанн Креститель, называя Христа Женихом, себе усваивает роль дружки (Paranymphus) ‚ радующегося браку своего Друга… «Вы сами мне свидетели, — говорит Иоанн ученикам своим, пришедшим как бы жаловаться ему на Иисуса Христа, — в том, что я сказал: «не я Христос, но я послан пред Ним». Имеющий невесту есть жених; а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха: сия-то радость моя исполнилась; ему должно расти, а мне умаляться» (Ин. 3, 28–30) — (' О
έχων την
νύμφην νυμφίος с‹ггсѵ, ό δέ
φίλος του νυμφίου, ό έστηχώ?
και άχούων αύτου,
χαρα χαίρει δια την φωνην του
νυμφίου. αυτη
ουν ή
χαρά ή έμή πεπλήρωτοα…). Смысл этого символа будет вполне ясен, если мы вспомним назначение «друга жениха»
[782] [783] или дружки, паранимфа. Одною из главных его обязанностей было сторожить дверь опочивальни (Хуппа, νυμφών •θάλαμος, thalamus), куда удалялись жених и невеста, так что «друг жениха» был вроде свидетеля фактического соединения брачащихся. Вот почему он «стоит и внимает, и радостью радуется, слыша голос жениха»: он убежден, что брак не расстроится. Так и Иоанн видит во Христе Жениха, фактически вступающего в брак с Церковью. — Так же рассматривает себя и Христос. Когда ученики Иоанновы стали упрекать Его, почему ученики Его не постятся, то Христос сказал им: «…могут ли печалиться сыны чертога брачного (ос
υίοί του νυμφωνος)‚ пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься» (Мф. 9, 15; ср. Мр. 2, 19–20; Лк. 5, 34–35). Тут ученики обозначены, как «сыны чертога брачного», т. е. как товарищи Жениха. «Его пребывание с Его учениками походит на ликование жениха с своими товарищами во время брачных пиршеств. Мог ли Он приглашать Своих учеников поститься, пока был с ними? Когда Он будет взят от них, тогда они будут поститься»
[784]. Христа спрашивали о посте (Мф. 9, 14 и др.), а Он отвечал о печали. Это объясняется тем
[785], что «пост и скорбь или печаль соединяются (1 Сам. 17,2; Сам. XII, 16–22; Пс. X… П, 4). Не потому, чтобы пост был причиною скорби, что было бы чистым лицемерием, но пост есть знак или следствие скорби». Поэтому было бы для всех нелепым явиться на брак в черной одежде, со слезами на глазах, не есть (древний пост был полным воздержанием от пищи) и не пить. Наоборот, если случалось, что жених неожиданно умирал, то тогда начинался пост в знак траура по нагрянувшему бедствию. — В разбираемом образе Христос берет тот момент свадьбы, когда невеста, закрытая покрывалом, находилась еще обособленною (ее прямо вводили в опочивальню), тогда как жених пировал с товарищами и друзьями
[786]. Этим объясняется, что о ней нет упоминания, так что этот момент должен предшествовать тому, о котором говорил Иоанн Креститель. Образ Церкви–Невесты, как мы видели, почти переходит в образ Церкви–Жены. Но и этот последний выступает с ясностью в других местах. Христос, напоминая фарисеям Закон Божий о браке, указал им на таинственное слияние мужа и жены в одно существо, откуда явствует невозможность развода «не за прелюбодеяние» (Мф. 19, 9). «Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их (Быт. 1, 27)?» И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью (Быт. 2, 24), так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19, 4–6 = Мр. 9, 6–9. Ср. Еф. 5, 31). Конечно, в области духа, «где ни женятся, ни выходят замуж» (Мф. 22, 30 = Лк. 30, 35), представление о браке не может быть понимаемо буквально, равно как и представление о теле, о растении и о здании, но то единство двух, ради которого существует брак, осуществлено наисовершенным образом в духовном браке Христа с Церковью. «Как муж оставляет своего отца и свою мать и прилепляется к своей жене, так Христос покинул небо и не отступил ни пред какою жертвою, чтобы отдаться Церкви и обнаружить ей свою любовь. Как жена должна признавать в том, кто отдается ей, своего главу и своего покровителя, так и Церковь должна быть подчинена Христу и питаться его любовью как самою субстанциею своей жизни. Наконец, как глава семьи обязан радостями и сокровищами своего очага той, которую он любит, так Христос, отдаваясь Церкви, ждет, чтобы она дала ему, в свой черед, духовную семью, чрез которую царство Божие разовьется на земле и чрез которую он сможет по прекрасной пословице древнего пророчества: «наслаждаться трудом своей души» (Ис. 53, 11)» (24, 27–28). Таким образом возникает ряд детализированных символов: Церкви–Жены, Церкви–Матери, Церкви–Хозяйки.
Если Христос оставил небо, то и от членов Церкви Он требует, чтобы они «оставили отца своего и мать свою» (Мф. 4, 22; 8, 21–22; 10, 37; 19, 29 = Мр. 10, 29; Лк. 14, 26; Мф. 23, 9), даже «возненавидели» их. И вот, про таких учеников Христос говорил: «Я есмь пастырь добрый, и знаю (χινόχτκω τά έμά) Моих, и Мои знают (
γινώσχοχχτί με) Меня: как Отец знает Меня (ytvcixnecc με), так и Я знаю Отца
(γινύχτχω τον Πατέρα), и жизнь Мою полагаю за овец…» (Ин. 10, 14–15). Чтобы понять истинный смысл этого текста, необходимо вникнуть в стоящий тут глагол
γινύχτχω. В отличие от отвлеченного, рассудочного познания, глагол γινώσχω (в усиленной форме — kntγι νώσχω), соответствующий еврейскому y<Tda
4, означает обыкновенно личное отношение познающего субъекта к познаваемому объекту, когда субъект определяется познанием объекта, объект, так сказать, вторгается в его бытие и познание его оказывается важным, значащим, влиятельным. Это — не просто познание, а скорее познание- восприятие, существенное познание, что особенно видно на еврейском уїїӓа
4. Так, например, Христос говорит: «познаете истину
(γνώσε<τ&ε την άληΦειαν), и истина освободит вас»
[787]. Истина оказывается реальною силою. Как познание личное, лицом к лицу
γινύχτχω (и
επιγινώσχω) означает иногда супружеские отношения между мужем и женою. Так в Быт. 4, 1; 19, 8. Так же и в Новом Завете. Так, Мариам сказала Ангелу: «Как будет это (т. е. рождение Иисуса Христа), когда Я мужа не знаю, ανδρα
ου γινύχτχω» (Лк. 1, 34). Так же «Иосиф не знал Ее (ουκ
εγίνωσχεν αυτήν), доколе не родила Сына» (Мф. 1, 25). В словах Господа: «Никто не знает
Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына… ουδείς
επινινυχτχει τον Yt
оѵ εΐ μη о Πατήρ,
ουδε τον Πατέρα
τις επιγινύχτχεс
εί μή ό
Ύίός» (Μφ. 11, 27) — издревле видели выражение единосущия Отца и Сына, указание на особую личную близость. Поэтому и в словах: «Я знаю Моих, и Мои знают Меня» (Ин. 10, 14) — необходимо видеть указание на особую, исключительную, как бы брачную или супружескую близость Христа и членов Церкви, — такое знание друг друга, при котором происходит взаимодействие и мистическое проникновение личностей друг в друга, известный кразис их
[788][789]. Христос хочет, чтобы «все были одно» (Ин. 17, 21). «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга; потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 34–35). «Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас» (Ин. 14, 20)· «Пребудьте во Мне и Я в вас» (Ин. 15, 4). Два (Христос и Церковь) делаются во плоть едину. Невеста делается Женою. Начинается материнство Церкви. И символ развивается далее. В беседе с Никодимом Христос говорит ему о втором рождении: «Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия», — Никодим говорит Ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели он в другой раз может войти в утробу матери своей и родиться?» — Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие: рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше…» (Ин. 3, 3–7)
[790]. И это «рождение от Духа» многократно упоминается в нескольких местах Нового Завета (Ин. 3, 8; Ин. 3, 5, 4, 7). «Верующим во имя Его (Христово) дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин. 1, 13) — έκ Θεου έγεννηφησαν. «Всякий, делающий правду, рожден от Него (Христа)» (1 Ин. 2, 29) — έξ αύτου
γεγέννηται — «и всякий любящий рожден от Бога» (1 Ин. 4, 7) — εκ του Θεου
γεγέννηται. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден» (1 Ин. 5, 1) — έκ του Θεου
γεγέννηται. Во всех приведенных текстах стоит предлог сэе с родительным падежом, показывающий, что субъект при нем (Дух, Христос, Бог) рассматривается как Отец рожденного. Когда Никодим спрашивал, как может человек войти снова в утробу матери и родиться во второй раз, то Иисус только подтвердил необходимость второго рождения и пояснил, что необходимо рождение Духом
[791]. Такою благодатною утробою для духовного рождения является Жена Христова — Церковь, рождающая Ему детей. «…Если естественное рождение Сам Христос представляет образом духовного, и если для естественного рождения нужна матерняя утроба, то и для духовного рождения не нужна ли матерняя утроба, не в буквальном значении сего слова, как думалось Никодиму, но в высшем, соответственном предмету? — Сей вопрос и оправдывается и разрешается одним разом, если скажем, что матерняя утроба и сокровищница жизни для нового человека есть Христова Церковь и Ее хотя рукотворен- ный, но духом благодати исполненный, тайнодейственный Храм» (8, 514–515). «Поелику все верующие во Христа суть чада Божии, как сказует св. Иоанн Богослов: «елицы прияша Его, даде им область чадом Божиим бы- ти, верующим во имя Его» (Ин. 1, 12), то понятно и достоверно, что все верующие или, иначе, все причастники небесного звания, все христиане, от первого до последнего, суть братия, не по плоти, но по благодати, не по земному, но по небесному родству, как чада Отца Небесного, как дети Матери Церкви»
[792]. Вот почему у апостола Иоанна часто упоминаются «дети Божии, дети Церкви» (1 Ин. 5, 2; 2 Ин. 4; 1 Ин. 2, 1, 12; 3, 2, 10; 4, 4; 5, 2; 2 Ин. 1, 13; 3 Ин. 4; 1 Ин. 3, 1; 2 Ин. 1, 1, ср. у Павла: Рим. 8, 21; 1 Кор. 4, 14; Гал. 4, 27; 1 Фес. 2, 11; Рим. 8, 16, 17; 9, 8; Гал. 4, 19, 28, 31, и у Петра: 1 Петр. 1, 14; 3, 6). В число этих текстов включены и те, где Апостолы называют верующих «своими» детьми, это потому, что они родили их проповедью, которая от Бога, и «благовествованием» (1 Кор. 4, 15; ср. Флм. 10): верующие — «возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек» (1 Петр. 1, 23). А раз все верующие — дети одного Отца, Бога, и одной Матери — Церкви, то они, естественно, являются братьями — название столь часто употребляющееся в Новом Завете, что нет возможности привести здесь всех мест. Так совершается духовное рождение от Церкви и Христа. «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит себя от радости, потому что родился человек в мир» (Ин. 16, 21).
Наконец, символ делает последний переход и представляет Церковь–Хозяйку, ведущую хозяйство своего Супруга, в доме Отца Его, где «много обителей» (Ин. 14, 2). «Царство Небесное, — говорит Христос, — подобно закваске, которую женщина взявши положила в три меры муки, доколе не вскисло все» (Мф. 13, 33 = Лк. 13, 20–21). Όμοια εστίν ή βασιλεία τών ουρανών ζύμη, ўѵ λαβοϋσα γυνή ενέχρυψεν εις αλεύρου σάτα
τρία, ϋως ου εζυμώΰ–η ολον. — Тут прежде всего обращает внимание, что закваска (ζύμη) не сама собою попадает в муку, а ее берет и прячет, скрывает в муке
(ενέχρυψεν — скры) женщина, являющаяся таким образом органом для реализации вскисания. Женщина — это Церковь, берущая у Мужа Своего закваску. Именно «взяла»
(λαβοϋσα) закваску и «скрыла»
(ενεχρυψεν) в муке, потому что закваска может происходить либо от закваски же, либо от дрожжей, но не делаться сама собою. Ведь процесс вскисания теста, как и вообще бродильные процессы, происходит лишь в присутствии особых ферментов, выделяемых жизнедеятельностью некоторых микроорганизмов; когда нет последних, т. е. дрожжевых грибков, то нет и вскисания теста, нет и ферментации. Но ферментирующий грибок, как и все живое, не может быть получен иначе, как от грибка же: omne vivum ex vivo, omnis cellula ex cellula!
[793] Женщина может только перенести дрожжевой грибок в муку — внести Слово Божие в мир, но не сотворить его. Когда же носители Слова Божия — Апостолы и вообще харизматики внесены в мир, они сами развивают все то, что нужно для ферментации. Забота Церкви- Женщины — произвести смешение муки с закваскою и затем следить за общим ходом квашения — за температурой, отсутствием толчков и т. д. Образ закваски Христос употребил для обозначения «все проникающей и преобразующей силы» (69, II, 1378) Слова Божия–на- чатка Царства Небесного; ведь Слово Божие–духо- носно, а «Дух дышит, где хочет» (Ин. 3, 8) и «все проницает» (1 Кор. 2, 10). Но если тесто само по себе, без закваски, не может вскиснуть и, следовательно, не может стать существенно единым (ибо только заквашенное тесто делается единым, а не агрегатом отдельных комочков), то, раз закваска внесена, оно вскисает все, ибо каждая вскиснувшая часть его сама делается новою закваскою
[794]: «разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто
(μικρά ζύμη
6λον το φύραμα ζνμοι)» (1 Кор. 5, 6).
Процесс вскисания есть процесс распада более сложных молекул на более простые, и в этом смысле имеет сродство с разложением и с гниением, с тем, что относится к смерти. Это свойство заквашивания, как и вообще всех явлений, имеющих связь со смертью, было основою для признания в Ветхом Завете заквашенного хлеба ритуально несовершенным, даже нечистым (он не мог быть приносим в жертву, например), тогда как, напротив, «сладкий», незаквашенный хлеб (маццот) считался ритуально чистым
[795]. Поэтому-то, вероятно, Христос и говорит о хлебе заквашенном, как о чем-то презренном, скверном в глазах номистов–иудеев и, однако, более ценном, как пищевой продукт. Царство Божие, начинающееся с ритуально–нечистых мытарей и грешников, естественнее всего было уподобить ритуально- нечистому квасному хлебу. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну» (Ис. 29, 14)… Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих… Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие… потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не Много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее…» (1 Кор. 1, 18–28; ср. 2 Кор. 11, 23; 1 Кор. 4, 10; 3, 18 и др.). Живая, могущественная и невидимая, нечистая закваска, конечно, наилучше передает представление о носителях Слова Божия. Но не только то, как смотрели на закваску, но и то, какова ее сила, имеет значение для притчи. Закваска, с одной стороны, разлагает молекулы крахмала, т. е. производит изменение самого существа у этих молекул, делает их «новою тварью», а с другой — сливает отдельные частицы воедино. Так же и слово Божие: разлагая сознание, выделяя, как газы из теста, из него все ненужное — национальные, социальные и религиозные предрассудки, все мирские различия, всё сепаратистическое, небесная истина тем самым вызывала соединение очищенных личностей воедино (ср. 2, 134–137) (ср. 1 Кор. 10, 16–17, где опять проводится параллель между единством вкушаемого Хлеба и единством Церкви). От силы закваски люди узнали друг друга, «припомнили» друг друга
(осѵосџѵгі‹гсѕ Платона
[796]), увидели друг в друге образ Божий и, когда это происходило, происходило и объединение. Так под влиянием магнита каждая частица железных опилок сама получает магнитные свойства, возбуждает их же в другой и т. д., так что все частицы объединяются в стройное (по линиям магнитной силы) единство, которое уже дано в самом магните, и тут только наполняется конкретным содержанием: опилки делают видимыми дотоле незримые линии магнитной силы — незримые, но нисколько не менее реальные, нежели при своей видимости. Силовое поле магнита по отношению к магниту и есть Церковь в ее отношении ко Христу; опилки же — верующие, вошедшие в единство между собою и всецело воспринявшие в себя Церковь.
Закваска, как сказал Христос, сокрыта женщиною в трех мерах
(ε is <τάτα τρια) муки
[797]. Под тремя сатами разумеются, по мнению Иоанна Златоуста
[798], многие саты, так как это число употребляется для обозначения множества. По мнению Светлова
[799], числом три «выражается идеал полноты и законченности, как и семью», так что три саты имеют значение «всеобъемлемости или космического характера Царства Божия». Собственно, число три может в духе понимания Златоуста быть истолковано как обозначение трех главных направлений в христианстве — Православия, Католицизма и Протестантства. Другие же свв. отцы обращают взор внутрь, усматривая здесь таинственное указание на три главные силы души: сердце, душу и дух (Августин) или на три известные способности ее: познавательную, чувствительную и желательную (Блаж. Феофилакт. См. (2, 134)). Таким образом, под тремя сатами обычно разумеют полноту — либо внешнего мира, либо внутреннего. Но, не исключая
[800] предлагаемых толкований, мы заметим следующее: судя по всем имеющимся данным, три саты муки — количество довольно незначительное. В трактате Пеа (Pea VIII, 7)
[801] говорится даже, что «не расходуют (в смысле не должно, не подобает, не нравственно расходовать) на бедного менее, нежели двухфунтовый хлеб <7б сикля), куда идут 4 саты за 4 сикля» — «Νοη erogant in paupcrcm minus quam panem dupondii (7б sicli) ubi IV. Sata vcncunt IV. ѕісііѕ» (цит. no (67, 1, 405)). Поэтому должно думать, что указанием «три саты муки» отмечена в притче о закваске бедность Хозяйки: она замесила менее, нежели нужно для подаяния бедному, — три саты вместо четырех. Если закваска, низменная в глазах иудеев по своему качеству (ибо оно противоречит ритуальной чистоте по воззрению иудеев), означает е contrario
[802] Божественную природу нового фактора истории — христианства, безумную в глазах иудеев, то трехсатовое тесто, по своему количеству жалкое в глазах всякого законника (ибо даже бедному подают больше) ‚ означать может вселенский состав Церкви Христовой, — ничтожество по воззрению всего языко–иудейского мира. Как зерно горчичное «наименьшее из всех семян», а вырастает в дерево, так и «нечистая» закваска в ничтожном количестве теста является закваскою беспредельно умножаемою по мере «скрывания ее» в новое тесто, т. е. носящею в себе бесконечный запас тестоквасящей силы. Притча о закваске вполне аналогична притче о зерне горчичном, и замечательно, что первая стоит и у Матфея, и у Луки непосредственно после второй. Так была понята притча о закваске и слушателями Иисуса Христа. Вставив ремарку, относящуюся ко всему повествованию, о том, что Христос «проходил по городам» (Лк. 13, 22), Евангелист замечает: «Некто сказал Ему: «Господи! неужели мало спасающихся?»» Очевидно, что притчи о зерне и о закваске были односторонне поняты в смысле исключительности Царства Божия. Вот почему, в ответ на заданный вопрос, обличавший непонимание, Господь рассказал притчу (Лк. 13, 25–30) о непринятии в Царство всех тех, кто был «делателем неправды» и «быв первыми, стали последними». Смысл притчи — в устранении сказанного недоумения: Царство Божие не узко, но попадают туда только достойные.
Таково учение Самого Христа о Церкви–Невесте. В общем оно носит приточный, аллегорический характер. Однако мы считали необходимым изложить его именно здесь, в главе о символическом определении Церкви, потому что дальнейшее развитие мысли (у Павла и в Откровении) выдвинуло вперед преимущественность этих приточных образов пред другими и обнаружило их символическое ядро: приточные по внешнему виду, они носят в себе более символическое существо дела.
Образ Церкви–Обручницы у ап. Павла находим в следующих словах: «Я, — говорит Апостол, — ревную вас
[803] ревностью Божиею, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не были растлены, уклонившись от простоты и чистоты во Христе. Ибо если бы кто пришед начал проповедывать другого Иисуса, которого мы не проповедывали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получали, или иное благовестие, которого не принимали, — то вы были бы очень снисходительны к тому» (2 Кор. 11, 2–4). Далее Апостол доказывает, что он имеет все признаки Истинного Апостола — «терпение, знамение, чудеса и силы» (2 Кор. 12, 12) и, значит, всякий другой не может дать коринфянам ничего нового сравнительно с Павлом,
(ζηλώ γαρ υμάς Θεου ζηλω ηρμοσαμην γαρ υμάς ενί ανδρί, παρφ'ενον αγνην παραστησαο τω
Χρκττώ. φοβούμαι δε μη πως, ως ό όφις εξηπάτησεν Εί5αι>
εν xrj πανουργία αύτου, [οΰτω]
φϋαρη τά
νοήματα υμών από της άπλότητος [scat
της άγνότητος] της εις Χρκττον) κτλ.
Здесь Церковь представлена как Обручница Христа, и она, при парусин (29, 408) должна предстать ко Христу Девою чистою
[804]. Невеста первого Адама, Ева, предстала своему жениху, Адаму, уже обманутою, как бы растленною Змеем. Если коринфяне станут слушать кого попало, оставляя своего Апостола, то они рискуют растлить Церковь коринфскую, лишить ее чистоты и невинности· Они должны помнить, что первый их Научитель — Павел — имеет все нужное для Апостола: поэтому нечего им обращаться к иным проповедникам Евангелия, потому что могут напасть и на лжеучителя и незаметно для себя покинуть простоту и чистоту веры. Вот почему Апостол, как говоривший слово Божие, как представитель Бога, ревнует Божью Невесту к этим возможным растлителям ее. «Как любящий ревнует о любимой особе, чтоб она никогда никому не принадлежала, или чтобы другой никто не покушался привлечь ее к себе, так я, — парафразирует слова Апостола еп. Феофан (46, 315–316), — ревную, говорит, по вас, и не могу допустить мысли, чтобы вы принадлежали кому-либо другому. Не о том, однако ж, ревную, чтобы, никому другому не принадлежа, вы принадлежали мне; нет, — не мне, а Богу чтоб принадлежали: ревную по вас Божиею ревностью, — тою, какою Бог ревнует по вас, не хотя, чтоб вы увлекались каким-либо суемудрием, а следовали единой истине, Им чрез нас всюду возвещаемой». Св. Златоуст говорит: «Не сказал: ибо люблю вас, но употребил гораздо сильнейшее выражение. Ибо ревнивы души, сильно пламенеющие к любимым ими. И ревность не от чего другого происходит, как от сильного дружества…» «Обручение происходит, когда невеста говорит жениху: отселе я тебе одному принадлежать буду; а жених, еще прежде возлюбивший ее, принимает ее и себе лрисвояет. Христос Спаситель все души искупил, возлюбив их прежде, и все для них приготовил. Затем послал Апостолов — звать души к брачному с Собою союзу. Апостолы ходили по миру и всем благовестили сию радость. Которые души верили и, оставя все, предавались Господу, тех Апостолы обручали Ему чрез св. крещение и рук возложение (миропомазание)» (там же, 316–317).
Брачное соединение Церкви со Христом имеется в виду и в словах: «Разве вы не знаете, братия, — ибо говорю знающим закон, — что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет замуж за другого, называется прелюбодеи- цею; если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодеицею, вышедши за другого мужа (ср. 1 Кор. 7, 39). Так и вы, братия мои, умерли для закона Телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу» (Рим. 7, 1–4) — ωστε, αδελφοί μου, каі υμεΖς έ&ανατώΰητε τω νόμω δια του σώματος του Χρίστου, εις τό γενέσϋαι νμας έτέρω, τω εκ νεκρών έγερϋέντι, ι να χαρποφορ–ησωμεν τω θεώ (Рим. 7, 4). Тут главными для нас словами являются: εις τό γενέσϋαι ύμας έτέρω, имеющие несомненно значение брачного соединения мужа и жены. Это доказывается прежде всего параллелями: (ή γυνή) έάν γ έ ν η τ α с άνδρί έτέρω–если жена выйдет замуж за другого (Рим. 7, 3 а), (την γυνην) γενομένων at›Ѕрі έτέρω — жена, вышедшая замуж за другого (Рим. 7, 3 б), εις το γενέσθαι υμας έτέρω — чтобы выйти замуж за другого (Рим. 7, 4).
Этим параллелизмом оправдывается перевод, данный нами для 4–го стиха — «чтобы вы вышли замуж за другого, Воскресшего из мертвых, да плодоносим Богу». Плодоношение Богу является естественным последствием нового брака — брака с Воскресшим из мертвых, τω
έκ νεκρών εγερ&ένтс, т. е. со Христом. Апостол не говорит
άνδρί ετέρω[805], но просто έτέρω
[806], потому что не хочет называть Христа, Богочеловека, именем
άνηρ[807](тем более что это не ладилось бы с дальнейшим оборотом о «плодоношении Богу»: плодоношение может быть тому, за кого вышла женщина замуж), а называть каким- нибудь иным именем значило бы нарушить словесный параллелизм с предыдущим стихом. Поэтому
έτέρω стоит без дальнейшего определения. Но наше понимание этого места можно доказать еще и прямым разбором глагола
γίγνομас или (позднейшее:
γίνομαι) с дательным падежом в значении «доставаться, принадлежать кому; переходить во власть другого, делаться рабом другого» (женщина, переходящая во власть мужчины, есть жена его) (64, 145). Так и переведем некоторые (по Стефану)
[808] γίνεσϋαι άνδρι έτέρω- jungi alio viro; напротив,
γινεσϋαι από τίνος–ad aliquo disjungi
[809]. Аналогичный Павловому обороту встречаем у Демосфена, говорящего:
έδωκε Σατύρω του έαυτοϋ γυναίκα, έαυτοϋ
τιοτε γενομένω.В толковании (43. 356–363) на разбираемый текст Рим. 7, 4 еп. Феофан объясняет, что закон умер для верующих, стал недействителен и не имеющим силы, так как верующие в крещении умерли для него; «умерли, чтобы быть иному; или потому и умерли, что отдались иному. В крещении это делается гласно: сочетался ли еси Христу? — Сочетахся. Очевидно, здесь совершается новый брак: душа сочетавается со Христом Господом, — свободно, самоохотно, но так решительно, как смерть» (там же, 362). «…Развязались мы с законом, но, вместе с тем, в одно и то же время сочетались со Христом Господом. От одного брака перешли к другому; от одних обязательств к другим. Но зачем же было и переходить, когда этот переход не на вольную волю, а на новые обязательства, — из подчинения к подчинению, из работы в работу? Затем, что в новом союзе мы будем плод приносить Богови. Прежний союз не делал нас плодоносными: подчиняться ему мы подчинялись, а плода не приносили, были бесплодны для Бога. Теперь же, сочетавшись с Восставшим из мертвых, мы получили в Нем силу плод приносить Богови. Слово это очень сильно и требовало подтверждения: как так закон бесплоден?» (там же, 363). Поэтому в дальнейшем Апостол разъясняет, что ранее люди приносили плод смерти.
Это указание в Рим. 7, 4 на брачный союз в других местах раскрывается в целую картину брачной совместной жизни. Муж и жена должны оказывать друг другу взаимное благорасположение (1 Кор. 7, 3); ни муж, ни жена не властны над своим телом, потому что муж властен над телом жены и жена над телом мужа (1 Кор. 7, 4); они должны не покидать друг друга (1 Кор. 7, 5; 7, 10–11), и их единство так велико, что христианство одного из супругов очищает и другого, хотя бы он был язычником (1 Кор. 5, 12–16). Жена–слава мужа (1 Кор. 11, 7; ср. Притч. 11, 16), и потому должна быть покрытой, в знак власти над нею мужа, тогда как муж — «образ и слава Божия», «ибо не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа» (1 Кор. 11, 5–10). «Всякому мужу глава Христос, жене глава–муж, а Христу глава–Бог» (1 Кор. 11, 3). «Впрочем, — говорит Апостол, — ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж чрез жену; все же–от Бога» (1 Кор. 11, 11–12). Будучи физически, нравственно и мистически одно, муж и жена должны не нарушать этого единства. Жены должны повиноваться мужьям своим, «как прилично в Господе» (Кол. 3, 18; ср. 1 Петр. 3, 1, 5; Еф. 5, 22) и учиться в безмолвии (1 Тим. 2, 11), а мужья должны любить своих жен и не быть к ним суровыми (Кол. 3, 19). Все сказанное о муже с женою mutatis mutandis
[810] относится ко Христу с Церковью. «Жены, — пишет Апостол ефесянам, — повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы, очистив, освятить ее банею водною, посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены Тела Его, от Плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть (Быт. 2, 24). Тайна сия велика: я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа» (Еф. 5, 22–33)
[811]. Для послания к Ефесянам брак Христа с Церковью был данным и являлся исходным пунктом для установления взаимоотношений мужа и жены. Для наших же целей данными являются эти взаимоотношения и ими объясняется брак Христа с Церковью. Как обычный брак есть «великая тайна»
[812], прообразующая сочетание Христа с Церковью
[813], так и слияние супругов во плоть едину имеет прототипом отношение Христа к Телу своему. Поэтому члены Церкви называются «членами Тела Его, от Плоти Его и от костей Его» (Еф. 5, 30), подобно тому, как Ева была «кость от костей» и «плоть от плоти» Адама (Быт. 2, 23)
[814]. Нравственное единство мужа и жены выводится из мистического единства их.
Наибольшей последовательности в развитии образ Церкви–Невесты получает в Откровении. Тут этот образ представлен в его эволюции, почему в разных местах Откровения имеет весьма различный характер.
В главе 12–й изображены Жена и Дракон. «И явилось на небе великое знамение — жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от мук рождения. И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на голове его семь диадим; хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой подлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней»
[815] (Откр. 12, 1–6). Образ Жены, противоположенный образу Зверя, по единогласному толкованию комментаторов, представляет собою духовное человечество в его противоположности человечеству плотскому. Ветхий Завет полон упоминаний о верующих, рассматриваемых в их целокупности, как о Жене. В Пятокнижии неверность Израиля Богу называется прелюбодейством, а Святая ревность Божия к Израилю изображается как ревность мужа к своей жене, с которой он заключил брачный союз (Исх. 34, 15, 16; Лев. 17, 7; 20, 5–6; Чис. 14, 33; 15, 39; Втор. 31, 16; 32, 16, 21). Также и пророки очень часто говорят об обручениях, о супружестве, о прелюбодействе, разводе, вдовстве — одним словом, вращаются в сфере брачных понятий (Ис. 1, 21; 50, 1; 54, 1 сл. Иер. 2, 2, 20, 23–25; 3, 1 сл. Иез. 16, 23; Ос. 1–3). Совокупность всего этого выражается словом Жена
(γυνή) (Откр. 12, 1). Эта Жена рождает «младенца мужеского пола», точнее: «сына–мужа»,
υίόν άρσεν. Это–Христос, одновременно являющийся Сыном духовного человечества и Супругом его — сыном и мужем Церкви. Несмотря на все козни против Него, Он ускользает от пасти Зверя и восхищается «к Богу и престолу Его» (Откр. 12, 5). Иные, напр. Мефодий Патарский, Андрей Кесарийский
[816], не соглашаются с таким толкованием, видя в Младенце Духовный Израиль. Но последнее мнение не исключается первым, а включается с необходимостью в него. Если Младенец есть Христос, то вместе с тем и Новорожденная Церковь искупленного человечества, ибо это Человечество есть Тело Христово, неразрывно с Ним связанное. Таким образом, рождение Младенца соответствует тому, о чем говорили Исайя (9, 6) и Михей (4, 9, 10; 5, 2)
[817]. Младенец есть Христос — начаток Церкви Торжествующей, а Жена — Церковь Воинствующая. Она облечена в солнце, т. е. в этом мире является носительницей небесного света — откровения, благодати, чистоты (ср. Пс. 83, 12; Откр. 1, 16; Суд. 5, 31; Мф. 13, 43 и пр., из сличения которых явствует, что солнце означает Божественные силы). Если каждая частная церковь — светильник, а Ангел ее–звезда (см. 17–ю главу Откровения), то Жена, облеченная в Солнце, есть, так сказать, средоточие всех светильников, светильник по преимуществу. Луна под ногами означает господство Церкви над земными силами, земною мудростью, религиею и проч. Церковь — в мире, но не от мира. Звезды же венца означают Ангелов поместных Церквей, Апостолов и колена израильские. Это отчасти подтверждается и тем, что Жена и Небесный Иерусалим в существе своем идентичны, а на основаниях последнего написаны имена 12–ти апостолов, соответствующие именам 12–ти колен, написанных на вратах Горнего Иерусалима. Жена опирается на земное, а Небесный Иерусалим, тоже Жена (Откр. 21, 2, 9, 10) — на небесное, Апостолов. Первая есть Церковь Воинствующая, а вторая — Торжествующая. Бегство же Жены в пустыню означает пребывание ее в среде язычников. После низвержения дракона на землю (Откр. 12, 7–12), «когда дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтоб она летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времени и полвремени. И пустил змий из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла уста свои, поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа»
[818] (Откр. 12, 13–17). По–видимому, это улетание Жены есть прежнее бегство. Но, не останавливаясь на дальнейшем толковании приведенных мест (толкования можно найти в нижеуказанных источниках), переходим к главе 14–й. Здесь, как и в последующей 15–й главе, изображено богослужение 144 000 «девственников», «которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел» (Откр. 12, 4). Это верные Христу. И, как противоположность этой Церкви избранных, в главе 17–й изображена Великая Блудница, над которой (гл. 18–я) происходит суд. Блудница эта не есть то или другое государство, та или другая поместная Церковь (52, 347–352); это — совокупность всех плевел Церкви, тогда как 144 ООО девственников, далее являющиеся как Невеста Агнца или Иерусалим Горний — совокупность пшеницы. Ранее же описанная Жена есть нива, на которой до поры до времени растут неразличимые между собою пшеница и плевелы (Мф. 13, 24–30; ср. Мф. 13, 47–50). Таким образом, при последних событиях мировой истории Церковь дифференцируется на Блудницу — Церковь падших и на Град Божий, описанный в гл. 21–й. Это — «Жена, Невеста Агнца» (Откр. 21, 9), куда уже не войдет ничто нечистое
[819]. Тут Невеста предстает во всей своей небесной и лучезарной красоте.
ГЛАВА ШЕСТАЯ АЛЛЕГОРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ И ОТНОШЕНИЕ ЕЕ К ЦАРСТВУ БОЖИЮ[820] I
Если трудно провести решительную черту между определением метафизическим и символическим, то еще труднее сделать это для определения символического и аллегорического. В последней главе мы сплошь и рядом говорили об аллегорическом определении. Сейчас мы дадим несколько дополнительных замечаний, главным образом имеющих в виду выяснить отношение Церкви к Царству Божию. Этого можно достигнуть обозрением некоторых аллегорических определений Церкви.
Относительно взаимоотношения Церкви и Царства Божия, как известно, существует множество споров, да и точное определение самого Царства является доселе objectum litis
[821]. Есть ли это нечто только внутреннее или только внешнее, настоящее или грядущее, достигаемое человеческими усилиями или даваемое свыше и вдруг, катастрофически и т. д. — все это обсуждалось и обсуждается неоднократно. Но, по–видимому, самая тщательность микроскопического анализа запутала дело, желая внести в Священное Писание ту определенность и неподвижность терминов, которой там нет и быть не может. Нельзя забывать, что ни Христос, ни ученики Его не были учеными богословами, дающими определение со всею филологическою щепетильностью. Для Христа и Апостолов значение слов определялось контекстом речи, и это позволяло им в разных случаях употреблять термины с достаточно значительными вариациями содержания. Поэтому полное единство религиозного содержания не исключает еще значительного разнообразия в терминологии. Поэтому даже общая синонимия для выражений Царство Божие и Царство Небесное не исключает известных нюансов (28, I, 378). Тем более это относится к выражениям Царство, Церковь и Жизнь Вечная.
Как известно, понятие Царства «образует один из существенных элементов, органический центр, около которого развертывается доктрина» (там же, 377–378). Так–для синоптиков. Но в Евангелии от Иоанна таким существенным элементом является уже понятие Жизни Вечной, а в Павловых Посланиях — понятие Церкви. Уже одно только это обстоятельство наводит на мысль о теснейшей внутренней связи этих трех терминов: Христос и Апостолы Его не могли говорить о разном. «Несмотря на многочисленные различия, относящиеся и к природе вещей и к форме Священного научения, оба выражения (Царство и Церковь) имеют близкое сходство (identity ѓопсіёге) ‚ которое за ними всегда признавалось. Они равно означают христианскую икономию
[822]на земле; и единственно с этой стороны мы должны брать их тут» (26, 35). То же самое должно сказать о еще более близких выражениях: Царство и Жизнь Вечная, ибо «Царство Божие есть жизнь, дарованная нам во Христе» (16, 77), или еще «Царство Божие есть дарованная во Христе жизнь с Богом или богообщение человека» (16, 80) и «Царство Божие есть совокупность всех благ, дарованных нам во Христе» (16, 81). В объединенном виде все эти определения Царства дадут такое: «Царство Божие есть единение каждого человека и всех людей вместе с Богом, дарованное нам во Христе, Царе и Господе нашем» (16, 81).
Эти три понятия: Царство, Церковь и Жизнь иногда подходят друг к другу до слияния, а иногда, напротив, значительно расходятся между собою, разбегаясь в разные стороны. Возьмем, например, место, где Христос обещает Петру «создать на нем Церковь» и «дать ему ключи Царства Небесного» (Мф. 16, 18, 19). Тут нельзя не видеть обычного еврейского параллелизма; это — «двойное удостоверение одного и того же факта, двойное символическое представление одной и той же привилегии» (27, 39; ср. 41), откуда следует, что Церковь в данном случае почти то же, что Царство. Но Христос обещает Петру, что основанную Христом Церковь не одолеют «Врата ада». Как мы выяснили, «Врата ада» (см. гл. 4, § 1) есть метонимическое обозначение Смерти. Чтобы быть абсолютно неодолимой для Смерти, Церкви должно быть антиподом Смерти, т. е. Жизнью, Жизнью по преимуществу, Самою Жизнью или Жизнью Вечною. Тут все три термина сходятся в одном фокусе. То же приходится сказать и о тексте Мф. 18, 15–20, где ставится в параллель власть в Церкви и власть на Небе
[823], т. е. власть в Царстве Небесном, чем опять- таки устанавливается синонимия двух речений.
«Вечная Жизнь» (ζωή
αιώνιος) или просто «Жизнь» (ζωή) означает собою величайшее благо, к обладанию коим призван человек. Поэтому в том же христианском откровении слова ζωή
αιώνιος противопоставляются κόλα
<τις αιώνιος — мукам вечным, ‹пеотоӯ то
εξώτερον — тьме внешней, απώλεια — погибели, каковыми выражениями, напротив, отрицается то, что составляет блаженство человека, и, наоборот, утверждается то, что является злом для него (17, 1903 г., II, 675). Раз так, то из двух возможных точек зрения на Царство Божие, а именно объективно–религиозной и субъективно- этической (там же, 651) (или субъективно–мистической и объективно–мистической) ‚ вторая заставляет поставить знак равенства между Царством Божьим, как summum bonum
[824], как жемчужиною притчи (Мф. 13, 45–46), как сокровищем, найденным в поле (Мф. 13, 44), и вечною жизнью–самой сутью, цветом и душою этого Царства. Но, совпадая в одном случае, живые понятия Царства, Церкви и Жизни расходятся в другом. Так, слова ή
βασιλεία, του Θεου έι>τό?
υμών εστίν — «Царство Божие внутри вас» (Лк. 17, 20–21) имеют двоякий смысл, и субъективно–этический (έντό?
υμών = в душах, в сердцах ваших, in animis vcstris), и объективно–религиозный (έντό$*
υμών = среди вас, между вами, intra ѵоѕ) (16, 59): в своем субъективном аспекте это место имеет в виду то, что «Царство Божие не пища и не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу» (Рим. 14, 17–18; ср. Кол. 1, 12–13; 1 Фес. 5, 5). Тут, конечно, оно не может быть отождествляемо с Церковью, ибо Церковь есть по преимуществу величина премирно- религиозная, объективная. Напротив, второй аспект разбираемого текста, видящий главный момент в объективном значении Царства Божия и, следовательно, толкующий έντό?
υμών как intra ѵоѕ, разумеет Самого Христа, как начаток Царства Божия, и в этом смысле Царство Божие тождественно с Церковью. И если некоторые притчи, говоря о Царстве Божием, прямо относятся к Церкви (такова, например, притча о поле, засеянном пшеницею, среди которого выросли плевелы (Мф. 13, 24–30); такова же притча о неводе, закинутом в море и захватившем рыб хороших и худых (Мф. 13, 47–48; ср. Мф. 13, 49 и др.)), то невозможность отождествления (16, 89, 90) терминов: Царство и Церковь «с наглядною очевидностью показывается невозможностью замены одного термина другим в большинстве изречений Св. Писания» (там же, 100). Нельзя сказать: «да прии- дет Церковь Твоя» вместо «да приидет Царствие Твое», как нельзя сказать «Церковь внутри вас» вместо «Царство Божие внутри вас» или «Царство Бога живого есть столп и утверждение истины» вместо «Церковь Бога живого есть столп и утверждение истины» (Деян. 20, 28) и т. п.
Итак, понятия Царства Божия и Церкви — подвижны и
поэтому нельзя огулом говорить о них ничего, кроме того, что они имеют между собою теснейшую связь. Для более определенного ответа необходимо тщательнее вглядеться в словоупотребление «Царство».
Царство Божие употребляется в Новом Завете в трех достаточно раздельных смыслах
[825].
1. «Царство Божие прежде всего есть совокупность тех, кто повинуется Богу или кто считается служащим Ему
[826], — это, вообще, целокупность людей, сблизи или издали окутанных излучением Евангелия. С этой точки зрения, неверные и равнодушные, присоединяются ли они к церквам толпы или к сообществам избранных учеников, — все те, одним словом, которые не отказались от христианства открыто, признаются членами Царства. Это — историческое христианское общество, такое, каким оно описано в притчах о плевелах и о неводе».
2. «Затем, Царство Божие есть совокупность тех, кто действительно принадлежит Господу и повинуется Ему» (см. Мф. 21, 31; 11, 12; 5, 20; 7, 21). Такова точная идея Царства–идея народа, Бог есть верховный повелитель которого и который безусловно повинуется воле своего царя: это есть царство идеальное, центр и принцип непрерывности царства исторического; это. есть также царство невидимое в том смысле, что к нему можно относить и ангелов и что те, кто принадлежит к нему, остаются неизвестными для людей и ведомы одному только Богу.
3. «Но собрание этих избранников не есть сложение изолированных учеников; это есть организованное тело, которое пользуется отселе и навсегда славными привилегиями: таким образом название Царства обозначает, наконец, в некоторых текстах блага, дарованные народу искупленных».
а) «На первом месте это–духовные богатства, которыми они владеют от щедрот Божьих, то внутреннее сокровище, которое не смогла бы отнять у них никакая сила мира. Когда Иисус восклицает, например: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5, 3; ср. 5, 10), то эта формула обладания обозначает менее сообщество служителей Христа, нежели прерогативы, которые к ним относятся: если бы Иисус хотел говорить о самом сообществе, то он сказал бы, что смиренные составляют часть Царства, а не то, что Царство им принадлежит. Впрочем, противоречие только кажущееся, ибо оба смысла объединяются в характерном речении Евангелия: «Кто не примет Царства Божия, как дитя, тот не войдет в него» (Мр. 10, 15), что означает, что надо в сердце свое принять благодать Божию, чтобы быть вчлененным в собрание верующих; другими словами, Царство Небесное делается историческим организмом не иначе, как под условием быть сперва внутренним состоянием, расположением души, аналогичным расположению ребенка, который подчиняется потому, что он верит, и потому, что он любит» (Мф. 18, 3).
б) «Итак, такое предание себя воле Божией несет в себе свое вознаграждение, и это воздаяние нисколько не ограничивается этим (actuel)
[827] миром. Так же и Царство, так понятое, не есть только сумма духовных благ, дарованных отныне верным, но также вечная слава, которою они будут наслаждаться когда-либо на небесах. Справедливые, — сказал Иисус, — «возлягут (seront ӓ table) с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном» (Мф. 8, 11; ср. 26, 29) — смысл обширный и богатый, в котором концентрируются, в высшем синтезе, различные обозначения, отношение которых мы установили. Царство, завершенное на небе, не есть ли, на самом деле, собрание истинных служителей Бо- жиих в обладании наследством, которое подобает им, и залоги которого они имеют уже на земле? И величают ли они также во веки веков милосердие своего Господина? (Первая идея: совокупность исповедующих.) Более того, если они прославляют хвалами своего Бога, то это потому, что они безусловно принадлежат Ему. (Общество истинных верующих: второй смысл термина.) Наконец, преобразованные чрез присутствие и чрез действие Господа, они наслаждаются невозмутимым счастьем, которое есть только излучение их жизни: в этом, третьем, смысле царство есть целокупность духовных и небесных благ, дарованных верным служителям, дележ которых будет вечною славою в святом общении и пред престолом верховного Царя».
«Такова ни с чем не сравнимая широта этой существенной формулы, которая резюмирует благую весть Евангелия (Мр. 1, 15)» (28, I, 388).
Отсюда делается ясным отношение Царства Божия к Церкви. «Врата небес открываются только изнутри», — говорит один исследователь (18, I, 52). Но, раз открывшись, они не могут и не должны уже закрываться. Росток, запавший в сердце, разрастается в дерево; напившийся от Христа сам источает реки воды живой (Ин. 7, 38); закваска, попавшая в тесто, подымает всю его массу. Слово Божие, наполнив душу, начинает множиться и развиваться в душе, переливаясь через край, и верующий, сам о том не думая, делается источником, центром и исходным пунктом благодатных воздействий на окружающих людей и даже на всю окружающую тварь. И он должен множить полученные им таланты. Он является органом совершения Царства Божьего, т. е. членом Церкви. В конечном состоянии Церковь и Царство Божие — это одно и то же, ибо Иисус Христос возглавит все (Εφ. 1, 10). Сейчас–это два круга, частью покрывающие друг друга. Только про некоторую часть земной Церкви можно сказать сейчас вместе с Деличем (цит. по 16, 130): «в великом, все собою объемлющем, круге грядущего Царства Божия круг Церкви находится в самом центре; точнее говоря, это можно сказать лишь про Церковь, но не про церковное человечество; церковное же человечество покуда есть поле, засеянное пшеницею и плевелами, невод с добрым и худым уловом, Жена, не дифференцировавшая еще на Блудницу и Невесту–Иерусалим. Эта Жена есть «матерь» грядущего Царства Божия и «Посредница»
[828] его; она Свята Начатком Царства Божьего в лице Главы Своей — Христа, но сама она, Церковь, не есть всецело это Царство, но только становится им»
[829].
«Историческая жизнь человечества началась вавилонским столпотворением (Быт. 11); она кончится совершенной гармонией Нового Иерусалима (Откр. 21). Между этими двумя крайними противоположностями, отмеченными в первой и последней книгах Писания, занял место процесс всемирной истории, символический образ которого дан нам в священной книге, могущей считаться переходом от Ветхого Завета к Новому — в книге пророка Даниила (Дан. 2, 37–38)» (13, 146). Но этот процесс в известный момент, в момент искупления человечества, претерпел перелом: в мир был введен совершенно новый фактор — Церковь. Теперь началось выкристаллизовыва- ние человечества около этого Бого–человеческого начала. Церковь явилась особым органом, чрез который полилась в мир духовная энергия, содержание которой — Вечная Жизнь. Вечная Жизнь — это и есть та Полнота, которою наполняет Христос Свое Тело — Церковь. Совокупность же всей твари, имеющей войти в Небесный Иерусалим, — это есть Царство Божие
[830].
ГЛАВА СЕДЬМАЯ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ[831] I
Теперь, разобрав по существу понятие Церкви, мы можем заняться разбором имени ее — имени субъекта в определении Церкви (Εφ. 1, 23 б). Впрочем, в настоящем догматико–экзегетическом исследовании не считаем возможным останавливаться на этимологии особенно подробно, тем более что подобные разборы можно найти в перечисленных выше источниках.
Русское слово церковь, равно как и славянские црква, црквь, циркевень; немецкое Кігсһе; английское church; шведское, финское, эстонское и др. kirka; англосаксонское сугісс; шотландское kirk происходит, по всей вероятности, от греческого слова κυροαχή
(подразумевается οίκία) или χυριαχόν (подразумевается
oLxLov) и означает, следовательно, в буквальном переводе дом Господний или жилище Господне, т. е. то именно, что у евреев звалось һеукһаі или beyt yahweh. «Слепое и неясное» слово Кігсһе Лютер (L. Wcrke, Ε. Α. 25, 354, 2 Aufl. S. 413 f.) производил от греческого κυρία, равнозначущего с латинским curia. В сущности это производство мало разнится от первого, но гортанная в конце слова Кігсһе и ему подобных указывает на первое производство, как имеющее несомненное преимущество пред вторым. Не вдаваясь в историю этого слова, заметим только, что любопытную игру слов делает св. Софроний, патриарх Иерусалим-· ский, насчет слова κυρ ιαχή. «Воскресенье, — говорит он
[832], — так называется потому, что в этот день воскрес Христос; а имя его, κυρί,ακή, значит исцеление от Господа, αχος παρά Κυρίου, так как в этот день Господь исцелил Адамову болезнь».
Таким образом, русское название Церкви получилось от места, где по преимуществу обнаруживается жизнь церковная, чрез расширение смысла слова; это же название сохранилось и за самим зданием. Напротив, в романских языках (да и в некоторых других) название для здания, Храма, возникло из сужения смысла у названия Церкви в подлинном смысле. А именно, греческое εκκλησία дало латинское ессіеѕіа, итальянское сһіеѕа, французское £glise, в переводе Библии Улфилы (Ulfilas) aikklesjo.
Однако греческие κυριακή и έκκλησία до известной степени тождественны между собою, — по крайней мере в некоторых случаях. Так, например, Лаодикийского собо- ҫа правило 28: Ьѵ τ οΖς χυριαχοΖγ η Ьѵ тасӯ εκκλησίας. А так как сама Церковь — εκκλησία есть в то же время храм, церковь -κυρ(,ακή, то возможно предположить, что первоначально эти слова были почти тождественны, тем более, что не было настоящих храмов в смысле зданий. Отсюда — возможность представить в следующей схеме развитие слова «церковь».
II
В самых беглых чертах мы набросали вопрос о новейших названиях для Церкви. Но наше дело — заняться греческим термином. При этом в своем изложении мы по преимуществу станем придерживаться соображений проф. Руд. Зома (все цитаты без ссылок–из него). Почетным названием первохристианской общины было название εκκλησία, полнее: εκκλησία του
Χρίστου и εκκλησία του Θεου
[833] (1 Кор. 1, 2; 10, 32; И, 22; 15, 9; 11, 16; Гал. 1, 13; 1 Фес. 2, 14; 1 Тим. 35, 15; Деян. 20, 28; Рим. 16, 16; 1 Фес. 1. 1; 2, 14; Еф. 3, 21; 5, 23). При этом употребление слова εκκλησία не есть особенность «Павловой школы», так как встречается в Откр. 1, 4; 1, 20 и др., Мф. 16, 18; 18, 17; Иак. 5, 14, и даже Вейцзэккер (Jarb., Ѕ. 481), который желал бы указать «его родину в павлинической литературе»
[834], сам ставит на вид, что слово εκκλησία имеет самостоятельное употребление в Откровении. Самое слово εκκλησία происходит от глагола εκ — καλέω — вызываю, выбираю, вызываю на собрание, созываю собрание и означает, следовательно, в буквальном переводе собрание, сходка, созванное множество народа, созванное общество, coetus, multitudo, conventus, Gemeindc, gahal и проч. В классическом греческом языке экклезия означает созванное глашатаем народное собрание свободных граждан (έκκλητοΟ, правящее народное собрание греческой республики. Никакое другое собрание не носило этого названия, не носило его и собрание союзов
[835]·. В послеклассическое время это выражение переносится на всякое народное собрание, также и на собравшуюся ради праздника или даже мятежа народную толпу
[836]. Но всегда остается прикосновенность к народному собранию.
К этому словоупотреблению примыкает образ выражения LXX
[837] и позднейшего эллинистического иудейства. В переводе LXX εκκλησία означает празднично собравшийся пред Бога народ Израиля («кагал»), безразлично, мыслится ли при этом действительное собрание или же идеальное единство Израиля (пред Богом). Экклезия эллинистически–иудейского словоупотребления — это народ Израиля, поскольку он народ Божий, избранный народ, в котором и чрез которого проявляется действенно сила Божия. «Община Израиля» называется в Ветхом Завете (в переводе LXX) попеременно
συναγωγή[838] и έκκλησία. Но уже позднейшее иудейство, по–видимому, сделало различие в употреблении обоих понятий, и притом так, что
συναγωγή стало обозначать общину больше со стороны ее эмпирической действительности, а έκκλησοα — больше со стороны ее идеального значения;
συναγωγή — это учрежденное в каком-нибудь месте общинное сообщество, έκκλησία же, наоборот, — община призванных Богом ко спасению, подобно тому как «кагал» — идеальная совокупная община Израиля: συναγωγή выражает только эмпирическую сущность дела, εκκλησία же заключает одновременно и догматическое суждение ценности»
[839].
Таким образом, между классическим греческим словоупотреблением εκκλησία и словоупотреблением εκκλησία у LXX разверзлась целая пропасть: в термин εκκλησία внесено было существенное новое, бесконечно более возвышенное содержание. «Отсюда возникло и словоупотребление христианской общины. Экклезия означает теперь новозаветный Израиль, новозаветный народ Божий, т. е. христианство (ср. Гал. 6, 16: «Израилю Божию»). В этом выражении заключено представление о народном (а не союзном) собрании нового народа завета (христианства), и притом представление о народном собрании пред Богом и с Богом. Тем, что собрание христиан называется экклезией, выражается не его действительная форма (многочисленность или малочисленность), но его духовная ценность: это есть то собрание, в котором действенно проявляется Бог (Христос) своими благодатными дарами, собрание избранных, собрание народа Божия».
«В греческой республике существует, разумеется, только единая экклезия: полное собрание всех граждан. Согласно словоупотреблению LXX, в свой черед, существует, конечно, тоже только единая экклезия: народное собрание Израиля. Согласно словоупотреблению христиан также должна быть мыслимой только единая экклезия: народное собрание всего христианства (Нового Израиля) в его целом».
«С первого взгляда новозаветное словоупотребление, по–видимому, противоречит этому заключению. Во всех почти случаях, где здесь встречается слово экклезия, оно, как кажется, означает местные собрания, а не все христианство (хотя слово экклезия неоднократно встречается в Новом Завете и для обозначения всего христианства: Мф. 16, 18; 1 Кор. 12, 28; Флп. 3, 6; Гал. 1, 13; 1 Кор. 10, 32; Εφ. 1, 22, 23; Кол. 1, 24, 25–вопреки утверждению Крауза и Вейсса)
[840]. Существует экклезия в Коринфе (1 Кор. 1, 2), и другая- в Кенхреях (Рим. 16, 1), третья–в Фессалониках (1 Фес. 1, 1) и т. д. — Отсюда — частое употребление множественного числа (1 Фес. 2, 14; Рим. 16, 4; 16, 16; 1 Кор. 7, 17; И, 16; 16, 19; 2 Кор. 8, 18, 19; Откр. 2, 7 и др.). Существует не единая экклезия христиан, но многие, бесчисленные экклезии в обширных пределах римского государства. Экклезиею (а не церковью) зовется, по–видимому, местная община· На этом основывается господствующее воззрение, по которому для первохристианского устройства имело основополо- жительное значение понятие местной общины (правовое понятие), а не понятие церкви, совокупной общины (духовное понятие)».
«Более того, не одна только совокупность христиан какой-нибудь местности, но даже просто домашняя община (христиане, собирающиеся обычно в одном и том же доме) носит то же название экклезии (Рим. 16, 4; 1 Кор. 16, 19; Флм. 1, 2; Кол. 4, 15; ср. Рим. 16, 14, 15)». «Но именно это последнее обстоятельство и наводит на правильное решение. Оно ясно показывает, что слово экклезия не выражает никакой определенной величины, никакого социального понятия (также понятия местной общины), но выражает единственно догматическое суждение ценности. Экклезия означает всякое собрание, представляющее в догматическом отношении, для веры, по своей духовной ценности, собрание христианства, собрание с Богом и пред Богом (Христом) нового народа завета». Дело происходит так же, как и с иудейским словоупотреблением. Отдельное собрание христиан, по исследованиям Гарнака
[841], зовется
συναγωγ–η. Выражением
συναγωγή христианская община характеризуется в качестве эмпирической величины, по своей внешней форме, в качестве собрания, выражением же εκκλησία (употребляемым почти всегда) — в качестве духовной величины, какой она является очам веры, в качестве собрания народа Божия. В основании такого представления лежит слово Господа (Мф. 18, 20): «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»· «Где Господь, Глава тела, там и христианство: где двое или трое собраны во имя Христа, там и народ Божий, новозаветный Израиль, там и все христианство со всеми выпавшими на его долю обетованиями, потому что Христос, Который всё во всем, посреди него. Где Христос, там и экклезия (народ Божий). Отсюда ставшее рано поговоркой положение: ubi tres, ibi ecclesia
[842]. Вера христиан видит в каждом собрании христиан духовно собранным целое христианство, народ Божий, совокупную общину. На этом основании всякое собрание христиан, великое или малое, сошедшееся во имя Господа, зовется экклезией, народным собранием новозаветного Израиля».
«Общее собрание христиан одной местности носит название экклезии (1 Кор. 11, 18; 14, 19, 23, 28, 35. Может быть, сюда же относится и Мф. 18, 17), потому что представляет собрание не этой местной общины, но всего христианства (Израиля). Совершенно так же и собрание домашней общины».
«Таким образом все же существует единая только экклезия, собрание всего христианства в целости, но у этой единой экклезии бессчетные формы явлений. Она является в собрании местной общины, но также и в собрании домашней общины и в бесчисленных других собраниях христиан, даже когда они и не представляют непременно собрания местной или домашней общины»
[843].
ПРИЛОЖЕНИЕ I Слово аγιος и его история[844]
Мы хотим показать на примере άγιος недостаточность одних только филологических изысканий, особенно когда дело идет о понимании Священных Книг. Доказательство будет заключаться в том, что мы выясним существенную разницу в словоупотреблении α γιος в языке классическом и библейском, несмотря на полное звуковое тождество.
Слово άγιος- самый редкий из пяти синонимов: ιερός‚ δσιος‚ σεμνός‚ άγιος‚ αγνός‚ которыми обладали греки для понятия святости, насколько они знали таковое; в библейском же греческом языке, напротив, — единственное слово, посредством которого выражается библейское понятие святости, пронизывающее все Священное Писание, — понятие, о котором с полным правом можно сказать, что в нем концентрируются основные руководящие принципы и цели Божественного откровения.
То, что в библейском смысле делает сущность святости, то именно не заложено ни в одном из перечисленных синонимов; это понятие выросло всецело на библейской почве, и для того, что греки в несколько подобном смысле чуяли и думали о святости Божества, равно как и для того смысла, в котором говорит о ней Священное Писание, греки не имели вообще никакого отдельного и определенного слова; а так как настоящего слова не хватало, то поэтому впоследствии пришлось употреблять άусоӯ чисто формально, наполнив и запечатлев его совершенно новым содержанием. Слово α γιος очевиднейше показывает на себе радикальное влияние откровенной религии, ее формующую и перестраивающую силу. А до этого влияния ‹гэґсоӯ безусловно лишено главного момента, которым мы характеризуем святость, — этического. Специалист по Гомеру Негельсбах (Nagelsbach, Homer. Theologia, 1, 12) говорит, что в гомеровский период нигде не говорится о святости, как о конститутивном элементе Божества, и богам никогда не придается определения, которое бы указывало на признание за ними святости, подобно как понимается Бог в Библии. Впоследствии (Nagelsbach, Nach Homer. Thcol. 1,28 ff.), хотя и приписываются богам все нравственные и онтологические совершенства, и у греков появляется сознание, что Божество не только внешне наказывает зло (например, ради порядка), но и внутренне ненавидит его, однако рядом со святостью Божество принимает в себя момент прямо противоположный, сатанинский, ибо Оно с враждебною ревностью смотрит на всякое величие, на всякое счастие, которое достается человеку сверх обычной меры. Человек (Theogn. 401), который petit virtutem ultra quam satis est
[845] ‚ подозрителен богам, и безмерность его стремлений — достаточное основание, чтобы низвергнуть его во грехи. Таким образом, несмотря на первоначальное сродство, библейское понятие о святости Божией образует диаметральную противоположность ко всем остальным, потому что античное представление о святости исключает любовь
[846] [847], а библейское — возникло и может быть понимаемо только в теснейшей связи с любовью Божественною. Но для нас особенно важно то обстоятельство, что для «совокупности онтологических и нравственных совершенств» (которую требуют для Божества Исократ и Платон
[848]), греческий язык не дает никакого простого и адекватного выражения.
В самом деле, ни одно из рассматриваемых слов:
ιερός, οσιος, σεμνός, άγιος‚ αγνός[849] ничуть не имеет этимологически или по словоупотреблению подобного содержания. Они могут употребляться для обозначения Божественной святости только формально, терминологически (так сказать, согласно заранее поставленному условию, но не сами по себе), и отсюда понятно, что наиболее редкое из них слово,
άγιος‚ как наименее связанное с языческими представлениями, послужило «наичистейшим сосудом» (das reinste ӥеїӓѕѕ) для нового вина Откровения; напротив того, чаще всего встречающееся в классическом греческом слово
ιερός совершенно исключено из библейской лексики, и причину этого нетрудно видеть в слишком большой крепости связей между словом и его привычным содержанием.
Как редко употребляется слово άγιος в классическом греческом языке, видно из того, что у трагиков, этого высшего пункта аттического словоупотребления, оно не встречается вовсе, за исключением одного спорного места (Acschyl. suppl. 558). Напротив того, ιερός совсем не употребительно в библейском греческом; у LXX оно столь редко, что эти переводчики сознательно избегают этого слова, называя святилище τό &γιον‚ τά αγια, των αγίων, ναός άγιος, тогда как апокрифы и Новый Завет обозначают его, как τό ιερόν. Только σεμνός в библейском греческом еще реже, нежели ιερός. Что же касается до δσιος и αγνός, то они имеют в нем определенно ограниченную область, гораздо более узкую, нежели в классическом греческом. Заметим прежде всего, что собственно культовое, следовательно, религиозное значение святости имеют ιερός и αγνός, а также &γι ος, где оно встречается; далее, только αγνός и σεμνός — предикаты богов, притом в таком смысле и таким образом, которые показывают, что святость в библейском значении не связывается с религиозными представлениями греков. “Οσιος говорится о том, что освящено божеским или человеческим правом, употреблением и обыкновением, но вовсе не имеет специфически религиозного значения. 4 Ιερός же относится к божественным, божественно освященным вещам, законам и т. д.
Наконец,
σεμνός (от корня σε/3) содержит основным элементом благоговейный страх, изумляющееся почитание и, соответственно, то, что производит почтительность и изумление. Σεμνός — эпитет богов и всего того, что богам принадлежит, от них происходит или состоит под их особым попечением. Но это слово совсем не свойственно библейскому языку: у LXX оно не находится, а в Новом Завете встречается только в четырех местах (Фил. 4, 8; 1 Тим. 3, 8, 11; Тит. 2, 2). Итак остаются:
ιερός, άγιος и
αγνός. * Ιερός, по своему основному значению, относится к «внешнему явлению божественной возвышенности и связывается с санскритским іѕһігаѕ — свежий, цветущий, по основному значению- сильный, мощный, великий. Это–предикат всего того, что стоит в отношении к богам, от них исходит, им посвящено, но предикат столь мало–определенного содержания, что совершенно в общем и нормальном смысле обозначает то, что божественно,
ϋειον: чрез
ιερά обозначаются даже вещи, которые мыслятся как непосредственное и первоначальное владение богов. '
Ιερός никогда не является определением самих богов; а когда оно применяется к другим объектам, то отношение к божествам мыслится чисто внешнее. Так, например, цари, стоящие под покровительством богов, носят эпитет
ίεροί (Horn. II. 2, 205), человек, посвященный в мистерии, — і
ερός αν&ρωηος (Aristoph. ran: 652) и т. д. Этический же характер библейского «святой» совершенно отсутствует в греческом
ιερός in ѵосс
ιερός nihil aliud cogitatur, quam quod res quacdam aut persona Deo sacra sit, nulla ingenii morumque ratione habita; imprimis quod sacris inservit (Tittm. Syn. N. T.)
[850].
Точно так же άγιος не является ни предикатом богов, ни употребляется о людях. Оно связано, по- видимому, с некоторым качеством ιερόν (т. е. ϋεΐον), открывая те стороны ιερόν‚ которые требуют от людей нравственной почтительности и благоговейного страха; на это же, между прочим, указывают встречающиеся комбинации άγιος и σεμνός. Этимологическое рассмотрение άγιος явно и с полной достоверностью доказывает, что ему присуще нравственно–религиозное благоговение (то же относилось первоначально и к αγνός), так что άγιος остается единственным словом, которое усвоено чисто религиозному понятию святости. Оно связывается с Άγος, αζομαι и производными. Глагол αζομαι (главным образом у Гомера и у трагиков) — редкое слово, служащее для обозначения благочестивого страха и благоговения пред богами и старшими, пиетета и равносильное σέβομαι. — "Αγος — посвящение, жертва (которое не должно смешивать с αγος — вина, проклятие, санскритское agas–досада, затруднение) имеет связь с санскритским jag, jagami, — sacrificio, colo; jagus, jagam, jagnam — жертвоприношение, ср. зандское yaz — почитать, приносить жертву: yazu — великий, возвышенный. Таким образом, оу есть то, что является предметом религиозного почитания. Тут–исходная точка для выбора этого слова с целью выразить библейское понятие о святости. И во всех остальных словах, принадлежащих тому же корню, этот момент содержится повторно.
Теперь нужно определить содержание и объем библейского понятия святости, перенесенного в греческий язык (у LXX при помощи Ӓусоӯ). Дальнейшее развитие этого понятия, не порывающее, впрочем, с LXX, представляет новозаветное пользование словом <5суіоѕ\
Прежде всего должно обратить внимание, что предикат святости, помимо применения к Богу, употребляется только относительно таких людей и вещей, которые или особенно присвоены самому Богу, или присваиваются Ему людьми. Прочим же субъектам этот предикат приписывается только произвольно, из-за особых отношений, в которых они стоят к Богу, т. е. приписывается чисто формально: святость вещей и лиц–от соучастия в святости Божией. Но что же высказывается о Боге чрез предикат святости? Этимологически,_ по–видимому, не выяснено бесспорно значение qados. «Вероятнейший взгляд–тот, _что глагольный ^корень gad as, который родствен с hadas (как qasab, qasaph с һасарһ и т. д.), приводится к корню dos, от которого происходит также dasa, и основное значение его надо аа принять enituit, блистая, выставился вперед» (Ӧһіег в Herzog's R-Encyklop. 19, 618). Напротив, Гофманн находит (Schriftbew. 1, 82 ff), что «qados есть то, что стоит вне общего течения, вне обычного порядка вещей», так что сродство, которое имеется между корнями hadas и qadas, соответствует сходству их значений: «оба обозначают инобытие (Anderssein); одно–в противоположность тому, что было, а другое — в противоположность тому, что обычно». «При позднейшей отвлеченности Бог называется святым, qados, как вполне особый, в Себе Замкнутый, каковой стоит в противоположности миру, к которому Он не принадлежит, — следовательно, в своей сверхмирности есть der Eigne, Само–сущий». Святость Бога есть отрицание всякого пантеистического отношения Бога к миру. Поэтому о сущности святости мы должны стараться заключить из исторического обнаружения и раскрытия ее. О ней заходит речь, когда мыслится присутствие Ягве среди Им избранного народа, историческое отношение к обществу взамен единичных обращений. В водительстве Израиля и спасении его, в милостях ему и праведном суде над ним Бог открывает свою святость. «Коротко говоря, Бог свят своей избирательной любовью, как Бог милости и спасения». Но было бы неправильно и односторонне отождествить святость Божию с его милостями или спасающею любовию (Меккен). Святость Божия не только ставит закон, но и судит его нарушение — начало примирения, в котором заключен и суд. И эта вторая сторона святости неразрывно соединена с первою. Святость Божия, которая столь мощно открывается в спасении Израиля, обусловливает и производит освобождение от грехов, ибо она стоит в решительнейшей противоположности против всякого грешного существа. Но нужен только толчок, чтобы спасительное откровение ее обратилось в свою противоположность. «Свет Израиля делается огнем, и целитель его — пламенем» (Ис.). Поэтому правильное отношение к святости Божией есть та связь страха и доверия, которая красною нитью проходит чрез все Священное Писание. Из сказанного явствует, что святость Божия есть начало, лежащее в основе и образующее все спасительное откровение во всех его моментах. Необходимо определить теперь эти моменты, чтобы сделать наглядною связь между ними. Делаясь законом для людей, святость Божия исключает всякое общество грешного человечества и, следовательно, необходимо является избирающей известную часть его. Очищение этой избранной части обусловливает возможность спасения, и в этих моментах: Исключение — Избрание — Очищение от греха — Искупление — заключается святость Божия. Таким образом, «святость есть одна только (lautcrc) чистота Божия, которая в себе и для себя исключает всякое общение с миром и только еще допускает отношение свободной, избирающей любви; в этой любви она оказывает затем освящение Народа Божия, очищение его от греха и искупление, значит — в примирении и искуплении и — соответственно — в суде открывающаяся чистота Божия» (Сгелісг‚Ј. «Бог есть свет» — вот новозаветное выражение для Божественной Святости (1 Ин. 1, 5).
Из того, что Святость священно–исторически открывается как освящение, следует также, в каком смысле свято или освящено то, что Бог присвоил себе чрез избирательную любовь, — а именно, что оно принято в общение Богом. Народ ли израильский, суббота ли, храм ли, священство ли называются святыми — всюду проходит одна и та же мысль, что они избраны, обособлены любовью Божиею, приняты в особое общение с Ним. Напротив того, если некоторый объект перестает быть избранным, то он лишается и святости.
Равным образом все то, что люди усвояют Богу, ставят в связь с Ним, определяют для Него, — то освящается, ибо и в этом случае обнаруживается исключающая и опять-таки избирающая святость Божия. Освящение, исходит ли оно от людей или от Бога, всегда заключает в себе обособление, — обособление всегда есть необходимый ргіиѕ
[851] или следствие освящения; но отождествление этих понятий повело было к такому опошлению понятий освящения и святости, что необходимо было бы вывести все священно–историческое содержание ее из почти ничего не говорящего основного понятия, не будучи притом в состоянии выставить что- нибудь помимо крайне пустой логической связи. Вообще говоря, «освящать» значит не только «обособлять», но «для Бога обособлять».
Обратимся теперь к новозаветному употреблению άγιος. Тут необходимо различать два случая:
I.
άγιος употребляется в Новом Завете о Боге и Духе Божием. Может показаться удивительным, как редко предикат святости высказывается в Новом Завете о Боге. Если исключить точные или приблизительные цитации из Ветхого Завета, то
α γιος о Боге находится только в Иоанновых писаниях. Но было бы в высшей степени поспешно и неправильно заключить из этого факта, что идея о святости Божией исчезла на почве Нового Завета. Напротив того, важность ее тут только и раскрывается вполне. Дело объясняется тем, что действие Бога на мир, так сказать, сторона Бога, обращенная к миру, как бы концентрируется в Духе — Освятителе, и «святой» является поэтому epitheton ornans
[852] этой Ипостаси.
II. ϋγιος говорится о людях и вещах, которые стоят в особых отношениях к Богу и являются либо особым органом Божественной воли, либо воспринимают спасение от Бога. Они же — и это объясняется всем предыдущим — называются «избранными», «возлюбленными», «верными» в своем избрании и т. д.
Антоний романа и Антоний предания[853] [854][855]
«C'cst comme une mort plus profonde que la roort… Ma conscience delate sous cette dilatation du ndant». G. Flaubert, «Tentation», p. 260[856]. I
«Больной, раздраженный, переживающий тысячи раз в день минуты страшного отчаяния, без женщин, без жизни, без самой ничтожнейшей из этих погремушек земной юдоли, я продолжаю мой медленный труд, как добрый работник, который, засучив рукава, с волосами, орошенными потом, ударяет по наковальне, не боясь ни дождя, ни града, ни ветра, ни грома»
[857] [858].
Так описывает Густав Флобер муки литературного рождения. А вот какими представляются они со стороны: «С наклоненной головою, с лицом и шеей, налитыми кровью, напрягая все мускулы, как атлет во время поединка, он вступал в отчаянную борьбу с идеей и словом, схватывая их, соединяя, сковывая, как в железных тисках, могуществом воли, сжимая и мало–помалу нечеловеческими усилиями порабощая мысль и заключая ее, как зверя в клетку, — в точную, неразрушимую форму»
[859] [860].
Это упорство в работе было неутомимо, и оно неизменно крепло с течением жизни. «Писать правильные и красивые фразы и писать их в углу, как бенедиктинец, отдающий жизнь труду, — вот литературный идеал Флобера»
[861]. И действительно, от того момента, когда произведение было зачато творческим воображением его, и до того, когда, во время тиснения, Флобер внезапно срывался с места, чтобы справиться в типографии, на месте ли какая-нибудь запятая; в продолжение кропотливой подборки материалов, когда приходилось перерывать целые библиотеки и когда груды выписок заваливали письменный стол, и затем, в продолжение порывистой борьбы с непокорной фразрй, в продолжение всползания на стилистические кручи, — все это время Флобер изнывал и, мучаясь, совершал своеобразный эстетический подвиг. Если же принять во внимание, что этому поэту пришлось писать всю жизнь без передышки, то станет ясно, что вся жизнь его была сплошной родильной мукой.
«Бывало Флобер говорил, — рассказывает про него один из ближайших друзей, дю Кан (Maximo du Camp), — «как я устал! Я написал двадцать страниц в этот месяц. Для меня это ужасно много… Я измучился…». И он не лгал: эти двадцать страниц равнялись ста пятидесяти, столько было в них поправок и переделок, которые, быть может, в конце концов, вос- становляли написанное первоначально. Он работал, как Пенелопа, уничтожая сегодня то, что делал вчера. И чем дальше, тем больше росло в нем это свойство… Он вздыхал и кряхтел над своими романами, точно делал тяжелую работу. Иногда, после какой-нибудь трудно дававшейся ему фразы, он, совсем разбитый, бросался на диван и засыпал в изнеможении»
[862].
«Надо знать, — подхватывает Золя, — чего ему стоила хорошо написанная страница, ему, добровольно иссушившему свое вдохновение в погоне за совершенством языка. Он мучился непрерывно, писал с таким трудом, что хоть выть от боли, ругал себя дураком, идиотом. Он нам часто повторял: «Каждую ночь мне хочется разбить себе голову»»
[863].
Упорство железное! Но, может быть, импульсы к напряженности творчества лежали в какой-нибудь из слабостей, в каком-нибудь из «отбросов человеческих чувств», как их называет Гейне, завладевших художником? Может быть, какие-нибудь чуждые литературе мотивы заставляли Флобера выносить терпеливо муки творчества? Что же это такое? Корыстолюбие? Погоня за комфортом и обеспеченностью? — Однако Флобер умер бедняком, разоренный своим великодушием, а при жизни его самый знаменитый из его романов, Madame Воѵагу, выстрелом из пушки взбудораживший всю Францию, дал автору всего 400 франков
[864] [865]. Тогда, может быть, тщеславие? Или честолюбие и славолюбие? — Однако делая насилие над самим собою, отдавал Флобер свои произведения под печатный станок; в обнародовании своих детищ ему виделась какая-то профанация, и потому много лет он выдерживал их в портфеле. А при обработке романа он делал своим «стремлением к совершенству», кажется, все от него зависевшее, чтобы произведение было понято только знатоками и литературными гурманами: натурализм, нравившийся публике, казался промахом автору, и, наоборот, совершенства стиля и объективность, ученость и экзотичность публику только отпугивали… Нет, при всем желании сыскать слабости, мы не нашли бы их: Флобер был по–своему безупречен. «Я рожден с массою пороков, которые никогда даже не показывались на божий свет, — пишет про себя Флобер
[866] [867]. — Я люблю вино, но я не пью; я игрок, но никогда не прикасался к картам. Распутство мне нравится, а я живу как монах». Но тогда, может быть, причиною его рвения были «идеальные порывы», мысль о прогрессе, о благе человечества? На такое предположение Флобер расхохотался бы своим громоподобным смехом: человечество было для него кучей глупцов, ненавидящих литературу, а мировая история — лишь цепью калейдоскопично — сменяющих друг друга забавных человеческих глупостей; стадо Катоблепасов
[868] — вот наиболее подходящая характеристика человечества с точки зрения нашего художника; cadem, sed alitcr- вот определение истории с той же точки зрения. Само собою разумеется, что не человечество было целью всех трудов.
Литература — это было единственное призвание Флобера, и в ней — единственный смысл жизни. Для литературы, как самоцели, он страдал, для нее он был одиноким, для нее лишал себя любви и семейности, удобства и обеспечения. «Он, — рассказывает Золя
[869] [870], — живет в безусловном уединении… У него нет страстей: он не собирает редкостей, не любит охоты и даже не гастроном. Он пишет свои книги и больше ничего. Он вступил в литературу, как в былые времена поступали в какой-нибудь монашеский орден, — чтобы сосредоточить в нем все свои радости и в нем умереть. Осудив себя на уединение, он пишет одну книгу лет десять сряду и кладет в нее всю свою душу». «…Для этого писателя, — говорит Брандес, — искусство писать было выше всех других. Мало того, что писательство было его безусловным и единственным призванием, — без всякого преувеличения можно сказать, что все его миросозерцание сводилось к следующей мысли:
мир существует для того‚ чтобы его описывать»
[871]. Бурже
[872] справедливо замечает, что ошибочно было бы видеть в этом одну только риторику. «К тому же, — добавляет он, — когда дело идет о человеке, жившем исключительно для литературы, риторика входит, так сказать, в область психологии, до такой степени близко связаны художественные теории с личностью писателя и способ выражаться–со способом мыслить».
Таким образом, благоговение к искусству и культ стиля скрывают в недрах своих гораздо более, чем простой перевес эстетической способности над нравственной или эмоциональной стороною духа. Оно несет в себе черты одержимости литературой. Поставление литературы во святая святых души, возведение ее до абсолюта, до самодовлеющего принципа указывает уже на нечто большее, нежели простой интерес, — на элемент религиозный, и писательство перестает быть просто работой; это — тайнодействие, это — подлинный культ. «Непреодолимое желание охватить нечто реальное и определенное среди обломков, которыми была завалена душа его, привело его к своеобразной теории слога. Этот отрицатель жаждал, однако, чего-то абсолютного. Не находя этого абсолютного ни вне своей личности, среди предметов, находящихся в состоянии постоянного крушения, ни в себе самом,…он вздумал поместить это абсолютное, в одно и то же время и вне своей личности, и вне окружающих его предметов, — а, именно, в «писаной фразе». Ему казалось, будто хорошо сделанная фраза представляет собою нечто как бы несокрушимое, и будто она способна на существование, не подверженное общему закону одряхления»
[873].
«Искусство, — пишет Флобер, — единственную вещь в жизни истинную и ценную, можно ли сравнить с земной любовью, можно ли предпочесть обожание относительной красоты культу вечной. Благоговение перед искусством — вот самое лучшее, что у меня только есть, вот единственное, что я в себе уважаю»
[874] [875]. И потому «старайся любить искусство, — пишет он в другом письме, к своей подруге, — любить ревнивою, страстною, самоотверженною любовью»
[876] [877]. А в искусстве «прежде всего- стиль, а уж потом правда»
[878] [879].
Это не было в устах Флобера гиперболой. Сам он, действительно, с головой ушел в красоту форм, не имея ничего «своего», потому что каждое мгновение, каждая мысль, каждое движение сердца безраздельно принадлежали литературе. «Он, — говорит дю Кан, — день и ночь думал о ней. Мысль, что он допустит какую-нибудь неточность в описании, причиняла ему настоящие страдания. Я был свидетелем, как он три или четыре раза ездил из Парижа в Крель, чтобы убедиться, насколько верно передал он какой-то пейзаж. В этом уме, где любовь к искусству доходила до какой-то хронической болезни, — все принимало ненатуральные размеры. Повторение нескольких гласных или нескольких слов в фразе могло привести его в отчаяние, и он повторял: «Какое ужасное ремесло!»»
[880]. Недаром Гюи де Мопассан острил, что Флобера мучает всю жизнь совесть за два родительных падежа, которые он поставил рядом в «Madame Воѵагу». «Он, — рассказывает Золя, — взвешивал каждое слово, вникал не только в его смысл, но и в его сложение. Избегать повторений, рифм, резкостей–было для него черн[ов]ой работой. Он доходил до того, что не хотел, чтобы одинакие буквы повторялись в фразе; часто какая-нибудь буква досаждала ему, — он искал выражений, где бы она не встречалась; а не то ему требовалось известное количество
ру чтобы придать звучность периоду». Когда требовалось отыскать нужное выражение, когда фраза капризничала, то Флобер, нетерпеливый в обычное время до шаржа, делался кротким, не ругался, по часам ждал, чтсібы язык соблаговолил даться ему в руки. Он говорил, что ищет иногда слов по целым месяцам
[881].
Отсюда делается понятно, что литературный неуспех и литературная неудача могли доводить Флобера до подлинного страдания, до рыданий и болезни, до мании преследования, когда ему казалось, что все политические события совершаются с целью повредить успеху его романов и что весь мир сошелся на «ненависти к литературе». Отсюда понятны вспышки страшного гнева на непонимание критиков, — Сильвестру
[882] он не шутя хотел оборвать уши. Отсюда понятно то упоение, та нега, то сладострастие, с которым он впивал в себя удачные места своих произведений, — то лакомство удачной фразой, которое могло заставить его забыть все прежние огорчения. Отсюда понятен и способ чтения: «Прежде, чем передать пакет в типографию, он любил читать из него отрывки в приятельских домах. То было настоящее торжество. Он читал очень хорошо, звучно, ритмично, произнося фразы, как речитатив, и отлично оттеняя музыку слов, но не фразируя их, без всяких оттенков… В сильных местах, когда он приближался к финальному эффекту, он усиливал голос и дҫходил до громовых раскатов, от которых дрожали стены…»
[883]Неужели на одном только признании ценности за искусством может основываться поклонение ему, как божеству? Неужели мучительный ритуал этого культа, нега и самоистязание жреца его производится одною только любовью к прекрасным формам? Неужели «стремление к совершенству» (Флобер просто заявляет «совершенству», по–видимому не допуская и мысли, что может быть какое-либо совершенство, кроме совершенства стиля и полноты знаний), заставлявшее Флобера расходиться даже с почитаемыми друзьями, например Бальзаком, есть все, что внутренне подвигало нашего писателя? Кроме искусства есть и жизнь, и, чтобы так отдаться искусству, необходимо оттолкнуть от себя жизнь, необходимо определить свое отношение к ней. Я хочу сказать, что культ искусства не есть простое увлечение им, — безотносительно ко всему другому. При таком культе нельзя просто ничего не думать о жизни и о мире; и Флобер, действительно, думал о них, что видно и по его романам, и по письмам. Это понятно: чтобы отречься от мира, от жизни и от человека, недостаточно быть только эстетом; надо сложить в себе определенное философское и нравственное отношение к миру, к жизни, к человеку и, на основании его, увидеть в них одни только средства для искусства, но никак не что-либо самоценное. Результат философских размышлений Флобера — признание подлинной реальности за одной областью эстетического, за эстетическими образами. «Меня считают влюбленным в реальное, а я его ненавижу», — восклицает он в одном из писем
[884] [885]. «Жизнь до такой степени отвратительная вещь, — сообщает он в другом
[886] [887], — что единственный способ переносить ее — это избегать ее. А чтобы избегнуть ее–надо жить искусством». У Флобера сложилась поэтому формула, по которой «искусство выше жизни»
[888]; а иначе эта же формула может быть выражаема так: «мир существует только для того, чтобы описывать его», или еще: «человек — ничто, произведение — всё»
[889].
Но для Флобера, как для поклонника именно искусства, эти образы не могли иметь никакого объективного бытия, потому что тогда безусловно–ценным являлись бы они, — они были бы некоторою жизнью, а искусство — только средством изображать их (так было, например, с Шиллером). Ценно же для Флобера не содержание произведения, в нем воплощаемое, а само произведение, и никаких платонических миров идеального Флобер не признает; недаром же он воспитался в среде позитивизма.
Итак, единственное, достойное преклонения, — это то, что только кажется существующим. Это — эстетическая иллюзия.
Религия Флобера есть возведение иллюзии в божество, а культ его — обнаружение эстетичности иллюзии. «Если вы достигнете того, — говорит Флобер, — что в событиях видимого мира будете видеть лишь иллюзию, требующую описания, и притом в такой мере, что все, даже ваше собственное бытие не приносит вам никакой иной пользы, и вы готовы на всякую жертву ради выполнения этого призвания, то выступайте на свет, пишите книги!»
[890]-одним словом, делайтесь жрецом иллюзии. Таковы ipsissima verba та- gistri
[891]; из них прямо видно, что у него есть вполне определенное мироотношение.
Под углом зрения наших переживаний божество Флобера определяется, как эстетическое; но в себе — оно некое μή оѵ›
[892]. Прекрасное с точки зрения искусства, оно иллюзорно с точки зрения жизни, с точки зрения нравственно–философской.
Есть только одно, и это одно — ничто; это — Великая Пустота, украшенная тысячами ярких красок и сочных звуков, лучистая, но вечно–мнимая, — Майя в радужно–искрящемся покрове
[893]. Есть одна только Майя — магия форм и ароматов, магия мятущихся «состояний», созидающая обольстительные призраки в клубах голубого фимиама, — трепет красоты на призрачности. Есть только nihil visibile
[894], мог бы сказать Флобер, повторяя известное определение кометных хвостов.
Эта теория в высокой степени была обусловлена его непосредственными переживаниями, и даже собственное «я» (что видно из переписки Флобера)
[895] [896] было только эстетической видимостью, как и все остальное, — одним из героев литературы и… не более. Читая его письма, ясно видишь, что человек не имеет чувства реальности,
не только реальности мира, но даже своей собственной· И в высшей степени характеризует его слово поэта:
…Мантру читал он, святое моленье; только прочел–и пред ним, как во сне, стали качаться, носиться виденья, стали кружиться в ночной тишине. Тени, и люди, и боги, и звери, время, пространство, причина и цель, пышность восторга, и сумрак потери, смерть на мгновенье, и вновь колыбель. Ткань без предела, картина без рамы, сонмы враждебных, бесчисленных «я», мрак отпаденья от вечного Брамы, ужас мучительный, сон бытия.
Бешено мчатся и люди, и боги…
«Майя! О Майя! Лучистый обман!
«Ж и з н ь для незнающих, призрак — для йоги
«Майя — бездушный немой океан!…
— только что для Флобера вместо Брамы была «Великая Пустота»·
Для Флобера нет ни эмоций, ни волнений; нет даже мыслей, а есть только «образы» и личины их, эстетическая мнимость, выкристаллизованная в звучные фразы. Флобер — «олицетворенный слог»
[898], и правильно Гюи де Мопассан, говоря о Флобере, счел нужным перевернуть известный афоризм Бюффона (le style c'cst 1'hom- ше) «слог — это человек», чтобы сказать: «человек — это слог».
Будучи, таким образом, абсолютным эстетизмом с одной стороны, религия Флобера является абсолютным нигилизмом с другой. Центр жизни, безусловное начало — это эстетическая иллюзия; но, если эстетичность иллюзии требует культа, то иллюзорность эстетического не может не вызвать глумления. И потому эстет- Флобер всюду сопровождается своею верною тенью, своим темным двойником, — Флобером–нигилистом. Если первый млеет в созерцаниях красивости иллюзий, то второй–с жестокой сладострастностью и само–мучительством впивается в иллюзорность красот. С беспощадностью хирурга рассекает он душу, ароматнейшие испарения идеального, лучшие грезы человека, чтобы обратить все это в груду мусора, в серую, мертвящую пыль ничтожества.
Но в это же время Флобер–эстет так нежно, так гармонично аккомпанирует стонам, что читатель готов отдаться ему и… очутиться на краю пропасти.
Но около пропасти — украшения. Будто мозаика из самоцветных каменьев Флоберовские пейзажи, и каждая фраза — яркий кусок драгоценного минерала. Каждая фраза — произведение искусства. Точеная, стройная, округлая, она кажется недосягаемым совершенством, поистине acre pcrennius. Фраза плотно сочленена с фразою, но, за сетью золотых кружев — бездна пустоты, бездна смерти и разрушения, глупости и самодовольства человеческого, — всюду проникающая, все–разъедающая пыль нигилизма.
На мир таинственный духов над этой бездной безымянной покров наброшен златотканый…
Таким образом, мировоззрение Флобера было в высшей степени определенно. И, поскольку искусство было для этого поэта не только вообще желательным, но и фактически направляло всю жизнь, постольку и мировоззрение его, — оборотная сторона эстетизма, — было не теорией только, но действительно–определяющим отношение его к воспринимаемому эстетически, — ко всему, так как что же Флобер не воспринимал эстетически? А там, где он воспринимает эстетически, мы имеем все данные искать и нигилизма, почему можно ждать (это есть на самом деле), что нет в романах его ни одного явления, которое не было бы высвечено мертвящим светом нигилистического отрицания, обращающим его в красивую нелепость, в изящную пошлость, в живописную мировую глупость. Произведения Флобера–это ирридирующая паутина, за которой сторожат добычу пауки: — Смерть и Уничтожение, Всеобщая Пустота и Мировая Глупость, и они заткали геометрически–правильным кружевом, трепещущим в легких дуновениях, вход в свой пыльный угол
[900] [901].
Приняв это к сведению, мы должны рассмотреть «Искушение Святого Антония».
III
Идея только что названной поэмы пришла Флоберу в голову в 1844 г., когда он, после обнаружения падучей, путешествовал с отцом по Италии. Это было, именно, в Генуе, во дворце Дориа, перед картиной Теньера или Брегеля
[902][903] — подробность характерная: произведение, где вся суть — чисто–внутренние процессы души, Поэма, которая, по–видимому, занята самыми безобразными явлениями сознания, тончайшим психологическим анализом и «микрологией душевной жизни» (как сказал по другому, правда, поводу Жан Поль Рихтер)
[904], зачинается от взгляда на картину. Однако было бы ошибкой видеть тут случайность. Способ зачатия виден в каждой детали плода его, Поэмы, потому что вся она — не что иное, как беспредельно развертывающееся полотно, цепь зрительных представлений и слуховых галлюцинаций.
В 1846 г., по всей вероятности, в конце лета, после неудачи с совместным писанием трагедии, Флобер засел за «Искушение Св. Антония» и стал изучать для него святых отцов, схоластику и ереси. Он весь завалился книгами, и друг его Луи Булье, видя это, со смехом говорил ему: «Смотри, не сделай из твоего Антония ученого мужа!..» По всей вероятности, Флобер работал над «Искушением» до 1848–го года; по крайней мере имеется письмо Флобера к дю Кану, датированное 48–м годом
[905]; в этом письме он жалуется, как много пришлось трудиться над Поэмой
[906].
Наконец, в конце сентября 1849 года Булье и дю Кан съехались в Красетӱ слушать только что законченное «Искушение», о котором до тех пор Флобер ничего не рассказывал.
«Флобер принялся за чтение. Оно шло тридцать два часа. Густав читал четыре дня, по восьми часов в день. Мы, — говорит дю Кан
[907], — условились не делать замечаний во время чтения. Флобер, приступая к нему, воскликнул, потрясая тетрадью: «Если вы не зарычите от восторга, значит, ничто не может восхитить вас!»». Но вся многоученость автора, вся красота гармонично- сплетенных фраз, вся величественность образов и весь жар чтения не могли растопить холодности слушателей. И, посоветовавшись между собою, они вынесли Флоберу беспощадный приговор об «Искушении»: «Мы думаем, что надо сжечь его и никогда не говорить о нем» — Почему? — Потому что, увлекшись романтизмом, автор потерял почву и сюжет затопил его со всеми его действующими лицами.
Сделав мучительное насилие над собою, Флобер согласился с их осуждением. «Он понял, что оно, хоть и жестко, но справедливо… Он сам после говорил: «У меня был рак лиризма; вы делали мне операцию, вы помогли мне, но я все-таки кричал от боли»».
Однако и после того он не мог расстаться со своим «любимым»
[908][909] детищем. «Гораздо позже, уже после громадного успеха «Мадам Бовари» и «Саламбо», он снова засел за «Искушение Святого Антония» и снова спрятал его. Наконец, в третий раз он принялся за него, сократил, выбросил лишние сцены и напечатал в 1874 г., посвятив памяти Альфреда Лепуатьена»
[910][911]. Но и то, даже после 30–летней обработки, Флобер все еще был недоволен своим произведением, и начал печатать Поэму, боясь, что иначе его потянет писать книгу заново.
Неизвестно, впрочем, не была ли последняя, 3–я редакция регрессом, — «неизвестно», потому что первые две, к сожалению, автор уничтожил, потеряв самообладание, во время нашествия пруссаков. Но, по словам Золя, сохранился отрывок из 2–й редакции
[912], именно, сцена, где является Царица Савская (напечатана эта сцена в «Artiste»), и она лучше позднейшей обработки того же места. По поводу этого Золя сравнивает биографию Флобера с греческой басней о нимфах, медленно превращающихся в камень, сначала от ног до талии, затем и с головою. Так же и Флобер превращался в прекрасную мраморную статую
[913]…
Написанное произведение не освобождало еще автора от хлопот; его надо было печатать. Характерна тщательность, с которой Флобер печатал его. «Он был крайне разборчив в выборе типографии, объявляя, что ни у одного парижского типографа не было хороших чернил. Вопрос о бумаге тоже сильно занимал его; он требовал, чтобы ему показали образчики, был очень придирчив, очень сокрушался также о цвете обертки и порою мечтал о небывалых форматах. Затем сам выбирал шрифт. Для «Искушения Св. Антония» он потребовал сложную типографию, всякого рода шрифты, и изо всех сил выбивался, чтобы найти то, что ему было желательно… Во время набора он волновался, но не потому, чтобы сильно исправлял корректуры, — он довольствовался корректурой в типографском отношении, потому что не согласился бы изменить ни одного слова, так как отныне произведение его казалось ему таким же прочным как медь и доведенным до возможной степени совершенства. Он тревожился только материальной стороною дела, писал по два раза в день в типографию и к издателю, трепетал, как бы какая-нибудь корректура не ускользнула от него, и иногда сомнение до такой степени овладевало им, что он брал карету, чтобы удостовериться, что такая-то запятая на своем месте. Наконец, книга выходила из печати, он рассылал ее друзьям, по заранее составленным спискам, из которых вычеркивал тех, которые его прежде не благодарили за присылку»
[914]. Последнее делалось не из-за самолюбия, а ради того, чтобы все относились к литературе почтительно.
Такова история книги, формировавшейся целые 30 лет. Она не имела успеха. Флобер удивлялся этому
[915]; он думал, что такое великолепное сочетание эрудиции с законченностью форм не может не стать популярным. Но неудача понятна; большая публика не в состоянии смаковать стилистические красоты Флобера, а ученость его публику только отпугивает. «Книгу тянет к низу от тяжести вложенного в нее материала. Это — не поэтическое произведение, а наполовину теогония, наполовину эпизод из церковной истории, и все это изложено в форме психологического анализа видений. В нем такая масса подробностей, которая утомляет, как восхождение на почти отвесную гору, некоторые места вполне понятны только для ученого, а для обыкновенного читателя почти недоступны. Великий писатель затерялся в отвлеченной учености и отвлеченной речи»
[916].
Вот почему величественный замысел и неимоверный труд остались не оцененными публикой, и «Искушение» прошло во Франции едва замеченным.
Сначала /ю публики было уверено, что заглавие надо понимать в шуточном или в переносном смысле; но, когда убедились в своей ошибке, то Поэму встретили шутками. Более тридцати лет надо было поэту, чтобы душу свою вложить в Поэму, а в двадцать месяцев у всех остряков составился небрежный отзыв: «Книга смертельно скучна. Как мог автор думать, что подобные вещи займут парижан!.. Нет, «Мадам Бовари» — другое дело… Зачем он не повторился, зачем не написал новых десяти «Мадам Бовари»?»
[917]С вполне определенной целью мы столь подробно говорили о творчестве Флобера и об истории «Искушения», этой «эпопеи, доведенной до лиризма»
[918]. На «любимом» произведении, на произведении, выношенном в духе в течение 30–ти лет, не могли не оттиснуться неизгладимым чеканом основные извивы Флоберовского склада. И в самом деле, холодный ветер абсолютного нигилизма более, чем когда-либо, насквозь провеивает это златотканое кружево совершенных фраз.
Чем более работал Флобер, тем скрупулезнее подбиралась историческая обстановка Поэмы; но тем неисторичнее становился дух произведения. Тщательно скомпонованная историческая видимость покрывает взгляды и убеждения, чувства и мысли не эпохи, а автора; блеском мятущихся образов застилается проповедь нелепости и тщеты всего сущего. Это — основное и принципиальное расхождение с историей и, зная Флобера и продолжительную обработку «Искушения», нетрудно предвидеть, что он заразил Поэму мертвящим холодом своего нигилизма
[919] [920] [921]. Вскроем же, воспользовавшись этой заметою, разбираемое произведение.
«Искушение Св. Антония», по содержанию своему, есть «великолепный кошмар»
[922], а по внешней форме, если угодно, это — один гигантский монолог.
Фиксировать еле видные мостики и переходы между отдельными вершинами ясно–сознаваемого, сфотографировать со всею сочностью полутонов теневое сознание, демонстрировать ad oculos
[923] раздвоение сознания — вот психологическая тема «Искушения». Другими словами, Флобер желает с тщательностью гистолога показать каждое волокно психического потока, в котором отдельные элементы, раз допущенные в поле внимания из пучины бессознательного, разрастаются, переплетаются, приобретают все большую и большую интенсивность, завладевают всем вниманием и, наконец, объективируются и проецируются наружу, переставая быть чисто–субъективными.
Нам здесь нет ни нужды, ни интереса определять, каковы метафизические и гносеологические условия такого качественного изменения в сознании, — качественного, потому что имеется переход субъективного в объективное. Нечистая ли сила, как метафизическая реальность, или сам субъект, как нечто сверх–феноменальное, или, наконец, совокупная деятельность обоих производит рассматриваемый поток «Искушения», — это не касается задач данного анализа, равно как вне его области остается и решение вопроса, насколько видения Антония подсудны психиатру. Нам важно только то, что все те образы, которые проходят нестройной толпою в Поэме, и Диавол с Иларионом для сознания Антония — несомненные реальности. И потому критику необходимо вглядеться, насколько верно Флобер воспроизвел дух, общую тональность и последовательность видений, могли бы они возникнуть у монаха ІѴ–го века, и явилось ли бы общее состояние такого монаха сходным с состоянием Флоберҫвского героя.
Сказано: дух. Это потому, что отдельные подробности по большей части заимствованы из аскетической литературы, почему и сравнивать их с памятниками аскетической письменности не представляет никакого интереса. Правда, что далеко не все заимствовано именно из жизнеописания Антония; но последнее обстоятельство не существенно: все равно мы не имеем возможности критически проверить достоверность жизнеописаний Антония Великого, а украшать житие одного подвижника подробностями из жизни другого — литературный прием слишком распространенный в свое время, чтобы можно было бы с ним не считаться и не относиться без полного доверия к житию, связывая каждое сведение именно с данным, а не каким-нибудь иным отшельником. Поэтому вопрос не в том, было ли все описываемое у Флобера на самом деле с историческим Антонием и, притом, именно, с ним, или нет, а в том, могло ли оно быть с каким-нибудь монахом ІѴ–го века, — монахом Антониевского типа.
Общий ответ на это будет таков: большинство камешков, хотя и не все, кропотливо набраны Флобером из исторических данных и потому сами историчны или, по крайней мере, не противо–историчны; но какая мозаика составлена из них — это дело иного рода, и можно сильно сомневаться, чтобы общая картина «Искушения» была исторической; скорее следовало бы сказать, что Флобер составил из фактов ІѴ–го столетия мировоззрение ХІХ–го, вроде того, как из почтовых марок составляют целые картины. Впрочем, к этому мы еще вернемся…
«Искушение» распадается на пролог и четыре главные части. Пролог, подобно глубоко–орющей косуле, обнажает и выворачивает подпочву для искушения. Первые три части соответствуют основным видам подвигов — против «похоти плоти», против «похоти очей» и против «гордости житейской» (1 Ин 2, 16). Последняя же часть является философско–аллегорическим послесловием и выражает, по преимуществу, миропонимание автора.
Действие Поэмы начинается вечером. Антоний — в пустыне, на горе. Солнце закатывается, и большой крест, стоящий у порога его хижины, бросает длинную вечернюю тень. Наблюдая, как скрывается за горизонтом солнечный диск, Антоний невольно вздыхает. Он не на несчастия или неудобства жалуется этим вздохом; нет, — только на отсутствие молитвенной бодрости. И этот вздох кажется столь законным, что, не будь всего последующего, мы бы так и считали его за святое недовольство самим собою, так бы и не увидали в нем помысла. Но там есть, однако, зародыш будущих искушений, как бы маленькая соринка в духовном оке. Это- чуть уловимое отдаление от Бога, чуть видный налет претензии на Него, и незаметная соринка скоро дает себя знать.
Невольно сравнивается настоящее с давно–прошедшим; кажется, что тогда сердце было исполнено благодати, свершение долга было легко, и молитва — пламенна. И тут, естественно, мысль пробегает сопутствующие обстоятельства; вспоминается, как слегла от огорчения мать, когда он уходил в пустыню, как звала его обратно сестра, как плакала Аммонария — девушка им любимая*. Заметим, кстати, что романтический элемент Поэмы–любовь Антония к Аммонарии–не имеет (по «житиям» Святого) никаких исторических оснований.
Далее
[924], по ассоциации, вспоминаются первые шаги на поприще аскетики, нападения демонов. Всплывают в сознании уроки по Священному Писанию, которые давал Антонию старец Дидим. Пробуждаются и встают в голове прогулки по Александрии, центру культурного мира, когда встречались ему с Дидимом всевозможные народности и сектанты различных толков — последователи Манеса, Валентина, Василида, Ария, старавшиеся победить в споре собеседников.
Чтобы избавиться от смущения, вызванного мыслями об их речах, Антоний нарочно заглушает эти мысли воспоминаниями о своей дальнейшей жизни, о том почтении, которое окружало его. Тут проскальзывает едва слышная нотка самодовольства, и от нее — естественный переход
[925] к своим подвигам, к тому, как он искал мученичества в Александрии во время гонения. Освежается особенно — яркая сцена гонения, врезавшаяся в память: женщина привязана к столбу и ее, нагую, бичуют воины. Антоний узнал в ней Аммонарию, и воспоминание об этом окрашивается легким оттенком чувственности. Чтобы подавить нечистое движение, Антоний старается думать о других своих действиях, об Афанасии и совместной борьбе с ним против ариан
[926].
Отсюда — невольный переход к мыслям о дальнейшей судьбе этого епископа, о его изгнании, и чуть заметное брюзжание слышится в жалобе на отсутствие от него известий. Антоний чувствует себя покинутым всеми, даже любимым учеником Иларионом. Вспоминаются его бесконечные вопросы и неутомимая любознательность.
И сознание мнимой обиды — мысль о покинутости невольно заставляет Пустынника обратить внимание на улетающий треугольник птиц. Антонию хочется и самому уйти из пустыни, лететь с птицами, самому увидать неведомые страны, о которых ему рассказывали, вероятно, в дни юности его. Он начинает жалеть о Нитрийской Пустыни, где имеются некоторые удобства.
Сделавши мысленно уступку в строгости жизни, Антоний невольно идет в своих желаниях далее. Ему хочется быть не монахом, а просто священником; тогда можно будет помогать бедным, совершать таинства и иметь авторитет в семьях. Уступки идут далее: ведь не все мирские осуждены. Ему хотелось бы сделаться грамматиком, философом, иметь учеников, получать лавры. Впрочем, все это вызывает гордость. Ну, — тогда быть солдатом; он вел бы жизнь подвигов и приключений, слушал бы рассказы от путешественников, и воображение Анахорета невольно переносится к тому, о чем ему рассказывали, — к танцам и пляскам далеких народов, к сценам семейности. Он видит себя вместе с другими людьми.
Тут
[927] его мысли обрываются появлением шакалов, но когда Антонию, в тоске одиночества, хочется погладить хотя бы шакала, то все они разбегаются, а пустынник получает повод излить свой ропот на скуку и тяжелую жизнь. С раздражением топает он ногой и восклицает устало: «Довольно! довольно!..» Но вдруг в глаза ему бросается тень от креста и, опомнившись, он хочет сосредоточиться на чтении Св. Писания. Заметим кстати, что в данном месте Флобер допустил маленькую неточность. Правда, что Антоний хорошо знал Св. Писание, изучив его, как это делается на Востоке, «с голосу» от родителей и на молитвенных собраниях. Но сохранившиеся свидетельства единогласно твердят, что Антоний был неграмотен, как неграмотно было и большинство местного населения. Кроме того, он не знал греческого языка, а знал только коптский разговорный, так что разговаривал с приходившими к нему через переводчика
[928].
Конечно, Флобер мог бы вместо сцены, которую мы сейчас изложим, поместить какую-нибудь другую, так чтобы у Антония тексты Св. Писания проносились в голове. Но, вероятно, Флоберу было жаль пожертвовать эффектной картиной, в которой ветер переворачивает листы Библии, а, во–вторых, ему было важно перед читателем демонстрировать, какие внешние факторы создают в дальнейшем галлюцинацию. Если бы тексты проносились в сознании пустынника, без видимых внешних причин, то, с точки зрения психологических взглядов Флобера, надо было бы указать, какие же факторы внешние вызывают это воспоминание текстов Писания, и почему вспоминаются именно они, а не какие-либо другие.
Как бы там ни было, но Флобер заставил своего Антония быть грамотным и читать Библию.
Библия открызается на ряде мест, из содержания которых потом складываются галлюцинации Антония. Это — лейтмотивы будущих видений, абрисы, на которые потом будут положены краски.
Заметим, кстати, что вообще контрапунктическая обработка образов, законообразная повторяемость их все с большей полнозвучностью составляет характерную новизну «Искушения» и одно из главнейших эстетических достоинств этой Поэмы; однако критика почему-то не обращает внимания на эту сторону Флоберовского творчества. Такая обработка и введение лейтмотивов (напр. упоминание о тени креста, об изменении роста Илариона и т. д.) ‚ — которая независимо от Флобера и под влиянием Вагнеровской музыки гораздо сильнее и сознательнее проведена впоследствии творцом четырех «Симфоний», поэтом Андреем Белым
[929], быть может, самым оригинальным явлением современной русской литературы, — у Флобера является очень важным нововведением, определяющим собою весь строй Поэмы… Но вернемся к ее содержанию.
Сначала Антонию открывается место из Деяний Апостольских, именно, описание известного видения Петра, когда ему Господь приказал «есть»
[930]. И Антоний делает сопоставления со своим положением. В это время ветер начинает листать страницы, и пустынник, пробуждаясь от своей задумчивости, читает о том, как иудеи перебили своих врагов
[931]. Это настраивает его кровожадно· Тогда, чтобы подавить в себе жестокое настроение, Антоний снова берется за Библию, и она открывается на словах о Навуходоносоре, о том, именно, как он поклонился Даниилу
[932]. В Антонии пробуждается тщеславие, — очевидно он себя ставит на место Даниила, — и мстительно–радостный смех при мысли о последующем наказании царя. Потом, глаза натыкаются на место о богатствах и роскоши Езекии
[933]. Антоний мысленно обозревает их, и, по ассоциации, переходит к истории Соломона, которую и разыскивает в Библии. Но тут он наталкивается на рассказ о Царице Савской и ее загадках
[934]. Мудрость Соломона он объясняет себе, как следствие магических знаний царя, и тогда начинает мечтать о магии. Диавол, подстерегающий его, пользуется этим моментом слабости и дает о себе знать движением тени. Антоний пугается, и затем, по ассоциации, вспоминает о прежних явлениях к нему Диавола и о том, как он прогонял его. Отсюда — невольный переход к другим своим подвигам. Начинаются само–смакование и воспоминания о тех почестях, которые ему довелось испытать. Но… теперь их нет, как нет поклонников и нет подношений. Антоний жалеет о своем бескорыстии и, по контрасту, вспоминает вдруг о роскоши и почете, которыми окружены были никейские отцы
[935]. Разгорается злоба на них, вспоминаются оскорбления, действительные и мнимые. Ему хотелось бы иметь влияние на императора, чтобы изгнать своих врагов, чтобы заставить всех их страдать, потому что он сам страдает. И воображение, по контрасту, рисует ему кушанья, которые бы утолили его голод. Потом (это известная психологическая связь) «чревобесие» сменяется припадком похоти, распаленной в почти галлюцинирующем от голода сознании. Ему мерещатся сладострастные картины, кажется, будто вдали звенят бубенчики. «Это — едут на мулах какие-то женщины», — думается ему. Антоний стоит на волосок от галлюцинаций, но, увлекшись образами распаленной фантазии, призывает едущих, и звук собственного голоса на мгновение приводит его в себя, отрезвляет его. Но–только на мгновение· Образы принимают все большую интенсивность, пластически отделяются от фона чистой субъективности, и в модуляциях ветра Пустыннику слышатся голоса — отзвуки всего того, что скрывается в глубине сердца
[936].
- Хочешь ли женщин? — кричат они.
- Или, скорее, большие кучи денег.
- Сверкающий меч.
- Весь народ удивляется тебе.
- Засни.
- Ты их удавишь, ты их удавишь!
Как во сне, так и тут злые помыслы сердца объективируются, хотя и не вполне еще; получают реальность прежние желания. Вся действительность преображается, кривая пальма превращается в женщину, Библия — в птичье гнездо… Антоний хочет избавиться от этого, тушит свой светильник, но тогда проносится ускоряющимся потоком ряд образов, — «толчками» (известный психологический факт). Они внезапно являются, потом бледнеют, заменяются новыми, осаждают Антония. Ему кажется, что «все существо его расходится», и от голода он падает без чувств на циновку. Так заканчивается пролог. Мы столь подробно изложили эту интродукцию к искушению потому, что все дальнейшее представляет только объективацию этих субъективных состояний. Нельзя не отметить попутно необыкновенной точности всего описания и согласия его не только со святоотеческой аскетической, но и с современной психопатологической литературой.
В последующем раскрываются и проецируются наружу те помыслы, которые в интродукции были чисто- субъективными. Некоторые из состояний сознания, некоторые волокна всей ткани отделяются от общего фона, получают «телесность» и предстают сознанию, как самостоятельные существа. Таково общее движение действия.
Появляется Диавол, и наводит на Антония сновидения. Заснувший Антоний видит, что он едет по Нилу. По всей вероятности это — соединенное действие жажды и ощущения сырости от пролитой воды.
Антоний просыпается
[937]; его мучает жажда, и язык горит. Но шакалы, как оказывается, разбили его кружку, съели почти весь хлеб, а бурдюк оказывается пустым. Антонием овладевает бешенство, и тогда появляется стол, покрытый всевозможными яствами. Количество блюд растет, пища шевелится, стараясь привлечь к себе внимание Пустынника. Он хватает хлеб, но взамен взятого появляются новые. Тогда Антоний соображает, что это–дары Диавола, и отпихивает ногою весь стол. Все разом исчезает… Начинается искушение сребролюбия
[938]. Антоний находит под ногами у себя кубок, и в нем–золотую монету. Доставая ее, он замечает, что появились новые. Потом начинает течь каскад самоцветных каменьев, и, опьяненный всеми этими богатствами, искрящимися и играющими, Антоний пытается обнять их, но они исчезают…
Тогда охватывает его отчаяние, что он снова поддался искушению. Он, проклятый, хотел бы убить себя. И услужливо подвертывается на глаза кинжал. Антоний в третий раз поддается, бросается на кинжал и застывает в каталепсии.
Помыслы его принимают окончательную объективность и, взамен иллюзий, смешанных с обычными восприятиями, сознание наполняется одним сплошным наваждением.
Антоний видит себя в Александрии. Он попадает в толпу монахов, избивающих ариан
[939], опьяненных кровью и жестоким мучительством, фанатичных до одержимости. — Это, вероятно, объективировались воспоминания о его собственных столкновениях с арианами; так — с психологической стороны. Как материалом историческим Флобер воспользовался известным случаем, происшедшим в 399 г., когда египетские монахи–анфропоморфисты, раздраженные склонностью александрийского архиепископа Феофила к оригенистически–абстрактному пониманию Божества, целою гурьбою ворвались в Александрию, производили здесь беспорядки и только благодаря находчивости Феофила успокоились и ушли из города. — Антоний опьяняется кровью, — кровавожадные инстинкты прорвались наружу. И, удовлетворив их, победив своих врагов, Антоний видит себя первым советником императора, видит в унижении никейских отцов
[940]. Но честолюбие рисует новые образы, и помыслы создают ему картину На- вуходоносорова пира, кощунств и горделивости земного полубога. Антоний сам становится Навуходоносором;. ему хочется наглумиться над своими приближенными; он становится на–четверинки и мычит по–бычьи. Но, раненный в руку камнем, он приходит в себя и пробуждается.
Чтобы успокоиться, он бичует себя, но, по ассоциации, вспоминает о бичевании Аммонарии, которое он видел когда-то в Александрии. И тогда помысел честолюбия заменяется похотливым само–мучительством, а сладострастное услаждение болью влечет естественно новое искушение, — чувственности.
Разгоревшийся помысел создает новую галлюцинацию· Царица Савская, богатая и прекрасная, могущественная и много ведающая в тайнах вселенной, полная роскоши и неги, старается соблазнить его. «Фразы ее звучат странной музыкой, звуком кимвалов, скрытых за пурпурными драпировками»
[941]. Но богатые дары, красоту и роскошь, любовь царицы и все тайны Востока отталкивает Антоний, а Царица Савская удаляется со всем своим кортежем.
Заметим характерную подробность: раньше видения исчезали, теперь они удаляются, как это происходит в «реальном мире». — Относительно последнего эпизода можно сказать, что в житиях Антония мы не находим именно такого случая; но, за учетом в яркости красок и блеске подробностей, подобных случаев во всевозможных житиях, да и в Антониевском, находится достаточно.
Так заканчиваются искушения, направленные к похоти плоти и похоти очей. Они не затрагивают идеальных запросов непосредственно, не разрушают их, но имеют стремление заглушить их и задавить плотью: непосредственное их отношение — к плоти и к ее похотениям. Дальнейшие искушения имеют целью разрушить самые порывы духа к идеальному, расслабить человека, вводя в него яд скепсиса и гордыню пред Абсолютным. Но, прежде чем приступить к ним, остановимся несколько на предыдущем.
Мы хотим, именно, еще раз обратить внимание на прозрачность психологического анализа. Флоберу хочется представить душу, как механизм, и действительно, тончайшие нити, связующие «колесики», мельчайшие детали «механизма души», нежные «пружинки» — будто под хрустальным колпаком, и это — без навязчивости, без схематизирующей утрировки, без антихудожественных и неуместных подчеркиваний и преувеличений. Мы видим, как рождаются образы из пучины сублиминального сознания. Сначала–это мелькающие и быстро–уходящие размышления о былом; одно сцепляется с другим, одно подталкивается другим. Подогреваются эмоции, яркость воспоминаний растет. Они делаются длительнее и навязчивее, и постепенно завладевают полем внимания; сознательная же жизнь соответственно этому слабнет. Образы пережитого комбинируются, приобретают все большую красочность и живость, все навязчивее приковывают к себе внимание, и сознанию все больше труда надобно, чтобы отгонять их. Первоначально разрозненные и мимо–идущие, они как бы слипаются между собою, образуя агломерат, и связь последнего крепчает. Потом тот или другой из них отрывается от общего фона и проецируется в какое-нибудь из данных в этот момент восприятий, сливаясь с ним, но не отождествляясь — факт известный в психопатологии и психиатрии
[942] [943]. Потом, наконец, образы эти достигают полной объективности и проецируются наружу самостоятельно, получая характер вполне живой действительности. Количество отдельных элементов галлюцинации, многообразность их все возрастает, потому что за каждым, как за магнитом, опущенным в картуз гвоздей, тянется пучок ассоциаций из области бессознательного; воля слабнет, разум цепенеет, потеряв власть над своим содержанием. Так происходит дело, пока, наконец, все образы не сольются в один непрерывный поток лиц и событий, не сделаются единственной фантастической действительностью. Происходит то же, что и с Гётевским «учеником», смогшим вызвать деятельность духов, но не умеющим прекратить ее
[944].
Нельзя не подивиться мастерству, с которым Флобер раскрывает эту последовательность в объективации, эту борьбу изнемогающего сознания с копошащимися в области подсознательного образами и идеями, — борьбу Зевса с ворочающимися в Тартаре Циклопами. Изображаемый поэтом переход от простых воспоминаний к подлинным галлюцинациям так заразителен, что, читая книгу впервые, сам доходишь почти что до галлюцинаций. А диалог с Царицей Савской так осязательно–жив, что, кажется, видишь всю сцену до мельчайших подробностей.
Но тут приходится отметить одну особенность, которой мы еще коснемся впоследствии. Это — невольная модернизация прошедшего. Особенно ясно (из рассмотренных сцен) она проявляется именно там, где образы пластичнее всего — в столь восхищавшей Золя сцене с Царицей Савской.
Царица окружена всею характерною для древности обстановочностью, которую только можно было сыскать в ученых диксионерах и энциклопедиях, в многотомных трактатах и специальных монографиях· Но, вглядываясь в обстановку пристальнее, мы невольно улыбнемся: да ведь это все — бутафория, и Царица столь же мало Царица Савская, как и ее автор — Савский Царь. За древне–восточными нарядами скрывается не чувственная, неподвижная и беспощадная восточная повелительница, а просто легкомысленная, вертлявая и довольно безобидная француженка, нечто вроде m-lle Blanche (из «Игрока» Достоевского), т. е. достаточно буржуазная и не находящая в себе силы соблазнять. — Мы указываем на эту неисторичность только для примера и, чем далее, тем, по существу дела, историчности делается все меньше и меньше…
«Dilatation du ndant» — «расширение небытия» — вот великолепная характеристика второй части «Искушения» словами Антония. Маленьким и жалким карликом с большой головою выступает вначале Иларион, символ этого расширения, и светлым гигантом покидает он Антония, вручая его для дальнейшего подавления ужасом небытия самому Диаволу. Иларион, промежуточная инстанция между Антонием–религией и Диаволом–позитивизмом, — это объективировавшаяся жажда знать, ненасытная и неутолимая, желание узнавать без конца, никогда не останавливаясь и не полагая себе границы, бесцельно и безыдеально идти все вперед, чтобы становиться «как боги», чтобы имитировать Бога количеством познаний. «Кто ты?» — спрашивает Илариона изумленный Антоний в конце длинной цепи галлюцинаций. «Я — наука», — отвечает Иларион. Но это–не верно; он–не наука, он не «цельное знание», внутренне организованное, внутренне стройное. Он–скепсис, не имеющий иной цели, кроме разложения идеальных запросов человечества; он–позитивизм, он — мефистофелизм, как универсальная пошлость
[945], все разлагающая, но ничего собственного не имеющая, все разъедающая, выщипывающая бессистемно там и тут куски, но взамен ничего не созидающая и не хотящая созидать. Стоит только обратить внимание на аргументацию Илариона — если только можно называть таким именем его софистические выходки, — чтобы убедиться в правильности такого понимания. Нигде он не рассматривает дела по существу, все аргументы его — argumcnta ad hominem
[946], причем чуть ли не в каждом своем положении он противоречит предыдущему. Единое в его речах — только одно: во что бы то ни стало уничтожить всякое чувство истины и заставить Антония сказать: «Правды нет, и она не нужна», заставить его принять серьезно Ницшевский вопрос: «На что вам истина?»
[947][948]Иларион — не наука, а софистический скепсис, паразитирующий так часто на науке, — софистика, воспитанная религией, потом от нее ушедшая, чтобы набраться сил для бесконечного резонерствования и, если не качеством своих речей, то их количеством обессилить свою воспитательницу.
Вся эта часть задумана Флобером величественно и глубоко, но, как бы ни были исторически правдивы отдельные детали, общая мысль этой части стала возможна только в XIX веке, после успехов науки, потому что на ней только расцвел позитивизм паразитическим цветком, как гигантская грибообразная Raphlesia Arnoldi
[949], надламывающаяся от собственной тяжести.
Цель Иларионовского визита — подавить, как сказано
[950], чувство истины в Антоние, заставить его почувствовать химеричность самой идеи истины и тем вконец расслабить твердость духа, даваемую христианством. Но ему надо для этого втереться в разговор, Антоний же не доверяет ему и инстинктивно побаивается. Тогда Иларион своим всезнайством доказывает тождество свое с учеником Антония. Чтобы вызвать Антония на разговор, он подходит к нему с лестью. Антоний начинает оспаривать, быть может, не без желания быть побежденным: он не указывает прямо на свою греховность, сравнивая себя с нормой, и делает лукавство, отступая от созерцания одного только Бога. Он упускает из виду Абсолютный Идеал и начинает сравнивать себя с людьми, с не–безусловно совершенными. Иларион, конечно, пользуется этим и, собирая факты несовершенства, доводит Антония до самодовольной улыбки над Афанасием, которого он только что ставил идеалом. Посеяв самодовольство, искуситель хочет отклонить его от подвижничества. Мы не можем, да и не находим нужным прослеживать сеть софизмов, которыми Иларион старается опутать Антония, на каждом шагу противореча самому себе и только нападая с разных сторон на слабые места. И, когда Антоний, не зная, что отвечать, зажимает уши, то Иларион вырастает и делается все авторитетнее. Он хочет теперь подойти со стороны теоретической, разрушить самые дорогие убеждения Антония, указавши последовательно на необходимость «критики», на противоречия Писания, на кажущиеся нелепости его. Это–собственные мысли Антония проецировались наружу: «оцепенелые или бешеные, — говорит он, — они остаются в моем сознании. Я их подавляю, — они возрождаются, душат меня; и я думаю иногда, что я проклят».
Последнюю сцену едва ли можно считать исторически правдивой. Во–первых, Антоний никогда не занимался филологическим анализом Св. Писания, да и вообще монахи смотрели на Св. Писание исключительно со стороны нравственной и мистической, а не историко- фактической. Во–вторых, за редкими исключениями, критичность филологическая не была в духе эпохи, и верили без разбору не только Св. Писанию, но и любой сказке.
Потерпев неудачу на одном, не отклонивши Антония от Бога, Иларион, однако, расслабил его твердость и потому может перейти к новому нападению. Общая мысль новых искушений такова: как в ортодоксии — внутренние противоречия, так же и в самом христианстве — множество взаимно–исключающих сект. Каждая из них считает себя за носительницу подлинного христианства; каждая из них имеет такие же доказательства своей истинности, как и ортодоксия; у каждой–свои мученики, свои пророки, свои писания, своя церковь, свой культ. Каждая из черт ортодоксии, которыми она превозносится, в более ярком, подчеркнутом виде может быть найдена у одной из сект, доводящей ее до полной резкости. На каком же основании надо в Христа верить именно так, как делаете это вы, православные, почему надо вести себя именно так, как вы, а не иначе. Ты хочешь верить во Христа., Но как в него верить?
И, показав Антонию вереницу сект, Иларион идет далее. Проходят в видении соперники Христа: гимносо- фисты, Симон–маг, Аполлоний Тианский, наконец, Будда
[951]. И невольно Антоний усматривает в них черты сходства с Христом. У них также были искушения, подвиги, чудеса и знамения. Почему же именно Христос, а не они? В чем же Его преимущество? Форм религиозного сознания много… В таком случае, может быть, необходима религия вообще? Та или другая?..
Но тогда проходят новые видения. Тянутся одни за другими боги умершие и умирающие, сначала смешные и уродливые, потом прекрасные обитатели Олимпа. Их утомительно много; кажется, нельзя сосчитать эту вереницу постаревших небожителей. Вавилонские, персидские, сирийские, египетские, греческие и римские боги, жалкие, уходят в бездонность Времени. У каждого из них был свой культ, свои мифы, свои поклонники, свои жрецы и свои храмы. И вот, одни за другими гибнут они, одних за другими проедает ржавчина Времени. Проходят, замыкая процессию, домашние лары и Крепи- тус, бог чрева. Последним говорит в ударах грома «Голос». Это–Тот, Чьҫ имя — священная тетраграмма. Это–Ягве Элогим последним уходит в ту же тьму, куда скрываются и все боги. Водворяется глубокое молчание Вселенной, и уходит даже Иларион, «преображенный, прекрасный, как архангел, светлый, как солнце, и столь огромный, что Антоний закидывает голову, чтобы видеть его». И, уходя, он сдает Антония на руки Диаволу.
Все то, что было изложено до сих пор, не идет вразрез с историческими данными, хотя и не имеет в них прямого подтверждения себе. Если судить по «Жизни Антония»
[952], написанной Афанасием, то у Антония были значительные сведения по языческой религии и мифологии; невероятного тут, впрочем, ничего нет, т. к. в эту эпоху умирания язычества, когда закончился синкретический процесс, сведения такого рода были весьма распространены в самых широких кругах. Но далее начинается у Флобера полное отступление от историчности, даже со стороны чисто–фактической.
На видения, вообще говоря, смотрят различно, и мы вовсе не имеем намерения отрицать возможность «видеть» нечто большее, чем простую комбинацию прежде пережитого. Однако Флобер, исходя из данных позитивизма, отвергал такую возможность и потому в своем «Искушении» тщательно вскрывал со своей точки зрения все видения, предварительно показав или сказав о переживаниях–элементах, из которых они составляются.
Это, впрочем, стремление вполне законное в художнике; ведь если бы он признал возможность видений, так сказать, сверхисторических, то этим самым он заявил бы, что видения ХІХ–го в. могут быть такими же, как и видения ІѴ–го, и наоборот; но тогда был бы потерян всякий исторический колорит, всякая историческая перспектива; тогда не имело бы смысла заниматься тем или иным веком. Художник, раз принявший для своего произведения форму визионерную, эстетически вынужден принять и требование, чтобы каждое видение слагалось из элементов, доступных восприятию из исторической среды для «видящего» лица, — конечно, если только он хочет оставаться исторически–колоритным. Кроме того, он должен показать, откуда именно берутся из среды элементы галлюцинации!
И действительно, все видения Антония — только сгущенные и усложненные воспоминания, получившие необычайную яркость и объективность. Но с рассматриваемого места эта правдивость галлюцинации прекращается, потому что Флобер заставляет Антония узнавать то, чего он н е мог ранее знать. Идеи, явившиеся лишь после эпохи Возрождения, идеи Бруно, Кампанеллы, Коперника, Галилея, ряд открытий географических и астрономических, система Ньютона, наконец спекуляции Спинозы, Юма, Канта и позитивистов, сквозящие в этой части «Искушения», были слишком чужды античному миру, чтобы Антоний мог пережить их, хотя бы в галлюцинации; я говорю: мог в разъясненном выше смысле
[953].
Диавол подымает Антония над землею, и рвутся тесные горизонты античного мировоззрения. Океан–только лужица, а земля — шарик, носящийся около солнца. Нет планетной гармонии в этих вечно–немых, ледяных пространствах. Холодный восторг — восторг пред бесконечностью и безмерностью охватывает Пустынника и, вне себя, он кричит, опьяненный полетом: «Выше! Выше! Всегда!» Но глубже и глубже разверзаются небесные пропасти, беспредельно тянется мир. А Диавол по- спинозовски начинает доказывать, что все это безмерное величие бесцельно. Бог–только субстанция мира, ему имманентная. Тщетны моления к ней, не нужны благодарности. Все они–обман. И, уничтожая остатки мировоззрения, Диавол растет во вселенной, как ранее рос Иларион. Ужасный холод — холод безнадежного одиночества — охватывает Антония, и он — один в опустелой Вселенной. Но Диавол летит дальше, дальше, и в его диалектике спинозизм разрешается в позитивизм. Ведь субстанции мы не знаем, — мы знаем только форму бытия. Но форма может быть обманной, и, может быть, иллюзия — единственная реальность. Но верно ли, что ее-то мы видим? Верно ли, что мы живем? Быть может, ничего нет…
И Диавол, доведя сознание Пустынника до абсолютного нигилизма, готов уже пожрать искушаемого, — требует проклятия тому фантому, которого Антоний называет Богом. С последним движением надежды Антоний подымает взор, и Диавол отступает…
Тогда Антоний приходит в себя, и снова бродят догорающими перекатами уходящие в даль помыслы. Снова повторяются начальные музыкальные фразы. Это — возврат начала, но только из области субъективной психологии транспонированный в мировое.
Пустынник жалуется на себя. Сердце его — суше скалы; некогда оно переполнялось любовью. И за воспоминанием об этом естественно всплывает еще более отдаленное прошлое, — детство; приходит на ум мать, представляется Аммонария, и снова подымается плоть его, и ему снова хочется покончить с собою, бросившись в пропасть. Тогда, как и прежде, борющиеся желания объективируются; ему представляются две женщины, из которых каждая тянет его к себе. Одна — Похоть, другая — Смерть. Сначала они спорят между собою, потом сходятся на взаимном признании. Ведь одна разрушает, чтобы дать место возникновению, другая — рождает, чтобы дать материал уничтожению. Но Антоний отвергает их обеих, чувствуя себя вечным. Ему не надо возникать, он не подвластен смерти. Но, чтобы понять мнимость их, чтобы объяснить связь материи и мышления, надо знать первичные образы, прототипы вещей. Невозможность этого символизируется новым видением.
Сфинкс, вечная загадка бытия, — неподвижное Неизвестное, — и кружащаяся около него непоседливая Химера, томимая желанием Неизвестного — огнедышащая легкая Фантазия — являются Антонию. Но напрасно Химера хочет оплодотвориться Сфинксом. Это — невозможно, и оба исчезают в пустынных песках.
Тогда из дыхания, оставленного Фантазией–Химерой, выступают полчища уродов и фантастических существ, собранных Флобером ото всех народов и из всех периодов истории. Это — бродящие, неоформленные силы природы. Все глубже раскрываются пред Антонием тайники природы, и, наконец, он погружается в созерцание, лицом к лицу вечной творческой мощи — Фантазии природы. Пьяный пантеистическим исступлением, он заканчивает поэму корибантским возгласом: «О счастье! счастье! Я видел рожденье жизни, я видел начало движения. Кровь вен моих бьет так сильно, что разорвет их. Я имею желание летать, плавать, лаять, мычать, выть. Я хотел бы иметь крылья, панцирь, кору, дышать огнем, носить хобот, извивать свое тело, делить себя повсюду, быть во всем, изливаться вместе с запахами, развертываться, как растения, течь, как вода, дрожать, как звон, сверкать, как свет, скрыть себя под всеми формами, проницать каждый атом, спуститься до глубины материи, — быть материей!»
И тогда восходит солнце. Антоний возвращается к своим молитвам.
Последнее видение Антония есть аллегоризация общефилософских взглядов самого Флобера. Смерть и рожденье, как основные, взаимно–восполняющие моменты бытия, — появляющегося, чтобы исчезнуть, носящего уже при рождении своем семя тленности; невозможность познания, обусловленная коренною разнородностью непознаваемого и фантазии, фантастическая нелепость и иллюзорная несуразность всего бытия — вот общие мысли этого эпилога.
V
Обращаясь теперь к общему обзору всего произведения, мы отмечаем прежде всего еще раз прогрессивное уменьшение историчности в нем. Первые искушения так похожи на все то, что описывается в житиях Антония или других египетских отшельников, течение лукавых помыслов изображено с такою скрупулезною тщательностью, что, можно полагать, Флоберовский анализ мог бы получить удостоверение в точности от самого Святого. Но потом, когда выступают искушения интеллектуальные, когда пред Антонием проходят ересиархи и еретики, основатели религий и соперники Христа, тесная связь между романом и историей теряется и мы не имеем данных видеть в соответственных местах Флоберовского произведения чего-нибудь большего, чем более или менее вероятные возможности. Кроме того, что маловероятно предположить, чтобы неграмотный пустынник, почти всю жизнь проведший в пустыне, знал о множестве ересей, выкопанных Флобером из пыльных фолиантов, мы должны еще отметить необычайную ортодоксальную устойчивость Антония. А между тем догматическая система тогда еще не была достаточно выработана; даже богословски–образованные Отцы Церкви порою высказывали мнения, признанные впоследствии за ереси. Поэтому совершенно не естественно ждать какого-то особого, вполне–сознательного православия от отшельника, прожившего всю жизнь в уединении. Конечно, тут можно сослаться на специальное откровение, на знание догматов непосредственное. В некоторых житиях мы, действительно, видим такое откровение, когда по специальной молитве была открываема святым та или другая догматическая истина, хотя бы, например, относительно таинства евхаристии, когда было истолковываемо громовым голосом с неба то или иное место Библии. Но Флобер, однако, не признавал всего этого, т. к. не допускал в духе ничего, что не было бы ранее воспринято «естественным» путем, и вся Поэма должна служить, по мысли автора, изображением тех процессов, которые теоретически изучаются ассоциационной психологией.
Но, если эта часть малоправдоподобна, то последующая — уже прямо невероятна. То, что показывает Антонию Диавол, стало возможно видеть только после успехов знания в новое время, а освещение этого в духе позитивизма, — так, как понимает Флоберовский Антоний, — лишь в XIX веке.
В произведение вложено, таким образом, слишком много личных взглядов автора, и оно не удовлетворяет в этом отношении первому эстетическому правилу самого же Флобера: «Не заслуживает одобрения то сочинение, в котором автор дает разгадать себя»
[954]. Недаром друзья Поэта после первого чтения «Искушения» обвинили автора в лиризме.
А. дальше не только историческая, но и всякая действительность, даже психологическая, расплывается и переходит в аллегорию; на сцену, под видом Химеры, Сфинкса и т. д. выходят наскоро костюмированные отвлеченные понятия.
Флобер сжал жизнь Антония почти что в одну точку и показал ему в промежуток времени от заката солнца до восхода то, что тот видел на самом деле в искушениях целой жизни. Но Флобер сделал и более того. В одну ночь он сжал не только несколько десятков лет жизни Антония, но много столетий жизни человечества. Если ноги Антония — на почве родной Фиваиды, то голова — в Европе XIX века. Если во многих местах поэмы встречаются ремарки: «Иларион вырос» и «Диавол вырос», то подобные же ремарки необходимо сделать и относительно Антония, потому что и он растет с каждою минутою, так что за одну ночь успевает вырасти на столько же, на сколько выросло мировоззрение человечества за более, чем 1500 лет. И выступив на сцену фиваидским отшельником, он покидает ее, пройдя множество промежуточных стадий, современником и близким знакомым Флобера, усталым, изверившимся, но все еще не покидающим старых кумиров.
Такая уплотненность времени в Поэме напоминает уплотненность его в грезах гашишистов и опиофагов, когда, за короткий промежуток наркоза, они переживают многие годы, даже целые тысячелетия. Это делает из Поэмы какую-то эссенцию. Подавляющая роскошь образов сначала бросается в голову, как тот «эликсир сатаны»
[955], действия которого в особом романе разбирал когда-то Гофман. Но потом она утомляет, как утомляет чрезмерная щедрость и богатство тропической природы, как утомляет бьющая через край полнота образов в «Плаче об Адонаисе» Шелли
[956].
Действительно, это заметно даже и на самом искушаемом. Вначале он является довольно активным и борется со своими помыслами. Но, чем далее, тем с большею и большею пассивностью отдается он каждому давлению, как загипнотизированный или сомнамбул. В этом отношении мы будто имеем иллюстрацию к Боклевскому положению о подавляющем влиянии природы Индостана на склад индусского характера
[957].
По своему общему характеру искушения в Поэме и искушения в Житиях более или менее совпадают, но эмоции там и тут совершенно расходятся. Мы решительно не видим во Флоберовском Пустыннике основных элементов христианства. В нем нет бодрости, ясности, радости, — нет непосредственного знания искупленности, нет мира и легкости — черты, несомненно, имеющиеся у Антония подлинного. Одним словом, в нем не чувствуется ни малейшей святости, а есть неподвижность, стопудовая тяжесть, подавленность духа, чувство покинутости Богом. Подлинный Антоний не падает не потому, чтобы на него не действовало искушение, а потому, что он знает ценности бесконечно большие, переживает неизмеримо более высокое; в сознании его нет места для Диавола, потому что оно занято Богом.
Но не таков Антоний Флоберовский. Он — бесчувствен и не падает потому, что столь же мало реагирует на голос Диавола, как мало знает любовь к Богу.
Сила благодати и уменье не только самому быть бодрым, но и других наполнять радостью — характерная черта Святого Антония. «Ибо кто, если приходил к нему печальным, возвращался от него не радующимся? Кто, если приходил к нему проливающим слезы об умерших, не оставлял тотчас своего плача? Кто, если приходил гневным, не переменял гнева на приязнь? Какой нищий, пришедши к нему в унынии, и послушав его и посмотрев на него, не начинал презирать богатства и не утешался в нищете своей? Какой монах, предававшийся нерадению, как скоро приходил к нему, не делался гораздо более крепким? Какой юноша, пришедши на гору и увидев Антония, не отрекался тотчас от удовольствий и не начинал любить целомудрие? Кто приходил к нему искушаемый бесом, и не обретал себе покоя? Кто приходил к нему смущаемый помыслами, и не находил тишины уму
[958]? Антоний «не только сам не бывал поруган бесами, но и смущаемых помыслами, утешая, учил, как нужно низлагать наветы врагов, рассказывая о немощи и коварстве их. Посему каждый отходил от него укрепившись в силах, чтобы противостоять умышлениям диавола и демонов его»
[959]. Твердый, радостный, самообладающий Антоний
[960] производил впечатление силы даже на язычников, а его природный ум, развитый созерцанием природы в пустыне, давал ему возможность одерживать в спорах верх над языческими философами. — Когда желавшие видеть его силою выломали дверь его хижины, то он вышел к ним сияющий и величественный. «В душе его та же была опять чистота нрава; ни скорбию не был он подавлен, ни пришел в восхищение от удовольствия, не предался ни смеху, ни грусти, не смутился, увидев толпу людей, не обрадовался, когда все стали его приветствовать, но пребыл равнодушным»
[961]. Подобными чертами описывается подвижник, «стяжавший Духа». Поэтому, читая жития Антония и других святых, мы невольно обадри- ваемся; их постоянное упование, их дерзновение, их пренебрежительное отношение к диаволам, — даже слегка насмешливое над вражеским бессилием, наконец, их ути- шённость — все это укрепляет; мы не боимся за них. Но не таков Антоний Поэмы. Неподвижный и косный, Антоний сомнамбулически сидит на краю пропасти, и чувствуется, что в бессмысленности его — его спасение. Тот ли это Антоний, который острыми словечками подрезывал не только людей, но и злых духов, так что и они не знали, что сказать? Порою даже сомневаешься, слушая односложные ответы глуповатого и тупого Антония Поэмы, видя его полную растерянность, выражающуюся в «охах» и «Боже мой!», понимает ли он всю силу искушения и выдержал ли бы, если бы понял. В Антонии Флобера нет той силы святости и благодати, которая помогала древним отшельникам, а есть только бессилие и тяжесть духа; нет Божественного, а все одно только человеческое, слишком человеческое
[962].
Вместо правила «познавай истину», он довольствуется правилом «избегай заблуждений»
[963] [964]. Но достижение истины, как и достижение святости, — «стяжание духа» требует дерзновения, требует риска, а не простого уклонения от дурного: плаватель, робко жмущийся к берегу и боящийся открытого моря из-за бурь, которые бывают на нем, не достигнет вожделенной дали.
Это отсутствие дерзновения, вечная боязнь искушений и возможностей согрешить заставляют дух быстро мельчать и иссякать; в последнем анализе они оказываются естественным следствием полу–верия и, понятно отсюда, были в высокой степени чужды древнему отшельничеству: там можно искать каких угодно недостатков, но у аскетов первых веков кто осмелится не признать высокого подъема духа. Главным тогда было не сохранение мнимой «безгрешности», не брезгливое убегание греха, и, вместе с тем, всякого сильного движения, а стяжание положительной силы — святости и благодати. Древние монахи не говорили: «Мы не хотим грешить, потому что не хотим пачкаться»; более, чем кто- либо, они сознавали свою грязность, свою порчу. Но они знали, что ёсть Существо абсолютно Святое и
Чистое, есть «Единый Безгрешный», взявший на Себя грех мира и не отвергающий их, несмотря на всю их нечистоту, несмотря на всю их греховность, и в горении любви к Нему, в нежелании оскорбить это Высшее Существо, в боязни увеличить бремя Его, они старались не усугублять своих грехов. И так сильно было упование на Абсолютно–Святое, что, свершив грех, они только плакали и каялись, но вовсе не считали себя окончательно и бесповоротно погрязшими в нечистоте. Отсюда — необыкновенная терпимость и к чужим грехам, отсюда «покрывание» греха брата.
Стяжав святость, приобрев положительную силу, они помнили, что все могут спасаться, потому, что все имеют зерно подлинной реальности в себе; постоянное чувство реальности и святости всего, сотворенного Богом, хотя оно и одето грубой корою греха, понимание вторичности греха — вот руководящие нити в воззрениях древних иноков, особенно Антония и Макария.
Но прямо противоположное было для Флобера, и его нигилистические тенденции невольно осветили в том же духе и фигуру Антония. Чувство
иллюзорности и
пошлости всего, — хотя и одетого радужным покровом эстетического, — коренная глупость и плоскость мира просочились из головы автора в мировоззрение его героя и, соответственно с этим, сознание искупленности, легкая бодрость и радостное упование сменились усталостью, тяжестью и безнадежно–хмурым унынием
[965]. А простое, спокойное, быть может, чуть–чуть насмешливое отношение к греху заменилось брезгливым, взвинченным и вечно–трясущимся страхом запачкаться. Ни одного места не видим мы в Поэме, где бы Антоний подлинно проявил веру в Бога, ни одного места, проникнутого религиозным пафосом, пронизанного трепетом любви к Безусловно–Святому. Мы не видим, чем отличается Флоберовский Антоний от атеистического буддиста, тогда как в каждом слове Жития видим это отличие для Антония исторического. Если откинуть внешнюю историческую обстановку, то Поэма Флобера, по справедливости, могла бы быть названа скорее: «Искушение Сакия–Муны злым духом Марою», нежели «Искушение Святого Антония».
Флобер не понимал христианства, и недаром он в одном из своих писем заявляет: «је пе suis pas chrdtien»
[966]. Это сказалось особенно ясно на бесцветности Антония и громадной силе, по сравнению с ним, восточных нигилистов, фигурирующих в Поэме.
«Мне надоела форма, надоело ощущение, надоело все, включительно до самого познания…» (стр. 130). Так тянутся усталые признания восточного мудреца. И, как бы откликаясь на них, зараженный сознанием тщеты и ничтожества, иллюзорности и пошлости всего сущего, Антоний, усталый, описывает свои состояния:
«Это — как смерть, более глубокая, чем смерть… Сознание мое лопается под этим расширением небытия…» (стр. 260). «Какую найти радость? Сердце мое устало, глаза помутились…» (стр. 263).
Будто из царства полу–существующего, из царства теней–из унылого Аида доносятся эти глухие жалобы, эти усталые, медлительные, хмурые и свинцово–тяжелые, как осеннее небо, признания. Смерть торжествует в них, и видно в них незнание искупления.
Неужели такой Антоний мог бы воскликнуть, замирая вместе с Апостолом в исступленной радости: «Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?»
[967]1905 г.
Вопросы религиозного самопознания
«Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, — пишет Апостол, — но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1 Кор. 2, 4–5). Вера христианская имеет своим основанием не рассуждения, не объяснения, не доказательства только, а прежде всего силу Божию. Все то, что опирается не на силу Божию, не на опытное богопознание, есть человеческое, только человеческое. Так и было на деле, когда христианское общество считало в своей среде множество явных носителей Духа. Но в настоящее время это кажется для многих лишь полузабытой сказкой; все упования перенесены в собственные дела человека, и сколь многие даже в виду не имеют, что основание веры — сила Божия, а цель христианской жизни — стяжание Духа, приобретение духовной сил ы.
«Господь открыл мне, — сказал однажды старец Серафим одному своему собеседнику, — что в ребячестве вашем вы усердно желали знать, в чем состоит цель жизни нашей христианской, и у многих великих духовных особ вы о том неоднократно спрашивали… Но никто не сказал вам о том определенно. Говорили вам: ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, твори добро — вот тебе и цель жизни христианской. А некоторые даже негодовали на вас за то, что вы заняты не богоугодным любопытством, и говорили вам: высших себя не ищи. Но они не так говорили, как бы следовало. Вот я, убогий Серафим, растолкую вам теперь, в чем действительно эта цель состоит. Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколь ни хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же
цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого Божьего. Пост же и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело суть средства для стяжания Святого Духа Божьего…»
[969]
Но не видно стяжавших Духа в среде христиан, не чувствуется действующей в них силы. Люди являются христианами по имени, в лучшем случае — по своим убеждениям и своим делам, а на самом деле, как будто, лишены мощи, которую дает вера. Но это еще–не самое ужасное. Ужасно более всего полное невнимание к самой идее о стяжании Духа. Не имеют и не хотят иметь, не считают нужным иметь, не думают, что без действительной силы христианство является обуявшею солью и потухшим светильником. Не видят, что сила Христова, действующая в христианине, есть не роскошь, а первая необходимость, и что о мощи, даваемой христианину, должно говорить не в переносном, а в подлинном смысле. Подрывают и разрушают христианство, и это не неверующие, а сами верные, безбожно умаляющие и отметающие обещание Господа о горе, ввергающейся в море по слову верующего.
Такова общая картина современности, — по крайней мере как она представляется со стороны. Однако невозможно думать, чтобы все ограничивалось только этими отрицательными чертами. Мы верим, мы убеждены, что под теплою золою полуверия хранится жар истинной веры. Но необходимо разгрести его, необходимо поискать, в каких затаенных уголках прячутся духовные явления современного христианского мира.
Решающим, преимущественным испытанием веры является исследование таинств, понимая это слово в самом широком смысле, а именно, как обозначение всего видимого и земного, за чем преимущественно скрывается невидимое и небесное. Таинства, по своей идее, — это начатки обожения твари, очаги, из которых распространяется Божественное тепло. Это–те точки, где в нашу действительность преимущественно вторгается новая, особенная, творческая сила, преображающая человека, и через него — всю действительность. Так — по идее. Но так ли на самом деле? И вот, этот ребром поставленный вопрос, по–видимому, находит себе отрицательный ответ. Самое надежное место, где нужно было искать особенных Божественных сил, по–видимому, оказывается недостаточно надежным. Для многих таинства представляются иссякнувшими источниками. Со всех сторон приходится слышать глухие утверждения, что таинства — это только простые церемонии, в лучшем случае имеющие значения образов, напоминаний, знаков. Говорят, что человек не приобретает по крещении ничего нового сравнительно с некрещенным: самое же крещение представляется чем-то вроде приобретения права на вход, входного билета в сообщество христиан. Приобщившийся Св. Даров ввел в свое тело только кусок хлеба, напитанного вином (Л. Толстой)
[970]. Вступивший в брак ничего не потерял бы в своем брачном бытии, — говорят многие, — если бы жил в браке гражданском. Священство–это простое внешнее действие вроде ввода в новую должность. Елеосвящение же является, будто бы, какой-то насмешкой над умирающим. И то же самое говорят о других религиозных действиях. Крестное знамение и молитва так же бессильны, как и всякое другое двига- ние рукою. Так говорят. И весьма нередко люди, мнящие себя верующими, в глубине души спокойно подтверждают все это. Как же? Если и в таинствах не проявляется что-то особое, новое сравнительно со всеми остальными явлениями, то в чем же их сила? Если ни в душе, ни в теле воспринимающего таинство, действительно, не является никакого плюса, то к чему же таинство?
Повторяя то, что каждому из верующих приходится слышать весьма нередко, мы заранее предвидим негодование с двух противоположных сторон. Одни станут кричать с гневом: «Зачем искушать Бога своими испытаниями! Грешно даже повторять подобные вопросы!», а другие — насмехаться: «Да неужто в наш век, в век автомобилей, х–лучей и всего прочего можно всерьез говорить о таинствах?» Оставляя последних возражателей без ответа (ответом для них пусть послужат факты, которые сообщат читатели), мы приведем на память первым слова ап. Павла: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы? Самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть» (2 Кор. 13, 5).
Мы верим в истину христианства и потому уверены, что она выдержит всякое испытание, и не боимся за нее. Но вопросы, возникающие кругом нас, принудительно влекут нас испытать самих себя, в вере ли все мы, — то ли мы, «чем должны быть». Важно, необходимо важно выяснить, как переживаются таинства верующими. Священникам же, из всех верующих чаще всего имеющим дело с таинствами и знающим, кроме того, таинство священства и деятельное участие в совершении таинств, — предстоит преимущественная заслуга осветить своими указаниями эту темную область религиозной психологии·
Редакция журнала «Христианин» предполагает дать несколько статей по вопросам о психологии таинств и вообще о христианстве, как религии силы и духа, о чем всего менее любят говорить наши богослӧвы. Не историю таинств хотим писать мы, хотя это было бы так легко сделать при современном обилии подобных трудов. И не психологию таинств в историческом освещении думаем мы разрабатывать, хотя последняя ближе подходит к насущным задачам современности. Сравнительно нетрудно знать, как думали и учили о таинствах наши предшественники. Но пред нами, верующими ХХ–го века, встает гораздо более трудная задача (как это ни странно!), а именно, узнать, как думаем о таинствах сами мы–знать, что думают и как учат о таинствах, как переживают их в себе современные христиане. Ведь христианство — не археология, а живая жизнь, вечно развивающаяся в целом организме человечества, уходящая порою из отмирающего органа, оживотворяющая другой, онемевший. И в наших душах («разве только мы не то, чем должны быть») Христос продолжает ту духовную работу, которую Он совершил в душах наших предшественников–христиан.
Вот почему нам желательно сообща с читателями, соборно обсудить эти вопросы, а именно, — как понимают верующие силу и значение таинств, в чем эта сила сказывается, как о себе дает знать. Но конечно, интересен ответ живой действительности, ответ житейского опыта, а не ответ книг. И ответ жизни будет ценен, хотя бы эти вынесенные из практики убеждения и впечатления даже решительно расходились с утверждениями догматик. Редакция, призывая к подобному обмену мнений, просит забыть временно о догматах и обо всем том, что предполагается существующим, и высказаться откровенно, раскрыть, каково есть сейчас на самом деле сознание верующих. Производит ли крещение, например, по мнению наших читателей, какое-нибудь изменение в крещаемом (особенно взрослом) и как чувствует, переживает крещение (именно чувствует крещение, а не мыслит о нем) совершитель его? Что испытывает совершающий Евхаристию в тот или другой момент ее совершения? Какое значение имеет приобщение? Правда ли, что освященные Св. Дары — Тело Христово? Если да, то можно ли доказать это чем-нибудь?
Какое значение имеет церковный брак в сравнении с браком гражданским (тут особенно важно опираться на исповедальную практику). Какова сила елеосвящения? Имеет ли действительное значение крестное знамение? и т. д. Невозможно предуказать все возникающие тут вопросы. Кто поймет нашу общую мысль, тот сам увидит, что мы спрашиваем о силе христианства вообще и потому просим указать на те стороны, где эта сила обнаруживает себя. Но плодотворность ответа зависит от того, насколько бесхитростно и искренно будет описана сама жизнь. Кто что думает, что видел, что пережил — вот материал, из которого мы, общими усилиями, можем строить наше духовное обновление. И потому лучше всего, для предварительного самопознания, привести в известность наличные силы. Лучше всего — описывать частные случаи: «вот, тогда-то, я испытал, видел, чувствовал следующее» и т. д., «вот, каково мое наблюдение» и т. д. Мы зовем наших читателей к наверно нелегкой и мучительной совместной работе религиозного самопознания. Нужна полная, голая правда, и всякое приукрашивание современного положения только затормозит новое творчество, только повредит делу. Сейчас положение слишком тяжелое: мы говорим не о политическом положении, которое всегда можно исправить, а о более важном положении религиозном, которое может оказаться непоправимым. Нам надо честно подсчитать свой флот и тщательно осмотреть свои корабли. Иначе при ближайшей же буре мы рискуем пойти ко дну. А она уже надвигается на нас.
Письмо II
Прежде чем высказываться по существу в вопросе о таинствах, я считаю необходимым вызвать между читателями известный обмен мыслей и наблюдений. Ввиду этого, настоящее письмо всецело посвящено материалу, полученному от читателей. На первом месте поставлен рассказ провинциального священника Н. Е. Б. Этот рассказ, озаглавленный «Встречи», был записан мною под диктовку Н. Б. и имеет весьма нелитературный, чисто разговорный стиль, так как я не считал себя вправе вносить поправки и тем давать повод к подозрению в тенденциозности. Сейчас не стану делать выводов из рассказа, да и сам он достаточно говорит за себя. Скажу только, что я знаю священника Я. Б., как безукоризненно–искреннего и правдивого человека, в котором порою властно дает себя почувствовать его пастырство. Что же касается до «вещественных доказательств», то я лично видел фотографическую карточку героини рассказа, В. П., ее стихи и несколько писем ее и к ней…
Что же касается до помещаемых тут же двух писем, то ответ на них отчасти дан уже в Письме I, отчасти же определится из дальнейшего. Пока же приношу свою глубокую благодарность священнику Д. Г. Т. за искренний тон его писем. Письма его представляются мне весьма много дающими, несмотря на крайнюю их лаконичность.
1 Встречи
В Успенском посте 1901 г., я исповедывал сестер к–го Успенского женского монастыря. Еще не успела кончиться исповедь, как я увидел, что в храм вошла девушка лет 16–17–ти, очень легко одетая, в небольшой вязаной косыночке на плечах, несмотря на августовское довольно холодное время. Когда я окончил исповедь монастырок, то она подошла ко мне и попросила исповедовать ее.
Сначала, даже когда она не произнесла еще ни слова, я почувствовал сильную–сильную тяжесть. Ту же тяжесть чувствовала на себе и девушка. Я угадывал то важнейшее, чего требовала ее душа. С другой стороны, и исповедовавшаяся тоже чувствовала эту тяжесть, лежавшую на мне. Я чувствовал, что я тут — ничтожество, что я–какое-то орудие, что мое
я как-то исчезает и заменяется другим, которое руководит мною, и я являюсь только наблюдателем всеґо происходящего; и мне, в моем качестве наблюдателя, ясно, какое действие производит вмешательство высшей силы. И девушка тоже чувствует, что происходит со мною. О религии я ничего почти не говорил ей
[971]. Но после исповеди она становится христианкой, хотя раньше была совершенно неверующей и только стремилась к истине. Исповедь отразилась на всей ней, и она мгновенно как-то переродилась. Особенное же действие, как впоследствии писала девушка в своем Дневнике, произвело на нее причащение Св. Тайн. В нас обоих произошло какое-то раздвоение; каждое я раздвоилось. Одно мое я видело в девушке обыкновенного человека, смотрело плотскими очами. Другое я видело ее Ангела Хранителя
[972]. Я почувствовал, что эта девушка должна сообщить что-то важное, несмотря на то, что в этот раз она ничего не сообщила, и я не выпытывал у нее, да и в голову мне это не приходило. Девушка же ничего не рассказывала во время исповеди, только каялась в своих грехах. Испобедь произвела на меня такое действие, что я ходил как полоумный.
О своих родителях, происхождении и вообще краткие сведения о своей жизни В. В. Я. (так мы будем называть девушку) сообщила мне после, зайдя ко мне в дом, где в то время гостила у меня сестра. После разговора со мною и с сестрою она просила меня молиться за нее и ушла в монастырь, где дали ей приют. Затем уехала на пароходе к себе домой, к матери.
В половине сентября месяца неожиданно получаю от нее письмо, в котором она изливает свою радость, что сделалась, как она выражается, «христианкой», что теперь разные преследования, какую бы форму они ни принимали, ее не пугают, и что жизнь во Христе стала для нее всем. Почти одновременно получаю письмо от ее матери, в котором последняя просит меня, дабы я подействовал на ее дочь в том смысле, дабы она не выделялась из ряда других лиц, не «оригинальничала» и «не сходила с ума» (как там было выражено), не чуждалась бы того общества, в котором она вращалась. Вскоре же за письмом приезжает сама мать и просит меня, чтобы я дал удостоверение начальству той гимназии, в которой обучалась В. В. П., удостоверение в том, что она действительно была в такое-то время в к–ом монастыре и приобщалась; это нужно, т. к. прошли слухи, будто в то самое время ее видели на ярмарке и вообще возвели на нее клевету, роняющую ее репутацию. Я дал удостоверение, простился с матерью В. П. и с тех пор, до начала апреля 1902 г., о В. П. исчез совершенно всякий слух. Сам же не переписывался тогда с нею, да и она в своем письме не просила о том. В первых числах апреля 1902 г. я получил довольно обширное по объему письмо, в котором В. П. изложила довольно ясно и подробно свои душевные настроения и жизнь со времени бегства из родительского дома вплоть до апреля 1902 г. При этом в своем письме В. П. высказала, что были явно заметны для нее действия со стороны злого духа, чего она до тех пор не замечала; злой дух старался внушить ей по–прежнему сомнения, но она не поддавалась, хотя бывали случаи колебания. Случаи нападения злого духа участились до того, что ей стало прямо невыносимо, и она решилась написать письмо, обещая летом приехать ко мне как-нибудь тайком, дабы родители о том не знали, т. к. они крайне боялись моего влияния на нее. Действие злого духа В. П. чувствовала как бы с о — в н е, как бы даже ощущала его присутствие, ощущала «его дыхание леденящее душу» (как она писала), а не как что-нибудь изнутри.
В июле месяце того же 1902 г. я получил краткое письмо, в котором она в двух–трех словах объясняет, что приехать ко мне много ей препятствий, в чем она опять-таки видит явное действие злого духа, на этот раз не приводя примеров. Между тем внутренняя тяжесть достигла такой степени, что девушка не находит слов описать свои душевные страдания. И с июля месяца, вплоть до Великого Четверга 1903 г., она ничего о себе не извещает и не оставляет никакого адреса. В Великий Четверг, кончив чтение 12–ти евангелий и выходя из церкви, я вижу девушку лет 19–20–ти, в стороне стоящую, и совершенно не узнаю ее. Она подходит ко мне, спрашивает. По наводящим со стороны ее вопросам вижу в ней В. П. Переночевав в монастыре, она утром приходит ко мне и на словах мне вкратце сообщает то, что происходило с ней в течение того времени, как мы не видались. Она просит исповедовать ее в Великую Субботу, с тем чтобы в Великое Воскресенье приобщиться в монастырской церкви, и поясняет, что теперь-то она чувствует, что за великая сила таинства св. исповеди и причастия. Усилившуюся с того времени силу на нее злого духа девушка объясняет тем, что она игнорировала за это время сими таинствами, т. к. ей не хотелось обращаться к другому духовнику, а ко мне приехать она не могла. Выяснилось вместе с тем, какую великую силу имеют молитвы пред престолом: сперва, по ее просьбе в первый приезд, я молился за нее, а потом почти позабыл молиться и молился только в связи с
некоторыми особыми случаями, которые хорошо мне запомнились. Девушка же записала в своей книжке часы и дни, когда она чувствовала себя легко и хорошо. Оказалось полное совпадение сроков. При этом она мне показала довольно больших размеров тетрадь, названную ею самою Дневником, в которой она описала всю жизнь, начиная с того момента, когда она начала помнить себя, до того времени, когда она явилась вторично ко мне. На этот раз, как сказала В. П., мать уже нисколько не препятствовала приезду ее, а как бы даже торопила ее, дабы она скорее ехала ко мне; та мать, которая так нелюбезно отнеслась ко мне в прошлый раз, увидев во мне разрушителя прежних убеждений ее дочери, теперь приглашала меня к себе, что я и исполнил в первых числах мая того же 1903 года. Эта перемена во взглядах объясняется тем, что В. П. читала свой Дневник матери; но в то время эта последняя старалась отнестись к читаемому иронически, насмешливо, рассматривая дочь, как пустую фантазерку.
Затем В. П. исповедалась, приобщилась. Та чудная сила, действовавшая на меня и на нее, опять проявилась, и в еще большей степени. Оба мы явственно чувствовали силу злого духа, вследствие вмешательства которого исповедь дважды прерывалась и затянулась в силу этого на целых полтора часа. Порою девушка чувствовала, что не может исповедываться, и даже хотела уходить; а я чувствовал, что не могу прочесть над ней разрешительной молитвы, потому что очищение души не кончилось, не сказано самого главного, хотя исповедница все грехи говорила и ничего не скрывала. Чувствовалось, что покаяние не дошло до глубины души. Иные минуты мне доставляли столько утомления, что мне казалось, будто я исполнил неимоверно–тяжелую физическую работу. Ничего особенного исповедница мне не сказала, а просто враг тешился
[973], Вся она высказалась, исповедь была очень искренняя, но все-таки девушка говорила, что не может исповедаться. Какое-то странное чувство; до сих пор не могу понять его. Точно говорила она против своей воли. Первый почувствовал облегчение я, и не медля времени прочитал ей разрешительную молитву, после чего душа ее совершенно обновилась, не меньшую радость испытала она, нежели после первой исповеди, бывшей в августе 1901 г.
Когда я приехал к ним, в г. Нм то произошло опять странное явление. В. П. дожидалась меня на пристани. Но, несмотря на то, что народу было очень немного, а мы оба знали, что должны встретиться, (мы списались), — так и не увидели, несмотря на все поиски, друг друга. И когда, вернувшись врозь к ним в дом, заговорили об этом, то одновременно почувствовали и разом сказали друг другу, что это — действие злого духа.
С того времени В. П. начала переписку со мною и довольно частую, начиная с половины мая до августа месяца. Вдруг она прерывает переписку до половины октября, и около двадцатых чисел октября приезжает ко мне в большом расстройстве, как бы после большого горя. При этом она рассказала одну весьма тяжелую историю
[974], опять-таки имеющую связь с преследованиями злого духа. После этого переписка не прекращалась, но стала очень редкою, а с мая месяца 1904 г., вплоть до первых чисел мая 1905 г., прекратилась совершенно. В мае я встретился с В. П. удивительным образом. Я был в это время не у дел и временно жил в городе Кс. Но по некоторым делам мне неоднократно приходилось ездить в город К. В одну из таких поездок (30–го апреля или 1–го мая 1905 г.) я, возвращаясь из К. обратно в Кс., хочу садиться в первый пароход, отходящий из К. вверх по Волге, но меня какая-то сила удерживает, несмотря на то, что я совсем собрался уже и решился. Никаких препятствий нет, но я чувствую в душе, что на этом пароходе не должен ехать, а должен ехать на пароходе другой компании, и эта сила, задерживающая меня, становится настолько властной, что вполне овладевает мною: как будто моего я уже не было, вот такое состояние я испытывал; как будто мое я куда-то улетучилось. При этом надо заметить, что пароход другой компании приходит в Кс. в очень неудобное время (в полночь без малого) и спустя большой промежуток времени отходит от К–ской пристани. Но это меня нисколько не останавливает и я обратно схожу с пристани и дожидаюсь парохода той компании. Взойдя на пароход вижу пожилых лет мужчину, приближающегося к старости, и с ним девушку, по–видимому дочь его. И мы с девушкой оба сразу узнали друг друга. Оказывается, что это В. П., а мужчина — ее отец. Во время дороги она рассказала состояние своей души, свою жизнь и, между прочим, случай, который совершенно неожиданно привел их именно на этот пароход. Между прочим она мне сообщила, что когда она, в течение года, неоднократно принималась писать мне письмо, то какая-то сила вызывала в ней недружелюбное чувство, и она бросала письмо, после чего эта сила оставляла ее, и прежнее расположение ко мне опять являлось, и так повторялось неоднократно.
Со времени этой встречи до сих пор (февраль 1907 г.) о В. П. нет никаких известий. Не знаю, где она живет, и не получаю писем, хотя я дал ей адрес, а она дала слово мне писать, обещав при этом выслать свой Дневник.
Расскажу теперь содержание этого Дневника.
Выросла В. П. в родовитой дворянской семье. Родители ее теперь уже прожились, но тогда они имели большой вес в обществе. В детстве ей было много знаменательных видений, и в очень ранних летах обнаружился поэтический талант. Эти видения не давали окончательно погаснуть зачаткам ее веры. Родители, особенно мать, старались воспитать ее в неверии, и как она родилась и вплоть до того времени, когда она стала учиться, и когда официально уже невозможно было этого сделать, не водили ее и не давали ее водить во храм для молитвы. В доме не было ни одного священного изображения и ни одной книги, которая напоминала о какой бы то ни было религии. Таких же взглядов держались и все знакомые этой семьи. Единственным верующим лицом была ее няня, которая изредка тайком носила ее приобщать. Как раз она попала в такую гимназию, где состав преподавателей, включая сюда и законоучителя, и классных дам, относились или индифферентно или прямо враждебно к религии. Не помню с каких лет, в ней получилось какое-то раздвоение, чему отчасти способствовали видения (наяву). Она размышляла, почему это бывает, что люди делятся на верующих и неверующих, но допытаться не могла, и некого ей было спросить, а когда спрашивала, то в результате получалась неудовлетворенность. Исповедь в гимназии не производила, по–видимому, на нее никакого действия, но после причастия часто забываемые за суетою жизни размышления ее о религии восставали всякий раз с еще большею силою; и эти размышления, все более и более беспокоя ее, сделали окружающую обстановку в конце концов прямо невыносимой. Ей стала эта жизнь противной, но выхода из этой жизни она найти не могла.
И так тянулось до 16–ти летнего возраста. Во время летних каникул ее маленький брат, сильно зараженный духом неверия, только что начавший учиться в реальном училище, как-то однажды сильно издевался над религией и над всеми верующими. Ему поддакивала мать. Это так возмутило девушку, что она хотя бы на время решила убежать из родительского дома, сама не зная куда, не отдавая себе в том отчета. И вот она выбирает день, когда матери дома не было (в начале августа 1901 г.). И вот, в чем была (а была она очень легко одета, день же клонился к вечеру), она выходит из родительского дома, где жила тогда временно с матерью в деревне, т. к. отец ее лежал в больнице и на даче жить было нельзя. Девушка идет прямо, сама не зная куда. Когда же она очнулась, пришла в себя, то увидела себя вблизи большой дороги, идущей к одному селу или слободке, где находилась ближайшая от ее местожительства пароходная пристань. В. П. как бы в раздумье остановилась и слышит она как бы внутренний какой-то голос: «Что ты, безумная, делаешь? Воротись назад». И она уже готова повиноваться этому голосу. Вдруг она, чего-то испугавшись, побежала опять вперед, сама не отдавая себе в том отчета. Но какая-то враждебная сила вдруг останавливает ее, и она в изнеможенье опускается на землю. И у девушки невольно вызывается восклицанье: «Господи! если Ты существуешь, укажи мне, что есть истина, и дай мне возможность узнать ее». И явственно девушка слышит извне, со–вне откуда-то голос: «Или теперь, или никогда!» Этот голос ее ободряет, вызывает в ней какую-то особую энергию, о какой раньше она и понятия не имела, и она бодро идет по дороге к пристани, невзирая на сгустившиеся сумерки.
В том селе или слободке, где была пароходная пристань, жили два священника. Девушкою овладевает какая-то решимость отправиться на пароходе, опять-таки она не знает — куда, и при этом она вспоминает, что из дому не захватила ни копейки денег и что все ее ценное имущество заключается в золотом браслете на руке. Она инстинктивно как-то желает обратиться за помощью к одному из священников, но жена этого священника встречает ее сурово и у В. П. пропадает охота обратиться к ней за помощью. Тогда В. П. идет в дом другого священника, и просит одолжить ей хотя бы под залог браслета несколько денег. Священник, не взяв с нее никакого залога, доверчиво дает ей денег, по костюму и по речи видя в ней интеллигентную особу, к которой нельзя не отнестись доверчиво. Получив денег, она направляется к пристани. Там стоят два парохода, почти одновременно отправляющиеся вверх и вниз по Волге. Это ее смущает и делает на некоторое время нерешительной. Почему-то ее взгляд приковывается к пароходному расписанию, и в ҙтом расписании особенно рельефно, выгораживая все остальное, выступает название города К. В. П. принимает это за указание свыше и берет билет до К., сама не зная, что это: город ли, село ли, какой губернии и на каком расстоянии находится. Денег ей хватает как раз на билет, так что не остается ни копейки. Погода изменяется к худшему. Ехать приходится в третьем классе, при всех неудобствах, к чему ее совершенно не приучила изнеженная жизнь. Приехав в К., девушка спрашивает на пристани, опять-таки инстинктивно, не отдавая себе отчета, нет ли здесь какой обители, где бы можно помолиться. Какой-то мужчина говорит, что в 12–ти верстах от города находится мужской монастырь, и указывает ей дорогу. В. П. отправляется, испытывая ужасно тягостное чувство. На полдороге она вдруг останавливается. Ей кажется, будто она идет не туда, и она спрашивает едущего вперед мимо ее одного мужичка. «Какой дурак Вам сказал, что здесь находится в 12–ти верстах монастырь, да еще притом мужской, — говорит мужичок. — Есть монастырь в 4–х верстах и притом женский». И при этом предлагает ей подвезти ее, тем более, что ему надо проезжать неподалеку от монастыря. Приблизительно в версте от монастыря мужичок ссадил ее, и она пришла в монастырь — как раз в то время, когда я исповедывал сестер.
Самая исповедь уже рассказана. Назад В. П. отправилась на пароходе… Хотя она ничего почти не ела, однако испытывала такое блаженное состояние, что не ощущала ни холода, ни голода, ни усталости. Это радостное настроение было для нее другом и одеждою, и пищею, и всем. Она с радостью пострадала бы за Христа, если бы пришлось.
Надо было так случиться, что пароход не шел до той пристани, где ей надо было слезать, и ей пришлось переждать несколько часов следующего парохода на промежуточной пристани. На этой пристани народу почти никого не было, да и кто был, скоро разошелся, так что девушке пришлось остаться одной. Это было рано утром, часов в 5–6. Вид ее показался пристанщику подозрительным, т. к. она была одета легко, в шерстяной косынке, а погода была холодная. У него явилась мысль склонить ее на дурное дело. Но когда это не удалось, то он, до того времени спокойный и сдержанный, вдруг как-то преобразился, лицо его сделалось каким-то кровожадным и зверским, и он уже занес руку, чтобы утащить ее в ту каюту, где он жил. «Что ты безумный, делаешь! Ведь ты называешься христианином, и я — христианка, и к тому же вчера приняла Св. Тайн», — воскликнула девушка. При этом она внутренно с молитвою обратилась к Богу, прося у Него помощи, твердо веря, что Он не откажет ей и заступится за нее. И тут совершилось чудо. Как бы по указанию свыше она протянула палец правой руки и коснулась груди этого человека, — сильного, рослого, пред которым она казалась прямо ребенком. Его могучая фигура пошатнулась, и, если бы не наружная стена каюты, вблизи которой он находился, он упал бы навзничь. Тут он почувствовал могущество Божие, прося у ней прощение. К тому же вскоре собрался народ, спешащий на пароход, который вскоре подошел к пристани, и В. П. отправилась к себе домой. Дома ее ждали новые испытания. Ей попался в руки еще в дороге № газеты, в нем публиковалось об исчезновении ее из дому, с тонкими намеками на то, как будто она бежала с дурною целью. К тому же дошел слух до начальства того заведения, где она обучалась, что в то время, как она была в К., в те дни и часы, когда она исповедывалась и приобщалась Св. Тайн, ее будто бы видели в недозволенных для воспитанниц местах, в силу чего начальство хотело ее исключить. Когда же разъяснилось, где она была, то принуждено было потребовать от меня и от сестер монастыря удостоверение, что она именно в это время находилась в монастыре с религиозною целью.
Приведу в заключение несколько видений В. П.
В детстве, лет пяти, вскоре после смерти маленького брата, В. П. имела видение. Она сидела с матерью в гостинной, драпри на окнах были опущены, на улице были густые сумерки. Вдруг девочка тянется ручонками к окну и говорит матери: «Мама, мама, смотри: маленький брат — на небе. Вот, он тянется ручками. Он — светлый, как солнышко» и др. Мать испугалась, стала подымать драпри, доказывая, что ничего нет и что теперь ночь, но девочка радостно тянулась к окну и утверждала, что видит братца светлого.
Когда она уже стала религиозной, то было ей множество видений, но из них два особенно замечательны. Одно из них — во сне, а другое — «как бы» наяву: девушка говорит, что была «вне себя». Во сне она видела себя сидящей в темнице. Окна заделаны толстой железной решеткой. К окну тюрьмы подлетает крылатый юноша, как изображаются у нас на иконах ангелы, разламывает решетку и влетает в тюрьму. В это время девушка молится пред иконою с серебряною ризою Богоматери. Ангел, взяв девушку за плечо, гневно восклицает: «Кому ты, безумная, молишься!» Она говорит: «Богу». При этом юноша срывает с иконы ризу Богоматери, и на доске девушка видит что-то неопределенное, но чувствует, что тут изображен Сатана.
«Это виновата мать твоя», — сказал Ангел. При этих словах девушка просыпается.
«Вне себя» В. П. видела следующее. Смотрит она на небо. Вдали быстро, как при сильном ветре, плавно несутся, как бы к ней, перистые облака. Над облаками и как бы в середине их сидит какое-то Существо, окруженное ярко ослепительным сиянием и как бы поддерживаемое этими облаками. При приближении облаков она видит, что это–не облака, а крылатые существа, подобные Ангелам, как они изображаются на иконах. А это Существо, окруженное сиянием, есть Сам Христос. На встречу этих крылатых существ несутся два Ангела, издали показавшиеся ей перистыми облачками, и быстро и плавно ведут молодую девушку, как изображается на иконах душа, разлученная с телом. Спаситель поднимается во весь рост, а эта девушка, поддерживаемая Ангелами, кланяется Ему. Затем все исчезает.
2
В Редакцию «Христианина». В почтовый ящик.
По поводу «Письма I, о «Вопросах религиозного Самопознания» Павла Флоренского, имею написать ему следующее:
Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа.
(Осеняю себя при этом крестным знамением.)
Содержание письма ударило в мою излюбленную тему: религиозно–нравственное усовершенствование Христианина производится двумя силами, совокупно, и рука об руку действующими, — силою Божиею и собственно силою (усилием) человека — христианина. Без силы Божией никакие старания человека — его добродетели не приведут его в меру возраста исполнения Христова, и сила Божия, воздействующая на человека, без старания и собственного подвига человека возвратится к своему источнику, невоспринятая и невозгретая в сердце его. Мир ваш возвратится к вам. Усилия отдельных людей и целых общин и союзов к устроению царствия Божия на земле только собственны — м и дружными стараниями во имя любви, правды, равенства — есть величайший недуг и заблуждение века сего. Предводители этого века — о. Петров
[975], Л. Н. Толстой и им подобные. О. Петров, по моему выражению, стремительно прыгает на одной ноге и притом левой. Правая нога, т. е. сила Божия, у него засохшая, недействующая, и потому он допрыгался и еще более допрыгается до полного бессилия и разбиения, как это случилось с Толстым.
Имея желание, вместе с большинством людей современных, сделаться лучшим в смысле и духе Евангелия и чтобы мои современники также взошли в разум истины, я постоянно хватаюсь за силу Божию (взываю): помощь моя от Господа сотворшаго небо и землю, крепость моя и пение мое Господь и бысть мне во спасение. Да не хвалится сильный силою своею, — премудрый премудростью своею, богатый богатством своим… но о сем да хвалится хваляйся, еже разумети Господа и творити суд и правду. Христос моя сила, Бог и Господь, — честная Церковь боголепно поет взывающи от смысла чиста, о Господе празднующи и проч. и проч. и проч…. и все что совершается, поется, читается в христианском православном Богослужении. Тут встречаюсь с святыми таинствами, тут и ответ на вопрос: ще искать силу Божию и как ее постоянно держать при себе и возгревать. И это несомненно совершается там, где совершается. Кто крещен в воде, тот получил силу Божию и получил в изобилии (благодать возблагодать), кто запечатлен печатаю дара Духа Святого, у того эта печать никем не может бысть изглажена, кто приобщался Святого Тела и Крови Христовой, то несомненно соединился со Христом и так во всех таинствах. Доказывать это и объяснять, т. е. доказывать, что сила Божия сошла на человека и хранится в нем, — бесполезно. Это не доказывается, а чувствуется, это не объясняется другим, а прививается, — прививается к тем, которые ищут этого, идут к сему, или приводятся и приносятся другими. На обыкновенное при сем возражение: кто приступает с верою и усердием, а кто без веры, и холодно, только по обычаю, я отвечу: как бы он ни приступил, хотя бы по обычаю, но все-таки приступил к таинству и оно воздействовало на него· Раз человек приступил, стало быть у него есть доля веры и усердие, и по крайней мере он не против таинств… Тут вопрос не о вере и неверии, а о степени веры и пожалуй о степени неверия. Но степени веры и усердия и степени духовной помощи и воздействия силы Божией не нам размерять. Это измерит только один Бог.
В самом действии таинства непременно участвуют две силы — Божия и человеческая, первая невидимая, вторая видимая, и притом так, что сила Божия не будет действовать, если не действует сила человеческая. Если священник не погрузил в воду троекратно крещаемого с произношением имени Святыя Троицы, то человек остался некрещеным и Святой Дух не вселился в него и не возродил в новую духовную христианскую жизнь. Если священник не отслужил литургию, или при литургии не благословил хлеб и вино с произношением известных слов, то таинство не совершилось, хлеб остался хлебом, вино — вином. Бог и Господь наш Иисус Христос и Свя- тый Дух не совершает таинства для человека без человека, или как сказывается: не спасает человека без человека. Но спросят: зачем тут нужен Богу человек? Неужели Бог не может Сам один ниспослать свою силу, необходимую для спасения человека? А я отвечу: затем нужен человек, зачем и Бог–Сын Божий сделался человеком. Тут я чую (но не познаю) великую связь всего учения православно–Евангельского и всего дела Божия о спасении человека; тут премудрость Божия в тайне сокровенная.
В письме г. Флоренского ярко высказывается современный пессимизм, или лучше сказать по–православному — безнадежность и даже отчаяние в том, будто в современном христианском обществе, точнее — в православных христианах нет силы Божией действующей, нет преуспеяния в Евангельском житии, во всех упадок веры и нравственности, нет духа жизни Христовой, осталась одна форма, обрядность и проч. и проч. Это просто напраслина — или злонамеренная, или по неведению, по легкомыслию, по самому поверхностному взгляду, а больше всего, кажется, по влиянию безумной прессы (которая ныне размножилась, как поганые грибы в гнилую погоду). Берутся люди судить о том, в чем они
некомпетентны; судят о состоянии православия, будучи далеко от православия, — о таинствах, не принимая их, о Богослужении вообще, не участвуя в нем. Уж очень для меня это обидно. А я грешный иерей (вместе с сонмом святых архиереев и иереев), скорбя о своих грехах и упадках, радуюсь на наш православный русский народ, за их чистую веру, за их добродетели, за все благочестие, и не столько учу их, сколько учусь от них — от прихожан своих и не прихожан, а духовных чад своих. Учусь не только добродетелям их, но даже тонким догматам веры. И удивляюсь, откуда простые, неученые мужчины и женщины знают писания, не учившись. Как они мыслят о Христе, о Святой Троице, о Царице небесной, о таинствах, что никакое ученейшее богословие не может так определить истины православия.
Аминь, аминь глаголю, что их научает Святой Дух, сходящий на сердца их и запечатлевающий помазанием своим в святых таинствах. Ивы помазание имате от Святого и не требуете да кто учит вас… И сие сокрыто от очей премудрых и разумных, кощунственно говорящих: вера ослабела, нет Евангелия в жизни христиан и проч. Флоренский пишет: не видно стяжавших Духа в среде христиан, не чувствуется действующей силы в них. Прииди и виждь, отвечаю ему. Разгреби золу и увидишь огонь, он всегда старается укрыться; таково свойство огня Христова. Много имею писать по современным вопросам, а еще более же говорить с теми, кому нужно. Но писать для печати мало способен, да и не сожалею о том. У меня дело высшее этого, служить алтарю, просвещать св. таинствами прихожан своих, молиться с ними и беседовать по силе веры и Богопознания.
Избави Бог оставить служение алтарю и прихожанам и сделаться фельетонистом нынешних газет.
Как бы ни желал Флоренский уяснить в «Христианине» Таинства, он никогда это не сделает. Таинства уясняются, усвояются при таинствах, православие уясняется при жизни православной, а не в книгах.
Потому недаром говорили и говорят опытные Архипастыри и Пастыри: молись Богу, ходи в Церковь, принимай св. таинства. Говорил ли преподобный Серафим против этого или нет — неизвестно. Если говорил, то тот, который слушал его и передавал (я читал об этом), не понял Отца Серафима и не сумел передать. Но тот вопрошающий, который не довольствуется советом: ходи в Церковь, молись Богу, и желающий большей беседы с пастырем, найдет и должен найти такого пастыря и Отца Духовного, который удовлетворит его потребности и излечит его болезни. Ведь только охаяли наше православное пастырство, нашу Иерархию, а она стоит по- прежнему на свещнике и светит всем, иже в храмине суть. Да, иже в храмине, а для тех, которые бегут из святой храмины, тем не светит, это газетные писаки, которые не ищут света от пастырей, а сами хотят светить им.
Нынешний, слабый, нервный, чувствительный интеллигент хочет сразу с нижней ступени лестницы подняться на верхнюю, от земли на небо, от греховности к святости; прыгает вверх и оттуда стремительно падает и разбивается (о. Петров, Л. Н. Толстой). Не так надо. Надо утвердиться на первой ступени и осторожно, не спеша переступать на вторую и так дал. Желающий веровать и познавать веру свою, должен начать, например, с креста, — надеть на шею крест и не снимать его, научиться правильно совершать рукою крестное знамение, потом читать простые и обыкновенные молитвы и проч. Скажут мне, что значит крест на шее и молитва без веры, без понимания о кресте, без теплоты сердечной. Я отвечу на это: примите крест без веры, без теплоты сердечной, без сознания, — сие малое научит вас великому. Раз человек надел крест, перекрестился, послушался других, — это уже вера в крест и вера детская, послушная.
По поводу безнадежности, проглядываемой у г. Флоренского, скажу, что он сам страдает самонадеянностью, а по отношению к другим, даже ко всему Христианскому Обществу — безнадежностию. (Но не срамляя его это пишу, но чтобы познал надежду христианскую.) Это недуг тоже современный и общий у интеллигентов. Нельзя не заметить, что вера ныне усиливается, или по крайней мере усиливается искание веры, а это уже вера, любовь в интеллигенции в такой степени обнаруживается, что хоть отбавляй. Третья же добродетель, или вернее вторая — надежда совсем или очень слабо действует в верующих и любящих интеллигентах, а потому и эти два столпа благочестия — вера и любовь — не связаны и колеблются. Свяжите веру христианскую и любовь надеждою христианскою и получите стойкость и утверждение.
Прошу редакцию и г. Флоренского извинить меня за посылаемую черную рукопись. Я пишу не для печати;
сообщаю лишь свои впечатления и мысли по современным вопросам. Я человек не литературный.
Города Т., Спасо–Преображ. церкви грешный священник Д. Г. Т., 1907 г., фев. 16 дня».
В другом своем письме, не относящемся впрочем к нашему вопросу, тот же корреспондент пишет между прочим: «Я поставил в письме к Вам пресерьезный вопрос- о Надежде Христианской и о согласном содействии двух сил во спасении (чтобы ходить на двух ногах и не хромать). И теперь повторяю это. Рекомен дую заняться этими вопросами, и при этом непременно найдите определение Христианской Надежды у Филарета (Катих.), и о результате напишите мне в свободное для Вас время».
Письмо I
В редакцию получилось анонимное письмо, подписанное «Монах».
Факт, сообщаемый тут, может толковаться различно, в зависимости от общих воззрений на таинства вообще и таинство покаяния в частности. Но письмо характерно: сквозь простые слова тут веет безнадежностью и холодом отчаяния, от которых делается больно за автора письма и за себя самого. Несколько безыскусственных фраз ударяют сознание. Открываются тайные язвы нашей церковной жизни. Но пусть письмо говорит само за себя. Вот оно:
«В журнале «Христианин» № 1, П. А. Флоренский ставит вопрос: что испытывает, чувствует совершающий и приемлющий таинства.
Скажу о себе, что я испытывал в таинстве покаяния.
Это было давно, когда мне шел еще 31 год (теперь 65), я только что был пострижен в монашество и посвящен во иеродиакона; служить нужно было с приготовлением. Были случаи, совесть говорила: «Нужно исповедоваться, так нельзя приступать к приобщению св. Тайн». Келья моя была рядом с келиею духовника. И вот, выйду из кельи, подойду к двери духовника, остановлюсь, мысль говорит: «Не надо, не ходи, что беспокоить, ведь не пост»; постою, постою у двери и отойду, нет, не надо, войду в свою келью. Совесть говорит: «Что ты делаешь, как ты будешь служить обедню, иди, исповедуйся», опять подойду к двери духовника,
мысль опять говорит: «Да не надо, не ходи, неловко», постою, опять отойду, а совесть опять свое: «Как ты приступишь к св. Тайнам?» И вот, после долгой борьбы, наконец, решился сотворить молитву и войти… Выйдя — я чувствовал, что будто снял с себя тяжелую–тяжелую шубу, я чувствовал, что я мог, кажется, летать, настолько было легко, настолько сердце прыгало от полноты какой-то неизъяснимой легкости, — словами этого выразить нет возможности.
Такова сила таинства покаяния.
Было это и не раз, только… увы!., это было… давно.
Монах.
Грамматики не знаю, простите».
II
Привожу еще письмо, — письмо сельского священника, известного мне лично.
«Извините, что, может быть, опаздываю своим письмом. В «Христианине» Вы уже начали печатать письма читателей по вопросу о таинствах. Но пусть мое письмо будет последним, а все-таки я не могу замалчивать некоторых случаев, бывших в моей практике при совершении таинств исповеди и св. причащения над больными.
Нужно сказать Вам, что я всегда был человеком, верующим в силу и действенность св. таинств. Описываемые мною ниже случаи еще более утвердили меня в этом.
Первый случай был такой. Однажды позвали меня в деревню (Дубининскую) причастить больного (П. В., крестьянина). Этот больной был прежде сильным пьяницею и развратником. Сколько раз я ему ни говорил, чтобы он оставил свои пороки — ничего на него не действовало. Он продолжал свое. Но вот П. В. заболевает, и заболевает так сильно, что, когда я приехал причащать его, у него отнялся язык, хотя сознание его не оставило. После молитв пред причащением, я приступил к исповеди больного. Я говорил ему, что такое наказание от Бога он терпит за свои грехи; — он в знак согласия со мной в этом кивал мне головой. Я призывал его к исправлению своей жизни, к оставлению им своих прежних грехов; говорил, что, если он раскается и даст твердое намерение впредь не творить того, что он делал доселе, то Бог может отверзти уста его и поднять его с одра болезни. П. В. молился и,
глядя на св. иконы, очевидно, призывал Бога в помощники себе; в глазах его выражалось святое намерение больше не повторять своих грехов. Я кончил исповедь, причастил его, потом и говорю родным и семейным больного: «Давайте, братие и сестры, помолимтесь Господу Богу о нашем больном»; я стал читать молитвы, которые читаются обычно над больными; читал я с глубокою верою и чуть не со слезами. И что же? Как только я кончил молитвы, больной стал говорить. Он сказал своей жене: «Возьми, отдай полотенце батюшке; пусть он повесит его на образ Божией Матери в нашем храме». После этого больной стал быстро поправляться и скоро совсем выздоровел. Я еще раз велел ему поговеть и причаститься в св. храме; и он в храме пред св. крестом и Евангелием дал публичное раскаяние в своем грехе пьянства и дал обет воздержания от него на ХҺ года.
Так произошло исцеление больного прихожанина на моих глазах. Я объясняю это исцеление действием св. таинств исповеди и причащения и молитв о нем верующих.
Другой аналогичный случай был в соседнем с моим приходе. За отсутствием своего соседа я был позван в село Сватково причастить больного юношу (16–17 л.) Василия Ширшанина. Приехавшая за мной женщина сказала, что больной–без языка, и потому поскорее просила меня ехать к нему. Я наскоро срядился и поехал.
Больной, действительно, лежал без языка и был все время до моего приезда без сознания. Он лежал на лавке; я подошел к нему; взял его за руку и сказал: «Вася, вставай, я причащу тебя». И, — о чудо!, — больной сейчас же встал и заговорил. Я немедленно начал исповедь его и причастил Св. Тайн. После меня больной опять впал в бессознательное состояние и так скончался.
Из этого случая видно, что Господь, не хотяй смерти грешника, желал, чтобы больной очистился от грехов, соединился с Ним в св. таинстве причащения и этим наглядно, так сказать, подтвердил спасительность и необходимость таинств для каждого человека.
Описанные здесь мною случаи — не есть плод моей фантазии, а–сущая правда; в этом клянусь Вам всем святым.
Священник села Бужанинова (Владим. губ., Алек- сандровск. у.) Александр Соколов».
Догматизм и догматика[976]
Единственному Другу‚ Сергею Семеновичу Троицкому[977] ГЛУБОКОЧТИМОЕ СОБРАНИЕ!
Заранее извиняюсь в отчеканенном тоне настоящих мыслей, — тоне, слишком не соответствующем невежеству автора… Приходилось давать постановке вопросов известную стилизацию, обводить резкими контурами затрагиваемые вопросы. Причина тому — не самоуверенность, забывающая об оттенках и полутонах мысли, а боязнь расплыться в «хотя» и «с другой стороны». Недостаток времени толкает автора, таким образом, на формулировки более резкие, чем он желал бы…
«Вы не знаете, чему кланяетесь… Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине… Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».
(Ин. 4, 22–24)
I
Богопоклонение «в духе и истине» —
сѵ πνενματι эеас άλτ^εία — таково требование дважды–рожденных. Обновленное сознание не удовлетворяется уже простой данностью Бога, но требует еще оправданности Его. Человек хочет поклоняться Богу не как факту только, не как все–ломящей силе, не даже как своему Покровителю или Хозяину; — объектом поклонения эта Сила, этот Покровитель может быть только в своей Истине, в правде своей, как Отец. Прежде оправдания человека ищется оправдание Бога: прежде антроподицеи
[978] ищется теодицея.
Антроподицея и Теодицея! Вот два момента, слагающие религию, потому что в основе религии лежит идея спасения, идея обожения всего существа человеческого. Первый из этих моментов есть, по преимуществу, Таинство, мистерия, т. е. реальное нисхождение Бога к человечеству, сам о–у ничижение Божие или к е н о з и с. Но чтобы было воспринято человечеством это спасительное и очищающее (катарти- ческое) самоуничижение Божие, — самоуничижение, оправдывающее человека пред лицом Божиим, ему необходимо выполнить второй из упомянутых моментов, оправдание Бога. Эта сторона религии является, по преимуществу, учением, догмою и потому — созерцательным восхождением человечества до Бога, возвеличением человечества или обожением, теозисом (но только созерцательным). Но сейчас мы говорим только о последнем моменте, о необходимости Бога, о догме, устанавливающей право Божие требовать оправдания человека.
Ни из страха или корысти, ни из благодарности не склонится тот, кто может сказать:
…Солнцем Эммауса
Озолотились дни мои (В. Иванов)
[979] -
или на кого попало хотя бы многократно отраженное сияние этого Солнца. Он склонится только из чистого благоговения пред святыней. «Τ ρ и с в я τ о е», от горних сил перенятое, — характернейшее песнопение нового человека: вопль «помилуй!» он обращает к Существу, Которое сознается Богом, как Существо Святое, которое крепко — в своей святости и потому бессмертно, опять-таки чрез то, что свято. «Святый», прибавляемое при каждом обращении, не есть признак равноправный с другими; он — гораздо центральнее, основнее в характеристике Благого и обусловливает для сознания возможность остальных.
Бог ли каратель, Бог ли благодетель — не склонятся колени пред Его неоправданной силой, пред мощью, не опознанной, как другая сторона святости, и, не нося в Себе самом своего оправдания, Он, по необходимости, подчиняется велениям неумолимой Судьбы: такова участь всего неабсолютного. И тогда богоборец Прометей, бо- го–мятежные Титаны и весь сонм ради Истины и Добра боговосстателей героев становится бесконечно–близким всякому, просвещенному «Светом Христовым» и ублаженному «Благою Вестью». Кажущееся бого–борство открывается пред исцеленными очами, как бого–ношение; а преобразователь Прометей, страдалец за любовь к роду людскому, бог распятый с боком пронзенным, в своем бого–восстательстве оказывается довременным христианином. Но только лишь чаяниями грядущего Христа это прежде времени пробудившееся сознание может освежиться в томящем жаре горячки и порвать круг бредного марева; только само–доказательный луч Фавора осветит тяготеющую тьму
[980] [981]; только теплом Эммауса будет «гореть сердце». Мощь призрачных небожителей ожигает и попал яет Мученика; но тем пышнее вздымается божественными и бого–данными пламенами требование правды.
Кто богоносец? кто богоборец? Страшно, о, страшно богов приближение, их поцелуй!
Бога объявший, — с богом он борется; Пламень объявший, пламенем избранный, тонет во пламени духом дерзающим, — персть сожжена!
(«Тантал». Вяч. Иванов)
[982]Вспомним идею обожения, подобно полярной звезде–путеводительнице недвижной на духовном небе христианского аскета, — идею, овладевавшую подвижником и, как магнит, влекшую к себе железную волю его. Вспомним титанический вызов Кесарю от Великого Кап- падокийца: «Я имею повеление сам сделаться божественным и не могу кланяться твари»
[983]. Не перекатываются ли с грозным тут рокотом бого–борческие громы, однородные с громами давно–былого, приведшими Прометея на брег полноводного Фазиса
[984], к седым утесам многовершинного Кавказа? Нет ли и тут гула рушащихся в горные обрывы Пелея и Оссы, поднятых и нагроможденных одна поверх другого?..
[985] Но то, что было беззаконием для мифологического сознания, то стало обязательным требованием, долгом сознания христианского. Вот великая революция духа, внесенная в мир Христом; вот узаконение человека в его Иакововском отношении к Богу
[986].
В сознании появилось новое требование — требование поклоняться Богу «в духе и истине». Как бы ни относились к христианству люди нового времени, это требование такими проникновенными корнями оплело и проросло каждую душу, что нет и не может быть возврата к прошлому. Кто шел в Дамаск
[987]®, кому слепила очи внезапная молния обновления, тот уже органически не в состоянии признать Бога за простую данность. Новый человек стал Прометеем и, покуда не удостоверится в личности Божьей, покуда собственными глазами не узрит Его, как Святого, до тех пор возрожденное сознание останется вовсе без Бога. Современный человек будет мучиться призрачностью шеола
[988], беспредельно и безостановочно падать во «тьме внешней»
[989], — будет, надрываясь, «взывать из глубины»
[990] ко Господу, Которого не знает но не сможет он склониться пред Тем, кто, может быть, только и имеет право силы, кто, может быть, — идол и изурпатор. Не эта ли, именно, глубина христианского сознания производит порою самых рьяных савлов и порождает жесточайших афеев. Со Христом «Неведомый Бог» становится Великим contradictio in adjecto
[991], Деспотом, Сильным Попрателем божественного в человеке. Христианский храм может быть посвящен только «Ведомому Бог у»
[992], как это надписано над порталом одного Собора
[993].
«Ведомому Богу» — Богу ведомому нам, как Бог, как Безусловность, как Дух — как Святость и Правда — вот начальная формула христианского богопочитания. Требование же «ведомости» — неточное и неотметаемое требование искупленной личности. «Вы не знаете, чему кланяетесь… — говорит Христос язычникам, — но настанет время и настало уже ([Αλλ'] έρχεται ώρα, καΐ νυν с‹гτ ι ν), когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине… ([#тс οί άληΦινοι προσχυνηταί ηροσχυνησοιχτιν τω πατρο], έν πνεύματι και осХтр&сса)…» (Ин. 4, 22–23). И, как бы открывая, что пророчество это начало уже осуществляться, в прощальной беседе Он отмечает измененность сознания. «Я уже не называю вас рабами (Ούκέτο υμάς λέτω δούλου?), — обращается Господь к ученикам своим, — ибо раб не знает (ӧтс ό δούλος ουκ οιδεν), что делает господин его; но Я назвал вас друзьями ([тс τιοιει αύτοϋ ό κυρtoy] ύμας δέ είρηχα φίλους), потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего (б'тс πάντα α ήκουσα παρά του πατρός μου, έγνώρκπχ. ύμιν)» (Ин. 15, 15).
Истинное богопоклонение недоступно для языческого сознания, потому что язычество не знает Предмета своего почитания, воспринимает его рабски, внешне, несвободно и, следовательно, не имеет силы проникнуть во внутреннюю суть Его, — в Личность Божию: «Бога никто никогда не видел» (1 Ин. 4, 12). Напротив, сознанию христианскому поведаны тайны Божьи; оно знает Отца, Которому кланяется и потому относится к Отцу как друг и сын, а не как раб, проникает внутрь личности Божьей и не ограничивается одними только явлениями Сил Божьих. «Видевший Меня, — говорит Сын Божий, — видел Отца» (Ин. 14, 9). Древнее богоборчество не могло удовлетвориться созерцанием Сил Божьих, имманентных миру и потому чуждых божественному началу человека. Христианство подымает сознание над всем имманентным миру и ставит лицом к лицу с Самою трансцендентною Личностью Божьей. И тем основное данное христианства оказывается основным искомым вне- христианского богоборчества.
Этот запрос — поклоняться Богу, как Истине, — удовлетворяется в непосредственных переживаниях Бога человеком, потому что в них только Бог может быть дан, как реальность, и в последней только, в самой реальности, а не в понятии нами созданном, открывается сущность Бога, implicilc
[994] содержащая в себе и данные для оправдания Его. Только стоя лицом к лицу пред Богом, просветленным сознанием постигает человек правду Божию, чтобы благословить Бога за все. «Но в том и великое, что тут тайна, — что мимоидущий лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе. Пред правдой земною совершается действие вечной правды» (Ф. Достоевский)
[995]. И когда это «касание мирам иным» свершилось, тогда вдруг затрепещет и разрывается несказанною радостью ошеломленное сердце. И запоет оно жгуче–ликующий гимн своему Господу, благодаря и славословя, и рыдая за все и о всем, — за то, даже по преимуществу за то, что непросветленному сознанию кажется ужасным и скверным: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава вовеки, аминь» (Рим. 11, 32–36).
Светозарным лучом тогда пронижет Бог туманные миазмы неискупленного сознания, и освежающий ветер разнесет удушливую мару древнего мифа… куда-то. Ясным–ясным солнышком глянет Бог, как Отец–глянет, в омытой атмосфере, сквозь разорванных облак. Мнимое бого–борчество окажется отце–искательством, и пред обретенным Отцом сами собою склонятся колени Прометея. «Ты — святость и благо, Отец наш. Вот, я смиряюсь пред Тобою, уязвленный в сердце любовью Твоею. Вот, я желаю того, чего Ты желаешь, ибо знаю я, что моя собственная воля и моя собственная мысль дадут худшее, чем Твои, Отец мой. Подчиняюсь Тебе, — не потому, что Ты силен, не потому, чтобы Ты давил и ломал меня. Но вижу правду Твою, Господи, вижу истинность Твою. Не Ты требуешь от меня доверия к Твоей воле, но сам я в радости отдаю себя. Я колеблюсь и молю, да пройдет мимо меня чаша земного уничижения моего, земного кенозиса моего. Но, сделав усилие над слабостью своею, снова говорю: Пусть будет воля Твоя, а не моя, потому что знаю правду Твою и святость Твою».
Так скажет Прометей. То, чего ранее не могли вырвать у него ни ужас богоборчества, ни громы Зевсовы, ни всесильные пытки распятья, то ныне сам он, как ребенок, отдаст Отцу Небесному, узнав правду Его в молитвенном переживании очищенного сознания.
II
Однако и история и каждодневный искус свидетельствуют о недостаточности для всей жизни одних только переживаний молитвы, этих зыблющихся и неудержно- текучих элементов сознания. Даже в области эстетической, где так много значения имеет внешнее, это — так. Вот что говорит поэт–философ
[996]:
Я снова перечел — и не узнал я вас.
Так вот мои стихи, — вот ночи плод бессонной!
Ужель так стары вы? Не верит вам мой глаз;
Вы в сердце рождены, но слух мой изумленный
Сегодня внемлет вам как будто в первый раз.
О, бедные стихи, любви моей поэма, —
Какая прелесть в вас так быстро умерла?
Иль для вчерашних чувств сегодня сердце немо?
Где ж эта свежесть их? во мне ль она была?
Как изменилось все, как охладела тема!..
Стократно далекиI Какой же теныо бледной
Мелькнут они для пас, неведомых, чужих!..
Что вам мои стихи? Вздох ветерка бесследный;
Успели вы, боюсь, забыть уже о гіих…
Ничто на их призыв в ответ не пробудилось!
Остались чужды всем стремления мои…
Но в этих отзвуках жипое сердце билось!
Но в пас любовь моя, в вас жизнь моя таилась,
О мои бедные вчерашние стихи!
[997]Но тем более это нужно повторить о всецело внутренних религиозных переживаниях.
«Я поймал эту мысль на дороге и воспользовался первыми плохими словами и поскорее связал ее ими, чтобы она не улетела. А теперь она умерла в этих жестоких словах: и висит и болтается в них, и я едва могу припомнить, глядя на нее, почему это я так радовался, поймав эту птицу».
Ницше, Веселая наука, 298
[998].
Что стало ясно сегодня, то так часто мутнеет завтра! Что в переживаниях момента решено бесповоротно и с абсолютною ясностью, то ставится снова вечным вопросом в часы и минуты иного дня, когда померкнет сердце. Переживания молитвы слишком летучи, слишком порхающи, и это–не только относительно простых людей, но даже высочайших подвижников. Необходимо оформить переживания, к живущей плоти их придать сдерживающий ее костяк понятий и схем. Тут вступает в свои права разум.
Понятие, не имеющее цены само по себе, приобретает условную ценность чрез свою связь со схематизируемыми им переживаниями, равно как неустойчивое переживание расчленяется, формуется, фиксируется и делается устойчивым чрез понятие, его схематизирующее. Непосредственное обращение с переживаниями заменяется оперированием над понятиями, и этим достигается та же выгода, что и при введении письма в области мысли или бумажных денег в экономической жизни. Переживания оказываются приведенными к одному знаменателю, делаются сравнимы между собою. Безудержное утекание прошлого задерживается, так что опыт копится и растет, богатится и разнообразится. Приобретенная, наконец, ориентировка
[999] в излучистых загибулинах духовной жизни, — наличность географической карты для переживаний и возможность воспроизводить бывшие опыты, твердо держать в памяти границы — все это делает для нас совершенно необходимой систему понятий и схем.
История осязательно дает нам нащупать ту же неустранимую потребность — потребность схематизировать переживания. В удовлетворении этой потребности — вся история науки и философии, как богословской, так и общекультурной. Что, в самом деле, представляет собою история соборов, как не упорную, неослабную попытку создать такую систему схем и понятий, которая бы сти- лизировала, обводила четкими и уверенными контурами должные переживания духовной жизни, и притом наиболее экономично, с наименьшим количеством отдельных, несводимых друг на друга терминов. Соединить наибольшую полноту схематизируемого материала с наименьшею сложностью схем, объединяющихся в единое здание — такова задача, стоявшая пред каждым из свв. отцев. Тот или другой деятель великой эпохи догматических споров пытается построить такую систему; но неизбежно- одностороннее построение по необходимости оказывается слишком тесным, чтобы охватить собою весь круг духовной жизни Церкви во всей ее полноте. Отсюда — необходимость обратиться к соборному разуму
[1000], к над- индивидуальному коллективному сознанию и сверх–личной организации Церкви. Соответствующая ей полнота переживаний позволяет избегнуть односторонностей и создать систему понятий, наиболее просто, наиболее экономично охватывающих всю совокупность духовной жизни, духовных запросов и духовных стремлений у Церкви данного момента. Поистине, можно удивляться чисто математической точности и выразительности христологи- ческих формулировок, не позволяющих изменить ни одного понятия. Система схем построена так цельно, что тронув что-нибудь одно, мы непременно обрушим всю архитектурную массу. И подобным же образом, что представляет из себя с формальной стороны вся история науки и философии, как не непрекращающуюся попытку выработать круг понятий, наиболее экономично объединяющий известный научный материал?
III
Необходима догматика, употребляя это слово в самом широком смысле, — как систему основных схем для наиценнейших переживаний, как сокращенный путеводитель по вечной жизни. Перво–наперво это относится к области религиозной в более тесном смысле. С жадностью и глубоким томлением духа ищет формулы современное сознание.
«Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, — не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его» (Ам. 8, 11).
Пересыхает в горле, жжет все нутро, нестерпимей и нестерпимей распаляется томительная жажда по догматике. Но… взамен догматики мы имеем догматизм.
«Нѵ, а «Сильвестр», два «Филарета», да «Мака- рий»?
[1001] — скажут мне. — Чего же еще надобно референту? Али он ищет новых догматов?» Спешу успокоить всех ортодоксальных и неортодоксальных слушателей: принимаю содержание этого догматизма и говорю не о создании новых догматов, а сетую на неведение старых, на почти непреодолимую затруднительность ведать их, как религиозные истины. На перечень же сказанных авторов отвечу вопросом же: «Как вам кажется наша догматика, хотя бы Макария?»
Пусть на минуту мои слушатели перестали бы задерживать все непосредственные движения. Тогда в ответ мне послышались бы, — предвижу, — многообразно перекликающиеся зевки, неправославные и православные, — преимущественно последние.
Не станем вглядываться, кто тут виноват. Но мы вынуждены признать факт: системе вероучения принесен в настоящее время высший ущерб, какой только может быть принесен духовной ценности; — она обесценена для сознания. Соль обуяла, свет — померкнул. Очаг перестал греть сознание, центр жизни оказался вне жизни. Единственное нужное кажется современному большинству лишним и ненужным. Наша догматическая система представляется скучной, настолько скучной, что с нею даже не находят времени полемизировать; похваливающий же ее сознается, что догматика хороша, но не для него, а «для кого-то другого». Одним словом, она существует не для жизни, не для людей, а заготовляется впрок, но для кого — неизвестно.
Легкие ответные зевки на вопрос о догматике — это только небрежно накиданное прикрытие; под ним–зияющие провалы современного сознания, и в гулких безднах исчезли святыни и величайшие сокровища духа. Но этого мы по беспечности даже и не замечаем, как не помним и собственной задачи. «Освяти их истиною Твоею ('Ауса‹гоѵ› αυτού? bv τη αλητεία σου) («во истину
Твою», по славянскому] пер[еводуј), слово Твое есть истина» (Иоанн 17, 17), — молится Христос о нас. «Да, знают Тебя, единого истинного Бога»
[1002], — говорит Он про нас. И, если бы не Сама Любовь произносила эти слова, то они звучали бы нам невыносимой насмешкой: разве мы воспринимаем религию, как Истину? Разве мы знаем Бога, как истинного, как основание всякой истины и всякой достоверности? И имеем ли мы со своей стороны какое бы то ни было отношение к Живому Центру нашей религии?
Не станем же прятать голову в песок пренебрежения, страусом скрываясь от опасности. Теперь более, нежели когда-либо, своевременно выяснить, как мы относимся к христианскому миросозерцанию. Думается, близок час, когда невозможно уже будет оставаться полу–христианином, полу–атеистом, «не холодным и не горячим», а только «теплым», тепловатым, когда придется волей–неволей решительно выясниться и стать либо за, либо против истинной свободы.
Указываются — и совершенно справедливо — разные недостатки в «догматиках» «отечественных фабрикаций», причем особенно достается преосв. Макарию. Этими указаниями, конечно, необходимо воспользоваться, но удовлетворить их–это значило бы вылить на здание, охваченное пожаром, две–три ложки воды. Правда, указываемые досадные дефекты нарушают архитектоническую целостность догматики. Но стоит ли плакаться на это, когда подымается вопрос более важный, видят ли эту цельность и стройность изучающие догматику? Видят ли они, как сцепляются отдельные звенья, почему после одного поставлено другое? Задумываются ли учащиеся над математически–точно сформулированными догматами, сплетающими кружевную ткань? И им не представляется ли, скорее, эта ткань «сотканной из ошибок и мечтаний»? Ясно ли им единство плана, взаимо–обус- ловленность и взаимо–зависимость отдельных понятий и положений, служащих, как органы единого организма, одному планомерному целому? Сколько знаю, — это все остается совершенно в тумане, и догматика представляется не системой, не строением из схем, а кучей нагроможденных текстов и слов.
Вслед за указанной ранее поправкой необходимо внести и эту, более важную. Но и ее вовсе недостаточно. У нас есть система православных догматов; нужно же дать православную догматику, как действительно живое, религиозное миросозерцание: другими словами, к системе догматов потребна пропедевтика.
Повторяю: ни восполнение частных недостатков догматики, ни опознание ее, как связного целого, недостаточны еще сами по себе. Есть обстоятельство более серьезное.
Жизнь идет вне нашего вероучения, и вероучение идет вне жизни. Тут я, конечно, под жизнью разумею вовсе не какие-нибудь экономические или политические движения. Нет, даже гораздо более глубокие пласты духа — интимнейшие волнения в необъятной шири духа — оказались вне этого вероучения. Другой вопрос, могут ли течения жизни не разлиться таким путем по болотам ложной мистики и пескам бесплодного позитивизма. Но факт тот, что даже чисто–внутренняя, нравственная и религиозная, жизнь прорыла русла свои в иных областях. Бьют в берега взъяренные волны неустановившегося потока, хлещут о корни, подмывая тысячелетние дубы. И проносясь стремительно, он влечет с собой бревна падающих построек, домашнюю утварь и семейные святыни…
Оторвавшись от всего живого, от всего интимного, от того, что близко и бесконечно мило, что хватает сердце щемящей тоскою по далям, выдохнув аромат личного религиозного опыта, система религиозных понятий перестала быть убедительной для отвергающих ее и привлекательной для принимающих. Тут же не приходится говорить о верующих и неверующих как синонимах православные и неправославные. Ведь ныне существуют верующие афеи, как существуют неверы православные. Насколько последние, не имея религиозного содержания, в тупом равнодушии готовы принять всякую схему известной марки, лишь бы не утруждать себя умственной работой, и заранее исповедуют все, на чем только будет надписано: «Аѵес approbation et privileges du Roi»
[1003], будь то Символ веры или чья-нибудь отсебятина, настолько же первые, терзаясь мучительной потребностью оформить пламена духовной жизни и совершенно не умея воспользоваться для этого схемами уже выработанными, не желают и не могут принять их рабски, не видя их правды. И, если от «православного» можно услышать порою прямо или косвенно циничное заявление: «Мне нет дела до Бога, а важен лишь культ», то с губ «афея» сорвется иной раз стыдливое признание, что ему нужен Бог и только Бог, а все остальное представляется мишурою и хламом. Но нет Бога в нашей догматике. И небезосновательно заметил Л. Толстой, что многие верят не в догматы, а в то, что в них надо верить
[1004]: омертвевшая пустая форма не несет в себе внутренней правды и потому является идолом. Не помогает тут ни филигранная отделка догматических понятий, ни глубокость содержания системы, ни традиция. Система стала безнадежно–скучной и безнадежно–неубедительной для большинства и часто даже для тех, которые искренно признают все Евангелие. Было бы однако слишком спешно обвинять тех, кто честно сознается в своем отпадении. Правильнее всмотреться, нет ли элементов того же настроения у многих других, не отпадающих, и, сознавшись в печальной правде, выяснить причину холодности. Только устранивши причину сможем мы отнестись жизненно к системе догматов — этой кружевной ткани кристаллов, многие века сплачивавшихся из нежнейших и благоуханнейших выдыханий к небу души в очистительном холоде разума.
Догматика сменилась догматизмом, — вот в чем разгадка нашей холодности к ее прекрасным, но для нас безжизненным формам. Догматика в современном сознании перестала связываться с живыми чувствованиями и живыми восприятиями. Тело и душа религиозного миросозерцания разлучились. Мы заботились только о себе, не желая сходить ни на минуту со своей точки зрения, и, в результате, сами позабыли, кӑк попали на нее. Немудрено, что другие не находят входа в грандиозный готический собор, прекрасный в целом и в частях, но без паперти и без ступеней. Мрачно чернеют бесчисленные окна, затканные паутиной, и прохожий, боязливо косясь, проходит мимо, в свою домашнюю часовню. А верные, не зная вџхода из собственного храма, бледные и безжизненные ходят между величественными колоннами, заглядывают в стрельчатые окна и, вместо молитв, бессильными губами бормочут анафемы тем, кто идет по улице, быть может (а это происходит так часто), и желая зайти помолиться в храм. Вместо взаимной помощи в опознании собственной души, взамен совместной духовной работы, мы дуемся на того, кто не может раскусить наших окаменелых орехов и, оставленный на произвол судьбы, идет своей дорогой. Или же мы сами поворачиваемся спиной к несметным сокровищам, собранным предшествующими поколениями, — поворачиваемся спиной, вместо того, чтобы взять на себя скопившийся грех и подлинным жаром богопознания растопить все льды, сковавшие великие сооружения свв. отцев, наших предшественников, имевших святое дерзновение надписать над порталом: «Ведомому Богу». Да, забыты традиции святых догматиков, забыты заветы древних русских философов, строивших храмы св. С о φ и и — Премудрости Божией и стремившихся поклоняться «Ведомому Богу». Но что делать тому прохожему? Где храмовые остиарии? Где ключари?
[1005] Какое тайное слово откроет ему двери величественного портала? Будем сначала понятными и убедительными для людей других лагерей; не станем приятно засыпать на поддакиваниях одних только своих единомышленников, да и то нередко сопровождаемых авгуровскими улыбками; откинем нелепую привычку начинать исследование с догматизирующих положений. Ведь мало того, что эти положения вовсе не обязательны, пока не будут тем или иным способом доказаны (понимая слово «доказывать» в самом широком смысле), — они и абсолютно–непонятны, т. к. состоят из терминов, не имеющих при таком изложении никакого реального содержания. Прежде, чем разговаривать с кем-нибудь, надо не только определить термины (это- дело последнее), но объяснить их, т. е. наполнить живым конкретным содержанием, обратиться к тому, что собеседник пережил, или же помочь ему пережить новое, заразить его личным своим опытом, уделить ему от полноты своей. В противном случае получается построение из слов, аргументация словами, кончающаяся припиранием, к стене… на словах. И, в то время, как, обливаясь потом, вы торжествуете свою победу и воображаете, что что-то такое сделали, что-то доказали противнику, в чем-то приперли его к стене, — он остается вполне спокойным, относясь более чем равнодушно к своему поражению. Стены, к которым его приперли, для него–из дыма.
Оставим же пустые разговоры о пользе такого воздействия на общество, воздействия, сводящегося к самоуслаждению, и взглянем на дело практически.
Не связанный с переживаниями, не прозрачный для интуиции, не убедительный психологически, аргумент, при всей своей доказательности, непременно будет особым видоизменением argument! baculini
[1006]. Нельзя забывать, что человек — прежде живет духом, а потом уже делает отвлечения от пережитого: теоретические положения только схемы, знаки, обводы действительных переживаний, и в последних — источник, жизнь и цель всей теории. Можно ли забывать, что аргумент в области религии и нравственности имеет полную силу тогда только, когда он убедителен, т. е. когда доказанная истинность его усматривается интуитивно на конкретном материале, когда общее положение воплощается в единичном ощущении истины всем существом. Отрываясь же от жизни духа, теории и системы повисают в воздухе, а радужные краски переживаний меркнут, как угасают цвета некоторых морских животных, выброшенных на берег из родной стихии, и оставляют серую, скучную массу опавших схем. Взаимо–отношение понятий, их относительная топография, легко обозримая в живом организме миросозерцания, запутывается в войлоко–образных, безжизненных останках; так тают на прибрежных камнях хрустальные цветы медузы, вытащенные на сушу.
Что сказали бы вы о математических выкладках, не имеющих ни начала, ни конца? Если вы механически проделываете известную последовательность действий, не зная, к чему направлена вся работа, из каких данных она исходит, что означают те или иные знаки, то вся работа представляется вам бесконечно–неубедительной, хотя ни в одном пункте вы не находите в себе сил возражать против хода выкладок. Собственно говоря, вы не только не можете показать ложности их, но и истинности их нисколько не видите. В лучшем случае, таково-то и есть состояние современной догматики, механически опирающейся на авторитет Св. Писания и Св. Предания и (при наиблагоприятнейших условиях) не дающей поводов возражать против себя; но и истинности ее большинству не видно.
Убедительность аргументации — это есть, именно, доказательность ее, никогда не становящаяся одним только формальным «припиранием к стене», всегда переходящая от пункта к пункту ввиду твердой почвы переживаемого, а не совершающая аэростатических путешествий чрез области произвольно придуманного — только мыслимого, но реально вовсе не переживаемого. Именно такой вот убедительности не хватает догматике, и результат этого у нас пред глазами. Часто в существенном далеко не убежден, как оказывается, даже тот, кто только что надсаживал горло, споря о незначительном догматическом или обрядовом различии, — о каких-либо опресноках или перстосложении. А сколько основных идей, бывших когда-то вопросом жизни, стало чуждым сознанию большинства и консервируется в догматиках только для получения за них скверных баллов (это — когда мы в школе) и для обличений в неправославии (когда мы вышли в жизнь) — об этом и поминать-то забыли. Понятие о зле, например, исчезло с духовного горизонта, и представление о нем, как о недостатке добра, пелагиански
[1007] настраивает все миро–отношение, хотя в разговорах это скрытое полу–пелагианство или пелагианство большинства прикрывается безмысленным повторением церковного учения. С еще большей уверенностью можно сказать, что весь цикл эсхатологических идей большинству представляется пригодным только лишь для обличения социалистов всяких толков, — для обличения в невозможности идеального порядка на земле… Таких примеров можно было бы привести сколько угодно. Но сейчас не в них дело. Не имея собственных психологических устоев, мы оказываемся совершенно беспомощными пред детски–наивным, но убежденным напором иных миросозерцаний, не говоря уже о полном бессилии воздействовать на других.
«Советы, — говорит где-то В. В. Розанов, — могут быть глупые: это — те, которые вытекают из настроения лица, дающего совет, и — умные, вытекающие из обстоятельств лица, которое просит совета… Первые советы, которые мы назвали неумными, вытекают из душевной мелочности, безграничного эгоизма, ко всему глухого, и из инстинкта безграничного, так сказать, душерасши- рения: советчик хотел бы своею душою расшириться и вытеснить все другие разнородные души. Вторые советы, мудрые, вытекают из необыкновенной зоркости советчика, его душеумаления и безграничного интереса к мириадам чужих душ, чужих жизней…»
[1008]Всякая система понятий имеет целью урегулировать поток переживаний, оформить и расчленить его, ввести в него порядок и устойчивость. В этом она подобна совету, советом же является и догматика. Розановские слова о советах и советчиках в высокой степени применимы к догматике, и, согласно его терминологии, наш у догматику придется назвать системою советов глупых.
Догматика наша не пригождается. Но нельзя было бы более извратить мою мысль, как переиначив «не пригождается» в «непригодна». Наоборот, это мы не умеем пользоваться несметными сокровищами, собранными поколениями, не умеем претворить в свою плоть и кровь концентрированного творчества многих веков, — да, не умеем, потому что позабыли, как подступиться к заколдованному кладу, который мы видим, но который не дается в руки.
Не истину новую предлагаю на старое место, а места нового требую для старой истины, потому что то место сознания, куда должно поместить эту истину, загромождено хламом.
Мы знаем, пожалуй, что в догматической системе каждая часть поддерживает другую; может быть даже знаем, к ӓ к происходит эта взаимная подпорка. Но, зная к ӓ к говорит догматика, мы не опознали, почему и для чего она говорит так, главное же, не знаем что она говорит. Однако для жизненности ее в сознании необходимо знание ее что, ее почему и ее для чего, и без этого знания догматика превращается в схоластическую хитреную забаву условными значками, по ценности своей нисколько не превосходящую шахматной игры. Но из смысла предыдущего ясно, что именно нужно для жизненности догматики. Тайное слово — в том, чтобы насытить богословские схемы психологическим содержанием, чтобы связать их с непосредственно переживаемым, чтобы сделать их из препарата в спирту нервами и костями живой жизни.
Тут-то мы наталкиваемся на затруднение, перед которым так часто отступают. «Сущность науки, — говорит великий Георг Кантор, — в ее свобод е»
[1009]. Сущность нашей работы, скажем мы, в ее свободе κατ'
εξοχήν[1010]. Переработка религиозного миросозерцания, создание к нему пропедевтики возможны только, как свободное творчество, исходящее из непосредственно–наблюдаемого в духе и не останавливающееся ни пред каким выводом, становящимся на дороге, не боящееся никакой боли, когда надобна операция, когда потребно оторваться от всех традиций, консервативных или прогрессивных, когда обязанность — быть готовым отречься от всего дорогого и близкого и остаться на мгновение в абсолютной пустоте, абсолютной несвязанности. Идти к цели, и, по- видимому, удаляться от нее; работать для Истины и быть беспощадным к Истине неопознанной вполне, как таковой, терять, чтобы получить — тут требуется такая вера в Истину и такая любовь к Ней, для которых нужно собрать все свое мужество, чтобы на пути не отступить вспять.
Однако из этого, конечно, не следует, чтобы мы не имели права пользоваться ничем, кроме непосредственно–наблюдаемого в духе. Мы вполне можем руководиться уже готовыми схемами, но только лишь как предварительными стройками, лесами, позволяющими скорее и целесообразнее обработать сырой материал. Выражаясь образно, скажем: готовому, в данном случае догматам, должен принадлежать голос не решающий, а только совещательный. Роль готовых схем — сначала лишь проба- билистическая
[1011], и ценность — условная, хотя бы мы, индивидуально, считали ее безусловной. Это похоже на математический метод последовательных приближений, с тою только разницею, что тут внутреннее чувство заставляет нас провидеть результат работы. Материалом же (контролируемым Св. Писанием) для последней должен служить собственный наш опыт и опыт других, поскольку он выразился в аскетической и мистической литературах, в изящной словесности, в изобразительных искусствах и в музыке. А кроме того, необходим полный пересмотр свято–отеческой литературы, но не с охотничьим вынюхиванием «подтверждений», а с целью определить психологические данные, заставляющие говорить автора так именно, а не иначе.
Эти непосредственные данные, в связи с вспомогательными данными естественно–исторических наук (изучением физиологической подкладки у явлений духовной жизни) составят базис будущей убедительной догматики.
Мне скажут: «Но можно ли доказывать догматику? Не исключается ли это самим понятием откровения». Заметьте: я вовсе не говорю о доказательстве, разумея под ним доказательство формально–логическое: высказанное требование — в том, чтобы догмат стал интуитивно–прозрачным для сознания, настроенного религиозно, и чтобы было указано, как именно подойти к такому сознанию. Принять или отринуть догмат есть дело волевого акта; но необходимо, чтобы было вполне ясно, что, собственно, мы принимаем или отвергаем, потому что не может быть делом воли признать или отринуть слова. Теперь же так часто верят не в содержание формул, •а в самые формулы, в слова. Тогда только будут подлинно–верные сыны Церкви, когда они будут не привязаны к Церкви, а свободны каждую минуту мысленно спуститься до начал и мотивов своей веры и, спустившись, снова вернуться обратно, потому что того потребует правда. Тогда только у нас наступит время, предреченное самарянской женщине
[1012], когда каждый сможет обозревать все вероучение, от чернозема его до сложных вершин верховных выводов и чаяний.
Для большей отчетливости мы снова охарактеризуем особенность будущей убедительной догматики, наметив вместе с тем некоторые ближайшие задачи.
«В глазах философа, — говорит Η. Μ. Μинский
[1013], — весь мир представляется уравнением с одним неизвестным, которое и есть Бог. Первая часть уравнения — это видимый мир чувственных явлений (разумея его, в самом широком смысле), как мир тварного, условного, тленного, вторая часть его — скрытый в нас мир явлений мысленных, определение же неизвестного составляет задачу жизни всего человечества. При многих или хотя бы при двух неизвестных, при многобожии или двубожии решение получилось бы неопределенное, но уравнение с одним неизвестным, вселенная с единым неведомым богом дает нам точный и определенный ответ». При таком понимании дела находится в зависимости от мира «не Бог, но богопознание. Есть два метода исследования: гадательный, идущий от неизвестного к известному, и истинный, идущий от известного к неизвестному. Так как известное есть мир, а неизвестное — Бог, то при религиозном творчестве можно идти или гадательным путем–от Бога к миру, через определение сущности Бога, его атрибутов и свойств, или истинным путем — от нашей человеческой природы к Богу, через единственно–плодотворное исследование того, что мы знаем о Боге и как это знание в нас возникает. Основной закон религиозного творчества может быть выражен следующим образом: все суждения, ведущие к истинному богопознанию, имеют своим неизменным подлежащим наше человеческое, условное я, а неизменным дополнением — абсолютное божество». Таково начало догматической работы, идущее от человека к божественному. Но мы повторили бы непростительную ошибку всех субъективистов, если бы захотели ограничить работу только на таком начале. Действительно, для философа, поскольку он теоретик, объект религии всегда является только сказуемым при условном я самого философа. Такой философ, действительно, мржет говорить лишь о божественном — не о Боге. Однако, раз только живой мистический опыт выведет его в сферу транссубъективной реальности, то человек и Бог поменяются местами, и Бог, равно как и все объекты религиозного сознания, станет из сказуемого подлежащим. Вместе с тем, догматика из субъективной и условной сделается объективной и безусловной. Гносеологическая зависимость богопознания от человека сменится мистической зависимостью человека от Бога.
Но где именно мост для такого перехода? Чтобы бегло [очертитьі карту пути к переходному пункту, обратим внимание на следующее: мы говорим, что основою для построения догматики должно быть непосредственно переживаемое, и ясно, что спервоначала — это индивидуальные переживания догматиста. Но универсальность задачи требует дальнейшего расширения области переживаний. Необходимо заново ответить на вопрос: из каких и из чьих переживаний строится догматика?
Построение должно быть обще–значимым. Все люди должны иметь доступ к нему. Тут возникает серьезное недоумение. Если догматика в идеале должна быть общей для всех, то переживания, ее основывающие, пр- видимому, приходится взять общие для всех, ходячие и являющиеся разменною монетою духовной жизни. Но кому же неизвестно, что чем шире область общих переживаний, тем скуднее, бесцветнее и банальнее ее духовная содержимость; чем ходячее монета, тем более она истерта. Но мало того; пусть мы остановились бы удовлетворенно на некотором достаточно широком круге переживаний, — таком, который не встречает отрицания ни в ком из известных нам лиц. Однако и тогда мы ничем не обеспечили себя, что не появится завтра же новых лиц, которые и к данным переживаниям слепы.
Таким образом, находясь в зависимости не от достоинства переживаний, но от численности переживающих, определяясь статистическими и, следовательно, внешними условиями, догматика никогда не могла бы представить из себя чего-нибудь твердого, не зыблющегося при малейшем ветерке, и это не в смысле эволюционного изменения и развития на почве уже имеющегося, а просто в смысле постоянной возможности полного «н е т», где только что было «да». Не отыскивается среднего пути между своевольным релятивизмом, сводящимся к абсолютному нигилизму, и рабскою подза- конностью, подменяющею, как и было доселе, живую жизнь мертвой формулой. И этот средний путь недостижим философии вне религиозного опыта.
Тот путь, который оказался непригодным, есть путь общечеловеческий, — метод общего наибольшего делителя, могущего свестись к 1, т. е. к безразличию пустого единства в чисто формальных данных духовной жизни, совершенно не выражающих самой жизни. Но нам необходим путь всечеловеческий — метод наименьшего кратного для всех переживаний во всем их многообразии.
Тот путь был путем отцеживания всего разнородного, всего несходного. Этот путь — путь синтеза, путь собирания всей полноты духовной жизни. Но это собирание не может быть механическим складыванием: духовная жизнь по самому существу своему насквозь пронизана личным характером. И поэтому, если при о б- щечеловеческом пути приходилось бы изучать человека самого бессодержательного, носящего минимум духовной жизни, то при пути всечеловеческом подлежит изучению Носитель максимума духовной жизни. Это–Сын Человеческий, о
ѵі оӯ του ανθρώπου, Носитель идеальной человечности. Пережив Иисуса Назаретского, как Сына Человеческого, как универсального Человека, мы тем самым переходим в новую полосу работы. Его переживания и составляют истинный фундамент догматики. Переживания Иисуса из Назарета есть мост, по которому догматика может перейти от земли на небо, от психологии к метафизике. Но этот переход совершается не сразу. Сперва универсальный Человек Иисус есть только универсальный субъект догматического сознания: мы имеем дело не с тем, что Он есть, а с тем, что у Него есть. Вместе с тем догматика, неизменно оставляя божественное только сказуемым, получает право утверждать за своими суждениями общезначимость, хотя эти суждения все еще не имеют характера метафизического. Отныне она обращается уже не к человеку, а к человечности, и потому может затронуть сердечные струны каждого, рас [ц] весть ярким отсветом во всякой душе. Она опирается [обращается -?] не к idola
[1014], не к обособленному, не к прихотям, случайным ассоциациям или своекорыстным расчетам того или другого индивида, но к вечному, все–человеческому, святому и бескорыстному каждого человека. Не к тому, что лишает человека образа человеческого, но что делает его истинным человеком. Одним словом, догматика начинает употреблять argumenta ad humanitatem
[1015] вместо прежних argumenta ad domincm
[1016], а момент психологии религии сменяется моментом новозаветного богословия. Но это — только первое изменение — по форме.
Но из совпадения в Иисусе самосознания с бого- сознанием
[1017] [1018] вытекает новое изменение в догматических суждениях. Условное человеческое я, доселе служившее безысключительным подлежащим всех суждений, вытесняется новым подлежащим — Богом, в силу чего все божественное в человеке делается лишь сказуемым нового Подлежащего. Суждения делаются метафизическими и относящимися к транссубъективной реальности, а момент новозаветного богословия вытесняется новым — моментом мистического гнозиса. Тут только начинается построение догматики в собственном и подлинном смысле. Последовательность отдельных моментов можно выразить приблизительно следующей схемой:
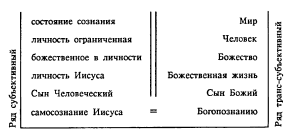
Вот только приблизительный план предстоящей всем нам работы — построения опытной
[1019] догматики. Только тогда, когда будет налицо убедительная догматика, только тогда каждый вполне сознательно ответит на дилемму «или–или» в отношении к Иисусу Христу «пришедшему во плоти» (2 Иоанн 1, 7); тогда только возможна будет дифференциация пшеницы от плевел.
Соль земли,
то есть Сказание о жизни Старца Гефсиманского Скита иеромонаха Аввы Исидора, собранное и по порядку изложенное недостойным сыном его духовным Павлом Флоренским ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ К БЛАГОЧЕСТИВОМУ БРАТУ–ЧИТАТЕЛЮ
Отца Исидора не стало с нами; не стало, — нет его. Благоухал, как цветок, — и скучно теперь, когда увял он. Светил нам, как ясное солнышко, — и померк свет. Был камнем веры; — где наша опора? Всему можно удивляться в нем–любви, кротости и смирению; нелицеприятию, прямоте и независимости; непритязательности, бескорыстию и бедности; ясности, мирности, духоносно- сти; наконец, молитве. Но еще более того изумляет его надмирность. Был в мире, — и не от мира; был с людьми, — и не как человек. Он не брезгал никем и ничем, но сам — был выше всего, и все земное никло и жалко повисало пред его тихою улыбкой. Своим взором он из- ничтоживал все человеческие условности, ибо был над миром, — был свободен высшею, духовною свободою. Казалось, что он не по земле ходит, а подвешен на невидимых нитях к иной стране; от того-то весь он был исполнен внутренней легкости, и все тяжеловесное, земное, подходя к нему, само теряло свою давящую тяжесть. С легкою улыбкой, как бы играя, он мог опрокидывать человеческие условия общежития и — безнаказанно, на радость. Он мог позволять себе то, что выше условий праведности от закона, и делал это с такой ясностью, что всегда были действиями ознаменованными. Простое и житейское не было у него только таким; нет, от этого житейского и простого тянулись длинные корни в миры иные, к «новой земле»
[1020].
Теперь, мыслию и сердцем приникая к тому, «что видели очи наши и что осязали руки наши»
[1021], невольно углубляешься все более и более в жизнь о. Исидора. Все заметнее выступает ознаменованность этой жизни, и все труднее становится работа писания. То тонкое благоухание духовности, которое всегда облаком следовало за о. Исидором, непередаваемо никакими словами, тем более, что словесно, внешне говорить об о. Исидоре приходится слишком немного. Ведь жизнь его внешне была проста, — в ней не найдешь ни занятных случаев, ни увлекательных слов.
Прости же, благосклонный читатель, предпринимаемую неумелую попытку; и если о. Исидор не покажется тебе Ангелом с неба паче, нежели человеком от земли, то возложи вину в том не на чтимого Старца, но на неумелость составителя сего Сказания. Чувствуешь что- то; кажется, — вот–вот схватишь истинное слово об о. Исидоре. Но написанное выходит всякий раз совсем не тем, что есть на самом деле о. Исидор.
ГЛАВА 1 в которой благочестивый читатель извещается о келлии отца Исидора
Чтобы ты знал, любознательный читатель, как живет отец Исидор, соберемся–ко вместе к нему. Мы вышли из Обители Преподобного Сергия Радонежского, прошли Посад и затем пересекли поле, что около скитских прудов. Затем, перейдя мостик, Боголюбивую Киновию и лес, мы оказались меж скитов — Гефсиманского и Черниговского. Только, прежде нежели направиться к Старцу, не позабудем помолиться в подземном храме Черниговской Божией Матери, чудотворной святыне здешних мест. Ведь Старец так любит Ее, что наверняка спросит нас, были ли мы у Неҫ, как спрашивает об этом решительно всякого своего гостя.
Ну, а теперь пойдем без смущения в Гефсиманский Скит. Подымаемся по деревянной лестнице, проходим кладбищем. Вон, виднеется и домик о. Исидора.
Домик, в котором дважды
[1022] [1023] жил о. Исидор, в котором он и умер, расположен в правом углу (если считать от главного входа) Скита, у самой стены. Ранее этот домик принадлежал афонскому старцу Самуилу, в иеромонахах Иоанникию, а после Иоанникия — о. Авраамию, до того пробывшему много лет под землею, в так называемых «пещерах», примыкающих к подземной церкви Черниговской Божией Матери. Домик о. Исидора — маленькая бревенчатая избушечка, состоящая из келлийки, в которой с большим трудом усаживались вплотную четыре- пять человек, да и то на маленьких скамеечках, «при- хожки» (как называл ее о. Исидор), в которой едва- едва усаживались двое, и сеничек; кроме того, к при- хожке примыкала клеть (в ней о. Исидор ставил самовар). И сенички, и клеть были невелики: самовар занимал всю клеть, а в сенях едва могли разойтись двое, и не толстых. Последние два года жизни о. Исидора к его домику пристроили еще холодные сени, — такие незначительные, что едва ли в них могут стоять два человека.
Но в эгом игрушечном домике — много закоулков и уголков. Войдешь в него — и будто вспоминается- вспоминается, а все вспомниться не может, какой-то полузабытый, милый, любезный сердцу сон. Все–самое простое, нищенское; и все — особенное, теплое для взора, тихое. Вещи имеют свои глаза; и обстановка о. Исидора встречала взорами так радушно, провожала такими уветливыми взглядами. Как войдешь — прямо на тебя смотрят святые иконы. У каждой — своя история; каждая связана с каким-нибудь важным именем, но важным не здесь на земле, а в Царстве Небесном. Под иконами — поставец с иерусалимским перламутровым крестом, старым потрепанным Евангелием в кожаном — потертом и лоснящемся — переплете и лампадою на синей стеклянной стойке. Все стены келлии увешаны фотографическими карточками, — все людей связанных духовно с о. Исидором, — картинами, стихами, бумажками от леденцов. Все это — грошовое, но у о. Исидора ничто не бывает бесплодно. Все — символ горнего, все напоминает о высшем. Так и досточудный игумен горы Синайской, святой авва Иоанн Лествичник говорит, что Бого- любцам к радости и божественной любви и слезам свойственно возбуждаться и от мирских и от духовных песней, сластолюбцам же — наоборот
[1024].
Думается даже, что будь на стенах у о. Исидора не лубочные картины, а настоящая живопись, — келлийка потеряла бы свою кроткую уветливость: Бог любит смирение, и в скудости совершается сила Его.
Вот, ты вошел в келлию. Справа от икон — окно, а под ним — столик с набросанными книгами, письмами, бумагами. Слева же от икон — скамеечка, затем–столик, на котором лежали обыкновенно истершаяся епитрахиль, поручи с отрепанными краями и разные нужные вещи, и, затем, полочка. Над столиком–два оконца. На окнах стоят, как говорил Батюшка, «цветы»: банки со мхом, жестянки из-под консервов, — с какой-нибудь выполотой садовником сорной травой, — горлышко бутылки, заткнутое пробкой и налитое водой, чтобы служить сосудом для какого-нибудь «цветка», бутылка с отломанной ветвью ивы; — всего и не припомнишь, что стоит на подоконнике у о. Исидора.
В прихожке — небольшой шкафик с посудой, да столик, на котором иногда устраивался чай. Тут же–деревянные вешалки из суковатых палок, — совсем оленьи рога; и их обязательно показывает посетителю о. Исидор.
Если пройти сенички насквозь, то выйдешь в небольшой садик, шириной никак не более двух аршин, разбитый между скитской стеной и домиком, огибающий домик и огороженный с других сторон высоким тесовым забором с калиткой. Эта — так называемая «Внутренняя Пустынь» о. Исидора, куда он уединяется на молитву и для духовных размышлений. Над «Внутренней Пустынью» растут высокие ивы, иногда всю «Пустынь» убеляющие летящим с них пухом. А Батюшка, с детской радостью, оглядываясь кругом, сообщает: «У меня — снег». Растут еще в «Пустыни» выполотые садовником травы, крапива, лук; иные — в жестянках, подобранных Старцем из сора, иные — прямо в земле. Тут же живут у Старца жабы и всякая тварь живая. Имеется столик на обрубке дерева, еще обрубок для сидения, сидение, сложенное из камней, которые с разных мест стащил сюда хозяин «Пустыни». Но у всего, что ни видит здесь твой глаз, — свое символическое значение: ива — это дуб Мамврийский, под которым праотец Авраам принял Пресвятую Троицу
[1025]; каменное сидение — это Фиваидская скала
[1026]; ветвистые сучья с деревянным крестом между ними, прибитые к дереву (что прямо против калитки) в углу «Пустыни» и напоминающие оленьи рога, — это, по словам Старца, видение Евстафия Плакиды
[1027]. В «Пустыни» нет ни одного уголка без значения. Самый воздух растворен воспоминаниями о жизни Праотцев и Святых, и для о. Исидора события Священной и Церковной Истории гораздо ближе, ярче и живее, нежели сутолока мира.
Если отворить калитку, то можно выйти из «Пустыни Внутренней» в «Пустынь Наружную», лежащую перед домиком. Это — место неогороженное, лишь слегка защищенное деревьями и кустами. Тут, под сенью дерев, вкопан в землю круглый стол, а кругом него — «мебель», как говорил о. Исидор, то есть «диван», «кресло», «стул» и прочее из кривых сучьев и досок. О. Исидор сам сколотил эту мебель. Трудно представить себе что-нибудь более нескладное.
В летнее время Батюшка угощал чаем иногда в этой «Внешней Пустыни». Подведет, бывало, гостя к «мебели» и заявит с улыбкой: «У меня — и диван. Тут очень хорошо полежать, отдохнуть. Я часто тут отдыхаю. Хорошо». «Вот, батюшка, полежите», обращался он иногда к Архиерею. А какое хорошо лежать, — на сучьях, из которых некоторые упираются остриями в бока! Кругом «мебели» располагалось несколько маленьких гряд: две — с овощами, а одна — с клубникой. Тут же произрастал смородинный куст.
ГЛАВА 2, в которой повествуется, как Старец встретил бы благочестивого читателя, если бы этот последний побывал у Старца, когда пришел поклониться святыням Гефсиманского Скита
Вот и все владения Батюшки, о. Исидора. Пойдем же теперь в гости к нему, терпеливый читатель. Принимает ведь всех он ласково, — безвременно и благовременно, и даже незнакомца встречает, как давно знакомого, как близкого, как родного. Ты, кажется, не веришь, читатель, но, право же, все для него — близкие и родные; все для него — отец и мать, и брат, и сестра, даже более того.
Подходим к двери. Если торчит в ней ключ — значит, старец дома. Впрочем, редко когда его нет дома; а если и нет, то он, наверно, скоро вернется. Ведь он уходит лишь в храм, к богослужению, и, редко- редко, — в Посад, к Архиерею в Академию или к каким- нибудь другим своим духовным детям. Но, на наше счастье, ключ торчит из замочной скважины, — хозяин, значит, дома. Стучимся робко пальцем. Не открывает. Вероятно, не слышит, — он плохо слышит. А то, может быть, — у него уже есть кто-нибудь, — исповедуется ли, или желает побеседовать наедине. Постучим сильнее. Так и есть, — он не внял стуку, — может быть, потому что был погружен в молитву. Вот, слышно, он подходит к двери старческой походкой, открывает. Никогда он не спросит, кто у дверей; — принимает всех, и хотя от этого были уже ему неприятности, однако он все не оставляет раз заведенного порядка. Выходит, — в белом холщовом балахоне и в белой холщовой скуфейке. Нередко случается, что он встречает гостей в белых холщовых портах и в такой же рубахе навыпуск; поверх же рубахи — парамант, ноги же — босы или в поршнях, редко — в сапогах. Встречает, просит добро пожаловать.
Входим, раздеваемся. Хозяин кажет свои хитрые вешалки. Крестимся вместе с ним на иконы и просим благословения. Он благословляет и целует каждого из нас, а потом усаживает. Почему-то мы все уже почувствовали, что это благословение — не такое, как прочие, что оно — особенное. Но в чем особенность — никто не скажет. Сначала думается, что она — в полной искренности и убежденности Старца; и правда: Старец глубоко убежден, что благословение исполнено силы, а вовсе не пустой обряд. Потом причину особенности хочется видеть во внутренней, не говорящей о себе лишних слов и однако всякому очевидной любви Батюшки к благословляемому; но и это оказывается далеко не всем. Есть ч τ о–т о, а что- рассудок не имеет. Наконец, отказываешься от рассуждения и говоришь просто: «Это — благодать Божия. От святых всегда такая сила исходила». На этом отказе от рассудочного решения совсем успокаиваешься, и далее все кажется чем-то само собой разумеющимся.
О. Исидор всегда скажет что-нибудь ободряющее. Если мы пришли к нему вдвоем, то он вспомнит об эм- мауских путниках
[1028]; если нас трое, то это — особенно хорошо: «И Аврааму Бог явился в виде трех странников»
[1029]. Иногда о. Исидор приветливо заметит, что именно нас он ждал, что сегодня, как нарочно, ему принесли какой-нибудь лакомый кусочек, или еще, что Сам Бог принес гостей, потому что надо попросить их исполнить то или иное поручение, часто почти придуманное на случай, — чтобы гости подбодрились. Да! Если мы не забыли принесть ему гостинца, то не будем стесняться в передаче: Батюшка берет так же просто, как и дает, поблагодарит и обрадуется. Ведь у него гости — постоянно, а угощать их почти нечем, да и подарочек будет из чего дать (а Старец никого не отпускает без подарка).
Вот, начинает водить по келлии. Новым, впервой приходящим гостям непременно станет объяснять историю разных лиц, изображенных на фотографических карточках. Скажет какие-нибудь стихи религиозного содержа-
иия. Обратит внимание на свои цветы. Потом засадит читать вслух стихотворное переложение псалмов, сделанное одним слепым священником, или же предложит вместе спеть что-нибудь по книге из чино–последования на погребение Божией Матери, совершающееся в Гефси- манском Скиту; даже попросит взять себе книгу на дом к сделать оттуда выпись, чтобы петь по ней и впоследствии, Скажет что-нибудь из Георгия Затворника. Упомянет о Н. В. Гоголе (брат о. Исидора был камердинером у графов Толстых и присутствовал при смерти Гоголя), которого о. Исидор весьма чтит, — главным образом, кажется, за усиленно распространяемые о. Исидором стихи:
К тебе, о Мати Пресвятая,
дерзаю вознести свой глас и т. д.,
которые о. Исидор приписывает Гоголю
[1030].
Затем он оставляет гостей наедине, а сам уходит поставить самовар и приготовить угощение, которым он потчует ото всего сердца. Помолились, приступили к чаю, рассевшись кто на постели о. Исидора, кто в кресле, а кто и на скамеечку. По угощении, о. Исидор дарит что-нибудь, учит своей молитве о пяти язвах Спасителя, высказывает свои сокровенные мысли (о чем — ниже) ‚ оделяет всех рукописными листочками с молитвами и стихами, благословляет и прощается.
ГЛАВА 3, в которой описывается угощение отца Исидора
Когда кто приходит к о. Исидору, то седой Авва засуетится и забегает, как молоденький прислужник, стараясь накормить и напоить гостя, кто бы он ни был. Авва так и боится, чтобы посетитель не ушел не угощенный. Ставится самовар, вытаскивается на стол в прихожку все, что есть. А когда неопытные гости, смущенные этими хлопотами, причиненными Старцу, останавливают его, просят и умоляют поменьше бегать, то Старец всегда ссылается на пример Авраама, ради своего гостеприимства удостоившегося принять к себе Пресвятую Троицу
[1031], и продолжает беготню. Его тут не уймешь ничем, и тот, кто бывал у него несколько раз, уже и не делает более попыток прекратить хлопоты. Если же снова остановить его, то Батюшка скажет, как всегда, что не только Авраама, но и нас Бог может посетить в виде гостя, и опять хлопочет.
И сохрани тебя Бог, читатель, постесняться и отказаться от чего-нибудь из предложенного. Поверь, что твой отказ причинил бы боль Старцу. Он скажет тебе тогда, что от любви нельзя отказываться. Действительно, это — не угощение на столе, а овеществленная любовь. Все, что только ни есть у него, при его бедности, все вытаскивается гостям; если же вспомнит еще о чем-нибудь, — весь обрадуется, вскочит и побежит за забытым. Кусочек арбуза, принесенный предыдущим посетителем, яблоко, сухарик, пряник, несколько леденцов — все разделяется о. Исидором поровну между пришедшими. Себе он не оставит ничего, ссылаясь на то, что он поел уже. Но если его попросишь принять участие в трапезе, он боится оскорбить гостей отказом и берет себе чего-нибудь, — лишь бы гости были спокойны.
О. Исидор любит смешивать вместе то, что считается несмешиваемым. Так, был у него горшок знаменитого варенья — мешанина из остатков вишневого обыкновенного, винных ягод, клюквы, изюма, кваса и, кажется, редьки. О. Исидор рассказывает иногда о том, как он готовил это варенье, и с улыбкой сообщает: «Иным не нравится, а мне — ничего, вкусно». Этим вареньем он угощает лишь избранных, «совершенных», как шутит он, в которых он уверен; прочим же он дает варенья обыкновенного. Действительно, на то есть причины: не привыкшие сдерживать себя едва могут проглотить ложечку аскетического варенья. А о. Исидор ест несколько ложек его, да похваливает.
Даже в таких мелочах, как «мебель» о. Исидора, его «варенье» и т. п., невольно видится тонкая, но очень поучительная ирония над роскошью мира, — независимость Старца от мира, его над–мирность. «Вы думаете удивить меня, носителя Духа Божия, вашею мебелью, вашими вареньями, вашими житейскими удобствами, а я, вот, и не обращаю на вас со всеми вашими удобствами никакого внимания, потому что когда есть Дух, тогда и моя мебель, и мое варенье хороши, когда же Его нет, — то и все ваше никуда не годно». Вот, думается, что безмолвно говорил Старец своей «мебелью» и своим «вареньем». Однако эта безмолвная речь, будучи, так сказать, самым цветом и соком юродства Христа ради, внешне была совсем отлична от него по своей тонкости. Но если и к этой, тончайшей иронии над миром применить имя юродства, то тогда Батюшка о. Исидор может быть назван юродивым Христа ради. Эта юродивость была, кажется, прирождена ему, и потому ни одной черточки в такой юродивости не было придуманной, преднамеренной, деланной.
Наподобие варенья приготовлялась иногда еда, в которую о. Исидор замешивал салат, оливы и все, что угодно. Смесь получалась такая, что когда о. Исидор пытался угощать ею, то все отказывались, а Батюшка, с ласковой усмешкой, говорил: «Ну, попробуй хоть».
Как тут, так и во множестве других случаев невозможно провести межу, которая отделяет его простоту и любовь от его независимости в отношении ко всему в мире. Он все опрокидывал и — так, что невозможно было увидеть здесь и тень самовольства или чего-нибудь показного. Его простота была иронией; его ирония была самой простотой. Он мог опрокинуть все существующие условности, на все взглянуть оком вечности; и–удивительное дело — он делал это, никого не оскорбляя. Он громил все, что было у его собеседника; он сталкивал всякого с высоты человеческого самодовольства и полагал его вровень с землей; он втаптывал в грязь всякое самомнение. И (поразительно!) невозможно было возмутиться этим разгромом: о. Исидор смотрит, — детски–ясно, как бы не подозревая, что он наделал. Сбил со всех позиций, и ни одного луча самодовольства, или самолюбия, или гордости не блеснет в его открытых, ясных глазах. Сделал и… как будто это не он. Сбил самомнение, но непонятно, как он это сделал, чем. Лучше всего это сравнить с человеком, заряженным электричеством: коснулся он рукой к кому-нибудь, тот почувствовал сотрясение, но не верит своим глазам. Ведь коснувшийся его как был с виду простой человек, — таким и остался. Так и наш Батюшка: пустит искру, а сам стоит по–прежнему, — в белом балахоне, или в рубахе и портах, ласково улыбается. Так и подумаешь снова: «Просто хороший старик, и ничего более!»
Однако возвращаемся к рассказу об угощении о. Исидора. Приходят однажды в келлию к о. Исидору именитые гости и застают его за самоваром, — Авва варит в самоваре картошку. Предлагает гостям чаю, но гости, лишь бы избавиться от такого угощения, решительно отказываются. Тогда о. Исидор перевернул самовар, вылил воду и рассыпал по полу картошку. «Воды не бойтесь, — она теплая, ее сейчас не будет. А картошку
доварю после», — заявил он гостям, а сам стал снова ставить самовар, поняв причину предыдущего отказа гостей.
Как-то приезжает к о. Исидору Архиерей, а Батюшка, в одном белье, копается у своих грядок. Архиерей смеется: «Ну — щеголь, ну — щеголь». «Ладно, ладно, садись, батюшка», — отсмеивается Старец. Начинается угощение.
Не помню, в тот ли, или в какой иной раз, сидит о. Исидор с Преосвященным Епископом Е. во «Внутренней Пустыни». На хромоногом столике — пред ними стаканы с чаем и, в заржавленной жестянке, из-под сардинок, — несколько сухарей и полтора старых пряника. Заговорились, а в это время задождило, так что и гость и хозяин спрятались «под дуб Мамврийский» и под его сенью продолжали беседу. После дождя о. Исидор собирает чайную посуду и находит оставленные на столе сухари плавающими в жестянке. Несколько дней спустя тот же Епископ снова пьет чай у Батюшки. И опять Старец выносит жестянку с сухарями, предлагая доесть то, что осталось от прошлого раза. «Да ведь они размокли тогда», — заявляет Епископ недоуменно. — «А я слил воду и высушил сухарики, теперь они снова хорошие», — объясняет Старец.
Вот еще один случай, сохранившийся в памяти. Однажды Преосвященный Епископ Е. шел по лесу около Ви- фании. Попадаются навстречу два вифанских семинариста. «Что делаете?» — спрашивает Епископ. — «Гуляем». — «Чем считать деревья, вы бы лучше людей посмотрели». — «А кого?» — «Вы слыхали про о. Исидора?» Завязался разговор, и Преосвященный привел учеников к Старцу. Тот встретил их, как всегда и всех, с приветом и любовью, вытащил по ржаному сухарю и дал испить квасу, а потом побеседовал. Семинаристы ушли сияющие и в восторге.
Да, читатель! Ты, пожалуй, не поверишь, что и теперь, когда я пишу эти строки, слезы благодарности и умиления навертываются на глаза при одном воспоминании об этих угощениях о. Исидора. Ведь эти ломти арбуза, сухари или кусочки яблока не были просто едой: нет, они всегда представлялись ломтями и кусочками любви и ласки.
ГЛАВА 4, сообщающая читателю о подарках, которые делал Батюшка отец Исидор всякому, с кем бы ни приходил в касание
Если крайнюю степень увлечения доброделанием можно, не совсем точно, назвать страстью, то про отца Исидора можно сказать, что у него была своя страсть — единственная, — а именно, страсть дарить. Никто не уходил из келлии Батюшки без подарка. Никого не посещал он без подарка, никуда не являлся с пустыми руками. Всегда принесет с собой что-нибудь: то просфорку, то масло от Божией Матери, то листок с молитвой, то икону. Даже в чужом доме его не оставляла забота об угощении. Бывало придет, например, к Преосвященному Епископу или еще к кому-нибудь и вытаскивает хвост редьки, мороженное яблоко, баночку варенья, пряник или еще что-нибудь.
Делая подарки, он думал не о пользе, а проявлял свою любовь, и потому не стеснялся ничтожностью подарка; бывало, что принесет он летом огурец с собственной гряды или на лопухе ягод десять — пятнадцать собственной малины и вручает с радостью.
Даже не видя лично кого-нибудь, он старался доставить ему знак любви — какой-нибудь подарочек. Бывало придешь к нему — подарит он что-нибудь, а потом дает поручения: «А вот еще пряничек, — это отнеси Сергию. А вот просфорка — это такому-то».
Однажды пришел некто к нему после летних месяцев отлучки из Посада. Старец и обрадовался: «А, вот ты пришел. А я для тебя сколько времени храню тут две ягодки на кусте». И действительно, на малиновом кусте, несмотря на осеннее время, все еще висели две ягодки. Старец сорвал их, положил на лист какой-то травы и дал с любовью. Но тут вспомнил, что надо еще послать тоже давно намеченную редьку Преосвященному Епископу Е.
Пошел тащить ее из земли. Присутствовавший при этом предлагает ему свою помощь, потому что старый Авва еле ходит и тщетно теребит редьку за листья. Но Авва отказывается: «Раз подарок то надо сделать самому». Теребил–теребил листья редьки и оборвал их. Стоит над редькой в недоумении. Но потом нашелся. Побежал за ножом и за кружкой, набрал в кружку дождевой воды из кадки, стал поливать кругом редьки водой, чтобы умягчить землю, потом окопал редьку ножом, вытащил редьку и, торжествуя, пошел мыть ее в кадке. Вымыл, завернул в чистую бумагу и передал для Епископа, со словами: «Пусть покушает: она вкусная». А Епископ, получив редьку, поцеловал ее и спрятал в почетное место.
Но в особенности о. Исидор любил дарить приходивших к нему. Он явно страдал, пока не придумает, что подарить своему гостю. Осмотрит все свое имущество и, пока не отыщет чего-нибудь подходящего для подарка, не успокоится. И так — не только с мирянами или вне–скитскими духовными, но и со скитскою же братией.
«Я приносил ему ужин, — рассказывает один послушник, — и каждый раз он давал три конфетки: «Вот тебе утешение: ты ведь принес, трудился». А ведь ему это надо было покупать. Совестно было брать подарок».
Таких случаев очень много, ибо кого не утешал о. Исидор, а утешивши, кому не делал подарочка. В крайнем случае, если ничего не было у него, он готов был подарить самое нужное ему самому, лишь бы только подарить.
Незадолго перед смертью он разделил все свое имущество. Но об этом будет поведано ниже.
ГЛАВА 5, выясняющая читателю, как любвеобильно отец Исидор относился ко всем людям
Проявлять любовь к людям — богатым и бедным, знатным и простым, чиновным и нечиновным, чистым (если бывают чистые люди) и грешным, православным и неправославным, даже нехристианам, даже язычникам — было для о. Исидора такою, и даже ббльшею, необходимостью, как дышать. Он оказывал добро направо и налево, не задумываясь и не соображая, просто и естественно, — точно не подозревая, что он делает нечто особенное, нечто исключительное, единственное. Никогда не было, чтобы он отпустил человека, не сказав ему чего-нибудь назидательного, утешительного и ободряющего. Пройдет мимо — непременно скажет нечто хорошее; увидит омраченное лицо — непременно снимет скорбь. Если кто нуждался в помощи, — о. Исидор отдавал все, что у него было. Если этого было недостаточно, — он просил — осторожно, смиренно, кротко, даже застенчиво, у других. Если и этого не было, он готов был отдать все, что
попадалось ему под руку. А так как нуждавшиеся в помощи всегда толпились около о. Исидора, то у него никогда ничего не бывало. Только получит от кого- нибудь несколько денег, — и на другой день уж наверно от них ничего не осталось. Зная невозможность для себя отказать в помощи, о. Исидор, получив какую- нибудь трехрублевую бумажку, всегда спешил разменять ее на более мелкие монеты, чтобы хватило бы на нескольких нуждающихся; а иначе он отдал бы все деньги первому пришедшему к нему. Часто деньги посылал он в разные концы России, — какому-нибудь томящемуся в тюрьме, какому-нибудь солдату, угнанному далеко от родины, и т. д. Часто отдавал он пришедшему свой скудный обед, а сам оставался не евши. «Приходит бедный, — оправдывался о. Исидор, — говорит, что три дня не ел, и в доказательство своих слов целует мой грязный подол. Ну, как же ему не подать». Но так оправдывался о. Исидор. Часто он давал сам, что было у него, не дожидаясь просьбы. И часто его обманывали.
Сделало его скитское начальство рухольным в Ските, т. е. заведующим складом одежды и белья, а он все там и роздал.
«Вся жизнь о. Сидора, — говорит один из скитской братии, — вся жизнь его была основана на любви и посвящена бедным. Кто беден, кто забит, справедливо или несправедливо, — сейчас же к о. Сидору, больше ни к кому. От него не утешенным не уходил никто. Он раздавал все, как евангельская вдовица. В одно время один попросил у него сапоги, дойти куда, а потом и пропал. А о. Сидор зимою в башмачках и чулочках ходил».
- Кто же взял сапоги?
- «Да разве он скажет».
Зная, что о. Исидор все равно раздаст свою одежду, скитское начальство перестало выдавать ему новые вещи. Вот как рассказывает об о. Исидоре один брат из Скита: «У него–детская простота и неограниченная к людям любовь были уж давно. Бедность была… Это никто не может отрицать. Сколько лет я живу тут, и не видел на нем новенького подрясничка! Никто не скажет, чтобы видел о. Сидора в новых сапогах; что давали, то и носил. А хорошего не давали, потому что знали, что отдаст». Действительно, у Батюшки не было даже приличной ряски и, когда надо было выйти из Скита, например к епископу, в Академию, то Батюшка занимал ряску у о. Авраамия. А ряска эта была с прошлым, ибо
носил ее сперва о. Галактион в Лавре, а потом купил у него за 10 рублей о. Авраамий. С ним же о. Исидор был довольно близок.
По словам старца Авраамия, «о. Исидор прилежал больше к мирским… У него всякого рода люди бывали».
Всякого рода люди — монахи и священники, артисты и преподаватели, студенты и семинаристы, солдаты, мещане, крестьяне, рабочие — кто только не посещал его. К нему приходили за денежной помощью, за утешением, с недоуменными вопросами, от жизненной усталости, боясь наказания, с тяжкими грехами, от великой радости, желая передать что-нибудь для бедных, чтобы помириться с врагами, чтобы устроить семейные дела, чтобы исцелить недуг, чтобы изгнать беса — зачем только не приходили к нему. Всех он встречал с любовью, всех старался удовлетворить. Но особенно любил он отверженных, даже виноватых. Если все отвернулись от человека, именно тут-то о. Исидор и начинал проявлять свою любовь более всего. Вот хотя бы одно семейство. Ходили слухи про разные темные дела его, — что оно многих обмануло, что его преследует полиция. Но о. Исидор относился к нему с какою-то особенною заботливостью; посылал им подарки; все, что ни получал, все им отдавал; пекся о них, как только мог, и поручал это делать и другим.
Вероятно поэтому же с какою-то особливою нежностью относился о. Исидор и к евреям. Когда ни придешь к нему, всегда сообщает он что-нибудь про какого-нибудь из привлеченных к христианству через его любовь «еврейчика», как он говаривал. Бывали у него крестники «еврейчики», и он продолжал заботиться о них всю их дальнейшую жизнь. В келлии у него висела фотографическая карточка одного такого еврея с семьею (помнится, парикмахера), и Батюшка всегда объяснял новым гостям, какой он хороший человек, точно боялся, что обидят его «еврейчика» и скажут что-нибудь худое про него. Один из таких «еврейчиков», подлежавший набору, по простоте души (так, по крайней мере, объяснял Батюшка) не явился куда следует и уехал, за что был посажен в тюрьму. Оттуда он присылал Батюшке письма, исполненные тоски и смертельного ужаса, жаловался на нищенское свое положение, умолял о молитве и о деньгах, сообщал, что только воспоминание об о. Исидоре и подаренная им икона не дают ему наложить на себя руки. О. Исидор беспокоился, как если бы дело шло о родном сыне, посылал последнее, что было у него, и просил приходивших к нему послать что-нибудь «еврейчику», писал ему своими едва читаемыми старческими каракулями. Это–один из многих случаев; всего не упомнишь, да и что вспомнишь — не написать: слишком много было добра в жизни о. Исидора.
Подобным же образом за два года до смерти Батюшка возился с одним молодым корейцем, несмотря на то, что подвергался из-за этого обвинению, будто бы принимает к себе японского шпиона.
Часто бывало, что долгое время он кормил кого- нибудь у себя своим собственным обедом. Так, одного он кормил целую зиму. Но тот украл у Старца будильник и, притом, Старец застал его за этим делом. О. Исидор жалуется одному брату: «Все бы, Миша, — ничего, только, вот, молоток он взял, гвоздика заколотить нечем». Молоток, впрочем, потом нашелся. Но когда впоследствии у Старца спрашивали: «Чтб, Батюшка, у Вас украли будильник», то он, виновато улыбаясь, говорил: «Ничего не украл, а взял», и переводил разговор на иное.
Подобным образом о. Исидор около трех лет, до самой своей смерти возился с одним рабочим, которому оторвало машиною руку. Отец Исидор называл его обыкновенно «безруким». Этого «безрукого» он сам кормил ложкой, раздевал его и одевал, доставал ему денег и неоднократно спасал от попыток к самоубийству. Получит какое-нибудь подаяние — и, не теряя времени, спешит передать «безрукому». Кого только ни просил о. Исидор за этого калеку! О чем бы ни шла речь, Батюшка, бывало, непременно свернет ее на «безрукого» и начнет ходатайствовать о нем. Много Старцу было хлопот с ним. Но, из многого выбирая немногое, поведаю тебе, читатель, о некоем случае. Однажды приходит к о. Исидору один студент и видит такое зрелище: рабочий возбужденно уверяет Батюшку, что он, рабочий, должен застрелиться или удавиться, ибо к этому его, будто бы, приговорили революционеры. Батюшка тогда обращается к вошедшему студенту и сетует на рабочего. Но если и слбва Старца «безрукий» не принимал в сердце, то неужто послушался бы студента? Так, конечно, и не внял его уговорам. Ну, не добившись уми- рения, Старец и студент преклоняют колена и молятся о вразумлении калеки. Затем о. Исидор спешит к старцу Варнаве, чтобы и того привлечь на помощь; но о. Варнава, вероятно, провидя в чем дело, отказался участвовать в беседе с «безруким». Тогда старый–престарый Авва о. Исидор вместе с «безруким» снова плетется за ограду скитскую, — в номер студента, снятый им в монастырской гостинице. Здесь они опять угощают рабочего чаем, уговаривают, просят, умоляют оставить задуманное. Батюшка изобретает все новые и новые средства: приносит просфору, по кусочкам дает ее рабочему, снимает с себя — великую святыню — свой собственный перламутровый крест, привезенный Батюшке из Старого Иерусалима неким странником, и, сняв его со своей шеи, надевает на шею рабочего; потом приносит откуда-то денег (своих-то у него, конечно, не было — как всегда!) и дает рабочему и говорит ему, что это Господь послал тебе в утешение. Но не уязвляется любовию ожесточившееся сердце. Тогда восьмидесятилетний Старец земно кланяется рабочему и просит его образумиться. Так же кланяются рабочему и студент со своей молодой женой, которая присутствовала при этом увещании. И рабочий кланяется Старцу. Чем кончились бы все эти просьбы, неведомо никому, кроме только Бога. Вдруг стучится коридорный и просит студента освободить номер, ибо узналось, что безрукий был политически неблагонадежным. Студенту пришлось собрать пожитки и поскорее удалиться из гостиницы. А Батюшка стоял у ворот Скита и, провожая уезжающего студента и жену его, говорил словами Спасителя: «Блаженны изгнанные правды ради»
[1032].
ГЛАВА 6 в которой православному читателю рассказывается об уподобляющей человека Творцу и Создателю его Богу милости Аввы Исидора ко всей твари Божией, — к бессловесным скотам и к земным произрастениям и ко всему, в чем жизнь дышит
Милостив был ко всем и даже к созданиям неразумным Батюшка Авва Исидор. Заботился не только об имеющих образ Божий, но и скотов бессловесных жалел; — о со- воздыхающей человеку твари пекся
[1033]. Он призревал и кормил зверей и птиц; у него водились даже гады: лягушки, мыши и крысы. А если Старый Авва хворал, то и тогда не забывал младших братий, — заставлял других покормить свою семью. Вот, даже перед смертью спрашивал у одного знакомого семейства о здоровье кошки. «Ну, как, — говорит, — поправилась ли кошка?» — Поправилась. — «Ну, слава Богу, слава Богу».
Бывало: закусит кошка какую-нибудь птичку, и лежит та на дороге. Отец Исидор с трудом нагнется, непременно подберет раненую. Вот какой-нибудь воробышек с поврежденным крылом и живет в келлии Старца до излечения.
Как-то спрашивают его некие: «Батюшка, Вам не мешают мыши?» Старец улыбается: «Нет, ничего, не мешают. Я им даю ужин и обед, они и сидят спокойно. Раньше бывало: все скребут по келлии. А теперь я кладу им поесть, — около дырочки, — они и не бегают. Нет, ничего, не мешают».
«У меня теперь гость, я не один живу», — говорит раз Епископу Старец. Епископ посмотрел, вопрошая взглядом. — «Лягушка, вот, прибежала в Пустынь», — объясняет о. Исидор с радостной улыбкой. — «Ведь они убегают», — говорит Епископ. — «Да, она убежала, а потом вернулась. Я теперь ей попою, поговорю с нею, — вот она и не убегает». И действительно, на одном из камней «Фиваиды» (о которой уже знает внимательный читатель) сидела большая лягушка. Авва же, низко склонив седую бороду над бессловесной тварию и смотря своими ясными глазами прямо в глаза лягушке, пел ей старческим голосом псалмы Кроткого Царя Давида.
Иной Авва, святой Макарий Великий, неоднократно говорит, что как солнце, освещая своим светом и нечистоты, и грязь, от того не сквернится, но пребывает чистым, так и благодать Божия входит во всякую душу и остается незапятнанной
[1034]. Вот, и от Аввы Исидора Гефсиманского исходила благодатная сила на все, что ни приближалось к нему, на человека и на скота, и все же Авва оставался надмирным, помощью Матери Божией «сотворяемый превыше мирского слития».
Особливую любовь имел Старец к растениям, к травам, к цветам, ко всякому былию, порождаемому землей. Увидит, бывало, выполотую сорную травину, подберет и посадит у себя во «Внутренней Пустыни» или же в комнате, — в коробке из-под сардин, найденной где-нибудь на дороге. Так он поступал, потому что жалел безмолвных и тихих детей земли. По той же причине натыкал он в «Пустыни» крапивы. Того же ради подбирал сломленные ветви и ставил их в воду.
Старец не допускал и других зря губить тварь Божию. «После правил как-то пособрались мы вместе, — рассказывает один из братий скитской. — А у Старца росла под окном трава — (из нее сикалки делают) — ягель. А мы, не спросившись, срезали. Отец Исидор выходит и говорит: «Кто это сделал?» Бывший со мной говорит: «Срезал Михаил, а привел — я». — «Ну, молись на Воскресенскую Церковь». Тот становится на колени и молится. Потом о. Исидор зовет его к себе и дает три конфетки в утешение за то, что сказал ему строго. А о. Исидор ухаживал за этим ягелем, поливал его».
Многое еще можно было бы рассказывать тебе, читатель, про милостливость Старца ко всей твари. Но и рассказанного достаточно, чтобы засвидетельствовать, что он был воистину печальником за мир и аввою (что значит: отец) не для людей только, но и для всего, что дышит и живет на земле.
ГЛАВА 7, показывающая, сколь кроток и незлобив и миролюбив был Авва Исидор, а также повествующая о прощении им всякой обиды, нанесенной ему
Независимый и свободный был отец Исидор. Но он же был исполнен кротости и незлобивости, прощения и неосуждения. Никого он не осуждал, ни на кого не гневался, все терпел; прощаемости же его не было конца. Если он замечал, что на него кто-нибудь раздражается или обижается, то сей час же просил прощения, хотя бы и не был ни в чем виноват. Если кто-нибудь оскорблял ҽго словом и, несмотря на все старания Батюшки, все же не смягчалося сердце оскорбителя, тогда Батюшка тихо уходил в сторону и дожидался благоприятного случая.
И других также он побуждал к тому, образ чего давал им непрестанно. Если в присутствии Батюшки говорились слова осуждения, то он кротко, но твердо и со властию останавливал их, — так останавливал, что далее нельзя было сказать ни слова. Если он видел, что кто-нибудь находится в ссоре с другим человеком или даже просто охладела их взаимная любовь, то всегда он побуждал идти мириться и просить прощения, — побуждал того именно, кто с ним разговаривал, хотя бы он и был вполне прав. О. Исидор просил о том, умолял, наконец требовал того, требовал тихо и кротко, однако настойчиво и решительно, так что никто не посмел бы ослушаться этого Старца.
Что происходило между этим духовным Отцом и его духовными детьми, — это знают лишь говорившие, да Отец их Небесный. И ни одному человеку о. Исидор не проговаривался об этой вещи ни единым покиванием головы. Эти обличения навеки тонули в духовной глубине Старца, подобно камешку в глубоком озере. После же того, как дело было кончено, он как будто совершенно изглаживал его не только из своей души и памяти, но изгонял из самого бытия. Значит, нет теперь ничего этого, и говорить не о чем. Но стоит рассказать тебе, читатель, несколько случаев из жизни самого Батюшки.
Было некогда, что долго он держал у себя, кормил и содержал одного исключенного семинариста. Но семинарист оказался неблагодарным и вселилась в него от исконного врага человеческого Диавола худая мысль: задумал он зарезать Старца и ограбить его нищенское имущество. В отсутствие Хозяина, у которого жил этот семинарист, стал он шарить всюду, искать денег. Тогда приходит о. Исидор. Семинарист, вот, и замахнись ножом на него, требуя: «Давай деньги!» Однако денег у о. Исидора не было. Ведь он все раздавал первому попросившему.
Вот, пока семинарист, с ножом в руках, требовал несуществующих денег, прибежала братия и защитила Старца.
Отец Игумен и говорит Старцу с упреком:
«Зачем же ты их (т. е. нуждающихся) принимаешь?»
А Старец извиняется:
«Батюшка, ведь нельзя же с меня, старика, требовать Бог знает чего! Ведь это у меня одно утешение!»
Так ничего с ним не поделал и о. Игумен, о. же Исидор продолжал пускать к себе людей, которые иногда поступали с ним худо. Но только Батюшка тщательно скрывал последнее; и узнавалось это как-нибудь случаем.
Что же было далее того? А вот что: над семинаристом нарядили суд, но о. Исидор спас своего злодея от наказания. На суде как стали отбирать показание у Старца Исидора, его и спрашивают, хотел ли он-де тебя зарезать. А Батюшка: «Нет, — говорит, — он меня и не думал зарезать». Ну, суд, конечно, удивляется: «А как же он ножом замахнулся и кричал, что зарежет?»
- «Кричал… Мало ли что кричат, разве непременно хотят зарезать».
Семинаристу так и было на суде заявлено, что его отпускают по причине Исидорового показания.
Вот еще какой случай однажды вышел. Отца Исидора на кухне раз оскорбили. Пришел он было на кухню просить чего-то, а ему помощник о. келаря так грубо отказал в просимом. Подумай сам, читатель, стал ли бы такой человек, как отец Исидор, просить чего лишнего? Но, если бы и впрямь попросил лишнего, кто смеет судить его? А тут ему было отказано так грубо, что оскорбление было явно. За этот ли грех свой, или по какой иной причине, но случилось так, что обидчик, вскоре после сказанного происшествия, сильно заболел, слег на одре и был при смерти. Как только узнал про то о. Исидор, приходит ко своему оскорбителю просить у него прощения: «Я тебя, мол, может, оскорбил, просил — что, может быть, и не нужно…» После того помощник о. келаря поправился.
Батюшка о. Исидор не только прощал другим их прегрешения против него, но и покрывал любовию своею грех брата, — старался скрыть его от других. Был, например, частым посетителем его некий не то послушник, не то мирянин, ходящий в послушнической одежде. Батюшка постоянно поил его чаем, помогал ему, хлопотал за него. Но этот «послушник» поступал нехорошо с о. Исидором: придет к кому-нибудь из чтящих Батюшку и от имени Батюшки просит чего-нибудь. Неизвестно, догадывался ли об этом Батюшка, но однажды дело открылось. Приходит сказанный «послушник» к некоему духовному сыну о. Исидора и от имени отца Исидора просит конвертов, почтовой бумаги и марок. Тот и говорит: «Хорошо, сегодня буду у о. Исидора, так занесу сам!» Приходит он к Батюшке, передает ему сверток и говорит: «Вот, Батюшка, Вы просили…» А Батюшка отрицается: «Нет, я не просил…» «Мне так сказал брат имярек». Батюшка на мгновение задумался, потом сразу понял, что тут было злоупотребление его именем, но захотел покрыть грех брата. Сильно смущенный неожиданным открытием, с явным чувством стыда за брата он решил не настаивать на том, что он не просил себе почтовых принадлежностей. «Хорошо, что ты принес бумаги, понадобится», — сказал он, взял сверток и перевел разговор на что-то другое. Так он и не выдал согрешившего, не осудил его.
И не только сам о. Исидор прощал другим обиды, но и других побуждал к тому же. Водворять мир было для него потребностью. Вот один пример того, и из сего примера читатель узнает заодно отношение о. Исидора к ставшему впоследствии его сыном духовным известному старцу о. Варнаве. Рассказывает некий диакон, студент Духовной Академии, что незадолго до смерти Батюшки он навестил Старца. Этот последний читал в то время Жизнеописание о. Варнавы и потому заговорил об этой книге, одобрил ее, но, кстати, указал на неточность рассказа, помещенного на 17–й странице. Вот как передал этот случай о. Исидор.
Однажды к о. Варнаве, тогда еще послушнику Василию, пришел знакомый солдат. О. Варнава радушно принял его и подарил на память ему святое Евангелие, которое сам получил в подарок от Старца своего Даниила. Последний, узнав происшедшее, призвал своего послушника, спросил его о св. Евангелии и, когда о. Варнава сказал всю правду, то Старец Даниил разгневался и не велел послушнику показываться к нему на глаза. Тут-то и помог о. Исидор. С глубокой скорбью пришел о. Варнава к своему другу и учителю (о. Исидор учил о. Варнаву читать по черточкам, то. есть по ударениям) и поведал свое горе, не видя возможности исправить случившегося. Но о. Исидор нашелся. «Не тужи, — сказал он, — есть у меня такое Евангелие; ты возьми его и отдай солдату, который еще в гостинице, а свое у него возьми. Потом вместе пойдем к Старцу просить прощения». Так и сделали. На коленях пред Старцем Даниилом молил о прощении своего друга о. Исидор, в то время как виноватый плакал. Старец смягчился от такой умилительной просьбы и примирился с о. Варнавою.
ГЛАВА 8, из которой чистосердечный читатель усмотрит, что великое смирение о Духе Святом сочетается с великой независимостью
Да будет тебе ведомо, внимательный читатель, что великая скромность и глубокое смирение обитало в сердце Отца нашего Старца Исидора. Он редко говорил о своих делах Бога для, да и то только ради назидания; вообще же скрывал их. Никогда он не выставлялся, никогда не говорил о себе так, чтобы поставить себя выше собеседника. Добро свое он скрывал не только от других, но и от себя самого: сделал и, как бы, забыл о сделанном. Воистину, по слову Господа Иисуса Христа, Спасителя Нашего, правая рука его не знала, что делает левая. Потому он никогда не мнил о себе, но всегда считал себя за ничто и совершенно искренне был уверен, что хуже его нет ни одного человека. Иногда в сердце собеседника, присидевшего Авве Исидору, взыгрывалась радость при созерцании этой плото- носной небесной красоты; бывало, что с уст срывалося восклицание: «Батюшка, какой Вы хороший!» Но Авва с недоуменным видом отрицался: «Ну, какой хороший, — дурной, последний человек».
В Авве не было гордости. Каждого он мог просить, пред каждым мог даже стать на колени, каждому мог целовать руку, если того требовало духовное врачевание. Смирял же себя он без напряжения и без надлома, — просто, как будто самосмирение дело обыкновенное. Но великое духовное смирение сочеталось в о. Исидоре с великою независимостью. Для сего Старца не было человека, пред которым он возгордился бы, сколь ни был бы этот человек ничтожен и презренен и грешен. Но для Старца не было также и такого человека, ради которого он изменил бы самому себе, сколько бы ни был он влиятелен и чиновен. Пред всеми Авва говорил то, что думал; а пред людьми именитыми — в особенности. И еще да будет ведомо тебе, читатель, что Авва никого не боялся, ни пред кем не искательствовал, ни для кого не забывал своего достоинства человеческого, всегда чувствовал себя само–властным, свободным и подчинялся одному лишь Богу.
Так, еще в бытность свою безусым и безбородым келейником Наместника Лаврского Антония, однажды он вмешался в разговор его с Митрополитом Московским Филаретом
[1035]. Великий Иерарх и мудрый Наместник сидели за чаем и думали сообща о необходимости вселенского собора и о соединении с католиками. Но возникал вопрос, кто же будет первенствовать на соборе. Предвиделось, что ни православные, ни католики не захотят уступить, и собор не состоится. Входит о. Исидор с подносом, уставленным чайною посудою. «А Божия Матерь, вот Кто будет Первой. Так председательское место и оставить незанятым: оно будет для Божией Матери».
Всю жизнь лелеял о. Исидор эту мысль о необходимости соединить Церкви, и церковное разделение было для него личною болью и личною обидою. «Все мы дети Матери одной, не можем видеть страданий Матери родной», — скорбно приводил он на память какие- то стихи, и делал это очень, очень часто, — видно, мысль о разделении Церквей сильно беспокоила его. Иногда же добавлял еще: «А ведь все–одна канцелярия, из-за одной буквы: мы — кафолики, а они — католики. Надо молиться Божией Матери. Чрез нее произойдет это соединение, а людскими силами не может быть совершено». Соединение Церквей Восточной и Западной Батюшка связывал с последними судьбами мира и иногда, указывая на происходящее в России и за границею противо–хрисгианское движение, говорил свою более затаенную и более сокровенную, выношенную мысль: «Близки времена Антихриста. Вот скоро будет такое гонение на христиан, что придется прятаться».
При этих словах о. Исидора нельзя было не верить, что воистину это так. Его безоблачное лицо туманилось, исчезала на мгновение ясная улыбка, глаза смотрели серьезно, проницая будущее. Делалось страшно: вот, идет ч τ о–т о, надвигается… Но проходило это мгновение, — и пророческая, вещая серьезность скрывалась, таяла, исчезала. Однако это единое мгновение настраивало надолго.
Мысль о церковном единстве, в связи с этими грозными предчувствиями, была одною из наиболее заветных мыслей Старца. Однажды он написал даже письма об этой вещи Государю Александру III, Гладстону и Бисмарку. Письма были карандашом, еле–грамотны и, конечно, по- русски. Гладстону и Бисмарку Старец послал, кроме того, некоторые наши богослужебные книги и молитву к Божией Матери, составленную Н. В. Гоголем. Неизвестно, дошли ли посылки и письма, отправленные в иные страны, но известно то, что письмо к Государю дошло до Двора и оттуда был прислан выговор в Скит. Впоследствии о. Исидор сам рассказывал неоднократно о своих подвигах и слегка смеялся над неожиданным исходом дела. Но он продолжал быть бесстрашным и независимым.
Сам он сообщал и другие случаи из своей жизни, как ярким светом освещающие его независимость.
В наместничество Леонида (был такой Наместник Троице–Сергиевой Лавры) монахами овладел страх. Леонид ранее был военным и военные нравы принес с собою в монастырь. Известен, например, случай, как он насильно извлек из-под земли последних подвижников, спасавшихся в пещерах (где ныне Черниговская Божия Матерь) уже много лет, и заставил их есть вместе со всеми. «Что за посты такие!» — говорил о. Наместник.
Все трепетало этого пастыря, и в монашестве не хотевшего порвать с полковничеством. Отсюда понятно тебе будет, читатель, что о. Исидор, — как всегда бесстрашный, — уже скоро был на примете у о. Наместника. Призывают Старца, он входит в наместничьи покои. О. Леонид ждет, что Старец прямо от дверей подойдет поцеловать его руку, но о. Исидор начинает сперва молиться на иконы. О. Леонид весь вспыхнул, а повод излить гнев ему нашелся. Дело в том, что у о. Исидора была сыздетства несколько повреждена правая рука, так что он не доносил ее до левого плеча. Ну, о. Леонид и кричит на него: «Дурак! креститься не умеешь!» О. Исидор, ясный, спокойный, смотрит о. Наместнику прямо в глаза и просто, безо всякого вызова говорит: «А я Вас не боюсь». Тот выходит из себя и сыплет ругательствами. Но о. Исидор снова заявляет: «А я Вас не боюсь». Кажется, о. Наместник чуть не собственноручно вытолкал Старца за дверь. Но, говорят, этот случай на него подействовал отрезвляюще, и после того он стал сдержаннее. О своем столкновении с о. Наместником Батюшка сам рассказывал с улыбкою, изображая весь разговор в лицах.
Другой подобный сему случай относится к жизни его в ските Параклите. О. Исидор задумал было ставить себе переборочку, чтобы устроить чулан для лишнего хламу. Но его, уже старца, начальство стало подозревать: «Зачем?» да «Для чего?» Истинный же смысл этих вопросов был тот, что хотели возвести клевету на Старца. Тогда он прямо заявляет: «Для того, чтобы держать здесь женщин!» За этот-то ответ его и изгнали из Параклита.
Зная прямоту о. Исидора, его смелость и независимость, от него тщательно оберегали всех высоких особ, бывавших в Ските. Подражая основателю Скита Святителю Филаретѵ, одно время жил тут Митрополит Московский Сергий
[1036]. С посохом в руке он иногда гулял по Скиту запросто. И вот, отца Исидора в это время всячески стерегли, чтобы как-нибудь он не впутался в разговор с Митрополитом. Стерегли, но однажды не устерегли. Встретил наш Авва Митрополита и говорит ему: «Вот, батюшка, что я тебе скажу: пишут, вот, в газетах, что в Индии — голод; индийцы голодают, а у нас всего много. Пошли-ка деньги (т. е. из Лавры) туда».
Опасаясь, как бы не повторилося подобного разговора, келейник митрополичий заранее распорядился: «Когда будет о. Сидор, не пущать его».
Незадолго до смерти своей Старец опять пошел против всех. Вот как произошло дело: между Иверским монастырем, что на Выксе, основанным Старцем Варнавою, и Скитом, где жил о. Варнава, поднялся спор, кому принадлежит тело Строителя. Сам Варнава просил похоронить его в построенной им обители, но Скит хотел сохранить тело Старца у себя. Тогда Иверские монахини добрались до Двора, и оттуда был сделан запрос, кто из братии за выдачу тела, и кто–против. Высказались за выдачу только два старика, из которых один — о. Исидор.
И при смерти Батюшка остался себе верен. К одному из старших братий, от которого зависит благопопечение о нуждах братии и который, как говорили, отличался жестокосердием, Авва перед смертью пришел сам, несмотря на свою болезнь, и подарил икону Божией Матери, называемую «Умягчение злых сердец». Тут, в этом подарке, соединилось все: и нежность к братии, и желание подействовать на жестокосердого ласкою, и обращение к молитвенной помощи Божией Матери, и твердый, хотя и тонкий, намек согрешающему брату.
Как и всегда, кроткий о. Исидор не побоялся обличения. Но он делал свои обличения с такою любовию, что разгневаться на него едва ли могло даже прийти на мысль обличаемому.
ГЛАВА 9, в которой пишущий делает попытку поведать читателю о подвижничестве Старца Исидора
Если ты, снисходительный к сему Сказанию читатель, хочешь знать нечто о подвиге Великого Старца, то, по мере сил моих, я извещу тебя в том, что знаю. Но да ведомо тебе будет, что о. Исидор хранил свой подвиг в великом молчании, — как бы во Внутренней Пустыни своего сокровенного человека. В стародавние времена некий брат, придя в Скит к Авве Арсению Египетскому и заглянув в дверь, увидал Старца Арсения всего как бы огненным и ужаснулся своего видения
[1037]. Так и мы можем созерцать подвиг Старца Исидора, лишь заглядывая тайком в калитку его Внутренней Пустыни; то, что сумею сказать я, — случайно и отрывочно.
О. Исидор никогда не прерывал своего поста, непрестанно постился постом приятным в воздержании словес. Воздерживаться же от брашен и питий ему приходилось, конечно, всегда, — за неимением этих брашен и питий. Ведь у него ничего не было, а если что и приносили ему, то он отдавал другим не только принесенное, но, порою, и свою собственную трапезу. Впрочем, и то немногое, что было у него, он вкушал не так, чтобы насладиться естественною и законною сладостию пищи, но нарочно изменял хороший вкус ее на худший. Как сам он говорил: «Нельзя так, чтобы вполне уж было все хорошо». Уже было ранее поведано тебе о варенье, которое варил себе о. Исидор, и о салате его. А в этой главе выслушай от о. Ефрема, Иеромонаха из Саввинско–Зве- нигородского Монастыря, рассказ о малиновом варенье.
«Нисколько не удивляюсь, — пишет этот сын духовный и друг покойного Старца, — нисколько не удивляюсь, что сколько ни спрашивают у Скитских Отцов о жизни о. Исидора, все они затрудняются сказать что-либо ясное, дающее возможность узнать в нем старца- подвижника. Скоро ли догадаешься о чем-либо подвижническом из подобного происшествия.
Во время моего жительства в Јїавре Сергиевой, помнится, как-то раз Успенским постом пришел из Пустынь- ки Параклитовой в Лавру о. Исидор. Является ко мне. Я приготовляю чай и начинаю его угощать; к чаю подаю малинового варенья, превосходно сваренного. Старец кушает чай с вареньем и замечает: «Хорошо уж очень вареньице-то; ведь, говорят, оно и от простуды полезно». Говорю: «Да, употребление малины считается средством согревающим и потогонным», — и предлагаю ему взять всю банку с собою в Пустыньку. Старец так, мало пытливо посмотрел на меня и на банку и говорит: «Велика банка-то (в ней было 5–6 фунтов варенья), да коль не жаль, — возьму, к зиме можно приберечь». Я тщательно обвернул банку газетной бумагой, потом обвязал салфеткой, и Батюшка понес ее домой в свертке с прочими другими запасами.
Как раз на другой же день после посещения Старца стояла чудная, совершенно летняя погода, и мы с Лаврским Иеромонахом о. Феодором, тоже искренно- преданным о. Исидору, порешили прокатиться в Парак- литову Пустыньку и наведать Старца. Приехали, стучимся, по обычаю, с молитвой в дверь келлии. Дверь отворяется, и Батюшка встречает нас со своею ангельски–светлой добродушной улыбкой и с приветствием:
«Гости дорогие! Добро пожаловать! Ишь как скоро соскучились! Ну, пойдемте на пӧнышки
[1038], туда самовар принесу, там и попьем чайку».
Вдруг я нечаянно увидал в сенцах на полке данную вчера банку варенья, в которой варенья было уже менее половины, и в оставшееся нарезанные ломтиками свежие огурцы… Не утерпел я, кричу:
«Батюшка, как Вам не грех и не стыдно испортить хорошее варенье и накрошить в него огурцов?!..»
Старец преблагодушно мне отвечает:
«А ты–не больно уж горячись-то!.. Нельзя так, чтобы вполне уж было все хорошо… усладишься-то очень… А этак, вот, полола м–т о, оно и ничего».
Спрашиваю: «Да куда же Вы дели варенье-то? По банкам, что ли, по другим разложили?»
- «Да, то-то, вот, разложил: вчера как пришел от вас, наложил в чашечку чайную и отнес тут у нас старичку, слепенькому монаху о. Аммонию, да немножко дал Игнаше–канонарху, да маленько Ванюше–звонарю, — все твои ведь приятели, кажется?»
Отвечаю, что даже и не слыхивал о таковых.
- «Ну, а я им сказал, что мол Сереня (мое мирское имя Сергий) вареньица им дал, неравно мол на молитве- то помяните его… Так-то оно и будет хорошо».
Говорю: «Батюшка, ведь вы хотели к зиме беречь варенье?»
- «Ну, вот, а ты опять все свое твердишь… Идите на пни чай пить; а угощать больше нечем: никто вас не ждал сегодня».
Вот каким постом постился старец. Но более ценил он молитву; ею жил и дышал и питался. Непрестанно читал он мысленно молитву Иисусову, о чем свидетельствует Старец Авраамий,
Во углу своей Внутренней Пустыни часто подолгу молился коленопреклоненно на большом камне, соревнуя Серафиму, Саровскому Чудотворцу. Каждую всенощную и каждую литургию пребывал коленопреклоненный на холодном полу, в нижнем ярусе храма св. Филарета Милостивого. Непрестанно помнил о Господе Иисусе Христе и часто, с глубоким сердечным умилением, повторял молитву о пяти язвах Его, с которой читатель познакомится ниже, если Бог благословит пишущего докончить Сказание.
Впрочем, о самом важном в о. Исидоре (разумей молитвенный подвиг его) даже не знаешь, что сказать. Дышать — необходимо человеку; но если бы просили тебя, читатель, рассказать про дыхание твоего отца по плоти, много ли бы ты насказал? — Не много, ибо дыхание — слишком естественно для человека. Так, вот, для Батюшки Аввы Исидора была и молитва слишком естественной. Мы в нем не замечали этого вдыхания в себя благодати Божией точно так же, как ты не замечал вдыхания в себя воздуха твоим отцом по плоти. Другое дело, если бы твой отец по плоти дышал воздухом, а наш отец по духу — благодатию изредка: раз или два в день, или, тем более, — в неделю. Но не такова была молитвенная жизнь Старца. Всякому чувствовалось, что о. Исидор не прекращает молитвы ни в разговоре, ни в хозяйственных хлопотах; и однако, никто не смел спрашивать его о том. Да, правду сказать, казалися праздными и лишними эти вопрошения.
ГЛАВА 10, имеющая указать читателю на духовную свободу благодатного Старца Исидора, а также повествующая о том, как он оскоромливался
Глубокое смирение Аввы Исидора не исключало в нем решительной независимости от человеческих мнений. Точно так же его подвижничеством не отрицалась полнота духовной свободы. Воистину, Батюшка сознавал, что «Сын Человеческий есть Господин и субботы» и что «суббота — для человека, а не человек — для субботы»
[1039]. Он не был подзаконным, но — свободным. Он жил уставно; но при каждом обстоятельстве своей жизни он знал, что есть дух устава церковного, а что — буква. И, если надо было, он свободно и властно нарушал букву ради сохранения духа. Вот почему о нем можно было слышать мнения: «В его жизни я не видел ничего особенного… Жил не особенно строго: все употреблял. Бывал и в бане, да осторожно. Не стеснялся и бани, — быть и в бане. И винцо употреблял».
Но случались и прямые нарушения устава.
Так, однажды приходит Старец Авраамий в некий дом, к одному семейству, а день был постный. Старцу предлагают:
«Не угодно ли тебе яичницы?»
- «Нет, я боюсь», — отказывается о. Авраамий.
«А мы, было, накормили яичницею о. Исидора».
Чтобы не причинить неприятности гостеприимным хозяевам, Батюшка о. Исидор оскоромился в постный день.
Неоднократно говаривал Старец: «Лучше не соблюсти поста, нежели оскорбить человека отказом».
Другой раз оба Старца были вместе в том же доме. День опять был постный. Старцам предлагают сливочного масла. О. Исидор намазывает его на хлеб и ест, а другой Старец не берет предлагаемого.
«Что ж ты не ешь?» — спрашивает о. Исидор.
- «Да ведь — пяток».
«Я тебе приказываю есть».
- «Я ведь не духовный сын тебе», — возражает Старец Авраамий.
Однажды на первой неделе Великого Поста сам Старец сообщает Епископу:
«Вот, батюшка, разрешите мой грех, оскоромился на первой неделе Великого Поста».
- «Как так?» — вопрошает Епископ.
«Осталось молочко, жаль было выливать, я и выпил его».
Так о. Исидор дважды оскоромился на первой неделе Великого Поста, и это случилось всего за несколько лет до его смерти, когда он уже был престарелого возраста. Но кто знает, как понимать эти случаи? Быть может, он приучал себя к последнему смирению? Или — что также возможно — учил смирению своего собеседника?
И от вина о. Исидор не отказывался. Говорил: «Оскорбить человека отказом — гораздо хуже». За трапезой, когда предлагали, выпивал рюмку и иногда еще половину; под старость пил и три, но более не соглашался выпить ни за что.
Обычного правила он, кажется, тоже не придерживался. Епископ спрашивал его иногда:
«Какое Вы, Батюшка, правило держите?»
- «У меня никакого правила нету», — отвечал Старец.
«Как же нету? Ведь Вы с уставщиками служили».
- «Так, нету. Когда я у Старца на Афоне (о. Исидор жил одно время на Старом Афоне) спрашивал об уставе, то он сказал:
«Какой тебе устав? У меня у самого нету. Вот тебе устав — говори постоянно: «Господи, помилуй». Большую молитву забудешь, а этой не забудешь, два слова всего». Такое простое правило, — улыбаясь заканчивал о. Исидор, — а я и этого не могу выполнить».
Впрочем, нужно понимать смысл этих слов. О. Исидор вовсе не отвергал устава и сам читал вовсе не только «Господи, помилуй», а и многое другое; но своим ответом он зараз являл свое великое смирение и
свою великую свободу духа; и тому же учил других.
Иногда он уходил из Скита без спросу. Один из Старцев рассказывал:
«Был у нас один затворник, о. Александр. О. Исидор близок был о. Александру, — друг другу исповедывали грехи свои. О. Исидор относился к грехам слегка. Бывало случалось: встретишь его вне Скита, — спросишь:
«Батюшка, а Вы просились?»
- «Да ты помалкивай».
Стали мы к Епископу Е. проситься, а Игумен не пускает, говорит:
«Он над вами посмеется; вот я ему скажу».
А о. Исидор после говорит:
«Ведь у него, у Игумена, — своя политика», — и продолжал ходить к Епископу».
Как свободен духом был о. Исидор, ты можешь видеть, читатель, хотя бы из того, что во время исповеди, иногда, с епитрахилью на груди и одною пору чью на руке, Батюшка уходил смотреть за самоваром, а исповедующегося заставлял наедине читать грехи по списку их, наклеенному на картон.
Паря над миром, Батюшка мог входить в него безнаказанно. Он не презирал мира, не гнушался им и не боялся его; просто он всегда носил в себе силу, которая давала ему способность препобеждать мир и очищенным пускать его в свое сознание. Соблазн мира не был для него соблазнительным, и прелесть мира не прельщала его чистого сердца.
Однажды, — рассказывает про себя упомянутый выше о. Ефрем, — входит он в свою келлию и видит на столе у себя роман Поль де Кока. О. Ефрем догадывается, что кто-нибудь из монахов, в насмешку, подложил ему эту книгу. Но в это время приходит о. Исидор, и оказывается, к крайнему удивлению о. Ефрема, что положил книгу сюда о. Исидор.
«Да Вы знаете ли, что это за книга? Откуда Вы ее взяли?» — спрашивает изумленный хозяин келлии у Старца. Отец Исидор тогда объясняет, что книгу принес ему, вероятно в насмешку, кто-то из братии.
«Ты, вот, ученый, — обращается Батюшка к о. Ефрему, — я и передаю ее тебе».
- «Да ведь она — неприличная».
«Ничего, ничего, читай. Что будет худое, — отбрасывай, а хорошее слагай в своем сердце», — возражает Старец.
Вот как был свободен духом Авва Исидор. Все-то он делал легко, без напряженности, будто играя. И в каждом непринужденном движении души его чувствовалась мощь — большая, нежели потуги и усилия прочих людей.
Так — при всех. А что он делал, оставаясь с глазу на глаз пред Богом, — кто знает и кто может постигнуть, кроме Собеседника его.
ГЛАВА 11 дающая читателю сведения о том, что делалось на исповеди у Старца Исидора
В какой день и час ни придешь к о. Исидору, он никогда не откажет исповедать тебя. Мало того: когда просят, то он, удрученный годами и болезнию, не отказывается прийти исповедать и на дом, в Посад, хотя от Скита до Посада — версты три.
«Около о. Исидора, — говорит один Старец, — постоянно вертелись со всякими грехами. Ну, эти — незаконно живут… У него всякого рода люди бывали, — со шпагами. Ему было опасно во время забастовки.
[1040] Приходят, говорят: «Вот, мы стольких-то зарубили, а зависело не от нас, а от начальства…» У него духу хватало, он все мог обещать. Я смотрю, какие-то выходят со шпагами, — с этими людьми, и то знакомился».
- «Вы, Батюшка, сказали о том, как кто-то зарубил людей?»
«Это был солдат».
Даже за несколько дней до смерти, едва имея сил приподняться на своем одре, Старец Исидор все еще исповедывал.
Желание кающегося очиститься — вот на что при исповеди обращал свой духовный взор о. Исидор: наставлений же каких-нибудь он давал при этом мало. Духовная простота Старца размягчала даже застаревшие язвы на душе. Бывало, сам он рассказывал: «Приходят ко мне люди. Лет 20 носит человек грех с собою, а мне — скажет».
Даже при простой встрече с о. Исидором взгляд его почему-то согревал расстроенную душу, успокаивал, словно всю насквозь пронизывая ее кротким солнечным лучом. Когда же душа у кого была нечистая, а о. Исидор встретит согрешившего брата, посмотрит в глаза, — то невозможно было встретиться взору с его лучезарным взором. Так, однажды некто, с отягченною совестию, упал пред Аввою на колени, прося о молитве; а он увидел Авву впервые. Рассказывал один из скитян о своей встрече с Батюшкою в саду: «Он взял меня за руку и так смотрел в глаза… Мне казалось, что он все видит насквозь. Я подымал и опускал голову, а он говорит:
«Ну, — мир тебе, Миша».
Обыкновенно о. Исидор давал в руки исповеднику особый список грехов и заставлял читать его вслух и при этом мысленно отмечать себе, в чем он погрешил. Бывало даже, что во время такого чтения он уходил из келлийки, — в потрепанной эпитрахили и одной — изветшалой — поручи, — приготовить угощение своему исповеднику.
Не сердился никогда; если грех–скорбел с тобою, но не гневался. Ко всему относился спокойно, просто и ровно, и только говорил любовно: «Надо больше молиться». В особенности же советовал обращаться к заступничеству Матери Божией. Но неизменно, всякому он указывал на действенность молитвы о пяти язвах Спасителя и учил, как ею молиться.
Исповедь Старца, простая по внешности, была совсем особою по какому-то неуловимому веянию вечности. Обычно на исповеди видишь пред собою человека. Но тут было совсем наоборот: исповедник видел себя пред лицом не человека, даже не свидетеля Господня, а пред лицом Самой Вечности. Что-то непреложное смотрит на тебя, видит тебя, и в то же время, — не смотрит, и не видит. Исповедуешься, как бы, пред Вселенною. Ни сетований, ни упреков, ни даже единого движения на лице Старца. Не бывало и особых расспросов. Одним словом, каждый исповедующийся твердо знал, что попал в царство свободы.
Так — в отношении мирян и вообще всех нескитских.
В Ските же о. Исидор не был назначенным духовником для всех, хотя, — ранее, — в продолжение восьми лет он исповедал иеромонахов. Однако часто случалося, что назначенный от Скита Духовник, в надежде исправить того или другого брата, обращался с ним сурово или даже изгонял: «Больше, мол, не приходи ко мне».
Согрешивший был готов впасть в отчаяние или ожесточиться и вот, со скорбию в душе, прибегал к помощи о. Исидора. Батюшка принимал к себе всякого, и от одного взгляда Старца душа отчаянная и ожесточенная размягчалася. Но о. Духовник гневался на Старца, действовавшего наперекор его намерению, даже жаловался о. Игумену, говоря, что так-де невозможно исправить братию. Но о. Исидор› несмотря на запреты, все же не мог не принимать к себе приходивших каяться и, видя отчаянность, действовал любовию, а не стро- іх›стию. Он не налагал епитимии, но, напротив, старался утешить, подбодрить, успокоить и внести мир в душу. Так, один из братий иногда выпивает. О. Исидор принимал его и гнал вон злое отчаяние и безнадежность.
Но бывало и по–иному. Случалось, что приходили к Батюшке не потому, что их прогнал о. Духовник, а просто желая избавиться от ожидаемой епитимии. И таковых принимал Старец, но назначал епитимию. «Это, — говорил он, — за двойной грех: за бегство от Духовника и за тот, в котором брат пришел каяться».
Пришлось одному съесть колбасы: предложили в Лавре, не хотел отказываться. Побоялся брат идти к о. Духовнику, приходит к о. Исидору, рассказывает про случившееся.
«Что же ты, наелся?» — спрашивает Авва Исидор.
- «Какое наелся: только три ломтика съел».
«Ну, вот, — триста поклонов».
- «Зачем, Батюшка, ведь только три ломтика?..»
«Нет, иначе не прощу. Иди тогда к Духовнику. Триста поклонов».
- «Я поел немного, предложили…»
«За двойной грех: за колбасу и за то, что хотел избегнуть Духовника».
Но и в этой строгости Старца было много мягкости: о. Исидор знал, что Духовник назначит более трехсот поклонов. Кающемуся приходилось согласиться на назначенную епитимию.
ГЛАВА 12, содержащая в себе «Разговор о Камне», то есть повествование некоего профессора о том, как он посетил о. Исидора и что отсюда произошло
Однажды некий профессор призвал к себе пишущего Сказание, — что у тебя, любезный читатель, лежит пред глазами, — и стал рассказывать о том, как он посетил Старца Исидора и как Старец исповедывал его. Воспоминание об этой исповеди сильно взволновало душу профессора; долго он не мог найти подходящих слов, так что многократно возвращался к началу своего рассказа. Спустя некоторое время ему удалось остановить слезы, беспрестанно навертывавшиеся от представления об о. Исидоре, и несколько собраться с мыслями. Тогда он- все еще не удовлетворенный своими словами — велел собеседнику своему записать ниже приводимое повествование, названное им
«Разговор о Камне»
«Я боюсь интеллигентности, — начал он, — боюсь, как бы из слов моих не показалось, будто о. Исидор просто понравился интеллигенту. Именно не это… Суть дела в том, что я (некий профессор, некий интеллигент, некий больной, пишите, как знаете) прямо лбом наткнулся на этого Старца, и ничего не оказалось между мною и им, между мною и Христом. Я шел к Старцу, осатанелый от церковных вопросов, осатанелый от политики, осатанелый от Епископов, осатанелый от Мережковского, осатанелый от Духовной Академии с ее профессорами. Но сколько ни нес я с собою рационализма и злобы, — все это растаяло в келлии о. Исидора. Потом происходило то же; потом я снова бывал болен. Но до мельчайших подробностей, до ясного представления об одежде, глазах и т. д. оставалось и остается впечатление этого удара о что-то твердое. Келлия, цветы, — ничем не пахнет. Воздух чистый. Дышишь свободно. Не умею описать келлии, — обыкновенно не помню подробностей. Но что-то было ужасно светлое, чистое, легкое в келлии, — что-то совершенно изумительное.
Теперь несколько собрался с мыслями и расскажу о своем посещении по порядку.
Я вошел в келлию, зная, чтб такое келлия. Мне было лет 50. Я видал монахов и священников, и тех и других. Я пришел с чувством формального смирения, посланный Епископом к его духовнику; и не в том дело, что я был утешен, как бы меня утешил первый попавшийся поп, которого я признаю, диктуя это, моим отцом и судиею в деле исповеди и моих отношений. Нет, вот в чем было дело. Я вошел с товарищем в маленькую келлию, в углу монастыря. Меня поразила ясность, чистота и простота того, что меня окружало, и мне показалось, что все будет так, как всегда было, что милый, приличный монах мило, прилично меня примет, что я прилично отысповедуюсь, и все будет, как следует. Но вбт что было не так: мне вдруг показалось, что в этой келлии, в ее простоте есть бесконечная власть. Я сам не знал, в чем же она тут, и всем моим сомнением говорил себе:
«Ты, — ты декламируешь, ты нервничаешь, ты рисуешь себе картины».
Тогда Старик, явно понимая, — это теперь я з н а ю, — и кто я и чтб я, встретил меня, как глупый, невежественный монах, и, в разговоре нескольких минут, когда я что-то хотел ему доказать и объяснить, я явно увидал, что ничего ему объяснить и рассказывать я не могу. Я увидал, что если ему начну объяснять, вот сейчас, войдя в келлию, то он мне кратко и ясно ответит, что я умнее его в богословии, в философии, во всем, что я все лучше его знаю, начиная от философии и кончая катихизисом, и что зачем меня принесло к нему, Старцу, чего-то искать и спрашивать. Тогда я почувствовал, что и я пришел искать другого, и просто стал плакать. На мой плач Старец ответил молитвою и тем, что «плачущие утешатся». И опять я понял, что этот ответ, — и молитвы, и о плачущих, — говорит мне:
«Вот, что я тебе отвечаю и что бы ты сам себе ответил, раз ты пришел ко мне за катехизическим или гомилетическим ответом».
Мне опять стало стыдно. Тогда я просто и определенно почувствовал, что я, Божиею милостию, — там, где мне нужно, и попросил Старца исповедывать меня и пришедшего со мною друга. Вот тогда-то я и испытал то, что я именую впечатлением Церкви.
Старец поднялся и, как был одет, — в рубаху навыпуск, порты и поршни на ногах, — спокойно встал и сказал:
«Ну, хорошо».
Вынув епитрахиль, надел ее на себя; на рубаху настегнул старую парчовую поручь властию своею и благословил Бога, Потом он, обращаясь ко мне и к другу, потребовал, чтобы мы начали чтение Псалма 50–го, Символа Веры и молитв. Я еле читал эти Псалом и молитвы, хотя знал их на трех языках, — сбиваясь от слова за словом и чувствуя, когда меня поправляют, что сила поддерживает и ведет меня.
Когда мы прочли молитвы, он подал мне книжку, по которой бы я читал уставное исповедание грехов. При этом он смотрел на меня и на стоящего рядом моего друга и говорил мне своим взглядом, что ему, по власти его, не нужна моя болтовня и деталь, что я должен читать вместе с братом, стоящим рядом со мною, то, что здесь написано, каясь и признаваясь в том, что я слышу и вижу.
Мне было стыдно, что я подчеркивал отдельные слова исповедной молитвы. Мне казалось, что Старец мне говорит:
«Зачем это нужно? Зачем мне нужна, умница, твоя логика и твое понимание?»
Когда он прочел отпустительную молитву, я мог только одно ему сказать:
«У меня сейчас на душе, — сам не понимаю почему, — «Христос воскресе из мертвых»».
Тогда он допел:
«Смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».
Тогда я опять заплакал, и он опять мне сказал, что я утешен буду, и, когда я уходил, поцеловал мне руку.
Я знаю только одно: что я видел Камень и на нем–Церковь
[1041], и что всякие путаницы потом я относил к этой минуте.
И больше ничего, кроме этого величия, сказать я не могу. Это у меня навсегда осталось как великий удар. Церковь открылась на мгновение и потом скрылась, — Церковь в портах и золотых поручах и епитрахили на Камне. Никогда ничего подобного… Ведь о. Исидор был «не важный», как у нас говорится, исповедник, не популярный. Я знал и видал исповедников и старцев, — «мужиков», как говорится, и «умников», как говорится. Но в том-то и дело, что я, аристократ, ни мужика, ни умницу в нем не увидал. В том-то и дело, что все мои определения мне не пригодились. И опять повторяю: «Он — ни то, ни се; он — больше того. Он — не Варнава (я его не знал, но слышал, будто бы, что он как-то мужицки умеет отнестись к делу). Он–не утонченный исповедник, которых столько я видел в Москве. Он что-то с ρ е д н е е, — т. е. великое, что не сводится к моим определениям.
Я знаю одного Епископа. Он — тоже благодатный. Но его надо нудить, надо нудить у него благодать. А там, с о. Исидором, в отношениях была какая- то необыкновенная легкость. Чтобы было понятно, о чем я говорю, я еще раз поясняю свои слова:
Необыкновенно легки так называемые «мужики- священники». Я отлично знаю, как легко исгтоведываться у деревенских, каких хотите, мужиков, — дураков ли, или черносотенцев. Но у них всегда что-то при себе оставляешь в плюс, что-то ты чувствуешь, чего они не могут понять и понимания чего ты от них н е смеешь требовать.
Тут — не это. Тут — легкость прямая и непосредственная. Ужасно редко это отсутствие двойной занавески. И все мое впечатление резюмируется вот в чем:
Я, интеллигентный и образованный, ученый человек, знаю все условности, с которыми можно подойти к другой душе, исповедывающей. Но я был сбит со всех этих условностей: ничего этого в той душе, — о. Исидора — не было».
Так закончил свою повесть рассказчик.
ГЛАВА 13, из которой читатель узнаёт, чему учил Старец Исидор в своих беседах
Авва Исидор не любил делать наставлений, не любил и рассуждать по–ученому. И не только сам остерегался, но и других останавливал:
♦Об этой вещи не любопытствуй много, — говаривал он; — монаху много любопытствовать опасно».
А о «Догматике» Митрополита Московского Макария
[1042]он отзывался сурово и сказывал про ее Сочинителя:
«Вот и сам утонул из-за этого», т. е. из-за стремления сжать живую веру тисками рассудка.
Так опаслив был Батюшка в рассуждении веры.
«Я маненько стеснялся против их (т. е. о. Исидрра и о. Варнавы) предрассудков», — рассказывает некий Старец.
— Какие предрассудки?
«Такие, народные. Они ничего не знают, — и о. Варнава, и о. Исидор. Они не удовлетворяют катехизису Макария. А я и от о. Варнавы слышу нарекания на Митрополита Макария. Не знают они, как разделить догмат от нравственности. Одно дело — догматическое богословие, а другое дело — нравственное; а там есть еще обличительное…»
Старец, говоривший эти слова, — прав по–своему. Действительно, Батюшка не занимался боіҽ–словиями, потому что у него была духовная жизнь в Боге и духовное ведение Бога, и в этом Богожитии невозможно было провести межи, разграничивающей разные предметы школьного преподавания. В душе Батюшки нарушался всякий порядок, устанавливаемый делением на книги, главы, отделы и подотделы, потому что в ней царил иной порядок, — порядок, который дается не учителями и профессорами, а Духом Святым. И часто хотелось спросить об Авве Исидоре: «Как знает Писание, не учившись?»
Повторяю тебе, любезный читатель, что сила Аввы Исидора была не в мудрых словах, а в духовной с и — л е, сопровождавшей его слова, даже самые обыкновенные. Но если ты все же любопытствуешь знать, о чем беседовал о. Исидор, то, вот, я приведу тебе несколько примеров; однако при чтении их ты должен твердо держать в уме, что слова Аввы Исидора, взятые независимо от того, кто их произносит, почти ничего не сохраняют в себе Исидоровского и увядают, как голубенькие цветочки льна, оторванные от стебля.
«Помню, — сообщает уже упомянутый ранее о. Иеромонах Ефрем, — помню: когда вышли из печати письма Митрополита Филарета к Наместнику Лаврскому Архимандриту Антонию
[1043], и я в одном из них прочел приписку Владыки: «Исидор отвечал хорошо», я, при первой же оказии явившись к о. Исидору, спросил его, что такое он отвечал Владыке Митрополиту, и Старец рассказал мне следующее:
«Нас явилось ко Владыке трое для рукоположения: меня — во иеромонахи и еще двух монахов — во иеродиаконы. Владыка начал спрашивать с младших, и, обра- тясь к самому молодому, спросил: «Чем ты надеешься спастися?»
А тот отвечал: «Смирением». А Владыка сказал: «А много ли его у тебя?» и спросил другого:
«А ты чем надеешься спастися?» Этот дал ответ: «Вашими святыми молитвами». Владыка же разгневался. «Где это ты научился лицемерить-то так?» и тогда спросил меня:
«А ты чем надеешься спастися?» Я ответил:
«Крестными страданиями и смертию Спасителя Нашего Господа Иисуса Христа».
Владыка перекрестился и сказал:
«Вот, запомните этот ответ и помните его всегда».
То же лицо пишет об о. Исидоре: «Знанием догматических истин святой православной веры он был проникнут глубоко и на вопросы о таковых всегда давал ответы вполне правильные, основанные на изречениях из Св. Писания и Свято–отеческих».
Чаще всего Авва Исидор говорил о Божией Матери, о Церкви и о крестных страданиях и смерти Спасителя. Все это не было для него, впрочем, раздельными вопросами, а как-то сочеталося во–едино.
Нередко он сопоставлял «рождение» пра–матери Евы из бока Адамова с «рождением» Матери–Церкви из бока Христова. Чудесный сон Адама о. Исидор приравнивал таинственному смертному сну Господа, вынутие ребра у Адама — прободению Господа в бок копием; чудесное истечение из раны Христовой крови и воды он приурочивал к самому рождению Церкви
[1044]. И, — как-то — это рождение Церкви сочеталось в его уме с раною в сердце Божией Матери от прошедшего сквозь него оружия. Страдания Божией Матери как-то связывалися для Батюшки Исидора с благодатию Церкви. «Христос родил Церковь, — добавлял иногда он, — и мы стали вместе едино».
Вершиной богословствования о. Исидора была его Иисусова Молитва, в которую вошли намеком и эти мысли. Молитву эту читатель узнает из следующей главы.
Угодников Божиих Старец чтил и любил, и его отношения к ним были глубокие, сердечные, живые. Старец всегда жил душой среди угодников, — был близок к ним, как к родным и даже более. Но особливое почтение о. Исидор имел к преп. Серафиму, Саровскому Чудотворцу, к иноку Георгию Затворнику, к Тихону Задонскому и еще кое к кому. И на этих носителей благодатной жизни он обыкновенно ссылался в разговоре: Старец не любил говорить от своего имени.
Часто с глубокой нежностью повторял он за преподобным Серафимом:
«Радость моя, радость моя! стяжи мирный дух, и тысячи душ спасутся около тебя»
[1045].
Когда речь шла о праздных словах и особенно о гневных, он указывал на силу слова и при этом вспоминал нередко стихи Георгия Затворника
[1046]:
Слово искра есть души.
Ты, дух мой, к вечности спеши.
Еще чаще говорил, — обыкновенно при прощании:
Душою душу убеждаю: хранись от гнева и от праздных слови будешь христианский богослов, а иногда первые два стиха несколько иначе, — вот как: Душою душу вашу убеждаю хранить себя от гнева и от праздных слови будешь христианский богослов. Отец Исидор любил также говорить — и с большим одушевлением — стихотворное переложение одного из псалмов, вычитанное им в каком-то журнале, и весьма ему понравившееся. При этом весь он разгорался, читал выразительно и с силой. Иногда же он давал в руки гостю толстую книжицу — переложение псалмов на стихи, составленное каким-то слепым священником, и, обратив внимание на это последнее обстоятельство («слепой ведь!»), просил почитать его — достаточно тяжеловесные–стихи вслух. Припоминалась в иные разы Держа- винская ода «Бог». Но чаще всего он с большой теплотой отзывался о Н. В. Гоголе и наизусть говорил составленную Гоголем стихотворную молитву к Пресвятой Богородице. Всякий раз, сперва произнесет быстро эпиграф: «Никто же притекаяй к Тебе, посрамлен от Тебя исходит, Пречистая Богородице Дево, но просит благодати и приемлет дарование к полезному прошению». Затем же начинал и самую молитву: «К Тебе, о Матерь Пресвятая, дерзаю вознести свой глас» и т. д.
[1047] Эту молитву он почему-то очень любил. Вспоминал также стихотворную молитву о Кресте Христовом: «Креста Господня славна сила блистательна она везде» и т. д.
Одной из любимых его молитв было следующее место в творениях Святителя Дмитрия Ростовского
[1048]:
И «Иисусе мой прелюбезный, сердцу сладосте,
е Едина в скорбех утеха, моя радосте!
ρ Рцы душе моей: «Твое есмь Аз спасение,
о Очищение грехов и в рай вселение!»
м Мне же Тебе, Богу, благо прилеплятися,
о От Тебе милосердие надеятися.
н Но кто же мне в моих бедах, грешному, поможе, —
а Аще не Ты, о Всеблагий Иисусе Боже?
χ Хотение мне едино с Тобой быти,
Д Даждь мне Тебе, Христа, в сердце всегда имети! и Изволь во мне обитати, благ мне являйся, м Много грешным, недостойныя не возгнушайся! и Исчезе в болезни живот мой без Тебе, Бога: τ Ты мне крепость, и здравие, и слава многа. ρ Радуюся аз о Тебе и веселюся, и И Тобою по вся веки, Боже мой, хвалюся».
Но чаще всего Авва Исидор заставлял пришедших к нему петь вместе с ним «Благословенны» на 5–й глас из Чинопоследования на Погребение Божией Матери, совершаемое в Гефсиманском скиту 17–гӧ августа, на Успение и Вознесение Пресвятой Девы Богородицы.
«Благословенная Владычице, просвети мя светом Сына Твоего.
Ангельский собор удивися, зря Тебе, в мертвых вме- нищуюся, душу же в руце Бога предавшую, и с Богом возшедшую, Пренепорочная, со славою божественною в небесная» и т. д.
Так пел Деве Марии седовласый Старец Исидор. И, по окончании стихов, просил гостей своих переписать себе их и петь почаще у себя дома. О. Исидор постоянно твердил, что чистота и мир и кротость — от Божией Матери и что Сама Она, многострадальная, придет на помощь взывающему к Ней.
Своих гостей неизменно спрашивал, были ли они уже у Божией Матери (Черниговской, что в подземной Церкви), и если гости отрицались, то Батюшка просил их сходить к Ней помолиться.
Когда к о. Исидору приходили два друга, то он всегда выражал свою радость и одобрение, видя их дружбу, но при этом настойчиво повторял каждый раз, что необходимо жить в мире:
«Брат от брата укрепляем, яко град тверд», — доканчивал он, точно предвидел возможность разрыва и падения каждого врозь.
Когда кто-нибудь жаловался Авве на болезнь или на какое-нибудь несчастие, то Старец почти с з а в и — с τ и ю — если позволено употребить это неподходящее слово — говаривал: «Видишь, как тебя Бог любит, — помнит о тебе».
Был один брат болен. Встречается ему раз Старец Исидор и спрашивает:
«Ну, Миша, как мирствуешь?»
- «Батюшка, нездоров».
«Неужели ты не знаешь, что если Бог посещает тебя какой болезнию или несчастьем, — это значит, что Он любит тебя? Теперь Господь посещает нас болезнями, и это нам вменится».
ΓΛАΒА 14, самая поучительная, ибо она научает читателя благодатной Иисусовой Молитве Старца Исидора, имеющей доставить немалое духовное утешение всякому, кто станет читать ее с разумом
Кто ни придет к о. Исидору, Батюшка каждого учил молиться Молитвою Иисусовою, составленною им или, быть может, открытою ему свыше. И сам Батюшка непрестанно молился ею. Этой молитве (любознательный читатель прочтет ее несколько ниже) Старец придавал много важности в деле борьбы с помыслами и считал ее исполненною благодатной силы. Можно догадываться кое по чему, что сам он узнал ее в некоем видении; но о происхождении Молитвы он не распространялся, хотя с большою настойчивостью всем советовал читать ее.
Умиротворение души, укрощение раздражительности, злобы и гнева, прогнание блудных помыслов и страстных мечтаний — вот для каких надобностей лучше всего помогает эта Молитва о пяти язвах Спасителя и об оружии в душе Пречистой Его Матери. Так говорил Старец, и в доказательство иногда ссылался на то, как однажды сотрясла эта молитва бесов, одержавших одну женщину.
Старец читал эту Молитву, обратясь лицом к киоту. Первую часть ее произносил он медлительно, как бы с некиим ожиданием, и при этом смотрел на св. Распятие. При произнесении же второй части созерцал икону Пречистой Девы. Эта часть Молитвы произносилась им ускоренно, с оживлением и радостною надеждою. И, сказав раз эту небольшую молитву, Старец даже наружностию преображался. Словно свет какой лучился из его глаз, и сам он весь просиявал тою пиршественною радостью, о которой можно узнать только из «Песни Песней», да еще из Брака Агнчаго в Откровении святого Иоанна Богослова. Благодатное действие молитвы видно было первее всего на нем самом.
Он знал это. Потому-то он столь часто просил других лечиться этим врачевством.
«Перекрестись разумно, — вот τ а к, — и искушение пройдет», — говорил он своему посетителю, когда ему тот жаловался на искушения, на грусть или огорчения, и при этом Старец крестился, читая Иисусову Молитву. «Если будет у тебя встатие, то скажи так (далее следовала молитва), обратись к Божией Матери. Сама Она чистая, любит чистоту, — и тебе поможет».
Такими и иными словами убеждал Старец Исидор молиться Молитвою о пяти язвах Господа Иисуса Христа и об оружии в сердце Его Пречистой Матери Девы Марии. Но, пока Старец был жив, почему-то эту молитву принимали плохо, как скитская братия, так и миряне. Удивительно что-то, а даже не запомнилась она почти никому, хотя и не трудна, и не длинна, по–видимости. Иные даже за неприличное почитали, что такой «простонародной», — как говорили, молитве, и притом взятой не из книги, Старец учит всех, с кем встретится, — образованных.
«Сам сочинил молитву, — рассказывал некто из братии. — Придет к имярекам‚ я удивляюсь, как у него смелости хватает. Где он в гостях со мною, ну и навязывает свою молитву и тетрадки» (т. е. листки, о которых было уже сказано).
Так было при жизни духо–носного Старца. Но только что отошел он этого мира, как многие спохватились, что не знают Молитвы о пяти язвах, попереписали себе для молитвенного пользования, а иные и наизусть повы- учивали. И многие свидетельствуют великую благодатную силу молитвы старца Исидора, особенно против скверных помыслов и нелепых мечтаний. «Молитва о пяти язвах Спасителя такая сильная, — говорит по собственному опыту один из братии скитской, — такая, что не могут ей противостать демоны».
Вот тебе, богомысливый читатель, этот последний земной дар Отца нашего, убеленного Старца Исидора. Читай же ее во здравие души и тела и научи ей ближних твоих, ради памяти Старца, его же молитвами да помилует тебя Господь.
МОЛИТВА О ПЯТИ ЯЗВАХ СПАСИТЕЛЯ, которой учил молиться своих чад духовных Старец Исидор
Где у Тя–те болит?
Полагая рѵку на чело, говори:
Господи‚ увенчанный терновым венцом в главу Твою, до крови и мозга, грехов моих ради;
Низводя руку на правую ногу, говори:
Иисусе‚ в правую ногу пробитый железным гвоздем грехов моих ради;
Полагая руку на левую ногу, говори:
Христе, в левую ногу пробитый железным гвоздем грехов моих ради;
Подымая руку на правое плечо, говори:
Сыне‚ в правую руку пробитый железным гвоздем грехов моих ради;
Переведя руку на левое плечо, говори:
Божий‚ и в левую руку пробитый моих грехов ради; и в ребро копием прободенный, от ребра источивый кровь и воду во искупление и спасение душ наших;
Богородицею вразуми мя.
Обратившись лицом к иконе Божией Матери, говори:
И Тебе Самой оружие пройде душу, да от многих сердец открыется источник покаянно–благодарных сердечных слез всего человечества.
ГЛАВА 15, писанная с той целью, да ведает смиренномудрый читатель, что Старец Исидор не чужд был дара прозорливости и чудотворения
Есть ли нужда напоминать тебе, бого–мысливый читатель, что ни дар прозорливости, ни дар чудотворения или еще иной какой, сам по себе, не вселяет в человека Духа Божия? Как добрый христианин, ты, конечно, неустанно вращаешь в уме своем, что Царство Божие есть праведность и мир и радость о Дусе Святе, а не чудеса или прорицания или исцеления, — о чем изгла- голали многие богомудрые в писаниях отеческих. Но не неведомо тебе и то, что бого–любец, ищущий себе Царствия Божия, получает, вместе с Духом, и дары Его. И Спаситель сказал: «Наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам».
Воистину таков был Старец Исидор. Никогда не гонялся он за тем, чему дивятся люди, но, как некий премудрый купец, наипаче всего взыскал драгоценный Маргарит души своей. Воцарился в ней Бог, а с Богом–духовная радость и преизбыточествующая жизнь, обетованная от Спасителя ученикам Его. Но сия живая влага, неоскудно изливаясь из соделанного прозрачным сердца Исидорова, как бы из переполненного через край хрустального сосуда, творила знамения и давала Старцу неведомые силы.
Для посещавших Старца не было сомнения, что он видит и знает сокровенное человеком; однако же эти явные знамения вменялись ни во что противу самого Аввы, ибо кто станет смотреть на убранство дворца царева в присутствии самого царя? Да и Батюшка неохотно говорил о своих дарах духовных, потому что считал их естественным следствием жития в Боге. Так, когда ему говаривали о его прозорливости, он ответствовал спокойно:
«Бог–с нами, Он близко от нас, Он видит нашими глазами».
Не раз, не два и не три, а многократно, и не один из учеников Аввы, а многие убеждались, что Авва, при посещении его, первый начинал говорить о том деле, ради которого пришли к нему. Придешь, — а он встречает советом насчет того самого, о чем ты хотел спросить его. Такие случаи казались столь обычными для учеников Старца, что никто не позаботился записывать их, и теперь они исчезли из памяти. Но вот, для примера, несколько таких рассказов, случайно уцелевших в назидание тем, кому не привелося видеть Старца.
Некто уезжал далеко из Сергиевского Посада и, на обратном его пути, случилась одна неожиданная встреча, которая заставила его смутно беспокоиться. Дело было в том, что он увиделся с женою одного своего знакомого, и та рассказала о тяжелом нравственном состоянии и об отчаянии своего мужа. Нужно было бы выйти из поезда на ближайшей станции и повидать этого знакомого, но таковая мысль почему-то не пришла в голову или, быть может, как говорится, бес хвостом закрыл ее. Приехав в Сергиевский Посад прямо к литургии, сей самый имярек во время божественной службы вдруг понял, что ему надо немедленно ехать обратно, чтобы наверстать упущенное. А так как поезд отходил в тот город глубокою ночью, то некто имел время сходить за благословением к Старцу Исидору.
Завивала погода, когда он подходил к домику Батюшки. Батюшка встретил его у двери и, не успев дать благословения, еще не подошедшему говорит, указывая на кружащие в воздухе снежинки: «Смотри, смотри, добрые дела так и летают, как мухи! Надо ехать скорее, а то могут стать поезда!» Затем он подтвердил необходимость ехать в ту же ночь, благословил и даже сам написал своими старческими дрожащими и неумелыми буквами письмо к нуждавшемуся в помощи.
Вот еще один рассказ. Приходит однажды к Старцу Исидору некий сын его духовный (по имени о. Г.), исповедуется и потом дает 2 рубля. О. Исидор берет эти деньги. Тогда у давшего промелькнула мысль: «Да зачем же он берет: ведь знает, что я беден». О. Исидор на эту мысль не сказал ни слова. Но во время дальнейшего разговора пришел какой-то, — из бедных, — которому ранее о. Исидор велел приходить за деньгами вечером, хотя денег тогда нисколько не было. Батюшка передает 2 рубля этому просителю и добавляет при этом: «Вот пришел добрый человек, который дает тебе деньги». Потом, провожая о. Г., говорит ему наедине: «А ты не смущайся, что я взял у тебя 2 рубля: молитвы чрез них, — через мирян, — легче дойдут к Богу, нежели от нас с тобою». Этот случай о. Г. толкует как несомненную прозорливость.
Если кто приходил к о. Исидору с грехом на душе, если у кого случилась размолвка с близким, или охлаждение любви, то Батюшка всегда сам заговаривал об этой вещи, или же двумя–тремя вопросами заставлял сознаться и покаяться. Это для всех сделалось явлением столь привычным, что когда кто упорствовал во грехе, то старался и на глаза не попадаться Старцу.
Жизнь в ином мире была обычною жизнию Старца. Нередко виделись ему во сне Божия Матерь, преподобный Серафим и иные угодники, и Старец внимал их благостным внушениям. Вот, например, как началось знакомство Старца Исидора с епископом Е.
«До 1904 года мне не удавалось увидеть о. Исидора, — рассказывает епископ Е., — хотя я много слышал о нем, еще будучи студентом Академии. Первая встреча наша была в мае 1904 года. Был чудный день, я вышел в Академический сад. Шлепает навстречу согбенный старик, с клюкой, в скуфейке. Встречает и говорит: «Батюшка, Вы — Преосвященный?»
- Я: а что Вам нужно?
- Я — о. Исидор.
- Очень рад познакомиться.
- Я — по делу: сегодня ночью явилась Божия Матерь и говорит: «Ты что не взял благословения у нового Преосвященного?» Вот я и пришел…»
При своей высокой настроенности Батюшка разумел и знамения твари бессловесной. Неоднократно рассказывал он, например, как в церкви на его родине явился раз огненный шар, опаливший иконостас, и в этом шаре Батюшка увидел чудо Божие, после чего и ушел из мира. И слегка улыбаясь, Старец неизменно добавлял: «Вот, может быть, скажут, что это так, само собою произошло. А я думал иначе…»
Так и есть на деле. Иные, вольно–мысленные (да не искушается от таковых боголюбивый читатель!) скажут по–ученому, что это-де была «шаровая молния». Ну, и что же? Разве Бог не может говорить нам шаровыми молниями? В руках Его–вся тварь, ею говорит Он нам: но огрубело сердце наше, — вот мы и не разумеем словес Божиих. Батюшка же о. Исидор чистым сердцем внимал твари; для него звучало в твари слово Божие, и потому весь мир был исполнен для Старца чудных знамений и тайных внушений. Для него, духо–носного, и шаровая молния была чудом: оземлянелая же душа и в светопреставлении не увидит знамения Божия. Нечестивец, возжелавший жить без Бога, тем и наказуется, что меркнут очи сердца его; он уже не видит и не знает Бога и не разумеет знамений гнева Его, и потому ничто не толкает его оглядеться и покаяться: он живет как бы во сне, но сам того не понимает и принимает сонные мечты свои за истую явь.
Совсем не так жил Старец, всегда трезвясь и бодрствуя духом. Он прислушивался к твари Божией, и тварь Божия прислушивалась к нему. Незримые нити соединяли его с сокровенным сердцем твари. Не только мир был знамением для Старца Исидора, но и сам Старец был знамением для мира. И действительно, около Старца происходило то, что не происходит около других.
Он сам рассказывал, например, такой случай. В день Успения Божией Матери, — когда в Скит не возбранен доступ женщинам, — приходит однажды к нему некая и жалуется на постоянную головную боль. «А ты перекрестись разумно», — сказал пришедшей женщине Старец и научил ее своей молитве о пяти язвах Спасителя. Женщина стала было совершать разумное крестное знамение, но едва лишь поднесла руку ко лбу, как сотряслася и пала на землю в корчах, у рта же ее выступила черная пена. Тогда Батюшка велел вынести эту женщину из Скита к Черниговской Божией Матери, в подземную церковь. Там женщина получила исцеление от своей болезни.
ГЛАВА 16, о кресте Старца Исидора и о том, как мало понимали его окружавшие его
Вся жизнь Старца была не легким крестом, но Старец терпеливо нес свой крест. Из кресто–ношения этого более, нежели из чего другого, можно было убеждаться, что у о. Исидора есть свой, особый, над–мирный мир, в котором он черпает свои силы и свою крепость. Жизнь в Боге представляется нам возможною лишь при осуществлении разных условий; свое равновесие мы держим, когда нас несет общественное уважение, когда мы имеем достаток и иные, сему подобные, тленные блага, у Аввы Исаака Сирина, иже во святых Отца нашего, уподобленные гною. А для Аввы Исидора вера его была живою само–действенною силою, никогда не покидавшею его. У него все было наоборот противу нашего.
Бывший дворовый барского дома, он никогда ни одним недоброжелательным или хотя бы горьким словом не помянул своих прежних владетелей. Мало того: покуда жива была княгиня, каждогодно являлся он к ней с просфорой и вязанкою баранок на мочале.
Он рассказывал о том, как его гнали, — так ровно и с такою веселою усмешкою, как будто дело шло вовсе не о нем. А гнали его всегда и всюду. Из Старого Афона пришлось ему уехать, потому что не было денег. В Пӱстынке Параклите он собирал к себе детей из соседних деревень, поил их чаем, учил молитвам и давал по нескольку копеек из своих нищенских средств. Это-то и не понравилось начальствующим, и про о. Исидора стали говорить, что он, будто бы, пьянствует, заводит к себе женщин, наконец, взвели на него небылицу, выгнали из Пӱстынки и перевели в Гефсиманский Скит.
В жизни он подвергался гонениям непрестанно. А за что? — За то, что исповедует братьев, которые готовы были впасть в отчаяние из-за суровости духовника; за то, что принимает странных; за то, что дает хлеб нищим; за то, что выходит без спросу утешать кого- нибудь в Посаде; за то, что прямодушен с начальством.
Насколько любила его младшая братия, настолько же небрежно относилась к нему, за немногими исключениями, старшая. Его независимость и прямота не нравились ей и казались нестерпимыми, несмотря на великое смирение Старца; отсутствие показного постничества вызывало пренебрежение к нему, как к ядце и пийце; но более всего вредила Старцу в глазах братии, мнящей себя ученою, его простота и «необразованность». Некоторые даже считали его странным, вроде как бы дурачком и помешанным, и называли «чудаком», — это когда выражались о нем снисходительно.
Шестьдесят лет был о. Исидор монахом — и за это время не получил даже набедренника. Восьмидесятилетний Старец жил одинокий в своей избушке и должен был все делать собственными руками, ибо келейника у него не водилося. Он был так заброшен, что во время болезни лицо его было покрыто слоем грязи, а из седых волос Епископ Е., посещавший его, доставал вшей. Только за шесть дней до смерти Старец получил помощь.
Бедность, болезненность, пренебрежение, оскорбления, гонения — вот такими терниями поросла жизненная тропа Старца. Но и в этих терниях он сохранил такое спокойствие, такую радость, такую полноту жизни, какой мы не имеем и не приобретем в условиях наиблагоприятнейших.
Что самое достопримечательное в Батюшке? — Бесспорно, это то, что во всякой обстановке он пребывал христианином. Христианство его было неизменною его стихиею, не связанною с миром и его естественными и общественными условиями. Христианство было для него не витийством жизни, а самым существом ее, — не узором жизни или украшением ее, а самою тканью жизни. Непонимаемый при жизни, Старец остается, кажется, непонятым и после смерти. До сих пор еще не вдумались окружавшие его, какого сокровища они лишились. Но тем лучезарнее сияет свет Старца во ночи неразумия.
ГЛАВА 17, в которой приводятся на память скудные сведения из жизнеописания Старца Исидора, о месте его рождения, о дальнейшей его жизни и о тех духовных воздействиях, которым подвергался Старец
Теперь, любезный читатель, ты знаешь, каков Авва Исидор, и потому, вероятно, желаешь узнать еще, как он стал таковым, каким был. В удовлетворение твоего вопроса я сообщу тебе то немногое из жизнеописания Старца, что знаю сам.
Авва Исидор родился в селе Л ы с к о в е Макарьев- ского уезда Нижегородской губернии и во святом крещении наречен был Иоанном. Родителями его были дворовые крестьяне князей Грузинских; звались они Андрей и Параскева, а по фамилии — К о з и — н ы. Свою же фамилию Иоанн называл впоследствии двояко: то Г ρ у з и н с к и й, то Козин, но обычно — Грузинский. Год рождения Иоанна в точности неизвестен. По сообщению старца Авраамия из Скита, Иоанн родился в тот самый год, когда преставился Преподобный Серафим, Саровский Чудотворец. А сам Иоанн, уже незадолго перед смертью своею, неоднократно рассказывал о врезавшемся ему в память разговоре с матерью в день преставления Преподобного Серафима. «Распространилось, — говорил он, — чудное благоухание. Я спросил у матери, от чего оно, а мать мне говорит: Старец Серафим скончался». Через 2–3 дня пришло известие о смерти Серафима. Если опереться на первое сообщение, то годом рождения Иоанна нужно считать 1833 г. А если принять второе сообщение, то должно думать, что Иоанну в 1833 году уже было довольное число лет, раз только он мог запомнить событие этого года; тогда за год рождения, как и считал сам Иоанн, надо будет принять 1814–й.
Так или иначе, но в жизнь Иоанна вошел луч от сияния Преподобного Серафима. Еще нося в лоне своем Иоанна, мать его ходила в Саров к Старцу Серафиму; Святой вызвал ее из громадной толпы народа, поклонился ей при всех до самой до земли и предсказал, что от нея произойдет великий подвижник и что имя ему будет Исидор. А впоследствии, в Ските, Авва Исидор был в весьма близких отношениях с одним из учеников Старца Серафима.
О детстве, отрочестве и юности Иоанна известно весьма немногое-то, что рассказывал сам он. Сюда, первее всего, относится участие его в домашнем театре князей Грузинских. Он играл «Фильку» и еще иные забавные лицедейства; кажется, любовь к стихам и к художеству возникла у Иоанна именно в это время. Но несмотря на вкус к таким — мирским — забавам, юноша не забывал души своей. Уже тогда возжелал он иноческого подвига.
«Отец с матерью бывало станут заниматься ночью семейными делами, — рассказывал он незадолго перед смертью, — а я отвернусь к стенке, смотрю все на картину угодников Зосимы и Савватия, и видятся мне зеленые луга и обители».
От одного знамения эти юношеские думы превратились в твердое решение. Однажды юноша Иоанн молился в Покровском храме на своей родине. Молния в виде полного
месяца, — как описывал впоследствии сам Старец, — светло сияя, прошла вдоль иконостаса и разорвалася со громом. Несчастий со людьми никаких не произошло, только иконостас почернел. Знамение это (его помнят старожилы) подействовало на Иоанна; как выразился один из братии: «Ударила молния, — его и согрела». «У меня мысль пошла на Афон», — сказывал сам Старец. Однако эту мысль осуществить тогда не удалось, и Иоанн вступил в Гефсиманский Скит, устроенный митрополитом Филаретом. Тут он снова встретился со своим односельчанином Наместником Антонием, который тоже происходил из села Лыскова и был побочным сыном князя Грузинского. Следует, кстати, упомянуть, что, судя по некоторым данным, а именно: по фамилии «Грузинский», которую носил и которою называл себя Иоанн, по тонкому сложению его тела, наконец, по его несколько восточному носу и лицу можно подозревать непростое происхождение Иоанна. Не невероятно, что и он был княжеского рода.
Наместник Антоний взял Иоанна к себе в келейники. Тогда Иоанн был еще безбородым и безусым юношей. Он прислуживал о. Наместнику, полууставом писал пещерный синодик о здравии и упокоении, читал в церкви и пел на клиросе легоньким басом. Тут же он познакомился с о. Авраамием, впоследствии келейничавшим вместо него у о. Антония. У о. Наместника же он видывал не раз Митрополита Филарета Московского и много других замечательных деятелей того времени.
Сперва Наместник Антоний был очень дружен с братом Иоанном; быть может, этой дружбе содействовала и родственная связь. Но впоследствии их дружба охладела. Наместник приблизился к Митрополиту Филарету и предал свой ум честолюбивым помыслам. А брат Иоанн говорил о. Наместнику чересчур много правды и, главное, самим собою напоминал ему о прошлом, — о том времени, когда Антоний был крепостным фельдшером у князя Грузинского. Наместник стал тяготиться своим земляком и говорил: «Он слишком тяжел для меня».
То время, когда о. Исидор полагал начало своему подвигу, было в истории Скита совсем особым. Еще были живы на памяти сношения с Саровским Чудотворцем. Целый сонм истинных иноков светил миру из глубины лесов, где теперь стоит Скит; многие великие люди из мирян приходили на свет их возгревать душу, набираться сил и бодрости. Тогда не было кирпичной ограды; жили врозь и каждый нес особый подвиг. Часть подвижников спустилась в недра земли, и здесь ископали они целую обитель со храмом и даже колодезь. Тут, по звону подземного колокола подземные иноки со свечами выходили из своих могильных тесных келлий, в которых едва–едва можно улечься врастяжку, и узкими сырыми подземными переходами собирались на ночную молитву· Читали псалмы и пели аллилуиа, а потом расходились по своим келлиям. В подземной церкви было душновато, и потому из нее провели наружу деревянные трубы. Иногда ночью слушал у этих труб пение монахов и о. Антоний. По временам в Скиту живал и Митрополит Филарет.
В 1860 году брат Иоанн был пострижен в мантию одновременно с о. Германом, ныне игуменом Зосимовой Пустыни, что за Параклитом. Обоих их, т. е. Иоанна (в монашестве Исидора) и Германа принял от Святого Евангелия Старец скитский иеросхимонах Александр, духовным сыном которого несколько спустя сделался и Варнава (скончавшийся в 1906 году).
Достойное внимания совпадение, что эта троица духовных Старцев — Исидор, Герман и Варнава — оказывается связанною между собою узами духовного братства, причем о. Исидор, как духовно родившийся от Старца Александра первее других, почитался ими за старшего и потому, по смерти о. Александра, заступил своим осиротелым младшим братьям место их духовного отца.
В это время Параклитовой Пӱстынки еще не было. Когда же воздвигли ее, для любителей строжайшего уединения, то перешел туда и о. Исидор. Здесь его ускорили во иеромонаха. В 1863 году он был рукоположен в иеродиакона, а в 1865–во иеромонаха. Выше этого он никуда не подымался; от схимы же, которую ему предлагали под старость его, он отказывался, — по своему смирению.
Было такое время, когда о. Исидор собирался в Америку, проповедовать вместе с Епископом Иоанном. Наместник сшил, было, ему даже новую шубу для дальнего путешествия; но почему-то эта поездка не состоялась, и шуба уехала в Америку без своего хозяина. Приблизительно лет через 5 после вступления своего в Параклит о. Исидор осуществляет свое давнее желание, — переехать на Старый Афон. В этом коренном рассаднике монашества он пробыл один год. В тот год старцы- афониты вознамерились однажды водрузить Крест на самой вершине славной горы Афонской: деятельное участие в этом воздвижении Креста Господня принимал и о. Исидор.
Но, за неимением средств приобрести себе келлию, о. Исидору пришлось в скором времени оставить монашеское государство и вернуться на свою родину. Тут он снова поселяется в Параклите, но ненадолго, ибо терпит гонение, клевету и изгнание. Тогда он переселяется в Скит, где и живет до самой своей блаженной кончины безвыездно.
Из событий этого времени можно отметить только назначение о. Исидора духовником для всех иеромонахов, последовавшее после смерти о. Варнавы, в 1906 году.
ГЛАВА 18, повествующая о блаженной кончине Аввы Исидора
Так протекла тихая жизнь Аввы Исидора. И кончина его была беспримерно тихая. Можно даже думать, что он не умирал, а просто постепенно засыпал; дыхание его делалось слабее и, наконец, вовсе исчезло: дохнул, — и с дыханием отлетела жизнь.
До самой последней минуты своей он не терял обычной веселости и ясного сознания, оставаясь и на смертном одре трезвенным. Даже память его на лица, на имена, на выдержки из духовных стихов, на различные частные обстоятельства различных людей не ослабевала у него. Болезнь его — геморрой, понос и кровотечение–была мучительна, но он никогда никому не жаловался. Когда же спрашивали его о здоровье, то он, с неизменною улыбкою, отвечал: «Ничего, слава Богу, ничего, все хорошо». Тело его совсем иссохло, руки истаяли и сделались, как плети, обтянутые кожею. Болезнь производила в теле сильные разрушения. Лицо его, обычно довольно полное, сильно исхудало и осунулось, щеки ввалились, нос заострился. Даже улыбнуться под конец у Старца не стало хватать сил. Одни только глаза — ясные глаза светлого Батюшки — сияли, как яркие звезды, — лучезарным удивительным светом. В то время как обессиленное тело Аввы лежало еще в этом мире, глаза его, казалось, светили уже оттуда. Кто сподобился видеть их, тот знает, что есть кончина блаженная.
Началась болезнь Старца давно уже; но со Святой Недели 1907 года она стала более заметной, а с Успеньева дня 1907 года кровотечения настолько усилились, что вынудили Старца прекратить посещения богослужений, кроме как для принятия Св. Тайн.
С Филипповского Поста он слег в постель окончательно, и уже тогда можно было предвидеть смертельный исход болезни. Авва почти ничего не вкушал и от того еще более слабнул. Последнюю же седмицу своей жизни он всего только и принимал немного холодной воды, — с чайной ложки.
Остававшиеся дни перед смертию он еще ревностнее и настойчивее учил приходящих к нему, повторяя свои любимые мысли. Чаще всего он повторял уже известную читателю молитву о пяти язвах Спасителя. Постоянно напоминая о бедных, говорил: «Имущий должен подавать неимущему». Говорил: «Праведник накажет грешника ми- лостию» и «Милующий дает взаймы Богу, а Бог все заплатит». Начальников просил быть участливыми к бедным и больным, — к духовным и к мирским. Говорил о милости: «Милость хвалится на суде».
Продолжал интересоваться церковным делом; твердил о соединении со старо–католиками, говорил, чтобы не гордились, кто — первый, и опять указывал, что Председательницею на соборе сядет Матерь Божия. Прощался с братиею, с духовными детьми своими. Каждому давал поручения: помогать тому или другому из находившихся на его попечении; просил не забывать бедных, распределял свое скудное имущество, благословлял. Одному дал поручение: разменять рублик на мелочь и раздавать нищим.
Видно было, что это прощание с миром очень утомляет его, телом уже полумертвого, но он не хотел прекратить своей последней деятельности. Когда за три дня до смерти его к нему приехал Епископ Е., его духовный сын, и спрашивал, не боится ли он смерти, то Батюшка с улыбкою отвечал:
«Нет, не боюсь, чего ж? Слава Богу — ничего, слава Богу — ничего», и делал тщательнейшие распоряжения, как бы заботясь не пропустить и малой вещи из своего убожества. Епископу же предлагал выбирать, что угодно ему: дал ему свой посох и полумантию. Хотя уже не двигался, но сам предложил ему:
«Давайте, я Вас исповедую»; потом, несмотря на отговоры, исповедовал и, со словами: «Я ухожу», передал ему свою исповедальную книжку, изорванную и замасленную от долгого употребления. Даже на ложе смерти памятовал Старец, что следует оказать последнюю услугу своему духовному сыну. Вспомнил и говорит келейнику:
«У меня там есть шесть картофелин. Раздай их бедным».
Такое же распоряжение сделал насчет оставшегося варенья и даже позаботился определить ломоть хлеба.
О. Израилю говорит Старец:
«Я бы хотел, чтобы меня положили в моей епитрахили, да пожалел: больно хороша. Ты попроси у ризничего другую епитрахиль, — похуже, чтобы на меня положить, — а эту отнести Преосвященному (т. е. епископу Евдокиму)».
А епитрахиль, которую пожалел для себя о. Исидор, была старая–престарая, обношенная и лоснившаяся. Всю жизнь исповедовал с нею о. Исидор, всю жизнь не расставался с нею, но перед смертию — и с нею расстался. Это — высшая жертва любви, — ибо мы и представить себе не можем, чем является епитрахиль для Старца.
За два дня до смерти, 2–го февраля, часа в 4 утра о. Исидор захотел приобщиться Св. Тайн. После ранней обедни, часов в 6 утра пришли к нему со Св. Дарами и приобщили.
Келейник говорит ему:
«Батюшка, да Вы ведь умираете!»
А о. Исидор:
- «Полно, полно, — возражает ласково, — подумал ли ты, что говоришь? У Бога нет мертвых, — все живы. Ве- руяй в Мя не умрет… Я не умираю… Бог не есть мертвых, но живых».
На следующий день, часа в 2, пришли к нему два студента Духовной Академии, принесли 10 рублей. О. Исидор велел келейнику, брату Ивану, дать ему коробочку, положил туда деньги и поручил раздать их нищим. Полежав немного, он попросил келейника:
«Сходи, брате, за духовником».
Духовник пришел в 7 часов вечера, посмотрел на больного и сказал:
«Ты плох, кормилец–батюшка».
А Батюшка отвечает:
«Очень трудно мне, вот желаю приобщиться. Если я переночую, ты приди на мой день Ангела» (4–го февраля–день его Ангела, и он об этом помнил).
Часов в 8 духовник ушел. Находившийся при Батюшке брат Иван стал читать Жития Святых Отец и Евангелие
о. Исидора· Глянув на Батюшку, брат Иван заметил, что тот перебирает свои пальцы, й говорит: «Дай я тебе подрежу ноготки!» А о. Исидор отвечает: «Завтра».
Тогда келейник снова стал читать святое Евангелие, но Батюшка говорит ему: «Брат Иван, дай крест».
Когда келейник подал ему крест, о. Исидор оградил себя этим крестом и благословил подавшего, а потом передал крест обратно келейнику. Опять несколько почитал святое Евангелие брат Иван и видит, что о. Исидор плох стал. Испросил тогда келейник прощения и молитв Старца, а потом зачитал Святое Евангелие. Но о. Исидор прервал его:
«Брат Иван, — сказал он, — погаси огонь». Но келейник не исполнил этой просьбы и спросил только:
«На что, Батюшка?»
О. Исидор стал дышать часто и опять сказал: «Погаси огонь».
Тогда брат Иван задул одну лампаду, а сам вышел в прихожую, потому что ранее о. Исидор говорил ему:
«Не гляди мою кончину: великий Антоний кончался — послал своего ученика за водой, а сам скончался. Преподобный Серафим кончался — келью запер, а сам скончался. Так все угодники: никто их кончину не видал. И ты ступай, читай книгу или спать ляг».
Еще будучи здоровым Авва Исидор говаривал ученикам своим, что даже грех смотреть, как умирает человек, и ссылался при этом на св. Павла Фивейского и на многих других святых. Требование Старца угасить огни не было случайною прихотью. Нет, это было давно выношенным и созревшим убеждением, что когда умираешь, то надо вполне сосредоточиться, всецело освободиться от всего мирского, собраться в себе и пребывать наедине с Богом.
Что делал Умирающий в эти последние минуты, что чувствовал и думал в тишине и внутреннем покое, не возмущаемом даже привычным видом убогой келлии и смиренным лучом лампады, — этого нам не только не можно узнать, но, если бы и узнали, то все равно не в силах были бы мы постигнуть то умом. Душа Аввы могла такое, которое недоступно нашему разумению. Но то, брат- читатель, примечательно, что при своей великой смиренности, — в минуту смерти, лицом к лицу с Богом о. Исидор сравнивал себя с исполненными Духа подвижниками и, притом же, в таких выражениях, как если бы это сопоставление было делом обычным. В другом это было бы само–званством и невыносимою наглостью. Но в устах о. Исидора толикое дерзновение явилось столь естественным, что проходило даже словно незаметным. Это при–смертное свидетельство, данное Батюшкою о себе самом, имеет для нас великую цену, ибо кто мог оценить духоносца и понять его лучше, нежели сам он.
Итак, брат Иван погасил огонь и вышел вон. Батюшка дышал часто. Брат Иван прилег на полу в прихожке одетый, и слушая дыхание Умирающего, задремал. Была половина десятого. Опомнившись от нашедшей на него дремы, он вдруг вскочил на ноги и стал слушать. В келлии было тихо. Он подошел к Батюшке. Рот Старца был раскрыт. Брат Иван пощупал тело; тело было еще теплое. Он понял, что Старец отошел душою к Богу. Было тогда 11 часов вечера. Брат Иван побежал разбудить иеромонаха о. Израиля. Этот последний пришел и отслужил панихиду.
Так, в 11 часов ночи 3–го февраля 1908 года, накануне дня своего Ангела скончался великий Старец Геф- симанского Скита. Лет ему было, вероятнее всего, около 84–х.
ГЛАВА 20, извещающая любознательного читателя о честном погребении Старца Исидора, а также и о том, каков был лик его после блаженного успокоения от жизни в сем мире и какова могилка его
Весть о кончине Аввы Исидора на следующий же день разнеслась по Сергиевскому Посаду, а затем достигла и Москвы. 5–го февраля, часов в 8 утра обширная духовная семья Старца собралась для последнего прощания в скитском храме Филарета Милостивого. Тут был и Епископ Е., и кое-кто из Московской иерархии, монастырская братия, некоторые студенты Духовной Академии и другие миряне; каким-то образом вошли в храм даже и несколько женщин, хотя им нет доступа в Скит. Было торжественно, но и тоскливо, потому что болезненно чувствовалося всеми, что ушла отсюда такая помощь, какой больше уж не видать в жизни. Кое–где плакали горькими слезами. Отпевание совершал Епископ.
Когда Старца отпели, то епископ подозвал ко гробу людей, наиболее близких к Усопшему. Тесным кольцом был окружен гроб Старца; и тогда Епископ слегка приподнял черный воздух с лица Батюшки.
Старец лежал как живой, — осунувшийся, с уменьшившимся лицом, но без малейшего признака тления. Рука смерти будто и не коснулась его. Легкая улыбка озаряла сомкнутые уста; грудь, казалось, еще дышала. Глубоким миром и тишиною веяло от этого гроба — не холодом могилы, а благоуханною прохладою ясного вечера. Как закатное солнце над побелевшими зрелыми нивами был Старец в гробу своем. Не величавое безмолвие мертвеца и не торжественную отчужденность умершего можно было видеть тут, но блаженство покоя в Боге: Отец Исидор был тут, спящий, нисколько не страшный, нисколько не жуткий, — тихий–претихий, кроткий- прекроткий. Своим взором, при жизни, он всегда давал утешение и мир. Но никогда еще Отец Исидор не был таким. В низко надвинутом на лоб клобуке, с головою чуть склоненною влево, ясный и светлый (но не мертвенно–бледный, не восковой), он лежал невыразимо- хорош, — так что хотелось попросить у него благословения и слезы сами капали, — уже не от тоски и горечи, а от одного чистого умиления и восторга пред красотою, победившею смерть. Это был первый виденный нами гроб, от которого не было жутко. И в нем лежала «плото–носная красота духовная», — если читатель позволит вспомнить слово святого Григория Нисского, — красота субботствовавшая
[1049].
Когда кончилось отпевание и все присутствовавшие простилися со Старцем, то Епископ Е. сказал над этим сосновым некрашеным гробом, над этим сокровищем, доставшимся Гефсиманскому Скиту, надгробное слово. Он рассказал вкратце то, что знает уже читатель о Старце Исидоре, а потом стал определять значение покойного Старца для истории монашества. Епископ указывал, что этот Старец был последним цветком из древней Фиваиды, последним представителем монашества. «У нас, — говорил приблизительно так Епископ, — теперь нет монашества; его надо еще создавать. Отец Исидор был провозвестником этого, грядущего монашества, которое уже когда-то начиналось в далекой Фиваиде. Аминь».
Возлили елей. Гроб быстро заколотили. Раздались рыдания некоторых стариков — сподвижников покойного. И понесли Батюшку к последнему его жилищу, по дороге пройдя мимо его деревянного домика и отслуживши тут панихиду. Было холодно, снежило. На короткий срок небо объярыщилось, а потом снова завила погода. Но, несмотря на холодный ветер, никому не хотелось уходить от этого желтого холмика, насыпанного возле часовни на братском кладбище. Прошла зима. Прошла и весна, — весна без Батюшки Исидора. К лету могилу его приубрали, обложили дерном, насадили цветов, поставили деревянный белый крест с черными надписями и неугасимую рубиновую лампаду. Вот каков крест на бесценной могиле.
С лицевой стороны креста написано: «Под сим крестом погребено тело Р. Б. Иеромонаха о. Исидора. Пост, в Скит в 1852 г., сконч. в 1908 г. 4–го февраля. Жития его было…» (цифра намеренно стерта, ибо была написана неверно).
Тут же висят дешевые иконы: Серафима Преподобного, св. Феодора, Ченстоховской Божией Матери, медное распятие и иные — все добровольные приношения от неведомых чтителей благостного Старца.
На обороте креста написано: «Господи приими дух мой с миром». На кресте висит стеклянный фонарь из жести, окрашенный в зеленую краску. В нем горит лампада, — так же неугасимо, как горел неугасимою лампадою пред Господом Иисусом Христом Старец Исидор.
ГЛАВА 21, последняя, которой читатель, за недосугом, может не проглядывать, ибо из нее он не получит новых сведений о Старце Исидоре
Однажды некий брат вопросил святого Нифонта Царе- градского
[1050]:
«Как ныне Святые умножились во всем мире, будет ли так же и при кончине века сего?»
На таковое вопрошание Блаженный ответил ему: «Сын мой, до самого скончания века сего не оскудеют Пророки у Господа Бога, равно как и служители сатаны. Впрочем, в последнее время, те, которые поистине будут работать Богу, благополучно скроют себя от людей и не будут совершать среди них знамений и чудес, как в настоящее время, но пойдут путем делания, растворенного смирением, и в Царствии Небесном окажутся большими отцов, прославившихся знамениями; потому что тогда никто не будет делать пред глазами человеческими чудес, которые бы воспламеняли людей и побуждали их с усердием стремиться на подвиги. Занимающие престолы священства во всем мире будут вовсе неискусны и не будут знать художества добродетели. Таковы же будут и предстоятели монашествующих, ибо все будут низложены чревоугодием и тщеславием и будут служить для людей более соблазном, чем образцом. Посему добродетель будет пренебрегаема еще более; сребролюбие же будет царствовать тогда, и горе монахам, богатеющим златом, ибо таковые будут поношением для Господа Бога и не узрят лица Бога Живого… Посему, сын мой, как я сказал прежде, многие, будучи одержимы неведением, падут в пропасть, заблуждаясь в широте широкого и просторного пути».
Таковое пророчество дал Цареградский Святитель. И се, воспоминая Отца Исидора, невольно повторяешь себе древнее пророчество: «В последние времена святые благополучно скроют себя от люд е й». Еще же более властно встает оно в душе, когда задумываешься над словами Аввы Исидора, что приходят, что близки последние времена и что скоро будет такое гонение, от которого христианам снова нужно будет скрываться в недрах земных.
Ведь Отец Исидор бого–мудрою простотою своею сумел сокрыть себя не только от мира, а даже и от ближайших со–братий своих и со–обитателей–иноков. У Батюшки ведь у Исидора не было ничего замечательного, но то- то и замечательно, что не было ничего замечательного.
Он был воистину носителем Духа Божия. Вот почему замечательное Аввы Исидора было и продолжает быть неуловимым для наших слов, неосязаемым для нашего рассудка. Цельный и единый сам по себе, — Авва делается противоречивым весь насквозь, когда мы пытаемся выразить его в словах, сказать: вот, он таков-то и таков-то. Да, он — постник; но он же — и нарушитель поста. Да, он смиренный, но он же–и независимый. Да, он отрешенный от мира; но он же любит всю тварь, как никто. Да, он — живущий в Боге; но он же — читающий газеты и занятый стишками. Да, он кроткий; но он же–и строгий. Одним словом, для рассудка он — одно сплошное противоречие. Но для очищенного разума он — единый, как никто. Духовное единство и является как рассудочное противоречие. Он был в мире–и не от мира. Не пренебрегал ничем; и всегда оставался в горнем месте. Он был духовным, духо–носным, и на нем можно было уразуметь, что есть христианская духовность, что есть христианское «не от мира». Недаром же почитаемый и опытный Старец Гефси- майского Скита о. Варнава имел его своим духовным отцом и даже называл «вторым Серафим о м», а Старец Авраамий, подвизавшийся в «пещерах» и вот уже 55 лет живущий в Скиту, говорит про о. Исидора, что он «вообще являл голубиную кротость». «Я этому Старцу в нынешнее время подобных не встречал», — таково признание многих из братий. Многое можно было бы и еще сказать об Авве Исидоре Грузинском, но долгое повествование, вероятно, давно уже истощило терпение твое, снисходительный и кроткий читатель. Прости же меня, недостойного собирателя сего Сказания, за то, что, по скверному неумению моему, благоуханный образ Старца так и не запечатлен в сих письменах. Восхвалив Господа Бога за чудное знамение, дарованное нам в Старце Исидоре, я полагаю перо с братскою благодарностию тебе, как некоему верному сопутнику сего совместного пути по лугу духовному, на чистом воздухе, благорастворенном превыспренними ароматами. Да снизойдет в душу твою, читатель, тихий мир, подобный тому, какой неослабно и неоскудно теплился в Старце Исидоре, и да светится в тебе немеркнущий свет радости. Аминь.
Конец
Сказанию об Отце Исидоре
прибавления: листки, которые раздавал Отец Исидор
Молитва, составленная Гоголем к Пресвятой Богородйце; молитву эту любил читать о. Исидор. Она не помещена в «Полном собрании сочинений Η. В. Гоголя», но со слов о. Исидора была напечатана в «Русском Архиве», 1899 г., кн. 8, А. А. Третьяковым и в «Московских Ведомостях», 1909, № 65, К–им. Отец же Исидор знал ее от своего брата, камердинера в доме гр. А. П. и А. Г. Толстых (Москва, Никитский бульвар, ныне дом Катковых), где жил в последние годы и где скончался Гоголь
«Никтоже притекаяй к Тебе,
посрамлен от Тебе исходит,
Пречистая Богородице Дево,
но просит благодати и приемлет
дарование к полезному прошению».
К Тебе, о Матерь Пресвятая!
Дерзаю вознести свой глас,
Лицо слезами омывая:
Услышь меня в сей скорбный час,
Прийми теплейшия моленья,
Мой дух от бед и зол избавь,
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь.
Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога все терпеть.
Будь мне покровом в горькой доле -
Не дай в печали умереть.
Ты всех прибежище несчастных,
За всех молитвенница нас!
О, защити, когда ужасный
Услышим
[1051] судный Божий глас,
Когда закроет вечность время,
Глас трубный мертвых воскресит,
И книга совести все бремя
Грехов моих изобличит.
Стена Ты верным и ограда!
К Тебе молюся всей душой:
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!
II Стихи «благословенны» на глас 5–й. Поются в Гефсиманском Скиту 15–го августа — на Успение Пресвятой Богородицы. Их часто повторял о. Исидор и приглашал учеников своих петь их наедине и совместно
«Благословенная Владычице, просвети мя светом Сына Твоего».
Ангельский собор удивися, зря Тебе в мертвых вменившуюся, душу же в руце Бога предавшую, и с Богом возшедшую, Пренепорочная, со славою божественною в небесная.
«Благословенная Владычице, просвети мя светом Сына Твоего».
Почто радость со слезами, богопроповедницы, растворяете; пришед близнец, свыше вразумляем, приглашаше апостолом: видите вы пояс, и уразумейте, Дева воскре- се от гроба.
«Благословенная Владычице, просвети мя светом Сына Твоего».
Ученик, неверивый, Владычице, воскресению Сына Твоего, ныне уверяет прочих о восстании Твоем, глаголя: рыдания время преста, не плачите, воскресение же Девы рцыте.
«Благословенная Владычице, просвети мя светом Сына Твоего».
Богоносным, Дево, учеником собравшимся ко гробу Твоему, и рыдающим, явивыйся Фома рече, глаголя: что с мертвыми Живую помышляете; воскресе бо, яко Бога родительница.
«Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу».
Поклонимся Отцу, и Его Сынови, и Святому Духу, Святей Троице, во Едином Существе, с серафимы зовуще: Свят, Свят, Свят, еси, Господи.
«И ныне и присно, и во веки веков. Аминь».
Жизнодавца рождши, к жизни нестареемей прешла еси: радость же, Дево, в печали место подала еси учеником, из гроба тридневно восставшая Дево, якоже и Господь.
«Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже». Трижды.
Ill
Креста Господня славна сила.
Блистательна она везде;
Торжественно себя явила
На небе, в аде, на земле.
На небе ею рай отверзся;
Сражен во аде сатана,
Ей к Богу человек вознесся;
Над смертью власть ему дана.
Потоки силы благодатной
На землю проливает крест;
Под сению его отрадной
Печалям не бывает мест.
На нем распятый Жизнодавец
Усладу в горестях дает;
Великий бывши Сам Страдалец,
Он страждущих под кров берет.
С креста же помощь подается
Добро полезное творить,
Его же силой в нас блюдется
Способность ближнего любить.
Крестом мы страсти побеждаем
И мир в душе своей творим;
Соблазны всяки отражаем
И нравы добрые храним.
Не только душу им спасаем
Для жизни вечной и святой,
И тело им же защищаем
От бедствий жизни сей земной.
Крестом мы сети расторгаем,
Какие всюду ставит враг;
Его гордыню низлагаем
И замысл обращаем в прах.
Ходи, собрат, ты с крестной силой,
Ее усердно призывай;
И в жизни светлой и унылой
Себя ты ею осеняй.
Кто с крестной силой всегда ходит
И с верой прибегает к ней,
Тот скоро к святости восходит
И зреет в чистоте своей.
Тот сени смертной не боится
И жизнью вечною живет;
Душа в нем к Господу стремится,
Любовию к Нему цветет.
К нему с надеждою прильнем;
Им спасены всегда мы будем,
Свое блаженство в нем найдем.
Отцы и матери! ведите
Детей к подножию креста.
Как можно чаще им твердите,
Что крест — великий дар Христа!
Что он — орудие спасенья,
И в нем сокрыта благодать,
Что тайны чудной искупленья
Нам без него бы не видать.
От вас сперва они познают,
Как крест Господень почитать,
Потом и сами пожелают
Его вовеки величать.
Пусть в каждый день они лобзают
Животворящий крест Христов
И нежным сердцем постигают,
Как он спасать всегда готов.
Пусть с сим обычьем возрастают
На благо Русской всей земли
И милость Божью привлекают
К себе и членам всей семьи.
Тогда-то души их младые
Окрепнут в жизненных трудах;
Не повредят им козни злые;
Успех им будет дан в делах.
И процветет от силы крестной
Весь православный наш народ
И благодатию чудесной
Прославится из рода в род.
И Сам Господь его возлюбит,
Своим избранным назовет
И чрез него весь мир возбудит
И к силе крестной призовет.
IV
Ко Господу Иисусу, Воззвание
в скорби и искушении
иночествующих
К Тебе, о Боже, я взываю,
Ты не оставь, Благий, меня,
К Тебе я руки простираю
И завсегда молю Тебя.
Как мне молитися к Тебе.
Ты видишь, облако велико
Закрыло разум у меня.
Ты разжени мглу искушений
И просвети мне путь к Тебе,
Ты падших мыслей воскресенье
Поели, Владыко, свет Твой мне.
Оставил я отца и матерь,
Именья, дом, — я все презрел,
Любовь сестер моих и братий
И все, что в мире страстном зрел.
И, бегая, я удалился
В пустыни, горы и леса,
И в сих местах я водворился,
Чтоб зреть умом мне небеса.
Спасения чаю я от Бога,
От бурь защиты для себя,
Чтоб малодушия тревога
Вся удалилась от меня.
Но как взыщу Тебя, Владыко,
И где обрящу я Тебя?
О! дело трудно, велико
Принял я, грешный, на себя.
Мне в путь с крестом идти сказали,
А без креста и не ходи.
И путь тернистый указали
И чтобы скинул сапоги;
И я пошел в путь добровольно,
Хотя и трудно мне идти,
И думал, что уже довольно,
А не прошел еще версты.
Я на пути изранил ноги,
От претыкания бодцов,
И сбился я в пути с дороги;
Трудно идти мне за Творцом.
Порвал одежду я в пустыне,
И впал в разбойники я в ней,
О, Боже милостив и сильный,
Предстань в сей час души моей!
Ты видишь, я изнемогаю,
Ты видишь, Боже, силы нет,
Куда идти уже не знаю…
Да просветит мне путь Твой свет.
И я узрю Тебя, Владыко,
Узрю, Создатель мой, Тебя,
И встрепенет душа моя.
Забуду горесть и печали
И злострадания в пути,
Что все в пути меня встречали
И не давали мне идти.
Забуду скорби и невзгоды
И все труды подъяты мной,
Которые терпел все годы
Идя, Владыко, за Тобой.
Еще далеко, о Спаситель!
Еще далеко мне идти,
Я не прошел, мой Искупитель,
К Тебе еще и полпути.
Ты рек, что «Иго Мое благо
И бремя легкое Мое»,
Я верю, Боже мой, и знаю,
Что слово истинно Твое.
Мне, Боже, с помощью Твоею
Все будет легко на пути,
Еще оставшейся стезею,
Я возмогу, Господь, идти.
Хотя слезами орошаю
Мой путь к Тебе, Создатель мой,
Но верю, Боже мой, и знаю,
Что я иду благой стезей.
Православие
I Элементы, из которых сложилось русское православие: византинизм; славянское язычество; культ солнечных божеств и культ предков. Русский национальный характер. Крещение Руси и его главные символические моменты.
Если мы вспомним первоначальную Церковь, такую простую по своей организации и все же переполненную божественными силами, и сравним с тем, что теперь называется Христианскою Церковью, то, с одной стороны, нас поразит та огромная перемена, которая совершилась с Церковью за девятнадцать веков ее существования, а с другой — станет вопрос, да имеет ли эта Церковь — католическая или иная — что-нибудь общее с христианством? Действительно, у Христа — «блажени нищие духом»
[1052], а у нас сложная теософическая система, учение об ипостасях, естествах Бога, единстве, троичности и т. д.; в апостольской Церкви
[1053] — нарушение закона, свобода от ритуала, обряда, правил, а у нас посты, поклоны, праздники, бесчисленные обряды; у Христа — «не говорите лишняго», а у нас шестичасовые богослужения, бесконечные акафисты, ектеньи, стихиры и т. д.; у христовых учеников — движение, внутренняя свобода, у нас поклонение преданию, строгий консерватизм, смерть за «единый аз»
[1054]. Такое сопоставление на первый взгляд оправдывает восклицание Гарнака: «Эта официальная церковь, со своим духовенством, богослужениями, со всеми своими священными сосудами, одеждами, изображениями, амулетами, постами и праздниками не имеет ничего общего с религией Христа».
[1055]Что христианство в нынешних формах не похоже на христианство христовых учеников — этого нельзя отрицать. Но мы попробуем доказать, что в Церкви, как она сейчас существует, сохраняется христианство настолько чистым, насколько вообще может сохраниться незамутненным божественное, влитое в земные сосуды. Прежде всего, христианское учение явилось в мир не с тем, чтобы преобразить его немедленно; свобода мира и человека предполагает сама собою, что силы, внесенные в мир Христом, медленно будут растекаться по миру, по мере того, как люди будут принимать их и свободно проникаться ими. Но ведь каждая страна, область, народ, принимая Евангелие, π о–с в о е м у принимает его. Ведь христианство Иоанна совсем не то, что христианство Петра; христианство Франциска Ассизского не то, что христианство ап. Павла. Так же и с отдельными странами и народами. Западный мир, приняв Евангелие, по–своему принял его, а Восток — по–своему. Полная истина есть нечто абсолютное и поэтому не совместимое с миром; мир и человек по существу своему ограниченны, и потому ограниченно принимают истину христианства, а так как у каждого народа и человека своя особая ограниченность, то и христианство его выходит особым. Это–первый фактор, который разделил целую истину и этим изменил ее. Во–вторых, община учеников Христа жила той благодатной силой, которая непосредственно изливалась на них; нынешние церкви живут той же благодатью; доказательство этому — те святые, являющиеся доныне в церквах и католической и православной, которые по своей духовной жизни однород- н ы, так сказать, с теми типами святости, которые так богато обнаруживались в первоначальной Церкви; дело только в том, что в апостольской Церкви благодатные силы лились потоками и реками, а у нас настоящая христианская жизнь разжижена таким огромным количеством язычества, даже в самой церкви, что получается впечатление, будто эти благодатные силы капают скупыми росинками, и то, что раньше давалось само собою, теперь достается с неимоверными трудами. Эти труды, которые берут на себя подвижники, кажутся иногда искусственными, нелепыми ухищрениями, но иных путей сейчас нет. То, что раньше давалось одним созерцанием образа живого Бога–Христа, дается теперь в результате многолетнего воспитания своей воли. Нетрудно было бы отменить сейчас все молитвы, службы, мощи, таинства на том основании, что всего этого не было при Христе. Но стали бы от этого легче пути к Божеству? Мы не имеем времени подробно говорить здесь об этом; скажем только одно. Если признавать религиозную жизнь, как йечто единое спасительное, то надо обратиться к опыту людей, достигавших наиболее высоких степеней религиозной жизни, а таковыми мы не можем не признать святых; но святые шли церковным обрядовым путем, частично оставляя его только уже на очень высоких ступенях жизни.
Итак, весь сложный аппарат современной церковной жизни имеет назначением получить, удержать и передать людям те капли божественных сил, которые сейчас доступны людям. Ведь никто не выдумывал этого аппарата нарочно. Он сам слагался по мере необходимости. Первые христиане, говоря грубо, жили религиозно круглые сутки и каждый акт своей жизни совершали для Бога. Их собрания носили первоначально характер свободных, беспрограммных бесед, молитв, пения гимнов, и твердыми точками таких собраний были только евхаристия и чтение слова Божия
[1056]. Около этих неподвижных пунктов стали отлагаться по мере охлаждения религиозного энтузиазма наиболее вдохновенные молитвы и гимны, сложенные на прежних собраниях; эти элементы тоже становились неподвижными, число их росло, пока собрания эти не превратились в застывшее, совершающееся по определенной программе богослужение. Параллельно с этим шел другой процесс: собрания, занимавшие сначала все время христианина, превратились в богослужения, совершавшиеся несколько раз в день; затем отдельные богослужения (часы, заутреня, вечерня) стали сокращаться и соединяться по нескольку вместе, ради удобства мирян, потом стало обычаем совершать и посещать богослужения раз в неделю, проводя остальное время вне Церкви и без Бога.
Вот каким путем слагалась нынешняя Церковь. Раньше импровизировались вдохновенные молитвы — теперь мало кто слагает их, и нам остается повторять старые; раньше сам Бог учил людей и благословлял их, — теперь единственная возможность подойти к Нему — Его слова (Евангелие), молитвы, таинства. Конечно, можно оставить все это, отбросить испытанные пути, способы и приемы и устремиться к Богу самостоятельно и своими силами; но для этого мало даже иметь силы первых христиан; а пока нет их, надо держаться за единственное, что есть: не умеешь сам петь — повторяй за другими; не умеешь молиться — молись с теми, кто умел.
Но это «остывающее» христианство имело свою хорошую сторону. Силы человечества, неспособного к прямому богообщению, начинают проявлять себя в области умозрения, богословия, искусства. Единый белый свет экстаза распадается на многоцветные лучи христианской поэзии, науки, богословия, живописи, архитектуры. Так как все это — сферы человеческой деятельности, то образовались различные течения, обособленные одно от другого и часто враждебные, образовались разные исповедания, церкви католическая, восточная, позже — протестантская. Все эти церкви (в особенности католичество и православие), бедные собственным творчеством, главную свою задачу, естественно, видят в хранении святыни, полученной по преданию.
В этой главе мы будем говорить не о всей восточной церкви, мы оставим в стороне православие греков, сербов, болгар и т. д. Мы будем говорить только о русском православии и прежде всего обратимся к вопросу о его происхождении.
Русская вера сложилась из взаимодействия трех сил: греческой веры, принесенной нам монахами и священниками Византии, славянского язычества, которое встретило эту новую веру, и русского народного характера, который по–своему принял византийское православие и переработал его в своем духе.
Византийское православие характеризуется следующими чертами. Склонность философски рассматривать религию соединяется в византинизме с высокой оценкой важности обряда. Вместе с разработанной теософией, где выясняются в философских терминах отношения между Лицами Пресвятой Троицы, между естествами в Богочеловеке, понятия Церкви, спасения, бессмертия и т. п., в восточной религиозности не меньшее значение имеет глубокое уважение к обряду, так что исполнение его ставится рядом и даже выше исполнения нравственных заветов. Такая важность обряда и учения создает консервативное к ним отношение; соблюдение неприкосновенности обряда и учения становится главным делом Церкви. Но и обряд и учение не всегда понятны, часто даже вовсе непонятны массам, а между тем сила их явно чувствуется верующими; из такого противоречия развивается смирение перед глубиной церковного сокровища и послушание к хранителям его. С другой стороны, церковность входит в жизнь, пропитывает собою весь быт, делается неразрывной частью народного характера. Для армян, болгар, греков и русских народность неотделима от церковности, так что «православный» и «русский» становятся синонимами, обозначают одно и то же. Сюда же примыкает еще одно обстоятельство: по условиям образования восточной церкви, понятие царя получило в ней значение священное и тесно слитое с понятием Церковь. Божественный римский цезарь, владыка мира, приобретший к тому же все свойства восточного деспота, сделался главным покровителем христианской церкви, «епископом ее внешних дел» и проводником христианских начал в государственную жизнь. Такое положение тесно соединило идею царя с идеей православия, Церковь стала немыслима без царя.
В таком-то виде проникло христианство к русским. Византинизм явился среди русских славян огромной силой, прежде всего потому, что он поддерживался властью; во–вторых, он сам по себе был силой организованной; в–третьих, он нес с собой науку, гражданское и церковное право, просвещение. Он явился источником, откуда русский народ пил веками, почти не имея ничего другого. Но все же русское православие есть нечто иное, чем православие византийское, и это потому, что русский народ имел до христианства свое особое мировоззрение и свой особый племенной характер. Рассмотрим как то, так и другое, поскольку это возможно в кратком очерке.
Как и другие языческие религии, религия славян основывалась на мистическом отношении к природе. Это отношение к природе или останавливается на моменте рождения, видит в природе великую производительницу, и тогда религия принимает фаллический характер, становится культом рождающих сил; или же в природе выделяется, как предмет почитания, другой, столь же неизбежный ее момент — смерть, что порождает культ духов умерших, культ предков. В религии древних русских есть и тот и другой момент. Кроме того, оба момента достигли настолько большого развития, что мы находим у древних русских вполне сложившимися множество высших богов, правда, сохраняющих еще свое природное значение грома, солнца, ветра и т. п. Может быть, больше всего мы знаем о культе солнечных божеств любви, брака и плодородия. Их популярность подтверждается большим количеством их имен (Ярило, Ладо, Кострома, Хоре, Даждь–бог, Тур и т. д.); две губернии до сих пор сохранили имена этих божеств любви и веселия — Ярославская и Костромская; про последнюю даже сложена поговорка — «Кострома — веселая (блудливая) сторона»; там же были найдены фаллические изображения. Культ этих божеств пережил введение христианства и дожил до наших дней, отчасти косвенно, в виде многочисленных игр и хороводов с пением непристойных (с интеллигентской точки зрения) песен, отчасти прямо, в виде чествования, оплакивания и похорон девушки, изображающей Кострому, или соломенного чучела — Ярилы. Все эти данные указывают, какую большую роль в религиозных представлениях русских занимали явления, относящиеся к деторождению и браку. Ежегодное возрождение солнца и вообще пробуждение природы (равно, как и ее осеннее замирание) сопровождалось шумными празднествами с венками, цветами, плясками, пением и играми. Насколько разгульный, оргиастический характер носили эти празднества, показывает упорная и долговременная борьба с ними духовенства; духовная власть видела в этих «игрищах» прямое служение Дионису, как указывают следующие места из «Стоглава».
«Русали о Иванове дне… сходятся мужи и жены и девицы на нощное плещевание и на безчинный говор и на бесование песни и на плясание и на скакание и на богомерзкие дела; и бывает отроком осквернение, и девам растление»; подобные дела «Стоглав» сравнивает с «ел- линскими беснованиями»
[1057], когда они, «еллины» «голосование и вопль велий творят, еллинского бога Диониса, пьянству учителя призывают»
[1058]. Народ смотрел на такие праздники иначе; даже в наше время матери охотно отпускают своих дочерей на такие «гулянки», «поне- веститься», как они выражаются. В этом снисходительном отношении к любви до брака слышится древнее чувство священности таких празднеств, освящающих то, что в другое время и при иной обстановке считается позором и преступлением.
Эти весенние и летние праздники в честь солнца и существ, наполняющих природу — только частный пример религиозного и мистического отношения древнего человека к природе.
Перейдем теперь к культу предков, душ умерших и духов вообще, как он существовал у древних русских. Поговорка — «на печи сидел, кирпичам молился» — имеет старинное происхождение и глубокий смысл. Печь, тождественная с священным очагом арийских народов, не имела у древних русских ничего общего с нашей кухонной плитой или, тем менее, с голландскими и иными печами, служащими для отопления. Древнее священное значение печи, как очага и религиозного центра семьи и дома, чувствуется у нас, и то очень слабо, пожалуй, в камине. Печь была седалищем домашних богов, духов предков; огонь ее, поэтому, священен, угли из нее- лечебное средство; еще и теперь при переходе в новую избу хозяйка переносит туда золу из старой печи, и эта зола заменяет, таким образом, домашнего бога. Такими же духами–покровителями считались души всех законно умерших. И поныне в губерниях пензенской и саратовской мордовские крестьяне, принося на могилы умерших еду, говорят при этом: «Вот тебе! это принесла такая-то; береги у нее скотину и хлеб, корми цыплят, гляди за домом». Наоборот, умершие насильственной смертью, самоубийцы, обращаются в злых духов.
Перейдем теперь к третьему «слагаемому» русского православия — к национальному характеру. Но здесь мы встречаем некоторое затруднение, состоящее в том, что нам надо определить, чем был русский славянин до принятия христианства. Теперешний тип великоросса — результат христианских влияний на него, и чтобы определить, чем он был до христианства, нам надо было бы или иметь сведения, рисующие славянина–язычника, или, взявши современный тип русского, мысленно выделить из него то, что создано в нем христианством. Первый путь для нас закрыт, так как история располагает слишком скудными сведениями относительно языческого славянства. Здесь возможно установить только такие, маловыразительные черты, как гостеприимство, мягкость нравов, наклонность к междуплеменным раздорам и вообще перевес начал этических и религиозных над общественными и правовыми. Второй метод не менее труден. Национальный характер не есть нечто неустойчивое и неподвижное. Тысячи причин определяют его и заметно меняют даже в течение века. В частности, характер русского племени очень изменился с переселением его на Волгу и Оку; самостоятельная, в одиночку, борьба с неприветливой природой развила в нем такие черты, которых не было у жителей киевской Руси. Впрочем, и эти черты важны для нас сейчас, так как, независимо от времени их появления, они придали православию очень определенные особые черты. Вот что говорит о некоторых сторонах характера великоросса Ключевский.
Природа северо–восточной России «часто смеется над самыми осторожными расчетами великоросса: своенравие климата и почвы обманывает самые скромные его ожидания, и привыкнув к этим обманам, расчетливый великоросс любит подчас, очертя голову, выбрать самое, что ни на есть, безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великоросский а в о с ь». Короткое, быстро проходящее лето приучило великоросса к чрезмерному, но кратковременному напряжению сил, за которым следует продолжительное зимнее безделье. Работа в одиночку не создала привычки к совместному труду; поэтому же великоросс — себе на уме, осторожен, необщителен, и взятый в отдельности, выше и лучше «великорусского общества». «В борьбе с неожиданными метелями и оттепелями, с непредвидимыми августовскими морозами и январской слякотью он стал больше осмотрителен, чем предусмотрителен, выучился больше замечать следствия, чем ставить цели, воспитал в себе искусство подводить итоги на счет умения составлять сметы. Это умение и есть то, что мы называем задним умо м». «Великоросс часто думает на–двое, и это кажется двоедушием. Он всегда идет к прямой цели, но идет оглядываясь по сторонам, и потому походка его кажется уклончивой и колеблющейся. Ведь лбом стены не прошибешь, и только вороны прямо летают»
[1059].
Итак, вот те три силы, которые пришли в взаимодействие, чтобы образовать то, что мы называем русским православием. Византинизм, как готовое, сложное, обставленное подробным ритуалом вероучение, было внесено в страну, сплошь языческую, населенную народом совершенно иного склада чем тот, который создал византийское понимание христианства.
Зарождение новой веры, ее первые шаги, как бы они ни казались случайными и безразличными, имеют важное значение для уразумения этой веры. Чтобы завершить эту вводную часть нашей главы, мы рассмотрим эти первые моменты рождения у нас христианства.
Известно, что до крещения Руси у нас были христиане, прежде всего, среди варягов. Вообще, постоянные сношения с христианской Византией и Западом не давали Руси возможности оставаться изолированно–языческой. Крещение княгини Ольги показывает, что христианство и не было чем-то абсолютно враждебным и неприемлемым для русских.
Летописный рассказ об испытании вер, о крещении князя Владимира и его дальнейшей христианской жизни известен всем, но мы все же остановимся на нем; как ни легендарен этот рассказ, он имеет в себе несколько черт, символически освещающих нашу тему. Чего искал Владимир в христианстве? Он отверг магометанство, несмотря на то, что оно произвело впечатление на его чувственность; в магометанстве он не видел широты, универсализма и радости: «нет веселья в них, но печаль и смрад велик». Еврейской веры он тоже не мог принять. Он понимал неразрывность вер со всем бытием народным, а изгнание евреев из Иерусалима и рассеяние их по всей земле плохо рекомендовало их религию.
Почему же он остановился на христианстве и что он оценил в нем? На это отвечают три эпизода летописного рассказа. Когда греческий богослов изложил Владимиру всю историю божественного промысла и судьбы человечества, он показал в заключение картину, изображающую страшный суд, неизреченную красоту царства небесного, веселье и вечную жизнь одних и бесконечную огненную муку и «червя неусыпающего» для других. Владимир вздохнул и сказал: «Добро сим — одесную, горе же сим ошую». — Его поразило самое главное в христианстве, именно то, что оно — религия абсолютных оценок, религия суда, а вместе с тем религия спасения.
Когда послы, отправленные Владимиром для исследования разных вер, вернулись в Киев, они рассказывали о богослужении греков, о красоте, стройности и ангельском пении, и как вывод сообщили, что в богослужении греков Бог явно пребывает с людьми, — быть может, намек на то видение Христа–Младенца, приносимого в евхаристической жертве, которое они имели в храме св. Софии Цареградской. Иначе сказать, христианская религия, по впечатлению послов, имеет в себе силы превращать безобразную случайную жизнь в божественную красоту и гармонию и хотя изредка, в богослужении, но действительно воссоединяет людей с Богом.
Ставши христианином Владимир показал, что он всей душою принял эти два начала в христианстве, о которых мы только что сказали: он принялся строить церкви, крестить своих подданных, спасая их души от власти дьявола, и заводить училища; но с особенной подробностью биографы останавливаются еще на одной стороне его деятельности. «Больше же всего бяше милостыню творяй Володимер», «…повеле всякому нищему и убогому приходити на двор княж и взымати всякую потребу — питье и яденье»; для тех, кто по болезни не мог прийти сам, Владимир завел особые телеги, на которых развозились по городу «хлебы, мяса, рыбы, овощь раз- ноличный, мед в бочках, а в других квас». Эта милостыня распространялась и на села и деревни «и по всей земли русской».
Вот тот третий момент, который усмотрел в христианстве Владимир: это то, что оно — религия милосердия. Владимир вводил христианство без и часто против желания своего народа, но в великом деле выбора веры и крещения Руси он таинственным образом предугадал судьбы христианства в России. Давно умер Владимир, а и доныне православные, как некогда Владимир, ужасаются в каком-нибудь соборе или монастыре перед картиной адских мук и жаждут быть с теми, кто «одесную»; в своих скудных церквушках, как и в столичных соборах, так же как Владимировы послы, они половину смысла христианства видят в богослужении, в молитвенном соединении с небесными силами, которые невидимо служат в храме, а выйдя из церкви, вспоминают и вторую его половину — милостыню.
II Стихия православия: Церковь и быт. Демократизм в понимании Церкви. Важное значение обряда. Консерватизм. Монашеский идеал. Приходское православие. Взгляд на духовенство. Быт; церковность в быту. Языческие воспоминания. Дисциплина в домашней жизни. Православная культура. Отношение к земле и хлебу. Двоеверие. Колдуны.
Мы рассмотрели в предыдущей главе элементы, из которых сложилась вера современного русского народа. Заранее можно сказать, что в результате такого соединения будет нечто очень своеобразное и сложное. Так оно и есть на самом деле. Русский крестьянин, наиболее полно и искренно исповедующий сейчас православие, верит в Бога, Церковь и таинства, но одновременно с этим он не менее твердо верит в лешего, шишигу, сарайника, заговоры и т. п., и это последнее — такой же непременный элемент его веры, его поведения и мировоззрения, как и первое. Он мистически относится не только к миру святых, но и к природе, не только к Богу, но и к нечистому. Кроме того, область религиозного не ограничивается для крестьянина церковью и природой; третьей сферой его религиозной жизни является быт, заключающий в себе его земледельческий труд, семейные отношения, еду, сон, одежду и вообще повседневность. Поэтому мы будем рассматривать русское православие по трем областям: Церковь, быт, природа, — понимая под природой не только природные явления в обычном смысле, но и мир языческих стихийных духов.
Церковь для православного — не внешний авторитет, как у католиков; православные никогда не дорожили церковным единством, которое покупается потерей свободы членов церкви, но они далеки также от протестантского понимания свободы, при котором церковь становится пустым звуком. Католицизм склонен отождествлять Церковь с духовенством, противопоставлять духовенство мирянам. В православии Церковь немыслима без народа, и верующий народ есть Церковь. Это взгляд общий всем православным церквам от армян до греков; в 17–м параграфе окружного послания восточных патриархов 6–го мая 1848 года пишется:
«У нас ни патриархи, ни собор никогда не могли ввести что-нибудь новое, потому что хранитель благочестия у нас есть самое тело Церкіи, т. е. самый народ». Иннокентий, епископ Алеутский, говорил, что епископ в одно и то же время есть учитель и ученик своей паствы. При отсутствии резкого разделения на клир и мирян получается (в идеале) тесная и дружная жизнь всех членов Церкви. Поэтому в православной Церкви «всякое слово, внушенное чувством истинно–христианской любви, живой веры, или надежды, есть поучение; всякое дело, запечатленное Духом Святым, есть урок; всякая христианская жизнь есть образец и пример» (слова Хомякова)
[1060].
Другая черта православного отношения к Церкви — это перевес культа, и в частности обряда, над учением и моральной стороной христианства. Брань, драка, пьянство — меньший грех, чем нарушение поста; нарушение целомудрия легче отпустится духовником, чем нехождение в церковь; участие в богослужении более спасительное дело, чем чтение евангелия; отправление культа важнее дел благотворительности. Наш народ недаром усваивал христианство не по евангелию, а по прологу (жития святых), просвещался не проповедями, а богослужением, не богословием, а поклонением и лобызанием святынь. Умы, склонные отводить первое место разумению, рассудку, анализу, возмущаются так называемым обрядоверием православных; но это возмущение не более, как недоразумение. Неужели больному полезнее начать изучать медицину, чем принять лекарство и излечиться? Религия ни в каком случае не дело рассудка; для не признающего религии возмутительно не только обрядоверие, но и религиозная философия; а признающий религию за дело реальное должен признать, что религия не в рассудке и даже не в познавании, а в действительном отношении к Богу; религия — не рассуждение о божественных вещах, а принятие божественного в свое существо. Поэтому молитва, в которой Бог нисходит в душу молельщика, для верующего выше даже чтения Библии, лобызание мощей, из которых, как из переполненного сосуда, льется благодать, важнее усвоения богословской премудрости; евхаристия, принятие в свое тело Тела Господа, бесконечно важнее всех проповедей, учреждения богоугодных заведений, школ* больниц и т. д. Православный считает богодейст- венными не только вышеназванные акты: молитвенные формулы, произносимые в церкви, мелодии, которые поются там, лампады, возжигание свечей — все это не просто слова и жесты, это — священнодействия, т. е. такие формулы и такие акты, которые при всем своем сходстве с обычными словами и движениями отличаются таинственной, мистической, сверхъестественной силой. Освященная вода ничем по виду не отличается от простой, но от нее бегут бесы, она излечит от дурного глаза, она поможет во всех болезнях.
Отсюда понятен упорный консерватизм русского православия, не позволяющий изменить ни одной буквы, ни одного движения в обряде. Спасительными оказывались именно эти формулы, а каковы будут новые — еще не известно.
Может быть, здесь бессознательно присутствует такое рассуждение. В храме поют «Христос воскресе!». Этот гимн, точь–в–точь теми же словами и в той же мелодии, поют сейчас по всем храмам, церквам и часовням России. Точь–в–точь так же пели его наши далекие предки; благочестивый царь Алексей Михайлович, Александр Невский с своей дружиной слушали и повторяли те же слова. Мало того, в темных римских катакомбах при свете масляных медных и глиняных светильников первые христиане пели ту же песнь. Но сама мелодия гимна, его музыка еще древнее; наша торжественная, победная песнь поется на мотив свадебных эллинских гимнов, которые пелись пред лицом древних божеств. Вся глубокая, седая старина звучит в этом гимне, и только наше невнимательное ухо мало чувствует это, мало слушает и, слушая, ничего не понимает. Перед священником в крестном ходе несут свечу в стеклянном фонаре. Это- остаток обычая нести факел перед епископом, пробиравшимся в темноте катакомб в подземный храм. Многие обряды и символы нашего богослужения ведут свое происхождение (по своей внешней оболочке, по своему телу) не только от христианской древности, но и прямо из Эллады, Финикии, Египта. И человеческому ли уму, который ограничен кругозором в несколько лет, который знает только вчерашний день, менять то, что тысячелетиями живило людей и воссоединяло их с миром божественным.
Впрочем, православный консерватизм не безусловен. Православное сознание охотно и даже с радостью принимает новое, но только, если в нем оно видит явную печать святыни. Новые, особенно действенные молитвы, новые (явленные) иконы, наконец, новые святые встречаются с живой радостью и без всяких колебаний, раз на новом явно почила благодать. В этой области православный народ даже слишком легковерен, легко поддаваясь обману, он часто принимает подделку за святыню.
Теперь мы оставим эти общие черты православия и перейдем к подробностям.
Православный одинаково считает христианином и себя, живущего семьей, и монаха, всего себя посвятившего Богу, но все же путь монаха он считает чем-то особенным и более спасительным, чем жизнь мирянина. Таким образом, живя в быте, православный ценит, как высший путь, назначенный для особых избранников, — монастырь. Как в глубокой древности, так и теперь неграмотный крестьянин получает пищу для своего религиозного чувства в богослужении и богомольях. Он посещает старцев, известных строгостью жизни, простаивает длинные монастырские службы, поклоняется мощам угодников, в трапезной слушает повествования о житии святых подвижников, и повествования эти вместе с рассказами о святых местах расходятся в виде устных рассказов по деревням и селам, укрепляя в народе идеалы аскетического подвига.
Это христианство монастырей и святых он отделяет от своего, так сказать, домашнего христианства, центр которого в местном приходском храме и священнике. Здесь прихожанин совсем нетребователен, он даже мало радеет о благолепии своего храма, и приходская жизнь у нас вообще не развита вовсе. Его не огорчает, что дьякон невразумительно читает и часто бывает нетрезв, а от священника он желает, главным образом, исправления треб. От «попа» никто не ожидает ни особенно благолепного служения, ни проповедей, ни устроения прихода, ни даже нравственного руководительства. Его дело — крестить, венчать, хоронить, служить молебны на полях, освящать куличи на Пасху и плоды на Спаса. Конечно, энергичный священник может понять свои обязанности шире и заняться просвещением своего прихода, воспитанием в прихожанах нравственных привычек, приняться за искоренение пьянства, улучшение семейных отношений, наконец, открыть кредитное товарищество или потребительную лавку, но все это будет принято, как нечто сверхдолжное, а настоящий православный, пожалуй, заподозрит здесь лютеранский дух и осудит такую деятельность.
Переходим теперь ко второй области православия, к быту. Недаром у крестьян сложилась поговорка — «без Бога — не до порога». Вне богослужения, вне храма православный окружен той же церковностью. Но в храме он по возможности забывает свое человеческое и живет исключительно божественным, а вне храма на первое место выступает человеческое, которое ищет у Бога благословения себе, все же оставаясь человеческим.
Прежде всего, православный ведет свою жизнь по церковному календарю и по святцам. С одной стороны, он свято блюдет праздники, точно знает их до самых незначительных, соблюдает все посты по монастырскому уставу, помнит, когда можно есть рыбу, а когда полагаются одни овощи. С другой стороны, к тем или иным дням крестьянин приурочивает определенные земледельческие и хозяйственные заботы. В зависимости от этого дни года получают особые названия, например: 24–го января–Аксинья–полузимница и полухлебница, т. е. прошло ползимы и съедено половина запасов; 1–ое апреля–пустые щи; 12–го апреля — Василий выверни оглобли, т. е. оставляй сани, снаряжай телегу; 23–го апреля — Егорий–скотопас (выгон скотины в поле); 5–го мая — Ирина–рассадница (рассадка капусты); 6–го — Иов–горошник; 23–го — Леонтий–огуречник и т. д. Таким образом, акты земледельческой и домашней жизни ставятся под покровительство святых. Но этого мало. Мы напрасно стали бы искать в жизни православного таких моментов, которые он не освящал бы или сложным обрядом, или хотя крестным знамением. Прежде всего, самые важные моменты его жизни — рождение, смерть, брак происходят пред лицом Бога и благословляются таинствами и богослужениями. Здесь, конечно, главную роль играет Церковь и священник; но не забыты и древние языческие обряды. Они тесно переплетаются с церковным обрядом и по сей день полностью совершаются во многих областях. Описание одного свадебного обряда какой-нибудь северной губернии занимает десятки страниц этнографических сочинений. До семнадцатого — восемнадцатого века эти обряды были особенно живы, и церковная власть тщетно боролась с ними.
«В мирских свадьбах, — говорит один пункт «Стоглава», — играют глумотворцы и арганники, и смехотворцы, и гусельники, и бесовские песни поют. И как к церкви венчаться поедут — священник с крестом едет, а перед ним со всеми теми играми бесовскими рыщут»
[1061].
Менее важные случаи жизни тоже освящаются церковью, напр., новоселье, сев, жатва, именины, поминание усопших. Все подобные случаи православный ознаменовывает молебнами, с окроплением святой водой, крестными ходами на поле, приглашением к себе на дом особенно почитаемой иконы и т. д. Все это — особенные точки в жизни православного; но и будничные, каждодневные дела сопровождаются молитвой. Молитва предшествует принятию пищи, сну, всякой работе, «творению» хлеба. Там, где не читается молитвы, творится хотя бы крестное знамение с поклоном.
Надо, конечно, признать, что часто, даже в большинстве случаев, молитва и крестное знамение совершаются механически; иначе сказать — сознание в это время не занято божественными вещами; но, вероятно, и такая механическая молитва возбуждает какие-то подсознательные движения в душе, которые в итоге создали тип православного крестьянина, каким мы видим его в глухих уездах северных губерний. Строгое подчинение церковным постам, обязательные посещения служб, молитва перед каждым делом пронизывают насквозь жизнь великоросса, скрепляют ее, делают ее, прежде всего, стройной и крепкой. Участник такой размеренной, крепкой жизни чувствует себя в ней на своем месте, не торопится, а сознание, что он делает дело, которое до него делали сотни поколений, делает его уверенным в себе, степенным и торжественным. Кроме того, постоянная молитва создает тишину в душе и особую мягкость, в соединении с глубокой серьезностью. Еда для православного — священное дело, он не ест, а вкушает; входит он в чужой дом, крестится перед иконами, и этот акт настраивает его глубоко–серьезно и по отношению к дому, в который он входит, и к людям, с которыми он сейчас будет говорить. Для большой наглядности представим себе с внешней стороны жизнь европейского интеллигента. Он ест наспех, относясь к еде грубо материалистически, читая одним глазом газету, торопясь к какому-нибудь делу. В чужой дом он входит, как в ресторан, в магазин, в клуб; едет в большое путешест- вне, трогается поезд, и в то время, как православный крестится, делается хоть на секунду сосредоточенно серьезным, европеец торопливо доедает пирожок, перехваченный в станционном буфете, и пробегает вечерний листок. Во всем этом прежде всего — отсутствие уважения к той же газете, к чтению, к еде, к людям, к каждому акту жизни, часто даже к семье и к своей работе. Вот отчего в то время, как среди крестьян «живущих по старине» есть много лиц, с которых можно прямо писать икону, так они строги, благообразны и «стильны», европейская физиономия поражает своей случайностью, безвыразительностью и неодухотворенностью.
Принято говорить, что у крестьян (мы говорим, главным образом, о крестьянстве, т. к. оно полнее всего сохранило в себе православие) нет никакой культуры. Предпосылкой такого утверждения является мысль, что существует только одна культура — европейская. Конечно, это неправда. Очень прочная, глубоко вросшая и сложная культура есть не только у крестьянина, но и у дикарей всех материков и частей света. В частности, свою культуру имеет и русский крестьянин. Мы упоминаем об этом здесь потому, что культура эта — религиозного характера и покрывается одним обозначением — православие. Это не будет злоупотреблением словом; православные сами употребляют это слово в таком смысле. С их точки зрения быть православным не значит отрицать filioquc
[1062] и чистилище и признавать причастие sub utraque
[1063]. «Он ест не по–православному», «не по–православному одевается» — это ходячие выражения. Православный православен не только в догматах и, может быть, менее всего в них, а в том, что он не ест прежде, чем не прослушает раннюю обедню, что в праздник он ест пироги, что, не перекрестя лба, он не сядет за стол, что по субботам он парится в бане, словом, живет в определенном быту, что он сын православной культуры.
Третья сфера, к которой религиозно относится православный, это — природа. Область эта тесно сливается с тем, что мы рассматривали выше под именем быта. Здесь мы будем иметь в виду отношение православного не только к природе в узком смысле, но и к земледелию, которое, будучи основой крестьянского быта, все же не меньше относится и к природе. Кроме того, в ту же категорию войдут те остатки природных языческих сил в виде леших, домовых и проч., с которыми православный крестьянин и доныне имеет дело.
Травы, птицы, деревья, насекомые, всякие животные, земля, — каждая стихия вызывает к себе у крестьянина непонятное сочувствие. Послушайте, как крестьянин разговаривает со скотиною, с деревом, с вещью, со всею природой: он ласкает, просит, умоляет, ругает, проклинает, беседует с нею, возмущается ею и порой ненавидит. Он живет с природой в тесном союзе, борется с нею и смиряется перед нею. Вся природа и все вещи — нечто живое и личное. Это — бесчисленные существа — лесовые, полевые, домовые, половинники, са- райники, русалки, кикиморы и т. д. и т. д. — двойники вещей, мест и стихий. Они живут своей жизнью, требуют от человека пищи, вершат житейские дела, женятся, едят, пьют, спят, ссорятся, дерутся, плачут, умирают. Все вещи и события принимают особый вид. Нет просто еды, просто болезни, просто одежды, просто огня. Все — просто и не просто. Вот вихрь крутится вдоль по дороге, но это не просто ветер. Это- ведьма празднует с чертом свою нечистую свадьбу. И в этом можно убедиться. Надо только бросить в этот вихрь нож, и нож упадет на землю окровавленным.
Что земля для православного — мать и святыня, это общее место. Но для того, чтобы показать, что это общее место имеет для крестьянина живой и реальный смысл, приведем иллюстрации. В Ярославской губернии есть такой обычай. Обычай этот соблюдается при «притыке», т. е. такой загадочной болезни, для которой крестьянин не находит объяснений; так, совершенно здравый человек, находясь в поле, на работе вдруг чувствует боль в какой-нибудь части тела; это знак, что он наказан матерью–землей за какую-нибудь вину. Чтобы выздороветь, надо просить у земли прощения. На том месте, где человек почувствовал боль, он должен сказать, повернувшись к востоку и кланяясь в землю: «Прости, мать сыра земля, в чем я тебе досадил» («Живая Старина», 1896 г., т. VI). Легко себе представить, какое священное и серьезное значение приобретает работа над землей.
Дары земли и, прежде всего, хлеб также священны. Хлеб — «дар Божий», он эмблема богатства и плодородия. Начиная новую ковригу, крестьянин произносит: «Господи, благослови!» Небрежное обращение с хлебом, катание из него шариков — великий грех. Наоборот, кто не брезгает никаким хлебом, а ест его и черствым и цвелым, тот не будет бояться грома, не потонет в воде, доживет до старости в достатке. Все работы по добыванию хлеба, очевидно, еще с глубокой древности обставлены религиозными обрядами. «Перед началом этих работ, а равно и после — перед покосом и жнитвою, совершается крестный ход на поля, причем церковные образа и хоругви бывают увиты свежей зеленью и цветами; священник благословляет нивы и кропит их святой водою. На Сретенье каждый хозяин освящает для себя восковую свечу; эту свечу он заботливо хранит в амбаре, а при посеве и зажинках выносит ее на поле»
[1064]. «На Благовещенье и в Чистый четверг поселяне освящают просвиры и потом привязывают их к сеялкам; в некоторых же деревнях просвиры эти высушиваются, стираются в порошок и смешиваются с зернами, предназначенными для посева; в Черниговской губернии принято освящать в церквах самые семена»
[1065]. Жатва сопровождается тоже особыми обрядами. В некоторых местах Малороссии первый сноп зажинается священником. Мы не будем приводить здесь всех относящихся к земледелию обрядов, ограничившись приведенными, как типичными (они собраны между прочим в третьем томе «Поэт, воззр. славян на природу» Афанасьева).
Если мы, оставивши землю и земледельческий труд, обратимся к другим природным явлениям, то заметим следующую особенность: относясь религиозно ко всем явлениям природы, крестьянин ко многим из них относится не по–хрисгиански. Так, нет ничего христианского в многочисленных остатках религиозных языческих празднеств, в плясках, играх, прыганьи через костры, завивании венков, чем обычно сопровождаются различные моменты в жизни природы. Для крестьянина стихийные духи, духи воды, леса, дома–личные живые существа. Светлые они силы, или темные? Во всяком случае, не светлые. Ни один православный не вздумает, обращаясь с молитвой к домовому, помянуть Бога или святого; когда в доме расшалятся духи (а это бывает весной, когда домовой меняет шкуру, или бесится, потому что хочет жениться на ведьме), крестьянин не обратится к попу–он пойдет к знахарю. Но эти силы не всегда и злые силы. Тот же домовой обычно считается добрым духом дома; он подметает пол, кормит скотину, смотрит за домом, предупреждает крестьянина о несчастии, доставляет ему изобилие во всем и богатство. И не только домовой может помогать крестьянину. Вот, например, молитва крестьянки Смоленской губернии, обращенная ко всем стихийным силам: «Хозяин–батюшка домовой и хозяюшка–матушка домовая! хозяин–батюшка лесовой и хозяюшка–матушка лесовая! хозяин–батюшка водяной и хозяюшка–матушка водяная! хозяин–батюшка полевой и хозяюшка–матушка полевая! Простите меня грешную и недостойную (поклон на четыре стороны). Помогите, пособите от внутренних наносных и от нудных переговорных; дайте доброго здоровья!»
Но еще чаще бывает, что эти духи делают зло человеку, посылают на него болезнь, неурожай на его поле, падеж на его скотину. Это — нечисть, погань, нечистая сила и проч. И крестьянин, сознавая себя православным и сыном церкви, чувствует себя сильнее этих духов, редко он обратится к Церкви для избавления от них. Правда, иногда он ограждается молитвой, или кропит святой водой углы, но чаще идет к колдуну, знахарю, страшному человеку, рожденному женщиной от такого же природного духа, не бывающему у причастия, начинающему свои заговоры с многознаменательной формулы: «Стану я не благословясь, пойду не перекрестясь» и т. д. И не надо думать, что обращающийся к колдуну испытывает те же чувства, что западные Фаусты, продающие душу черту. Ничуть не бывало: баба, ходившая «снимать килу» к колдуну, не чувствует себя согрешившей; она с чистым сердцем будет после этого ставить свечи в церкви и поминать там своих покойников. В ее сознании Церковь и колдун просто разные департаменты, и Церковь, властная спасти ее душу, не может спасти ее от дурного глаза, а колдун, лечащий ее ребенка от криксы, не властен молиться за ее умершего мужа.
Мы должны здесь оговориться. Такая двойственность — самое заурядное и обычное явление; но надо сказать, что по местам, и даже очень часто, бывает и полная спутанность в этой области. Кроме того, что за лечением от беса, одержимости, кликушества, даже зубной боли обращаются к лицам «церковного чина» — от какого-нибудь старца, до приходской просвирни включительно, — кроме этого, существуют знахари и не такого темного характера, как мы описали выше. Сами заговоры часто имеют вид христианских молитв, читаются «во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа», а та формула, которую мы привели выше, читается и иначе, именно: «стану я благословясь, пойду перекрестясь» и пр. Встречаются даже деревни, где обязанности знахаря исполняет священник. Все же в отношении православного к природе есть элемент несвободы, страха, подчиненности, «суеверия» в смысле признания своей слабости перед стихийными духами.
Мы рассмотрели тот материал, церковный и бытовой, который составляет православие. Сделаем из него некоторые выводы.
III Выводы. Характер русского благочестия. Христос страдающий. Разделение Божьего и человеческого. Православный взгляд на милостыню. Иррационализм. Смирение. Интимность в отношениях к Богу, переходящая в фамильярность. Сектантство. Старообрядчество.
«Не прикасайся ко Мне», — сказал воскресший Христос Марии, а вместе с тем Фоме он дал коснуться ран своих
[1066].
В своих «Мыслях» Паскаль объясняет это видимое противоречие тем, что мы, христиане, должны иметь участие только в ранах и страданиях Христа
[1067]. Если эти раны разуметь, как вообще скудость, истощание, «рабий зрак» Христа, то русский народ, в своей религиозности, живет со Христом страдающим, а не с воскресшим и преображенным. Это вовсе не значит, что русское православие живет какими-нибудь необычайными страданиями и подвигами; как раз наоборот. Ничто так не чуждо православию, как героические деяния и эффектные подвиги. Бог умалился для нас, сделался человеком и жил среди людей. «Он взошел, как отпрыск из сухой земли; нет в нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни» (Ис. LIII). Это–русский Христос, такой близкий к скудному русскому пейзажу, неприглядным, серым деревням, пьяной, больной, разоренной России. Это Христос–друг грешников, убогих, немощных, нищих духом.
«Православие, — писал Победоносцев, — это религия блудниц и мытарей, идущих в Царство Небесное вперед законников и фарисеев»
[1068]. Так понимали православие Лесков и Достоевский, а ведь глубже их никто не описывал сущности народной веры. Сила Божия в немощи совершается; если сам Бог явился в немощном виде, то как можем мы презирать немощное? Может быть, именно в немощном и обнаруживается благодать? Православный поэтому никогда не судит по наружности. Он не торопится осуждать и возмущаться, он даже чувствует какую-то внутреннюю симпатию к пьяным, нищим, оборванцам, неученым и просто дурачкам. Блеска, величия, силы он не ищет, даже наоборот, он особенно осторожен, когда видит силу и блеск, которые ему всегда кажутся чем-то «человеческим, слишком человеческим». Православие — полная противоположность языческому и современному европейскому взгляду (сильнее всего он выражен у Ницше), что ценность человека увеличивается с увеличением его внешних достоинств, что чем человек умнее, красивее, сильнее телом и волей, тем он божественнее. Православие делает гораздо более радикальную переоценку ценностей; оно не только сомневается в такой прямой пропорциональности между ценностью человека и его человеческими достоинствами, но склонно понимать эту пропорциональность, как обратную. Правда, эта склонность принадлежит не исключительно русскому православию; в главе о христианстве мы показали, что это–взгляд всей апостольской церкви, но в западных исповеданиях этот взгляд давно заменен оценками языческими и позитивными.
Эту оценку православие переносит и в область общественного дела. «Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии» (Пс. СХХѴІ). Оно подозрительно относится к социальному и культурному процессу, и, в лучшем случае, ценит его, как дело очень относительное, вполне человеческое и имеющее мало общего с теми подлинно–божественными, таинственными процессами, которые совершаются в душах народов. Может быть, возможно достижение всеобщего равенства, упразднение бедности и голода, установление международного мира, но — «когда будут говорить: мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба» (I Фес.Ѵ, 3). А кроме того, может быть, для мира нужнее страдания и бедствия? может быть, достигнув благоденствия, человечество возгордится и забудет Бога? может быть, сытость усыпит совесть, а беспечальное житие и леность пробудят небывалые пороки? Поэтому-то православие не гонится за общественной деятельностью и не высоко ставит социальные мероприятия. Даже в сфере церковной деятельности (напр., миссия, церковное просвещение) православие проявляет не только неумелость, но и равнодушие. Очень точно формулировал этот взгляд преосвященный Евлогий, при наречении его во епископа люблинского. «Взять ли в руки меч, — говорит он, — вооружиться ли всеми средствами борьбы, к которым прибегают инославные учения, кичащиеся громадными количественными успехами своей пропаганды? Но слышится грозное слово пастыреначальника: взявшие меч мечем погибнут. Нет, не в этом сила истинного пастырства по духу Христову — не в стройности и крепости внешней организации деятелей, не в широте их проникновения во все общественные сферы, не в обилии материальных средств, даже не в препретильных человеческия мудрости словесех, — нет, мы, говорит св. апостол, не по плоти воинствуем; оружия бо воинства нашего не плотская, но сильна Богом; это — броня правды, щит веры, шлем спасения, меч духовный, иже есть глагол Божий и молитва» («Ц. Вед.», 1903 г., № 5).
В этой выдержке ясно выражены, как пренебрежение человеческими способами борьбы, так и боязнь свою человеческую деятельность принять за божественное дело. Это не значит, что православие отрицает все человеческие дела, но оно пуще всего боится смешать дело Божье с земным. Это полная противоположность лютеранству, которое одинаково считает за дело церковное, а вернее — за человеческое, и служение в церкви, и проповедь, и церковную благотворительность. С православной точки зрения, благотворительность не отрицается; одеть нагого, накормить голодного, посетить больного — все это исконные русские добродетели, но смысл их исключительно в том, что все это–дела любви, дела милосердия, а не переустройство мира из «долины слез и плача» в рай земной. В то время, как общественная деятельность и церковная благотворительность на Западе имеет целью пересоздание условий жизни на более нормальные и поэтому принимает безличную, механическую форму (работные дома, искоренение нищенства, государственные пенсии старикам, страхование), православие, горячо сочувствуя страдающему миру, совсем не верит в возможность изменить их человеческими силами, а потому благотворительность в России носит личный характер помощи именно этому лицу, без посредников и исключительно из любви к нему, а не с расчетом, что этой помощью изменяются условия человеческой жизни.
Человеческий мир несоизмерим с божественным, малое в этом мире наречется великим в Царствии Небесном; пути Господни неисповедимы; человек не в силах понимать смысл всего исторического процесса, а отсюда два вывода: иррационализм и покорность. Здесь опять-таки полная противоположность католицизму и лютеранству. Там–вера в человеческий ум, стремление не только познавать, но и подчинять божественное законам разума, и это не только в лютеранстве, сущность которого — рационализм, но и в католичестве. В православии наоборот — вера в самые неразумные, нелепые вещи, вера, понимаемая, как отказ от разума, наконец, действительный отказ от разума в вопросах религиозных и поэтому легкое и свободное признавание таких противоречивых и недоступных разумному пониманию фактов, от которых рационалист впадает в судорги.
Но раз все делается не нашим умом, а Божьим судом, раз человек предполагает, а Бог располагает, и все, в конце концов — в руках Божьих, то религиозный долг человека смириться перед Богом, отказаться от своей человеческой воли и не перечить воле Божественной. Это — первая обязанность христианина. Он смиренно должен делать дело, к которому приставлен, жить, как все, не высовываться, не гнаться за большими делами и как можно меньше рассуждать.
Если ты чиновник, военный, учитель — старайся хорошо делать свое дело, вовремя женись, люби жену и семью — это сфера твоей деятельности, в которой ты можешь развернуть все твои силы, но не воображай, что ты призван для великих дел, не тужься, не надсаживайся — и благо ти будет. Тип такой, истинно православной жизни дал своей биографией Достоевский. В частной жизни это был обыкновеннейший обыватель, житейски озабоченный — весь в тягостной власти буден, «изнывающий в напряжении усилий около мелочей жизни, покрытый пылью житейской прозы». (Об этом смотри статью Волжского во 2–м выпуске сборника «Вопросы религии».)
[1069]Какой далекой от Бога кажется такая жизнь! Неужели есть что-нибудь общее у этого прозябания с религиозной, — да и не только религиозной, а просто жизнью?
Предыдущее, я думаю, подготовило нас к утвердительному ответу на этот вопрос. Да, отвечает православный, Христос, который жил с грешниками и блудницами, ходит и среди нас, в нашей мещанской обстановке. Думается, из всех христианских исповеданий ни одно так живо не чувствует личного Христа, как православие. В протестантизме этот образ далек и не имеет личного характера, в католицизме он — вне мира и вне сердца человеческого. Католические святые видят его перед собою, как образец, которому они стремятся уподобиться до стигматов — гвоздинных ран, и только православный — не только святой, но и рядовой благочестивый мирянин — чувствует Его в себе, в своем сердце. Вспомним рассказ о. Кириака (у Лескова, «На краю света») о том, как ребенком, забившись под банный полок, он молил Бога, чтобы его не выдрали за шалость; и вдруг он почувствовал, что повеяло тихой прохладой, «и у сердца, как голубок тепленький», что-то зашевелилось. Это был Христос. «Всей вселенной он не в обхват, а, видя ребячью скорбь, под банный полочек к мальчику подполз и за пазушкой обитал»
[1070].
Эта интимная близость с Богом не имеет ничего общего с западной экзальтацией и сентиментализмом; наоборот, эти отношения легко принимают у крестьянина оттенок добродушной фамильярности. Над этой фамильярностью подшучивает и сам крестьянин. «Батюшка Предтеча, — будто бы молится баба, — я Павлова сноха, Иванова жена, помилуй меня!» «Одному мигнул, другому кивнул, а третий сам догадается», — говорят про небрежную молитву. С угодниками крестьянин живет запросто — ведь «Никола мужику воз подымает», он первый друг крестьянину — «проси Николу, а он Спасу скажет». Поэтому он не считает обидным для святых угодников давать им прозвища, не всегда почтительные, вроде Афанасий — Ломонос, Евдокия — Плющиха, Никола — Кочанный, Акулина — Задери хвосты, и т. п. Эта трезвость религиозного чувства исключает не только религиозный романтизм, но и ханжество; как ни много молится обычный православный, но он не выносит тех, кто «украл часослов, да: услыши, Господи, правду мою!» — не выносит лицемерия в религиозном деле.
Из этого краткого очерка православного благочестия, мы полагаем, видно, как в православии русское религиозное чутье счастливо избегло как Сциллы рационализма, куда его мог увлечь русский здравый смысл, так и Харибды безудержного мистицизма, к чему его тянуло то свойство русской натуры, которое Достоевский определил, как стремление преступать черты и заглядывать в бездны. Всё же эти свойства остались в русском характере, и ими объясняются многочисленные секты в православной Церкви, распадающиеся как раз на две главных группы сообразно двум вышеназванным особенностям русского характера.
Последователи сект первой категории, руководимые здравым смыслом, отвергают православную догматику и богослужение, как непонятные и противоречащие человеческому уму — типичным и наиболее выразительным представителем этого направления является Л. Толстой.
Вторая группа сект обычно называется сектами мистическими. Главную из них — хлыстовство — мы рассмотрим в следующей главе.
Есть еще одно ответвление православия — старообрядчество. Первоначально это было православие в его самом чистом виде, но под влиянием своего «протестантского» состояния оно усвоило себе некоторые неправильные черты; в общем, оно все же наиболее близко к тому идеалу, который мы нарисовали в этой главе. Отторгнутое от господствующей церкви внешними силами, оно рано или поздно все равно отделилось бы от той части русского народа, которая стала усваивать себе европейскую цивилизацию, оставлять православный быт и изменять вере отцов. Старообрядчество выделилось из православия как раз в самый момент культурного перелома в русском обществе, в конце XVI 1–го века, т. е. во время культурных новшеств в одежде и вообще быте и накануне эпохи Петра Великого. Разорив православный быт, реформа Петра нанесла сильный удар православию, лишив его, по крайней мере в городах и образованном классе, его тела — быта. Результаты второго исторического удара православию, революции — еще нельзя учесть. Во всяком случае революция усилила тот упадок и разложение православного быта, а значит–и православия, которое давно уже совершается капитализмом, городами и фабриками. Как ни медленно движется культурная (не политическая) история, все же православие близко к какому-то рубежу, где оно должно или совсем разложиться, или, изменившись, возродиться. Мы говорим «изменившись», потому что православие своим бытом тесно связано с жизнью, а жизнь меняется и ломает этот быт, ломая и православие. С другой стороны, православие крепко и внутренно связано даже с политической историей — через самодержавие. Вера в царское самодержавие, мистическое к нему отношение — это один из непременных элементов православия, и поэтому изменения в способах управления страной наносят православию новый удар. Третьей трещиной в православии надо считать все более и более открывающееся неустройство церкви, неканоничность ее, нарушение ею основных церковных же канонов. Открывается вопиющее противоречие между консерватизмом православия и его фактическим отступлением от консерватизма и притом в сторону разорения церковного устройства. Это противоречие уже сознано, и готово стать движущей силой в православии.
Несколько замечаний к собранию частушек Костромской губернии Нерехтского уезда
[Вступительная статья к изданию: Собрание частушек Костромской губернии Нерехтского уезда. Кострома, 1909]
Ученые труды, имеющие своим предметом народную жизнь, чаще всего бывают одного из двух типов: или это — более или менее обширные трактаты, даже целые курсы, с высоты птичьего полета обозревающие общие очертания народной жизни и потому дающие сведения уже суммированными. Или же это — отдельные заметки об отдельных явлениях народной жизни в той или иной местности.
Если труды первого типа имеют склонность к чрезмерным и, потому, преждевременным обобщениям, то труды второго типа грешат обычно разрозненностью и обрывочностью сообщаемого материала, вырванного из общего контекста жизни. Если первые, так сказать, уже передуманы, так что в них умерщвлена конкретность жизни, то вторые еще не д одуманы, и их содержание является случайным, нерасчлененным в местах важных, загроможденным от докучного хлама. Если в первых форма насилует содержание, то во вторых содержание оказывается вовсе бесформенным.
Однако есть средний, царский путь, минующий как сциллу фантастических обобщений, так и харибду бессмысленных фактов. Это, именно, путь монографического изучения народной жизни. На этом пути ставится задача понять процессы народной жизни из самой жизни, а не из внешних для них инородных явлений, равно как и не простое констатирование единичных случаев. Прочесть жизненное явление в контексте жизни, понять его смысл и его значение для жизни не из общих положений науки, которые и сами нуждаются в поверке, и не в свете субъективных толкований, а из самой жизни — вот задача монографического изучения быта. Но для этого необходимо изучить тот или другой уголок жизни, более или менее типичный, — изучить проникновенно, до тончайших сплетений жизненной ткани, ипритом — всесторонне. Эта микрология народной жизни, хотя и имеет уже своих работников, однако, в общем, является доселе скорее требованием науки, задачею, нежели данностью и готовым решением.
Однако есть причины торопиться с изучением нашего быта. Железные дороги, фабрики, технические усовершенствования, освободительные идеи и газетчина — эти факторы являются гнилостными микроорганизмами, все ускореннее разлагающими быт. Возможно, что лет через 10–15 не останется и следа от многих из бесценных сокровищ фольклора, которыми владеет наша Родина. Пока можно еще, пока ссть время, надо сохранить, что успеем.
Руководствуясь только что изложенными мыслями, в течение более четырех лет (с 1904 г. по 1909 г.) я старался, насколько мог тщательно, вглядеться в небольшой уголок Костромской губерний Нерехтского уезда, — уголок, который можно определить приблизительно как область внутри окружности, описанной радиусом около 10–ти верст из села Толпыгина, Новинской волости. Радиус этой окружности при исследовании разных явлений несколько менялся; а именно, он брался более значительным при собирании песен и т. д. и менее значительным при изучении особенностей диалекта. Причины, почему мною было избрано опорным пунктом именно село Толпыгино, были по преимуществу житейские; но теперь, обозревая собранные материалы, я усматриваю задним числом, что судьба поставила меня в весьма благоприятные условия, — о чем речь будет впоследствии.
Хотя ни собирание, ни обработка материала далеко еще не закончены, однако его накопилось уже довольно для печатания по частям. Отлагая общие выводы свои до обнародования самого материала, я укажу, уже теперь, на одну из теоретических задач, которые могли бы быть решены рядом работ, подобных моей. Вот что имеется в виду: с точки зрения лингвистики и фольклора Костромская губерния — одна из наиболее сложных и интересных губерний нашей Родины. Столкновение различных народностей и различных колонизационных потоков произвело здесь не только своеобразный уклад жизни и характера, но и удивительную этническо–лингвистическую неоднородность населения. Губерния эта мозаична, и отдельные, хотя бы и смежные, куски этой мозаики часто весьма существенно разнятся между собою: переход от одной местности к другой, близлежащей, иногда влечет за собою заметную прерывность этнической структуры населения.
Как же понимать эти лингвистические и бытовые гнезда? — Или — как остатки не вполне растворившихся в общей массе разных колонизационных потоков, или же — как выветрившиеся области финских и иных неславянских племен, смешавшихся с племенами славянскими и завещавших им свой этнический привкус. Возможно, что в разных местностях причины разнообразия — то первого типа, то второго. Но, так или иначе, однако тщательное изучение отдельных местностей позволит впоследствии произвести на карте Костромской губернии ряд линий, определяющих собою территориальные границы той или иной особенности, — быта, лексики и диалектологии языка. Это будут, так сказать, изо- әтнические, изо–диалектические, изо–бытовые кривые. Области распространения известного местного слов а, известной особенности в произношении, или той или иной побаски, имеющей в основе своей некоторое своеобразное религиозно–общественное явление, — эти области в иных случаях, быть может, позволят восстановить древнюю этнографическую карту Костромского края. Нет, конечно, надобности доказывать важность подобных изысканий для изучения всевозможных миграционных процессов.
Печатание собранного материала я начинаю с частушек, Предлагаемые читателю частушки записаны исключительно во второй половине 1908–го года, причем, насколько можно, применялся фонетический метод «по звонам»
[1071]. К сожалению, однако, тонкие особенности произношения остались опущенными, вследствие недостаточности средств графики: тут нужен бы фонограф, а не перо. Что же касается до обычных приемов транскрипции, то они слишком громоздки.
При этом я старался сохранять индивидуальные особенности произношения, — не приводил записей к одному знаменателю. Ведь грамматика — для языка, а не язык — для грамматики. Ошибки, отступления от общепринятого нисколько не менее поучительны, нежели явления обычные. Это — проявление жизни языка; а в тератологии и патологии языка дается орудие к пониманию его нормальной анатомии и физиологии.
Главное, за чем наблюдалось при собирании, — это отнюдь не отходить далеко от центра изучаемой области, — от села Толпыгина. Кроме самого Толпы- гина, запись производилась в селах Яковлевском и Медведкове; как села фабричные, они дают сведения, можно сказать, о всей ближайшей округе.
Часть приводимого материала записана мною лично, другая же, большая, — моими сотрудниками по работе. Таковыми были: семейство Толпыгинского священника о. Симеона Троицкого, крестьянин того же села
A. К. Хренов и студент Московской Духовной Академии
B. А. Ильинский. Считаю приятною обязанностью засвидетельствовать им свою глубокую благодарность за помощь, без которой настоящая работа едва ли смогла бы появиться на свет.
Материал, печатаемый в настоящей· работе, состоит из частушек. Под частушками или частыми песнями в широком смысле разумеется вообще особый род народной песни, характеризуемой более или менее быстрым, учащенным темпом исполнения и подвижностью мелодии («частбе пение»), что весьма подходит к звукам сопровождающей их гармоники («гармонь», «гармошка», «тальянка» и «тальяночка», т. е. италианская гармоника, а также «дву- рядка», «двурядочка»). В более узком смысле под частушкой разумеется наиболее распространенный и, главное, наиболее определенный по своему сложению вид частбго пения, так называемое играние лӓндю- х а, откуда происходит название лӓндюховая частушка. Лӓндюховыми частушками в настоящем собрании являются №№ 1–727 и №№ 793866.
Другой, тоже весьма определенный, вид частбго пения — это частушка хороводная. Хороводными частушками в настоящем собрании являются №№ 893–968.
Хороводными же частушками называются частые песни, по содержанию напоминающие собственно- хороводные, но разнящиеся от последних неопределенностью формы. Эти частушки перемешаны с собственно- хороводными.
Четвертым видом частых песен является частушка ходовая или плясовая, называемая также веселою. Таковы №№ 867–872. Эта частушка поется «в подпляску», т. е. служит вместо музыки при пляске. К ней же примыкает и пятый вид частушек, — это именно «в ы к ρ и ч к и» на свадьбишной и иной пляске, а также и в паузах между ландюховыми частушками. Таковы №№ 873–892. Наконец, довольно далеко от вышеперечисленных видов стоит частушка рекрутская. Частушки рекрутские помещены у нас под №№ 728–792. Можно было бы указать еще один вид частушки, по форме весьма близко примыкающий к лан- дюховой. Это, именно, — частушка похабная. Но, к крайнему сожалению, по внешним причинам не приходится печатать образцов этой поэзии, весьма живо напоминающей эпиграммы Марциала
[1072].
Что же такое частушка в существе своем? Есть ли это эпоха песни или род песни? Другими словами, есть ли частушка лишь современная песня, соответствующая разлагающемуся быту, — распад народной песни, или же она — один из родов песни, сосуществующий и сосуществовавший другим родам? — Большинство исследователей, даже не задумываясь над возможностью подобного вопроса, решительно видит в частушке уродливого эпигона народной песни. «Жива ли народная песня?», «Новые народные стишки», «Новое время — новые песни», «Новые веяния в народной поэзии», «Заводская поэзия», «Извращение народного творчества» — вот заголовки некоторых исследований, выразительно указывающие, какого взгляда держатся их авторы на занимающий нас предмет
[1073]. Видеть в частушке новейшую формацию народной песни, отражающую именно умножение фабрик и заводов, сделалось едва ли нҽ общим местом. Однако я решительно не признаю этого общего места. В частушке должно видеть просто особый род песни, в своем возникновении никак не связанной с разложением быта и существовавшей издревле. Мало того, можно полагать, что частушечная форма не только сосуществовала прочим в древности, но — и это весьма вероятно–даже им предшествовала.
На древность частушки указывает прежде всего прямая известность старинных частушек, встречающихся, например, на лубочных картинах.
Затем, на первобытность частушки указывает общность частушечной формы у самых различных народов. Кажется, нет народа, у которого не было бы найдено частушки. Но любопытно то, что даже у народов полудиких и диких имеются типичнейшие частушки.
Приведем несколько примеров, чтобы читатель мог сам убедиться в универсальности частушечной формы песни
[1074].
Вот образец баттакских стихотворений (Ява)‚ собранных И. И. Мейером:
Ulah sok hajang ка gula,
Tatjan bisa nanggur kawung,
Ulah sok hajank ka gula,
Tatja bisa nan υ η sarung,
т. е.: «Не требуй сахару, если не можешь срубить сахарной пальмы; не требуй меня, если не можешь соткать сорочки».
По своему сложению аналогичны этому и китайские песни ш и к и н г, и малайские π а н τ у н ы. Последние «представляют собою рифмованные четырехстрочные строфы, в которых господствует довольно своеобразный параллелизм: в первых двух описывается какое-нибудь явление природы, а две последние выражают известного рода мысль, сентенцию; но для европейца часто крайне затруднительно усвоить себе связь между обоими представлениями, — проникающий всю первобытную поэзию субъективизм выступает в пантунах с особой ясностью». Вот образцы этих пантунов:
Mcmuti umbak di rautau Kalaun
Patang dan pagi tida bcrkala.
Memuti bunga de dalam kabun,
Sa tangkci saja iang mcnggila,
т. е.: «Белы волны на прибрежье Катафи, день и ночь они бушуют беспрерывно; много белых цветов в саду; но по одном только я схожу с ума от любви». Или:
Agcr dalam bcrtambah dalam
Ujan di ulu bulum lagi tedoh;
Ilati dendam beptambah dendam,
Dcndam daulu bulum lagi sumboh,
т. е.: «Глубокие воды стали еще глубже и дождь все льет на холме; страстные желания моего сердца усилились, но до сих пор еще не сбылись надежды его». Или:
Jeka sungguh bulan pcrnama,
Mengapa tiada di parar bintantg.
Jeka sungguh tuan bijaksana,
Mcngapa tiada dapat di tinlang,
т. е.: «Если действительно настало полнолуние, отчего луна не светит среди неба? Если ты правдив и верен, почему нельзя мне повидаться с тобой?»
Тут читатель, вероятно, вспоминает японскую танку. В самом деле, что такое — эта танка, как не усовершенствованная частушка, вышедшая из у τ а — гаки, т. е. из хоровода песен (ср. нашу хороводную частушку) и распространившаяся по всей толще японского народа. Вот несколько образцов τ а н- к и крупных японских поэтов, которые я привожу в переводе Гр. А. Рачинского:
Встретились с ней мы
впервые, как осенью
падали листья;
снова сухие летят,
И уж в могиле она.
(Хитамаро)
Если бы все лето
цвели на горах наших
нежные вишни,
вряд ли так крепко бы мы
эти любили цветы.
(Лкахито)
Страстью сгорая,
тебя поджидаю я…
Ты ли идешь там?
Нет, то лишь ветра порыв
рвет занавеску мою.
(Принцесса Нукада)
Утром осенним
росой отягченные
клонятся травы;
больше о дальней тебе
пролил ночами я слез.
(Нарихира)
Если бы белых
цветов не так сладок был
запах пьянящий,
кто б их решился сорвать,
кто б их не принял за CHer? t
(Цураюки)
Горько я плакал,
и мокры от слез моих
складки одежды…
Спросят: «Что это с тобой?»
«Дождик весенний» — скажу.
(Аноним)
Если б зачли мне,
по службе чиновной,
все муки любви:
пятый бы класс получив,
я бы советником был!
Чтобы, наконец, познакомить читателя с частушкою европейских культурных народов, приведем несколько народных испанских ѕ о 1 е а г е ѕ (трехстишия) и copulas (четырехстишия) в переводе, правда, несколько олитературенном, К. Бальмонта.
Слово песни — капля меда,
что пролилась через край
переполненного сердца.
Та, кого люблю я сердцем,
точно белая гвоздика,
что раскрылась поутру.
Хоть слезами оросили
мы твою любовь с моею, —
не взрасти ей, не расцвесть.
Как мне быть с тобой, не знаю, —
ты, как Кадикс^ за стеною,
подступиться не могу.
От тоски я умираю, —
ты еще живешь на свете,
ты, умерший для меня.
Как жемчужины признанья:
чуть жемчужина сорвется,
за одной–другая, третья,
ожерелье распадется.
Камень, тронь его огнивом,
брыжжет слезы из огня.
Это камень! Что же будет,
с сердцем, с сердцем у меняі
Луна заскучала о солнце
за три часа до рассвета.
Так о тебе я скучаю,
жизнь и блаженство мое.
Мать, что тебя породила,
ранняя роза была.
Она лепесток оброни
Подобных примеров частушки можно было бы приводить сколько угодно. Но т. к. я пишу не исследование о частушке, а лишь предисловие к собранию костромских частушек, и притом определенной области, то достаточно и приведенных образцов. Полагаю, что уже и ими доказано, что форма, столь распространенная по всему миру, не может связываться у нас в России с условиями столь своеобразными, как разложение быта и фабричная работа. Но это сделается еще более ясным, если мы вникнем, что, собственно, представляет собою частушка. При этом, для сохранения места, я буду сейчас иметь в виду исключительно частушку ландюховую.
Если отвлечься от сравнительно небольшого числа частушек на общественные темы, то можно сказать, что ландюховая частушка есть народная лирика и, притом, лирика эротическая. Но эротика, которую высказывают пред всеми, да еще среди веселящихся товарищей и подруг, не есть, вообще говоря, эротика самой глубины души. Это — чувство более или менее поверхностное, — не столько страсть, сколько забава.
Да если бы и впрямь сердце сгорало от страсти и муки, то влюбленный постарался бы на людях принять вид легкомысленный. Тон шутки, более или менее заметной, весьма часто покрывает частушечную эротику.
Эта двойственность частушки, это шутливое в глубоком и глубокое в шутливом придают частушке дразнящую и задорную прелесть, постоянно напоминающую Гейнев- скую Музу. Как и у Гейне, в глубине частушки порою нетрудно разглядеть слезы и боль разбитого сердца; однако, как у Поэта, так и у народа эти слезы и эта боль показаны более легкими, нежели они суть на деле.
Из сказанного о содержании частушки вытекает и соображение о форме ее. Частушка как бы выкидывает, как бы мгновенно выбрасывает из человека чувство его. Это — не только лирика, — вообще выражающая настоящее, — но именно и по преимуществу лирика мгновения. Будучи импрессионистской лирикой по существу, частушка необходимо получает форму небольшого, замкнутого в себе, более или менее изящно- сложенного целого. Четверостишие частушки самодовлеющее; его нельзя продолжить, его нельзя сократить. Частушка закончена в себе и определенна нисколько не менее, нежели сонет или газель или японская танка.
Вследствие этой законченности она скорее изящна, нежели глубокомысленна. Отсюда-то и вытекает размер ее, — подвижный, пикантный и как бы подпрыгивающий (-тут опять вспоминается Гейне); уместно было бы назвать размер частушки кокетливым и дразнящим.
Художественная законченность частушки обусловлена ее параллелизмом. Нормально–сложенная частушка делится на д в е части, каждая по два стиха, из которых первая содержит в себе тот или иной образ, взятый по большей части из жизни природы, а вторая- раскрытие его смысла применительно к данному настроению мгновения. Но параллелизм образа и его раскрытия не всегда прозрачен сразу. Это объясняется, однако (исключаю случаи просто неудачных образов), не столько субъективностью сопоставления, сколько его глубиною. Так, нередки в частушках намеки на значение той или иной приметы, того или иного гадания (на картах, с кольцом), или же пользование народной и даже международной символикой. Так, если встречается упоминание о ягодах («есть рябину», «ломать рябину», «рвать виноград», «сорвать вишень- ку»), то этот символ, вне всякого сомнения, означает любовное соединение. Если говорится, что та или иная ягода — зелена, то это означает половую незрелость. Пить чай — удачная любовь, пить воду — неудачная. Сорвать цветок — выдать замуж. Бусы, в особенности белые (как жемчуг), — символ горя. И т. д. Символика частушки — приблизительно та же, что и символика песни, и потому я считаю возможным ограничиться здесь простым указанием на этот, достаточно разработанный, отдел словесной науки. Попытку же систематизировать частушечные символы читатель может найти в вышеуказанной работе Д. Зеленина «Сборник новгородских частушек» («Этн. Обозр.» год 17, кн. LXV-LXVI, стр.167–169). Поясним на одном примере значительность и тонкость частушечного параллелизма. Положим, говорится:
У милова черны брови, —
черны как у ворона:
ожидай, мой ненаглядный,
расставанья скорова.
Брови «милова» сравниваются с бровями ворона. Брови милова напоминают девушке ворона. Ворон же — птица зловещая — неблагоприятное знамение. Отсюда рождается предчувствие близкого несчастия — расставанья. Возможно, что в частушке есть намек и на причину расставанья. Ведь черные брови — признак красоты; чернобрового всякая охотно полюбит, вот и жди «расставанья скорова».
Или, вот еще пример:
Все подрушки шьют „подушки,
а мне надо дипломат.
Все подрушки идут замуш,
а мне надо погулять.
Не покажется ли сперва, что упоминание о подушках и о дипломате — случайно, — для рифмы. Однако, это — не так. Связь идей очевидна: Подрушки идут замуш; естественно им готовить свое хозяйство — шить подушки, ибо подушка — лучший символ брака. Мне же, — думает девушка, — надо бы еще погулять; а для гуляния нужно приодеться нарядно, — нужен дипломат.
Возьмем еще частушку:
На горе стоит аптека,
любовь сушит человека.
Не любила — была бела;
полюбила — побледнела.
Сперва покажется: какая связь — между любовью и аптекой. Но тут весьма выразительно указывается сила страсти: до того иссохла, до того побледнела, что нужна медицинская помощь, нужно лечиться.
Эта прерывистость мысли, порою кажущаяся (но на деле не таковая!), крайнею субъективностью случайных ассоциаций весьма сближает частушку с лирикой современных поэтов–символистов, пропускающих промежуточные вехи на пути мысли и оставляющих лишь крайние. Такому сближению способствует и формальная особенность частушек, тоже имеющая себе параллель в новой поэзии. Я имею в виду стремление к звучности, между прочим, выражающееся, как там, так и тут, в двойных рифмах; первая половина стиха рифмует, или, по крайней мере, созвучна со второю. Вот несколько примеров достигаемой таким приемом звучности частушек:
Мимо окон ходит боком…
Ε ко горе муш Григорей!..
Возьму мыльцо, пойду мытца…
Не от дела похудела…
Все подрушки шьют подушки…
Милый Саша, воля ваша…
Дайте ходу параходу…
Подпояшу я Енашу…
Дали волю любить Колю…
Ты, гармошка, белы–ношки…
Через поле вижу Олю…
Не любила — была бела;
Полюбила — побледнела…
И т. д. Иногда звучность стиха достигается иными приемами — ассонансом и аллитерацией; такова, например, великолепная аллитерация одной рекрутской частушки:
Медна мера загремела
над моею головой,
передающая звук металлического удара.
Наконец, есть еще одна черта, сближающая частушки с «новою» поэзией. Это, именно, нередкая в них утонченность эротики, рафинированность любовного чувства и многообразие его проявлений. Тут мы видим, например: любовь девушки к подруге, потому что брови ее так черны, как у милова; любовное созерцание платочка полученного от милова, т. е. род любовного фетишизма; одновременную любовь к нескольким, причем к каждому она имеет особый оттенок; и т. д. и т. д. Не говорю уж о всевозможных оттенках ревности и покорности пред свершившейся изменой, включительно до полной резиньяции. Повторяю, я не пишу исследования о частушках, а набрасываю лишь несколько случайных штрихов; но я не могу не заметить, что этот вопрос об эротике в среде сельского люда и о тех формах ее, которые принято считать или патологическими, или исключительно свойственными пресытившимся верхам культурного общества, весьма достоин внимательного изучения.
Стоит отметить, что частушка служит живым свидетелем чистоты нравов нашего крестьянства. Часто утверждают обратное и приводят в доказательство те или иные частушки. Но при этом забывают, что ведь общественную нравственность нельзя брать безотносительно. В смысле прямоты выражений и отсутствия эвфемизмов частушки говорят столько, что исполнителям их дальше уже нбчего говорить; все названо своими именами. Представьте же себе теперь, что в интеллигентском обществе запели бы интеллигентские частушки с такою же степенью откровенности. Полагаю, что тогда мы и не то услышали бы, что слышим в деревне. Современная беллетристика только начала откровенничать, а и то все поспешили ужаснуться.
Так как эротика — единственный предмет ландюховой частушки, то при систематизации материала я старался выдержать приблизительно историю развития любви, ее расцвета и упадка. Частушки сгруппированы приблизительно в следующие гнезда: начало любви и ее развитие (№№ 1–131), разгар любви, любовные свидания и расставания (№№ 132–219), сплетни про девушку (№№ 220–251), мысли о замужестве (№№ 252–296), отношение к родителям и домашние ссоры (№№ 297–364), разлука и сердечные терзания (№№ 365–474), равнодушие и кокетство (№№ 475–476), любовные ссоры и разочарования (№№ 477610), измена и ревность (№№ 611–676), грубости (№№ 677–699), женитьба милого на другой (№№ 700–727); несколько в стороне стоят частушки не–индивидуальные (№№ 793–827), шутливые и насмешливые (№№ 828–866).
Иногда, как это делает, например, Д. Зеленин, исследователи стараются тщательно расклассифицировать частушки и озаглавить каждый отдел. Быть может, это и представляет свои выгоды в сборнике типических частушек, для учебных целей, но при издании всех наличных частушек данного района такая классификация была бы крайне искусственной и произвольной, потому что каждая частушка, как факт самой жизни, имеет множество сторон, и зачислять ее в ту или другую рубрику зависело бы от каприза исследователя. Гораздо полезнее было бы при совокупном издании частушек приложить к нему предметный указатель.
По своему содержанию, по своей форме, и, наконец, по способу своего возникновения частушка есть крайний предел того спектра народной песни, начальным пределом которого является былина, историческая песня и духовный стих. В то время как последние выражают священную, неподвижную стихию народной жизни и потому составляют преимущественное достояние старости, стариков, — частушка соответствует мирской, текучей стихии народной жизни и потому принадлежит молодости, молодежи. Отсюда следует, что частушка, не в пример всегда–неизменной былине, всегда меняется: для частушки характерно ее непостоянство. Частушка — это всегдашнее eadem sed aliler
[1077]. Она всегда кажется новӧю, она всегда — не та, что ранее; однако ее новое — так же старо, как мир; — оно столь же ново, сколь нова представляющая себя единственной на свете первая любовь. Но, будучи всегда одною и тою же, она всякий раз возникает сызнова: частушка есть всегдашнее изменение, но никогда — развитие. Будучи всецело во власти времени, в интересах дня, частушка а–исторична и не знает ни прошедшего, ни будущего. Поэтому она никогда не является выразительницею всенародного сознания, но–лишь индивидуального, особногҽ. Частушка не занята высшею правдою, но всецело предается своим настроениям, своим чувствам и интересам. В этом индивидуализме и субъективизме частушки кроется причина ее глубочайшего сродства с индивидуализмом и субъективизмом современной поэзии. Частушка — это народное декадентство, народный индивидуализм, народный импрессионизм; однако, при этом должно помнить, что названные направления вовсе не суть специфическое достояние нашей эпохи, а всегда существовавшие и периодически усиливавшиеся направления поэзии. Так делаются понятны многие характерные особенности частушки.
Прежде всего, — особенность формальная: частушка построена капризно и неравномерно. Не опираясь на опыт веков и представленная самой себе в каждое мгновение своего существования, не имея истории, частушка редко бывает выдержана. Начинаясь превосходно, она редко доводит до конца ту же степень вдохновенности и порою падает до чего-то жалкого. Или, наоборот, начинаясь нескладно, она заканчивается выразительно и певуче. Видно, что для поэтического творчества недостаточно одной вспышки вдохновения, но необходима и традиция, школа. Кроме того, крайний индивидуализм разрешается однообразием. В частушке нет резко очерченных и отграниченных образцов; отдельные частушки оказываются нередко весьма схожими друг с другом, и все собрание частушек может быть распределено на сравнительно небольшое число гнезд частушек сродных между собою. Получается то же, что и при всяком большом числе независимых между собою явлений, — а именно, над таковыми господствует «закон больших чисел», статистика. Как и всегда, крайняя независимость проявлений делает из людей средние статистические. Своеволие индивида ввергает общество в рабство законов статистики. Из текучести частушек, из их удобоподвижности понятно, что древних частушек сохраняться не может, если только их не запишут вовремя. Отсюда делается вдвойне важным своевременное собирание их. Каждый год приносит с собою новые частушки и уносит старые. Если в некоторых местностях частушки сейчас посвящены фабричной жизни, то это надо принимать не за свойство частушки, как таковой, а лишь за свойство самой жизни: словно зеркало частушка отражает в себе все, что ни делается с жизнью. Так, в революционный год явилось в Петербургской и Новгородской губерниях множество частушек политических и злободневных. Но правильно ли, что частушка — революционная поэзия?
Можно сказать, что былина — это выражение быта народа, вековечной глубины его жизни, а частушка — злоба дня, мимолетная и, тем не менее, всегдашняя рябь на водной поверхности этого затона. Порою рябь превращается в волны и пену; но потом волнение успокаивается, и снова рябится водная поверхность.
В этой мгновенности частушки — особый интерес ее для исследователя. В частушке мы имеем пред собою народную поэзию in statu nasccndi
[1078], — видим рождение народной поэзии. Вечно–юная, вечно–кипучая частушка есть бродящее вино народной жизни. Тут, быть может, мы имеем пред собою нечто аналогичное зачаткам древней комедии и трагедии. И это делается особенно ясно, если мы вспомним, что частушки нередко распеваются антифонно, что в лице гармониста, быть может, повторяется древний протагонист. Самый ритм частушки несколько напоминает ифифаллический стих (versus ithyphallicus), а «похабные частушки» можно было бы уподобить ифифаллам, т. е. фаллическим песням греческих ДИОНИСИЙ.
О других видах частушки много говорить сейчас не стану. Относительно формы хороводной частушки следует только упомянуть, что последний стих (четвертый в собственно–хороводной частушке) непременно содержит в себе указание на поцелуй. Это — сјюрмальная особенность хороводной частушки. Темп ее чрезвычайно быстр; ритм весьма выдержан и заразительно–весел. В смысле красоты формы и своеобразия стихов с двумя родами ударений (сильными и слабыми) эту частушку можно смело указать поэтам, как образец для подражания. Что же касается до содержания, то, сообразно с безудержным весельем хороводной частушки, оно отличается грубоватым юмором и, нередко, забавною бессмыслицею, имеющею конечной целью подготовить в последнем стихе такое или иное упоминание о поцелуе.
Еще больше дионисического исступления в ходовых или плясовых частушках; наконец, в свадебных или «сварьбишных» и иных выкричках оно переходит уже в разгул и пьяное безудержье.
Рекрутская частушка интересна главным образом по новому (в сравнении с предыдущими) отношению детей к родителям. В ландюховой и хороводной отцы и дети представляются обычно противоборствующими; в рекрутской же частушке слышится близость и кровная связь; стиль Гейне сменяется стилем Никитина. Но почему-то рекрутская частушка иногда отзывается риторической сантиментальностью интеллигентской поэзии.
Рекрутская частушка — что само собою понятно — составляет исключительное достояние парней, робят, «мальчишек». Что же касается до частушки прочих видов, то она распевается как «мальчишками», так и «девчонками». Однако частое пение «мальчишек» выразительно отличается от такового же «девчонок», как по содержанию, так и по общему тону. Частушка «мальчишек» по большей части несколько грубовата, редко- редко не заденет предмет своей любви, «милашку»; юмористический и насмешливый тон этой частушки порою переходит в бахвальство своею грубостью, если не в прямое оскорбление. Кроме того, нескромная шутка — тоже преимущественное достояние частушки робят. Отсюда-то и произошла та кажущаяся странность, что в настоящем собрании частушек большая часть материала принадлежит «девчонкам», хотя всем известно, что частушками по преимуществу занимаются робята. Дело объясняется весьма просто, — тем, именно, что частушки робят слишком часто включают в себя такие слова и выражения, какие не принято печатать даже в научных исследованиях, и потому большую часть этой поэзии обнародовать сейчас не приходится.
Напротив, частушка «девчонок» — тоже подчас далеко не салонная — гораздо скромнее и мягче. В ней преобладают чувства нежные, порою даже сантиментальные. В ней часто слышатся слезы, обида, горечь; бывает и раздражение, но чрезвычайно редка насмешка. Девичья частушка тоньше робячьей, острее и ближе последней подходит к поэзии книжной. В ней мало размашистой удали полей и лесов, но зато довольно кокетства и, иногда, затаенного, почти городского, ехидства. Если в робячьей частушке, за грубоватостью, чувствуется непосредственность, простоватость и, пожалуй, доброта, то в девичьей, несмотря на ее чувствительность, можно усматривать, скорее, некоторую интеллигентность и то, что называется esprit
[1079], — даже внутреннюю рассудочную сухость сердца. Это — неудивительно, потому что сочетания доброты с грубоватою простотою и сухости с изящной чувствительностью — самые обычные в химии духа. До известной степени можно наглядно показать разницу частушки «мальчишек» и «девчонок», если сопоставить соответственные частушки обоих полов. Вот маленький пример такого сопоставления.
| Робята поют: |
Девки поют: |
| Неужели ты завянешь, |
Неужели ты завянешь, |
| травушка шелковая? |
аленький цветочек? |
| Неужели не вспомянешь, |
Неужели не вспомянешь, |
| дура бестолковая? |
миленький дружочик? |
Относительно частушки девичьей уместно высказать, еще одно соображение. Читатель, уже при беглом чтении частушек, вероятно, обратит внимание на то, что в частушке, по содержанию своему явно составленной девицею, составительница говорит о себе в мужском роде. Нельзя думать, что это оговорка, lapsus linguae
[1080]: таких частушек с «оговорками» слишком много. Нельзя думать и того, что это liccnlia poctica
[1081], — ради размера: по большей части размером вполне допускается и женский род, так что не составляет труда сделать замену. Но чтб же это такое? Ответ на это легко дать, если припомнить кое-что из области половой психологии и из истории литературы. Известно, что поэзия — не женское дело и что поэтессами всегда бывали женщины мужественные, «промежуточные формы» между собственно женщиною и собственно мужчиною. Отсюда понятна всегдашняя наклонность поэтесс, начиная с древнейших времен и кончая позднейшими, говорить о себе в мужском роде. По–видимому, не иначе бывает и у деревенских поэтесс; а от них вновь составленная частушка так и распространяется в среде настоящих девиц с несоответственным содержанию мужским родом.
Заканчивая свое обрывочное изложение мыслей о частушках, я считаю долгом добавить, что смысл своей работы вижу совсем не в этих заметках, а в издании сырого материала. Но если бы эти заметки обратили чье-нибудь внимание на частушку и побудили его сделать подобную же запись для иного уголка Костромского края, то я был бы вполне удовлетворен.
При этом мне кажется полезным указать, в интересах общего дела, на крайнюю необходимость записывать по возможности все варианты той или иной частушки. Только при наличности их возможно будет, наконец, понять, как идет процесс народного творчества, и что он такое — в существе своем: индивидуальное ли вдохновение отдельных поэтов, терпящее порчу по мере своего распространения, или, наоборот, постепенно- совершенствуемое, от поэта к поэту, или, наконец, создание бессознательного и слепого инстинкта общенародной массы. Правда, собирать варианты скучно, а печатать их кажется излишнею роскошью; но, быть может, важнее изучить одну частушку во всех ее видоизменениях, нежели гнаться за многими, но без вариантов.
Возможно, что довольно значительное число слов в собрании частушек окажется непонятным читателю. Объяснения таких слов отсутствуют ввиду того, что в скором времени надеюсь выпустить в свет подробный словарь изучаемой мною местности. Но, быть может, теперь же необходимо объяснить одно, весьма часто встречающееся, малопонятное выражение, а именно «моё т», которое есть сокращение «м о й–о т», т. е. «мой» с древним определенным членом, доселе сохранившимся в Костромском наречии.
От переводчика
[Вступительная статья к переводу: И. Кант. Физическая монадология[1082]]
Если мы познаем бытие с точки зрения формы, то идея группы
[1083], как синтез множества с единством, есть основная категория познания
[1084]. Внутренняя суть, как данная в непосредственном испытывании, является невыразимой в рациональных формулах. Другой вопрос, — нужны ли они, но всякий, начинающий построять свое миросозерцание, желающий дать рациональные схемы, должен иметь в виду сказанную идею группы и, можно утверждать, тогда только философ приступает к собственно–философской работе, когда он отчетливо сознӓет эту идею. Потом, в дальнейшем исследовании, может случиться, что ту или другую сторону этой идеи он объявит за мнимость, за δόξα
[1085]. Может быть, он станет отрицать единство бытия, номиналистически усмотрев в единстве нечто кажущееся, но не сущее транссубъективно; может быть, наоборот, за множеством он не захочет признать ничего, кроме покрывала лживой Майи
[1086]. Или, даже, он отвергнет подлинную реальность как единства, так и множества, совершенно разрывая с непосредственным сознанием. Или, наконец, он сознательно усвоит точку зрения последнего и даст полное значение как множеству, так и единству.
Но, что бы то ни было во время исследования, в начале его всякий обязан относиться к обоим моментам идеи группы, как к равноправным, и принимать эту идею во всей ее полноте. Таково начало исследования; таков же и конец. Ведь чем бы ни объявлял философ ту или другую сторону группы, цельность системы потребует от него свести концы с концами, — объяснить все бытие, включая сюда и «кажущееся». Объявить ту или другую сторону, реально сознаваемую и, притом, с вынуждающей необходимостью, за мнимость — это значит не сказать ничего, раз только не показано, откӳда же берется это, хотя и мнимое, но все-таки некоторое бытие. А объяснив это, философ придет снова к утверждению идеи группы, хотя несколько в ином смысле, чем в начале исследования. Если так, то лейбницианство, поскольку коренной его частью является именно это подчеркивание и множества и единства в их синтезе, лейбницианство‚ напирающее на изначальную данность обеих сторон, есть вечная и неустранимая ступень философского развития. Всякий должен пройти сквозь монадологию, если брать этот термин с формальной стороны, т. е. в связи с идеей группы.
Но, применив к бытию категорию группы в общем виде, философ вынуждается, далее, давать этой категории ряд более и более глубоких частных характеристик, — определять, кӑк именно должно разуметь взаимоотношения многого в его единстве. В соответствии с этим возникает цепь диалектически–сменяющих друг друга точек зрения, в главнейших своих звеньях отмечаемая именами: гилозоизм, декартовский материализм, атомизм, динамизм и спиритуалистическая монадология. Изобретенный впервые, кажется, Лейбницем, этот диалектический процесс столько раз повторялся философами великими и малыми, что успел надоесть всякому, кто сколько-нибудь знаком с философской литературой; в России же он так акклиматизировался, что представляется уже не результатом рефлексии, а естественным продуктом…
Но, не проделывая всего этого развития еще лишний раз, мы считаем возможным остановиться несколько на стадии «чистого динамизма», нашедшего себе впервые яркое выражение в умозрениях Босковича, Канта и Фа- радея
[1087].
Когда в указанном выше диалектическом развитии идеи группы
[1088] [1089] атом получает определение «центра с и л», то тогда диалектическая лестница подымается на ступень существенно–важную. При вопросе, чём же, именно, этот центр сил, — «сам центр», — отличается от любой другой точки пространства, динамизм ссылается на данные существенно–новые, переходит в иные плоскости бытия и признаёт за подлинную основу мира уже не для–другого–бытие, не внешнее, а в–себе- и–для–себя–бытие, внутреннее. — В этом пункте развития диалектической цепи происходит полный и решительный отказ от материалистического мировоззрения, перестраивающегося отныне на спиритуалистический лад. Вот почему чрезвычайно важно разобраться в этой точке перехода, — в динамизме, — подетальнее и потщательнее; ведь она соединяет два существенно–различные мира или, по крайней мере, два существенно–различных понимания действительности. Но, помимо этого вспомогательного значения, динамизм имеет значение самостоятельное, как последняя и неустранимая предпосылка физики и других наук о внешнем мире, покуда эти науки останутся самими собою и не сменятся чистой метафизикой. Покуда физика — физика, она не может выходить из границы внешнего мира, и потому динамизм есть последнее слово наук о внешней природе. В этом смысле кантовская «физическая монадология», пытающаяся построить систему динамизма, как бы мы ни относились к кантовским доказательствам и кантовским методам рассуждать, по своим основным идеям и по своему замыслу представляет большой интерес, и этот интерес повышается во много раз тем переломом в росте, который на глазах у нас пересоздает физику ХХ–го века.
Здесь разумеется цикл вопросов, потянувшихся из разных отделов физики в одно общее русло и сливающихся в неожиданно–мощный поток «электронной теории материи». Как и всякое учение, обосновывающееся, помимо отвлеченных соображений, и на большом количестве разнородных конкретных данных, это новое учение имеет преимущество перед отвлеченным динамизмом потому, что не только доказывает свою правоту, но и убеждает в ней, не только требует известного образа мысли, но и приучает к нему, — одним словом, считается не только с логической функцией сознания, но и с психологической. Уже по одному этому, даже говоря то же, что и отвлеченно- построенный динамизм, электронная теория была бы неизмеримо ценнее его для сознания, имеющего в ней не один только общий принцип воззрения на материю, но и конкретные применения этого принципа к отдельным явлениям. Но при этом электронная теория говорит о том же, о чем говорил старый динамизм, потому что она захватывает дело гораздо глубже и шире и, вместе с тем, преодолевает основной недостаток динамизма — нелегальное и контрабандное привнесение понятия массы.
Кроме того, оставаясь на точке зрения внешнего, мы не можем мыслить центр сил, как фикцию, как математическую точку, не отмеченную ничем особенным; а «отметить» ее психическим центром мы тоже не можем, так как не можем придавать внутреннем у пространственных определений. Поэтому в переходе от динамизма к монадологии в обычной диалектической цепи усматривается разрыв, пробел, и его необходимо заполнить; с этою целью приходится постулировать некоторую «полу–духовную» сущность, невещественную, но находящуюся в пространстве монадо–образную единицу.
Работая опытным путем, физика не только постулировала такую сущность, но и демонстрировала ее в виде электрического неделимого, так сказать, электрической особи, названной «электроном». Электрон — не вещественный, но и не фиктивный центр всех определений материи, подлинный кирпич мироздания. Он — центр деятельных электрических сил, и масса его объясняется, как результат, как производное электрической его природы. Масса оказывается при этом величиной переменной, а законы Ньютона, на которых строится механика, верными лишь приблизительно, — при малых скоростях движения. Материальный атом рассматривается в этой теории, как агрегат положительных и отрицательных электронов.
Но нельзя думать, что эта теория, связывающая самые разнообразные явления, объясняющая запутаннейшие случаи взаимоотношения физических энергий, как, например, связь света и магнетизма в явлении 3 е е м а н а
[1090], была бы одною только смелою спекуляцией. Нет, она опирается на множество несомненных опытных данных, и даже самое невероятное из следствий, вытекающих из этой теории, — разложение весомой материи иа электроны, эти «primordia rerum»
[1091] современной физики, и превращение одного химического элемента в другой, — наблюдается так же ясно, как и всякое другое физическое явление. Мало того, мы имеем в спинтарископе Крукса
[1092] приборчик, позволяющий видеть «своими глазам и», как разлагается на электроны материя, как разлетается она в электрическую пыль, бомбардируя ею все окружающее. Таким образом, дематериализация материи — невероятное доселе — заставляет поддаться прежнее мировоззрение, чтобы расчистить место новым фактам и новым воззрениям.
Предисловие
[К статье А. В. Ельчанинова «Мистицизм М. М. Сперанского»]
Вероятно, всякому, кто сколько-нибудь вникал в мистические системы, бросалась в глаза утомительная однообразность этих систем. И многих, думается, поражал при этом странный факт — противоречие между кажущейся фантастичностью концепции и бедностью творческой фантазии у ее создателя. Там, где, по–видимому, все основано на затейливой мечте, где все зыб- лется, где все взметается вихрями туманных слов, — там, одним словом, где царит произвол случайных ассоциаций и субъективность переутонченного настроения, — там, именно, нежданно обнаруживается какая-то вековечная устойчивость. И — странное дело — одни и те же выражения, одни и те же символы, кажущиеся сперва условными арабесками нездорового духа, открываются даже рассеянно–скользящим взглядом у мистиков, отделенных тысячелетиями времени и многими тысячами километров расстояния. Патангали оказывается в сообществе с m-mc Guyon, Валентин–с Парацельзом, Бсмом или Сен–Мартенем, Гафиз со Св. Терезой и афонскими гезихастами, Лао–Дзы с Толстым, Ориген с Соловьевым и Сперанским и т. д.
[1093] Покажется, ровно бы мистики великие и малые, во фраках и ходящие нагишом имеют тесную сплоченность. Поэтому тут важно подчеркнуть, что это единодушие мистиков — только кажущееся: нет ни одной области духовной жизни, где бы развитие шло самостоятельнее и где более давалось бы отпора всяким учительским поползновениям, чем это наблюдаем среди мистиков.
Указывая на однообразие, я далеко не хочу сказать этим, будто мистическая литература бедна по содержанию или что мистика христианская не имеет своих особых элементов, делающих ее существенно новой в сравнении с мистикой других религий. Нет, но тождественность некоторых необходимых ингредиентов в мистических системах совершенно несомненна.
Обозрение систем извне показывает факт сходства в некоторых необходимых элементах, несмотря на причудливость очертаний каждой из систем в отдельности. А с другой стороны, для всякого, сколько-нибудь из опыта знакомого с мистическими переживаниями, хотя бы средних ступеней, делается интуитивно–очевидною необходимость такого сходства, и тогда-то обнаруживается, что основные контуры мистических концепций — не «построения» или «умствования», а простые описания переживаемого, простые высказывания данных мистического или «умного» опыта, — умозрение, как неопосредственное зрение «у м о м».
Для однажды увидевшего эту необходимость никаких более убедительных доказательств не требуется; мало того, всякая доказательность только в этой очевидности может получать свою силу. На этой очевидности, как на основании, строится для мистика все миросозерцание. Но оно, ввиду сказанного, будет по существу своему эсотерично. Необходим также эксоте- ризм, и потому для внешних, для профанов требуется перевернуть взаимо–зависимость частей и выводить τό, чтб в сознании внутренних, посвященных есть исходная точка.
Если основная задача всякого эсотерическоп› мистицизма — дедукция чувственного опыта из данных «умного» познания Перво–Субстанции, то задача всякого эксотерического мистицизма–дедукция «умного» познания Перво–Субстанции из данных чувственного опыта, причем вторая дедукция, как опирающаяся на данные условные, сама всегда остается условной и может говорить только о возможности‚ но никогда — о действительности дедуцируемого.
Таким образом, появляется своего рода «апологетика», столь же мало, впрочем, нужная мистику в его внутренней жизни, как обще–религиозная апологетика — твердо–верующему: желание обосновать религиозную истину появляется тогда, когда в ней усумнились.
«Апологетика» мистических систем должна служить введением в мистический эсотеризм и создается на почве гносеологии, психологии и физиологии. В этой заметке неуместно было бы, конечно, ссылаться ни на психологические и гносеологические, ни на анато- мо–физиологические исследования, силом заставляющие «внешнего» обратить серьезное внимание на область мистики. Заметим только, что указанное нами выше однообразие мистических систем за последние годы блестяще освещается такими работами. Мистические явления перестают рассматриваться как «пряность», как некое quantity n<5gligcable\ от которого можно отделаться снисходительной улыбкой или отмахнуться пренебрежительным жестом. Тысячи мистиков всех времен с удесятеренной силою застучались в окна и двери дворца науки, и, если их не пустят добром, то они войдут напором, выламывая по дороге многоценные двери.
Вот почему теперь
необходимо серьезно посчитаться с мистической литературой, — литературой, которая в некоторых отношениях ушла так далеко, что только за последнее время наука стала подходить к разбираемым там вопросам. И одной из первейших задач такого изучения должно быть, конечно, критическое издание всех мистиков, с переводом, — Corpus mysticorum о m п і u m\ — т. к. большинство мистических произведений чрезвычайно редки. Кроме того, необходимы специальные словари
[1094], потому что писатели–мистики в большинстве случаев пользуются очень своеобразной терминологией.
Попутно необходима систематизация и монографическое изучение отдельных писателей.
В числе них не последнее место занимает знаменитый М. М. Сперанский, впрочем, малоизвестный со стороны своего религиозно–мистического творчества, причиною чего служит неизданность его рукописных заметок. Думая печатать критически–обследованный текст этих рукописей, хранящихся в Имп. Публичной библиотеке, А. В. Ельчанинов предпосылает им настоящее исследование критико–генетического характера. Назначение статьи–не в том, чтобы дать цельное представление о мистике и мистицизме Сперанского. Собственно–философский интерес, всегда заставляющий подрисовывать и оттенять исследуемую систему, сведен тут до минимума, и читатель напрасно стал бы искать здесь готового мировоззрения. Но зато предлагаемая статья будет полезным пособием для желающих самостоятельно изучить мировоззрение Сперанского по его наброскам, — родом критического введения к его отрывочным заметкам по мистицизму.
Плач Богоматери
[Вступительная статья к тексту русского перевода «Канона о распятии Господа и на плач Пресвятой Богородицы» — творения Симеона Логофета]
На кресте видя Христа, посреди
разбойников распятого по собственному
изволению, Пречистая Матерь, ударяя
себя в перси, восклицала: «Безгрешный
Сын мой! Без вины Ты, как злодей,
на кресте пригвожден, чтобы род
человеческий оживить по Твоей благости!»
«Как стерпеть мне, видя Тебя пригвож-
денным ко древу, Тебя, без болезни
рожденного, без мужа зачатого! Какою
болью теперь поражается сердце мое!
Исполнился глагол симеонов: В душу
твою пройдет меч!»
«Ликует мир, приемля от Тебя избавление; а моя утроба горит при виде, как
распят Ты, как терпишь Ты, один
за всех, о Сын мой! Но воскресни,
Спаситель мой, и спаси всех воспевающих Тебя»
(Из стих, кресто–богородичных)[1095]
Тексту Плана Богоматери мне хочется предпослать несколько мыслей о церковной поэзии.
Бывают «одни только слова». Их складывает и составляет рассудок, и ими наводнена печать. От этих серых порождений головы засорилось и многого уже не видит духовное око. От этих безжизненных продуктов литературных фабрик устала и запылилась душа. Механически, из головы в голову перекладываются они, как из коробки в коробку; и при этом кажется порою, Князь мира сего, держащий в руке своей все царства, не есть ли Великий Секретарь мировой Канцелярии, по головам, как по папкам, раскладывающий свои скучные «Дела».
Эти слова иногда имеют претензию быть великолепными. Но пышность их — пышность бумажных и тряпичных цветов, запыленных, выцветших и загаженных мухами: такие слова — лишь фальсификация.
Но существуют еще и другие слова, — слова в подлинном и высшем смысле, — λό^α
[1096], рождающиеся от души и при своем рождении отрывающие с собою частицу души, — слова, выносящие наружу и являющие сокровенное ее. Как золотые плоды, они вырастают на душе, и соками души наливаются, когда приходит для них свое время. Сокровенные силы души прячутся за этими словами, полнота души бьется в них через край. Они часто неказисты на взгляд, но они являются центрами, из которых возбуждается психическая энергия; так грозовое облако несет запас электричества. И, при встрече с другой душою, эти слова–силы сверкают молниями; гремят в них громы, и встречная душа вся насквозь пронизывается новыми для нее чувствами, мыслями, желаниями, как бы зарядившись новыми настроениями, как бы, обнаженная, коснувшись другой обнаженной души.
Да и может ли быть иначе? Такие слова пишутся не чернилами, а кровью, медленными каплями сочащеюся из груди, и кровь эта (в которой — жизнь) никогда не остывает, никогда не густеет. С новою и новою силою жизнь, разносимая таинственною кровью, порождает жизнь: в океан внутренней жизни человечества брошено слово, и ширящимися кругами вечно идет от места падения сила души.
Пламенными письменами неугасимо горят вещие словеса: как светильник возжигается пламенем другого светильника, так и душа вспыхивает от прикосновения к рдеющему глаголу другой души.
Но внутреннее бремя слов, заражающих людей, зависит от природы слово–творящей личности, от качества внутреннего ее сокровища. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое; ибо от избытка сердца говорят уста его» (Лк. 6, 45). Творческое слово является точным откровением этого сокровища.
Есть слова–заклинания, вызывающие темные силы. Но не о них хотим мы говорить сейчас.
Есть слова–призывания, в которых звучит «таинственное пение бесконечности», — слова, привлекающие благодатную поддержку произносящему их. Рассказывает пресвитер Ρ у φ и н в своей Жизни пустынных отцев: «Жил в тех местах святой муж, полный благодати Божией, по имени Иоанн. Он обладал таким чудным даром утешения, что, — какою бы скорбию, каким бы горем ни была подавлена душа, — от немногих сказанных им слов, вместо тоски исполнялась она бодростью и веселием…»
[1097] Наверно, слова этого аввы Иоанна были именно такими благодатными словами.
У каждой личности — своя организующая сила, своя форма откровения, свое внутреннее, а потому и свое внешнее слово. Отсюда — ценность слова. Как говорится в Наставлениях, приписываемых Антонию Великому: «У людей ничего нет ценнее слова. Оно столь сильно, что словом и благодарением мы служим Богу, и что бесполезным и бесчестным словом подвергаем суду нашу душу»
[1098].
И как встречаются иногда личности высшей породы, личности одухотворенные и пронизанные внутренним светом, так и слова порою пронизываются Духом. Происходит таинство пресуществления слова. «П о д видом» обычных слов из недр духоносной личности рождаются слова с иною сущностью, — слова, на которые воистину снизошла благодать Божия. И от слов этих веет вечною прохладою, тишиной и умирением для больной, усталой души. Они льются в сердце целебным бальзамом, залечивая наболевшие раны. Они часто незаманчивы видом, не гармоничны и, может быть, почти неуклюжи. Но в рабском зраке идет Христос и Его Матерь, благоуханным цветом осыпая душу. И душа теплится неувядаемою радостью.
Кто воспринял эту идею о пресуществлении слов, тот сам, на опыте, может убедиться в том, что возможно такое проникновение обыкновенных человеческих слов божественными силами, такое насыщение всем известного благодатными энергиями духоносной личности: не облачный ли дым горизонта пронизывается золотым огнем заката?
И наоборот, в известных случаях слова могут быть насыщены диавольской энергией. Но буду говорить о первых.
Более всего таких пресуществленных слов (я оставляю вне рассмотрения слова Божественных Писаний) среди песнопений нашей церковной службы, порою неуклюжих и нескладных. Под неуклюжестью я не разумею тут безыскусственности. Нет, церковные песнопения нередко уложены в вычурные формы византийского упадка, с «краегранисиями»
[1099] и другими искусственными переутон- ченностями реторики. Но в эти странные для нас формы, общие для
всех людей той эпохи, сокрыта таинственная сила, присущая одним только духоносным творцам песнопений. Они не могли не писать в манере своего времени, в формах иных, нежели их современники. Но эти слова и эти формы преображались в их бого- вещих устах, одухотворялись, проникаясь каким-то благовонным дыханием. Этот аромат недоступен для литературного критика, но он воспринимается верующим сердцем, подобно тому как св. мощи (такое ходит мнение, по крайней мере) не так сильно благоухают, если прикладывается к ним человек неверующий или имеющий грех на душе. И форма песнопений неотделима от содержащейся в ней духовной силы. Откажитесь от формы, — вы лишитесь того, что бесконечно дорого верующему, что томит сердце его невыразимо–сладкою болью, умиряющею грустью по Дому и по Отцу. Это луч закатного солнца скользнул по озолоченным купам березовой рощи.
Теперь столько говорят о реформе богослужения
[1100], и высказывают при этом множество интересных мыслей. Конечно, духовная жизнь Церкви может вечно воплощать себя в неослабном литургическом творчестве. Но
это творчество по плечу лишь духоносным мужам и женам, воистину стяжавшим Духа. «Дух веет, где хочет»
[1101], но Дух не подлежит ведению комиссий, ученых коллегий; он не приурочивается ни специалистам, ни чинам, ни должностям, ни съездам, будут ли на них миряне с «решающим» или только с «совещательным» голосом. Но при попытке механически овладеть Духом литургическое творчество неминуемо превратится в фальсификацию.
Все это слишком просто, чтобы стоило говорить о том подробно. Но, к сожалению, это забывается при современных приглашениях к литургическому творчеству. Будет Дух, — будет и новое творчество, и, притом, без всяких приглашений; не будет Духа, не явится и творчества, несмотря ни на какие призывы к нему. Эти призывы только понапрасну заставляют пренебрегать тем, что есть уже несомненно живое, а взамен, конечно, ничего дать не в состоянии. Да и нужно ли давать взамен? Может быть и многое из того, что есть, далеко еще не усвоено и не пережито во всей своей глубине? Не правильнее ли идти прямо положительным путем, насыщая Духом и пресуществляя все новые и новые слова, чтобы «ничего не было нечистого»?
Среди множества дивных по своей внутренней силе песнопении Церкви, песнопения Св. Четыредесятницы и Св. Пятидесятницы таинственно овеяны нарочитой духовной красотою. Как будто бесконечная глубина совершающихся страстей Господних и воскресения сама блистает таинственным светом на этом круге церковных служб. А среди прочих песнопений далеко не последнее место принадлежит мало известному «творению Симеона Логофета»
[1102], слывущему под названием: «Канон о распятии Господни, и на плач Пресвяты я Богородицы». Оно как-то не обращало на себя внимания, — нужно полагать, — вследствие того, что, по уставу церковному поется в келлиях, на повечерии Великой Пятницы.
Когда впервые мне довелось прочесть его, он как-то разом властно вторгся в сердце, и, кажется, тогда только проникли в сознание слова молитвы: «Любовию Твоею уязви сердце наше».
На нескольких страницах пред нами проходит величественная трагедия: распятие Праведника, погребение Бога, невыразимая скорбь Матери, отчаяние учеников. Но предел человеческой скорби и человеческого ужаса смягчается смирением Божества и предвозвещаемою радостью воскресения и спасения всей твари.
Найдется ли грудь, которая не была бы уязвлена Плачем Богоматери? Не могу представить себе души столь очерствелой. Но мужское сердце, не ведающее ни мук, ни радостей материнства, не видящее в ребенке своем части тела своего, тысячной доли той скорби за Христа не испытает вместе с Пречистою Девою, какою сожмутся сердца матерей при чтении Плача. Вам, многострадальные, должно было бы посвятить это Творение Симеона Логофета, потому что вы одни подлинно переживете его, прострадаете его в груди своей и найдете в нем источник новой радости. И вы когда-нибудь выйдете в распадающееся общество, чтобы напомнить ему о муках и воскресении нашего Господа.
«Золото в лазури» Андрея Белого. Критическ [ая] статья
летом 1904 года[1103] I
Непосредственное религиозное сознание было уже подточено и заметно слабло. Оно уже не имело сил сопротивляться злым сомнениям и бескрылым порывам неверия. Оскудевшее сознание каждую минуту могло рухнуть совсем, но еще теплилась жизнь трепещущей лампадкой, еще веял дух в замирающих формах религиозной жизни. Это была наша осень.
Тихая грусть разливалась в воздухе с прощальными поцелуями солнца. Медовые маковки рощиц и багрянец лесов глядели печально и нежно. Золотистою теплою пылью наполнен был воздух; внезапное дуновенье ветерка сметало в кучки янтарные и золотые россыпи листьев, а потом вытягивало их змеящимися лентами парчи вдоль дороги. С бесконечною грустностью последние лучи охватывали мшистые камни, слабой больною улыбкой ласкали прощально. Последние аккорды свето- зарности замирали среди трепещущих и внимающих им веток; чуть шевелили дерева складками своих риз, парчовых и шелковых. Это была наша осень.
Мы любили осенний закат, снопы стрельчатых лучей, вырывавшиеся из облак, грелись последнею теплотою. Потом за одну ночь налетели откуда-то злые вихри, пронеслись опустошительной сворою по умирающим покровам лесов, сотрясли драгоценные ризы, на тысячу мелких лоскутьев разорвали парчовые ткани, оголили деревья. С диким гиканьем попирали они священные отрепья.
Черною тьмою оделись пространства, погустели мра- ки. Но мы торжествовали поруганию, с мальчишеским задором встретили грудью налеты ветра, в буйных порывах неслись по холоду, попирая священные отрепья.
Сорвалось отрицание — бесцельное отрицание, безудержное, прямолинейное и без критики. Наступила зима, но мы беззаботно еще жили остатками прежнего тепла, еще согревались стремительными движениями, и думали, что этого хватит навсегда.
Но потом вдруг стало страшно. Оголенные дерева — Бриареи
[1104] сторукие, потянули свои черные ветви. Закаркали вороны, закружились над Церковью. Завыли голодные волки, надрывали вытьем своим душу. Сгущались мраки: стали звать к печкам, в избы, туда-де еще не проникли морозы. Но было уже поздно. Ужасы захватывали сознание, овладевали им: роились и окружали нас призраки. И избы не помогали.
Нечеловеческим воплем протяжно взвыл великий писатель
[1105]: он увидел, что нет спасения, а носившиеся в вихрях листья били по лицу.
Рассветало. Серым затянуто было небо. Делалось сырее. Устали мы от бесцельного блуждания. Туман сменялся затяжным дождиком. Моросило. Грязь и слякоть пробирались повсюду. Шлепали по размякшей глине рваные калоши. Вой сменился ноем, бессильным. Неврастенически смеялись хмурые люди, ковыряли носком калоши гниющие листья и хныкали под аккомпанемент затяжного дождя. Холодные тоны, фиолетовые, гнилостные и серо- стальные охватывали всю действительность с бессильною раздраженностью. Все, казалось, страдало неврастенией.
Потом начали приноровляться к серости: откормились после прежней тревоги, задумались о местечках. Хмурые становились скучными и скучающими. Погружались в пошлость.
Пошлость пробиралась во все щели, самый воздух был растворен скучной пошлостью. Наяву спали тяжелым сном без сновидений — угарным. Но вот кто-то запричитал, полусонно всхлипывал. Горькими слезами, бессильными и истерическими отпад [а] ло:
Как волны морские,
Я слезами и холодом горьким дышу
[1106].
Потом раздался стон и мучительный зов.
О, Господи! Молю Тебя! ІІриди!
Уж тридцать лет в пустыне я блуждаю,
Уж тридцать лет ношу огонь в груди,
Уж тридцать лет Тебя я ожидаю.
[1107]Заклинали и умоляли, со слезами и выкрикиваниями вымаливали, себя обманывали, желая «кровью сердца верить»
[1108]. А все остальное было погружено в тусклую, мертвенно–бесцветную выцветшую пустыню — пустыню абсолютного нигилизма.
Вдруг произошло нечто неожиданное.
Что же произошло?
Перед нами изысканные декорации: каждая деталь в своей отдельности красочна, сочна и оригинальна. Однако чего-нибудь целого не получается: будто просто поставлены отдельные части разных декораций кое-как, будто у нас музей.
Мы находим центр перспективы, точку зрения, для которой написаны декорации и сцена меняется. Уходит в бесконечные дали горизонт, получается единство, [далее пропуск]
Часто читатели Белого находятся именно в таком положении. Им чувствуется яркость отдельных образов, красочная сочность деталей, ослепительная феер- верочность, но «нравственного центра» они не видят, не видят единства, потому что не становятся на точку зрения автора, творца.
Для них это разрозненные перепевы других поэтов и они склонны отрицать Белого как личность, стоящую на определенной точке. Они же, стоя на мели и рассматривая каждую деталь в ее обособленности, не будут в состоянии соединить все в одно, они навязывают Белому такую же разрозненность. Необходимо установить единство. Необход [имо] найти центр перспективы, благодаря чему келейное и плоскостное станет передавать глубинное и бесконечное.
Необходимо так стать, чтобы увидеть, что «образы», конкретное у Белого прозрачно, что через него видно иное.
Символизм.
Целомудренная чистота.
III
Этот центр есть мистическ [ое] сознание, а вся поэзия в целом — символ [ический] теургизм.
Теургизм. Теургика — перевоплощение действительности.
Красота. Музыкальность. Образность. Яркость. Ассоциации.
Пестрота цветов.
V
Символизм осмысливающий все. Отсюда юмор. Истори- ческ[ие] заметки сюда же. Несоответствие идеального с действит [ельностью].
[НАБРОСКИ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ] [I]
Стихийное религиозное сознание быстро ослабевало. Злые помыслы сомнения оказывались действенными. Но на это были причины — оскудение. Косые лучи заходящего осеннего солнца целовали с болезненно–кроткой смиренной улыбкой багрянец и пурпур, трепетавшие в вечернем ветерке
[1109].
Пушкин.
Но в одну ночь ветер снес рубиновое пламя и золотые ризы
[1110]. Мы радовались порывам злого ветра, задорно снимавшим последние умирающие уборы. Грудью встречали налеты ветра, ликовали — было что-то нездоровое, будто буйное.
Но делалось холоднее. Сырее. Грязнее. Туманы. Слякоть… Ужасы. Дерева. Взвыл нечеловеческим голосом «великий писатель», за нетронутую цельность народа некритическую схватывался Достоевский. Чего-то не хватало
[1111]. Смирялись. Шлепали по грязи в тупом отчаянии. Неврастенически темно–фиолетовые у Чехова. Грязные калоши. Это не иронически, а серьезно
[1112].
Взмолились: «О, Господи, молю тебя…» Тосковали, бросаясь на колени. «Как волны морские…» Плакали горькими, бессильными слезами.
Соловьев. Критицизм.
Брызнул поток драгоценных каменьев. Ярк[ие] цвет [а]. Фонтаны и т. д. Что-то прорвалось.
[II]
Что же случилось? Почему. Один из симптомов. Религиозное прорвалось в сознание. Перспективность. Делят на три разряда. Кроме реальных также образы предыдущего.
1) символические,
2) теургические видения,
3) мифотворческие.
Радость совершенна. И это даже в глубокой тоске. Проходила нейтральная полоса — т. е. по–русски пол[о]са «ни Того, ни Другого» лика Христова.
[Ill]
| p. 138 |
«Старинный друг» Древне–немецкое, под А. Дюрера[1113]. |
|
«Разлука» — Н. В. Бугаеву. Это как бы прелюдия к книге, кот[орую] посвятить ему[1114]. |
|
«Пир», р. 136. Г. Гольбейн[1115] |
|
«Душа мира», р. 57. Грядой — грядою. Как это вышло[1116] |
|
«Чающие» р. 225 скверно[1117] |
|
«Прощание» р. 70. Это копия (а не стильность)[1118] |
| р. 72 |
«Полунощницы» жуткое[1119] |
|
желто–золотой (мужской) + голубо–лазурный (женский) = белый (синтез) См. «Возврат» и «Преданье» |
| р. 154 |
Преданье — Адонис |
|
Золото — Христос |
|
Лазурь — София[1120] |
| р. 48 |
«Таинство» это под влиянием Фета «С бордою…»[1121] |
| р. 249 |
«Осень» — сравни Фета «На Днепре» (т. I, р. 320)[1122] |
Андрей Белый, родной сын Афанасия Афанасьевича Фета, по справедливости должен именоваться Андреем Афанасьевичем Белым. Соловьев Влад[имир]. Дух музыки. Теургия (мифотворчество). Повторяемость (карлики, гномы, великаны как признак жизненности)
[1123]. Истинный символизм.
Ананас — экзамен эстетический
[1124].
IV
1. Порывы холодного ветра пронизывали туманом
2. Между дерев пронизали облачные отрепья — цеплялись за верхушки
3. и ветви
4. Поезд подымался все выше — вдоль горного ущелья.
[Внизу той же страницы]
Безвременье Закаты (p. 12)
[1128].
Примечания
В состав данного собрания сочинений П. А. Флоренского включены его основные философские и богословские произведения, которые были напечатаны при жизни или остались в рукописи, но могут рассматриваться как в основном завершенные. Не включались некоторые работы, которые почти одновременно с данным собранием выходят в других издательствах, а также богословские и философские сочинения, которые остались в рукописи и требуют еще значительного времени для подготовки к изданию (например, полный курс лекций «Из истории античной философии», «Священное переименование», «Философия культа» и др.). Даже этот неполный перечень показывает, что собрание сочинений П. А. Флоренского потребует не четырех, а гораздо большего числа томов. Некоторое представление о его возможных масштабах может дать нижеприведенный план, составленный самим П. А. Флоренским в 1919 г.
Собрание сочинений священника Павла Флоренского
(Приблизительный проспект)
1919.ІХ.18.
| т. 1. (+++)[1129] |
Черты отрицательной философии. (Статьи философско–ма тематические: О символах Бесконечности (+++). Теорема о трансфинитах (+++). Расширение теоремы Кантора о возможности непрерывных движений и геометрических образов в полунепрерывных пространствах (+++). Прерывность как элемент мировоззрения (+). О типах возрастания (+++). О возрастании типов (+). Несколько теорем о сетях (+++). Новая интерпретация мнимых геометрических образов на плоскости (*н+). К вопросу о функциях постоянных внутри данного контура (+++). Аристотелево колесо (+++). Приведение чисел (+++). Повышение чисел (++). Математические и философско–математические эмбрионы (++). Из лекций по энциклопедии математики (++). К вопросу о дедукции пространств (+). |
| т. II. (++) |
Об особых точках плоских кривых, как местах нарушения их непрерывности. |
| т. III. (+++) |
«Столп и утверждение Истины». |
| т. IV. (++) |
Опыт православной антроподицеи. |
| т. т. V VII. |
У водоразделов мысли. (Черты конкретной метафизики): Задачи конкретной метафизики (философия и антропология). Мысль и язык (философия языкознания) (-Н-+), Действие и орудие (философия и техника) (++). Об историческом познании (философия и генеалогия) (++). Смысл идеализма (метафизика рода и лика) (+++). Общечеловеческие корни идеализма (философия и народные верования в слово) (-ни-). Метафизика имен в историческом освещении (++-). Об ориентировке в философии (философия и жизнечувствие: механическое мировоззрение, Каббала, оккультизм, христианство) (+-). Земля и Небо (философия и астрология) (+-). |
| т. VIII. |
Из истории античной философии: Введение в историю античной философии (-и-*-). Первые шаги античной философии (++- и +-). |
| т. IX X. |
Эллины и эллинство: Раса. Эллинство как духовная идея. Организация философской школы. Смысл мистерий. — Софисты. Сократ. Платон. Аристотель. Из истории неоплатонизма (Жития язычества). Ориген (++-). |
| т. XI. |
Из истории новой философии: Дух нового времени. Кант. Из истории антиномий (-ни-). Милль — о математике (+++). |
| т. XII. |
Из истории философской терминологии: «Не восхищение непщева» (+++). Ноумены и феномены (+-). Платоническая терминология в богослужебных книгах (+-). Понятие символа (+). Слова (+). О суеверии и чуде (+++). Трисвятая песнь (+). Тур и кур (++). Ихор (+). Парусия (+). |
| т. XIII. |
Статьи и исследования критические, методологические и педагогические. |
| т. XIV. |
Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. |
| т. XV. |
Отошедшие (характеристики, портреты и биографическое). |
| т. XVI. |
Слова и речи. |
| т. XVII. |
Статьи и исследования богословские: Абсолютизм и анархия. Эмпирея и Эмпирия. Догматизм и догматика. Апостол Иаков. О церкви в Четвероевангелии. Об ангелах хранителях. О имеславии и имеборстве. Терафимы. т. XVIII. Язык и обычай (Материалы и заметки лингвистические и фольклористические). |
| т. XIX. |
Опыты литературные. Стихи. Воспоминания. |
Настоящее собрание сочинений в четырех томах представляет собой одну из первых попыток издания важнейших произведений П. А. Флоренского, выверенных с научно–текстологической стороны. В нем впервые представлены сочинения П. А. Флоренского, написанные им на протяжении тридцати лет; собраны статьи, отзывы, рецензии, разбросанные по различным изданиям, большинство из них с тех пор не переизда вались. Том первый объединяет труды, созданные П. А. Флоренским в 1903—1909 гг., за время учебы в Московском университете (1900—1904) и в Московской Духовной Академии (1904—1908).
Том второй объединяет в основном сочинения, изданные в 1909— 1933 гг., которые были написаны П. А. Флоренским за время преподавания в Московской Духовной Академии (1908—1919) и за годы работы в различных учреждениях Москвы (1920—1932). (Завершает второй том, вероятно, последний крупный философский труд П. А. Флоренского «Предполагаемое государственное устройство в будущем», написанный во время следствия в тюрьме в марте 1933 г.)
Третий том составляют «Столп и утверждение Истины» и материалы, связанные с этим трудом.
Том четвертый целиком посвящен сочинению «У водоразделов мысли», различные части которого писались на протяжении многих лет (1909—1926). Ббльшая часть этого труда при жизни П. А. Флоренского осталась неизданной.
Естественно, что тексты, писавшиеся на протяжении тридцати лет, изданные в различных журналах и разными типографиями, не могут быть однородными как в правописании и пунктуации, так и в способах выделения текста. К этому надо добавить также, что в 1918 г. была проведена коренная ломка основных норм русского правописания.
П. А. Флоренский всегда писал со своеобразной свободной пунктуацией, не сводящейся ни к фиксированным правилам, ни к авторскому единообразию. Публикаторы не считали возможным менять авторское правописание и пунктуацию в угоду принятым на сегодняшний день нормам. Сохранено характерное для П. А. Флоренского дефисное написание слов, к которому он, впрочем, прибегал не всегда.
Случаи изменения типов выделения текста специально оговорены в примечаниях.
В архиве свящ. Павла Флоренского хранятся два переплетенных сборника его сочинений: «Опыты 1. 1903—1910»; «Опыты 2. 1910—1917». Некоторые из включенных в эти сборники работ имеют исправления, сделанные П. А. Флоренским, они были учтены публикаторами.
Изданные при жизни П. А. Флоренского сочинения публикуются по позднейшим редакциям с исправлением ошибок и опечаток, замеченных как самим П. А. Флоренским, так и публикаторами. Как правило, эти случаи оговариваются в примечаниях (кроме явных опечаток).
Сложность подготовки к изданию рукописей П. А. Флоренского Заключается в том, что они не только остались неопубликованными при жизни, но и не имеют такого текста, который можно было бы считать за единственный окончательный вариант. В случае, если текст известен в нескольких редакциях, публикаторы брали за основу последнюю по хронологии (прижизненную) редакцию, в каком бы виде она ни была, машинописном или рукописном. Почти все машинописные экземпляры одного и того же текста последней редакции имеют несовпадающую авторскую правку, которую публикаторы по возможности сводили воедино. Иногда в машинописи, правленной Флоренским, имеются явные ошибки машинистки, не замеченные им; в таком случае публикаторы возвращались к рукописному варианту. Иногда Флоренский замечал ошибку машинистки, но исправлял ее по памяти, не заглядывая в рукопись, — возникал новый вариант, который публикаторы принимали за окончательный.
Игумен Андроник, С. Л. Кравец, С. Л/. Половинкип
ФЛОРЕНСКИЙ П. А. [АВТОРЕФЕРАТ]
Автореферат написан ок. 1925—1926 гг. в связи с предложением редакции Энциклопедического словаря Русского библиографического института Гранат.
При жизни Флоренского «Автореферат» был издан в сокращенном и несколько измененном виде (см.: Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат. Изд. 7. М., 1927. Т. 44. Стлб. 143—144).
Впервые полный текст «Автореферата» был издан в 1981 г. по невыверенной машинописной самиздатской рукописи с неточным названием «Биографические сведения. Автореферат» (Вестник русского христианского движения. Париж, 1981. № 135). Текст, выверенный по авторской рукописи из архива свящ. Павла Флоренского, опубликован: Вопросы философии. 1988. № 12. С. 113—116 (публ. игумена Андроника, М. С. Трубачевой, П. В. Флоренского; прим. С. И. Половинкина, П. В. Флоренского), а также в работе С. М. Половинкина «П. А. Флоренский: Логос против хаоса». М., 1989. С. 4—И.
Текст печатается по изданию 1989 г. с исправлением опечаток. Примечания написаны С. М. Половинкиным.
О СУЕВЕРИИ И ЧУДЕ
Статья посвящена разработке волновавшей Флоренского в эти годы проблемы сверхъестественного: его возможности, онтологического статуса (т. е. отношения к естественному) и психологии его восприятия. Этим отчасти объясняется повышенный интерес к оккультным явлениям и магии. Особого внимания заслуживает формирующийся здесь у Флоренского метод анализа сверхъестественного, который с полным на то правом мог бы называться феноменологическим. Эго не было замечено современниками, более того, как впоследствии жаловался Флоренский, Брюсов отредактировал статью в кантианском духе. В статье намечена, хотя не со всей определенностью, линия противопоставления чуда (или таинства), как полного и адекватного выражения сверхъестественного, практике оккультизма, однако вопрос этот полнее разработан в приложении к диалогу «Эмпирея и Эмпирия». Интересно, что Флоренский, так же как и некогда Кант («Грезы духовидца, проясненные грезами метафизики», 1766 г.), а затем и Достоевский, не отвергая эмпирической стороны сверхъестественного, к трактовке этих явлений подходит с осторожностью, понимая, что их обсуждение на «чужой территории», т. е. с помощью теории оккультных наук, означало бы косвенное признание верности их постулатов.
А. Т. Казарян
Впервые опубликована под заглавием «О суеверии» в журнале «Новый путь». 1903. № 8. С. 91—121. В конце статьи П. А. Флоренский указал время и место написания: «Москва. Январь 1902 г.». В личном экземпляре П. А. Флоренского к изданному тексту подклеен отдельный лист с записью: ««Новый путь». 1903. № 8. П. Флоренский. «О суеверии и чуде». Статья сильно искажена редакцией, но помимо того требует полной и существенной переработки заново» («Опыты 1. 1903—1910»). Близкое по смыслу примечание П. А. Флоренского содержится в составленном им «Списке изданных работ», а также в работе «Эмпирея и Эмпирия» (см. наст, том, с. 146—195). Вторично статья опубликована по тексту, изданному в 1903 г. в журнале «Символ». № 20. Париж, 19SS. С. 241—265.
Согласно проспектам «Собрания сочинений…» 1917—1919 гг., статья «О суеверии и чуде» включалась в «т. XXII. Из истории философской терминологии». В настоящем собрании печатается по изданию 1903 г. с учетом не*начительных исправлений, сделанных самим Флоренским в личном экземпляре статьи, вплетенной в сборник «Опыты 1». Примечания написаны А. Т. Казаряном.
Игумен Андроник
ОБ ОДНОЙ ПРЕДПОСЫЛКЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
В существенном статья совпадает с написанным в конце 1903 г. введением к сочинению «Идея прерывности как элемент миросозерцания», подготовленному П. А. Флоренским на степень кандидата при окончании математического отделения физико–математического факультета Московского университета (опубликовано с комментариями в «Историко–математических исследованиях», вып. 30 (в дальнейшем — ИМИ–ЗО). М., С. 159—177). Этой работой отмечен важный этап в эволюции идей Флоренского о разрывности и ее мировоззренческом значении. Статья представляет интерес и в контексте развития математических исследований в Москве, как одно из наиболее ранних свидетельств обращения москвичей к новой тематике — теории множеств и функций действительного переменного (см.: ИМИ–ЗО. С. 124—129).
Впервые опубликовано: «Весы». 1904. № 9. С. 24—35. Согласно проспектам «Собрания сочинений…» 1917—1919 гг., статья включалась в «т. I. Черты отрицательной философии (статьи философско–математические)».
Печатается по изданию 1904 г. с учетом исправлений, сделанных Флоренским на экземпляре, вошедшем в сб. «Опыты 1. 1903—1910». Примечания составлены С. С. Демидовым и А. Н. Паршиным.
О СИМВОЛАХ БЕСКОНЕЧНОСТИ (Очерк идей Г. Кантора)
Это первое в русской литературе развернутое изложение теории трансфинитных множеств Кантора, рассматриваемой в широком философском контексте, — одно из наиболее ранних свидетельств интереса московских математиков к теории множеств (см.: ИМИ-30. С. 124—129).
Впервые опубликовано: Новый путь. 1904. N° 9. С. 173—235. Согласно проспектам «Собрания сочинений…» 1917—1919 гг., статья включалась в «т. I. Черты отрицательной философии (статьи философско–математические)».
СПИРИТИЗМ, КАК АНТИХРИСТИАНСТВО
Интерес Г1. А. Флоренского к творчеству А. Белого вызван был их личным знакомством. Флоренский сблизился с Белым, вероятно, в семинаре С. Н. Трубецкого, у которого в начале 1904 г. занимался философией Платона. Флоренский писал о нем в письмах домой: «Чем больше я узнаю его, тем более понимаю, что это замечательная личность, глубокая и совершенно не имеющая в себе той вульгарности «практической» жизни, которая в большей или меньшей степени есть почти у всех…» (Контекст. Из наследия М. А. Флоре некого. К истории отношений с Андреем Белым. М., 1991. С. 3—99).
Данная статья явилась как бы «присягой» молодого Флоренского на верность идеям и идеалам символизма А. Белого. В дальнейшем их отношения развивались очень сложно.
С. Л. Кравец
Впервые опубликовано: Новый путь. 1904. N° 3. С. 149—167. На экземпляре, вошедшем в «Опыты 1. 1903—1910», имеется запись П. А. Флоренского: «Статья несколько искажена редакциею. Кроме того выкинуты места, где одобрительно говорится о форме Лествицы». В «Списке изданных работ» имеется следующее примечание Флоренского: «Первоначальное заглавие было: «Две поэмы», а это, претенциозное, было, к моему возмущению, придумано редакцией. Кроме того, статья была сокращена, а именно, выкинуто все похвальное в отношении спиритической поэмы «Лествица». Печаталась без моей корректуры».
Согласно проспектам «Собрания сочинений…» 1917—1919 гг., статья включалась в «т. XIII. Статьи и исследования критические, методологические и педагогические».
Печатается по изданию 1904 г. Примечания написаны С. Л. Кравцом.
Игумен Андроник
ЭМПИРЕЯ И ЭМПИРИЯ
Одной из основных идей беседы является идея построения цельного религиозного мировоззрения. Для И. А. Флоренского последовательное мировоззрение может иметь только религиозный, церковно–христианский характер. Между религиозностью, кафолическим христианством и мировоззрением существует внутренняя онтологическая и этическая связь, выявлению и раскрытию этой связи между Божественным и земным и посвящено содержание беседы (о чем, собственно, свидетельствует и само название диалога). Ответ Флоренского на вопрос, почему мировоззрение должно быть религиозным, имеет совершенно определенный и однозначный смысл. Только кафолическое христианство обладает полнотой Истины, и только эта Абсолютная Истина кафолического христианства может быть «религиозным основанием», образующим духовный смысл и конкретно–материальное содержание бытия.
Богословские вопросы в беседе рассматриваются под углом зрения взаимоотношения Бога и человека. Специфика этого взаимоотношения, по мнению Флоренского, заключается в том, что оно по своему существу изначально мистично и предопределяет собой все остальные, реальноэмпирические проявления бытия (Эмпирию). Бытие не может быть понято или объяснено из реально–физических фактов действительности или психофизиологических феноменов человеческой души. За физической и психофизиологической реальностью мира, которая имеет свой безусловный смысл и свою логику (ибо и она сотворена Богом), лежит духовная основа бытия — мистическое отношение Бога и человека.
А. Т. Казарян
Беседа «Эмпирея и Эмпирия» была написана Флоренским в июне 1904 г. Сам отец Павел в начале 1916 г. так указал место ее написания: «Вершина Цхра–Цхаро. (Над Бакурианами. Там жил я перед поступлением в Академию)».
К этой работе Флоренский возвращался дважды. В первый раз он отмечал, что «настоящий диалог написан несколько лет тому назад. Мысли его выдержали испытание времени, хотя я не могу скрыть от себя, что форма их выражения стала во многом чуждою». Флоренский расширил и отредактировал обе части работы, однако форму ее оставил прежней, отметив, что «не хотелось бы портить цельности впечатления». Так возникла вторая редакция. Тогда же в виде примечания к заглавию были разъяснены «возбуждаемые недоумения по поводу слова Эмпирея. Образую это слово от Эмпирей по образцу Эмпирия для обозначения функции… Сошлюсь на Баратынского:
«Я из племени духов,
Но не житель Эмпирея».
(Полное собрание сочинений Е. А. Баратынского, изд. Иогансена, стр. 148, CL «Недоносок)». Здесь Эмпирей — небо, место света; высшая часть мира.
Второй раз Флоренский обратился к работе более чем через 10 лет. 2 января 1916 г. в Сергиевом Посаде он для памяти записывает на беловике заглавного листа: «Последняя редакция этого диалога была переписана на реминітоне, на целых листах и тщательно исправлена. Но кто то взял у меня рукопись (мне думается, что отец Евгений Синадский или М. А. Новоселов) и вздумал возвращать через швейцара, — она и пропала. Очень об этом жалею, не потому, чтобы был доволен диалогом, но потому, что он выражал мои мысли и убеждения накануне поступления в Академию».
От последней редакции сохранились, однако, первые 13 страниц беловика, отдельные напечатанные страницы. Сопоставление отрывков последней редакции с правленым текстом второй редакции показывает, что они почти идентичны и что исправления в третьей редакции касались в основном стилистических тонкостей. В тексте второй редакции Флоренский вычеркнул часть ссылок на литературу, желая, вероятно, усилить разговорный колорит «беседы».
Неоднократная правка и даже составление примечаний показывают, что, несмотря на большое количество работ, опубликованных с 1904 по 1916 г., отец Павел настойчиво возвращался к беседе «Эмпирея и Эмпирия», подготавливая ее текст к изданию. Почему беседа осталась неизданной? Можно лишь предполагать, что сначала отец Павел не напечатал беседу потому, что форма выражения мыслей «стала во многом чуждою», затем же, когда это обстоятельство со временем стало придавать беседе уже особое, специфическое значение, подготовленный текст был утрачен. Впервые «Эмпирея и Эмпирия» вышла в «Богословских трудах»· Сб. 27. М., 1986. С. 298—322. Был опубликован текст второй редакции, с указанием внесенных в нее из сохранившейся части третьей редакции исправлений. В «Приложении. Заметка о восприятиях при получении таинств» редакцией были сделаны сокращения. Текст был подготовлен к изданию игуменом Андроником и Н. К. Бонецкой. Предисловие написано игуменом Андроником, «От редакции» — А. Т. Казаряном.
Согласно проспектам «Собрания сочинений…» 1917—1919 гг., работа включалась в «т. XVII. Статьи и исследования богословские». В настоящем томе печатается по изданию 1986 г. с восстановлением купюр и исправлением опечаток по рукописи. Примечания написаны А. Т. Казаряном.
Игумен Андроник
О ЦЕЛИ И СМЫСЛЕ ПРОГРЕССА
Данная работа — запись выступления Флоренского в философском кружке Московской Духовной Академии около 1905 г. Можно предполагать, что неизвестная статья «Абсолютизм и анархия», которая, согласно проспектам «Собрания сочинений…» 1917—1919 гг., включалась в «τ. XVII. Статьи и исследования богословские», в действительности есть работа «О цели и смысле прогресса». Публикуется впервые. Подготовка текста и примечания С. Л. Кравца.
Игумен Андроник
«К ПОЧЕСТИ ВЫШНЯГО ЗВАНИЯ»
Черты характера архимандрита Серапиона Машкина
С архимандритом Серапионом Машкиным Флоренский был знаком только заочно. Машкин, как и Флоренский, был учеником А. И. Введенского. И именно от него Флоренский узнал об удивительном ученом монахе, насельнике Оптиной Пустыни. Сохранились письма о. Серапиона к Флоренскому, и в одном из них, датированном 11 декабря 1904 г., содержится приглашение в Оптину на отдых и беседу: «…если бы Бог дал и Вы надумали бы летом приехать сюда в нашу тихую Пустынь. Она тиха и благолепна своим духовным устроением, своим благодатным «безмолвием», столь дорогим взволнованной душе…. Мы гуляли бы с Вами, купались, а затем за чайком обсудили бы — тогда уже общую — систему философии. Это стоит того, чтоб можно было ожидать, что Вы не пренебрегаете нами и, может быть, приедете. Приезжайте, П. А. Не раскаетесь! У Вас математика, у меня философия. Вдвоем мы — сила. А теперь именно такое время, когда нужна новая система. Старые отжили, новых нет, а запросы велики в современном обществе. Жду Вас. Впрочем, как Бог даст. Да будет Его Святая воля. Но дай Господи, если это только на пользу…» (см. наст, том, с. 223).
Флоренский приехал в Оптину только спустя полгода после внезапной кончины о. Серапиона в ночь с 19 на 20 февраля 1905 г. Познакомившись с рукописями покойного мыслителя, он был потрясен, и прежде всего ошеломляющим сходством их основных идей. В 1914 г. в примечаниях к «Столпу и утверждению Истины» Флоренский напишет: «Мысли покойного философа и мои оказались настолько сродными и срастающимися друг с другом, что я уже не знаю, где кончается «серапионовское», где начинается «мое», тем более что общность наших отправных точек и знания неизбежно вызывала однородность и дальнейших выводов».
С. Л. Кравец
Впервые опубликовано в сб.: Вопросы религии. Вып. 1. М., 1906. С. 143—173. Согласно проспектам «Собрания сочинений…» 1917—1919 ГГц статья включалась в «т. XV. Отошедшие (характеристики, портреты и биографическое)». Публикуется по изд. 1906 г. Примечания написаны С. Л. Кравцом.
Игумен Андроник
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ЖИЗНИ ОТЦА АРХИМАНДРИТА СЕРАПИОНА МАШКИНА РОДОСЛОВИЕ АРХИМАНДРИТА СЕРАПИОНА [совместно с Ив. Н. Ельчаниновым]
Впервые опубликовано среди ряда материалов, объединенных под заголовком «Данные к жизнеописанию архимандрита Серапиона (Машкина)». — Богословский вестник. 1917. № 2/3. С. 317—354. То же. Отд. отт. Сергиев Посад, 1917. 40 с. Согласно проспектам «Собрания сочинений…» 1917—1919 гг., материалы включались в «т. XV. Отошедшие (характеристики, портреты и биографическое)». Печатается по изд. 1917 г. Примечания написаны С. Л. Кравцом*
Игумен Андроник
ГАМЛЕТ
Статья написана, вероятно, в 1905 г. и предназначалась для печати в журнале «Весы», но по неизвестным причинам осталась неопубликованной, хотя на рукописи имеются указания для наборщика. 22 января 1903 г. Флоренский писал С. А. Полякову: «Многоуважаемый Сергей Александрович! Высылаю Вам для печатания в «Весах», если найдете подходящим, статью свою «Гамлет, принц датский». Очень прошу Вас прислать мне корректуру и распорядиться об приготовлении отдельных оттисков. Если возможно — пусть будет сделано 50 экземпляров. Я с удовольствием уплачу типографии все, что ей будет следовать за работу.
Я. Флоренский. Сергиев Посад.
P. S. Будьте добры выслать счет за книги, взятые у Вас для преосв. Евдокима. Счета я не получал»1 (РО ИРЛИ, ф. 240, on. 1, д. 97).
Согласно проспектам «Собрания сочинений…» 1917—1919 гг., статья включалась в «т. XII. Статьи и исследования критические, методологические и педагогические». Впервые опубликована по авторской рукописи в «Литературной учебе». 1989. № 5. С. 137—150. Публ. игумена Андроника, П. В. Флоренского. Подготовка текста Н. К. Бонецкой. В настоящем томе печатается по изд. 1989 г. с исправлением опечаток (эти места сверены с рукописью). Примечания написаны Н. К. Бонецкой.
Игумен Андроник
Необходимо сделать несколько замечаний относительно текста трагедии «Гамлет», которым пользовался при написании своей статьи Флоренский. К английскому подлиннику он, по всей видимости, не обращался. В начале XX в. существовало более десяти известных переводов «Гамлета». Из имевшихся в наличии переводов Флоренский выбирает два — прозаический перевод Н. Кетчера, осуществленный в 40–е годы XIX в. (Драматические сочинения Шекспира/Пер. с англ.
Н. Кетчера. Ч. 7. М., 1873), и стихотворный А. Кронеберга, опубликованный впервые в 1844 г. (Полн. собр. соч. Вильяма Шекспира в переводе русских писателей, изд. 4. СПб., 1888. Т. 3).
Я. С Бонсцкая
О ТИПАХ ВОЗРАСТАНИЯ
Впервые опубликовано: Богословский вестник. 1906. Т. 2. № 7. С. 530—568. То же. Отд. отт. Б. м. Тип. Свято–Троицкой Сергиевой Лавры, б. г. 39 с. Рукописный титульный лист содержит другой эпиграф:
«О светлое–пресветлое Солнце!»
Слово о полку Игореве
На этом же титуле написано: «Тифлис, конец июня 1905–го года. Писано во время разгара бомб и забастовок. Эта редакция закончена го июля 1905 года».
На машинописном экземпляре, поданном в редакцию «Богословского вестника», есть помета редактора: «Не лишено интереса, но трудно и весьма математично».
Согласно проспектам «Собрания сочинений…» 1917—1919 гг., статья включалась в «т. I. Черты отрицательной философии». Печатается по изданию 1906 г. Примечания написаны С. С. Половинкиным.
Игумен Андроник
ПОНЯТИЕ ЦЕРКВИ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ
Это большое сочинение Флоренского, написанное в 1906 году, в бытность его студентом 3–го курса МДА, до сих пор не стало предметом специального анализа ни со стороны обсуждаемых в нем проблем, ни со стороны его значения для поздних богословских трудов о. Павла. Единственным исключением остается краткая, но содержательная статья С. С. Хоружего, сопровождающая публикацию текста в 1974 г. В статье отмечается жизненный смысл темы Церкви для Флоренского» внутренняя связь этой работы с книгой «Столп и утверждение Истины», указываются ее локальные и специальные задачи («систематизированное собрание экклезиологических материалов»), характеризуется метод (экзегезис и рождение «символизма»), описываются источники (труды католических, протестантских и православных богословов, творения отцов Церкви), подчеркивается, что в догматической области Флоренский «ограничивается общими вопросами и общепризнанными тезисами…» (Богословские труды. Сб. 12. М., 1974. С. 73).
Как наиболее раннее выражение богословских взглядов Флоренского, работа представляет несомненный интерес, разбросанные по всему тексту высказывания позволяют реконструировать его понимание догматического богословия. За исключением софиологической проблематики, в работе в той или иной форме уже намечены основные темы и подходы Флоренского. Они включают: I. Идею общей структуры богословия, обнимающего теодицею и антроподицею (Христология и богословие личности).
2. Определяющее значение темы Церкви в построении богословской системы (богословие как экклезиология). 3. Идею опытного бого- познания (литургическое богословие). 4. Общую концепцию герменевтики как богословско–философского синтеза (учение о методе). 5. Проблематику «пресуществленного слова» (богословие символа и имени).
Из этой совокупности тем, подходов и принципов подлинно оригинальным надо признать учение о методе, метафизику слова и стремление связать воедино разнородные богословские и философские принципы (это единство было достигнуто в поздних работах); во всем остальном Флоренский либо следует по пути своих предшественников (А. С. Хомякова, Вл. Соловьёва, еп. Сильвестра (Малеванского), Б. И. Аквилонова), либо опирается на их конкретные исследования (Д. Богдашевского, И. Н. Корсунского, И. Мансветова, П. Я. Светлова и др.). Особого внимания заслуживают требования, предъявляемые Флоренским к богословскому методу. Если первой составляющей герменевтики должна быть лотка, понимаемая не только в смысле отвлеченного мышления, но и в качестве Логоса, то второй — филология. Конкретные филологические (этимологические) толкования Флоренского требуют специальной оценки и могут быть оспорены. При этом следует иметь в виду замечание Флоренского о недостаточности, а порой и ложности «исследования, базирующегося на чисто–внешнем анатомировании слова, не начинающего с живой души его» (наст, том, с. 326). В этом ограничении прав филологии Флоренский следует Аквилонову, который считал, что «никто не имеет права смешивать догматическое богословие с языкознанием» (Аквилонов К Новозаветное учение о Церкви. Изд. 2. СПб., 1904. С. 17).
Наконец, отметим, что обозначившееся в этой работе центральное значение темы Церкви для богословия, в своей подоснове, содержит и скрытую полемику Флоренского с тем направлением догматического богословия в России, которое в своей систематике, пусть даже формально, исходило из кантианского разделения учения о Боге в Самом себе и Его явлении.
Работа Флоренского впервые опубликована по фотокопии рукописи в «Богословских трудах». Сб. 12. М., 1974. С. 75—183. О первой публикации С. С. Хоружий рассказывает следующее: рукопись сочинения «Понятие Церкви…» (авторский автограф) находилась в частном собрании в провинции, и в настоящее время ее следы утеряны. В конце 60–х гг. о. Анатолий (ныне — Иннокентий) Просвирнин, сотрудник Издательского отдела Московской Патриархии, узнал о тогдашнем местонахождении рукописи и сделал ее фотокопию; затем он же стал инициатором публикации сочинения на страницах «Богословских трудов». В подготовке публикации принимал участие С. С. Хоружий (которому, в частности, принадлежит вступительная заметка «От редакции»), и в настоящее время фотокопия рукописи находится в его собрании.
По мнению о. Андроника (А. С. Трубачева), неизвестная работа Флоренского «О Церкви в Четвероевангелии», которая, согласно проспектам «Собрания сочинений…» 1917—1919 гг., включалась в «т. XVU. Статьи и исследования богословские», в действительности есть работа ♦Понятие Церкви в Священном Писании».
Фотокопия рукописи, любезно предоставленная С. С. Хоружим, дает достаточно хорошее представление о том, как выглядела сама рукопись. Она содержала 391 страницу, включая три схемы и оглавление. На первой странице под крестом, нарисованным, по–видимому, самим Флоренским, его рукой написано: Экклезиологические материалы. Павел Флоренский. 1906. На второй странице расположен следующий текст: Понятие Церкви в священном Писании ІДогматико–экзегетические материалы к вопросу о Церкви}. Павел Флоренский, ст. 3 курса М. Д. А. Сергиевский Посад, 1906, IX XI.
Публикация 1974 г. сопровождалась рядом изменений, обусловленных техническими возможностями издания. К наиболее существенным изменениям в тексте относятся: 1. Публикаторы внесли в текст посредством круглых скобок с указанием номеров цитируемых работ и страниц ссылки, которые у Флоренского даны сплошной нумерацией и расположены внизу страницы. 2. Древнееврейское написание слов у Флоренского заменено их латинской транскрипцией. 3. Значительное число выделенных (подчеркнутых) самим Флоренским слов дано обычным текстом. 4. Не всегда сохранялось характерное для Флоренского дефисное написание слов. Кроме того, в текст 1974 г по другим причинам вкралось немало ошибок, в том числе пропуски фрагментов греческого текста, отдельных словосочетаний на русском языке, описки и т. д.
Текст печатается по изданию 1974 г. с исправлением наиболее существенных ошибок (по фотокопии). К большому сожалению подготовителей и издателей, фотокопия рукописи была получена ими на такой стадии, которая не позволяла внести все выпущенные места в уже готовый макет. Поэтому грубые отступления от авторского текста (напр., вместо «Выражение Императора Николая I» было напечатано: «По выражению одного из его современников») исправлены. Фрагменты на греческом и др. языках или даются ниже в примечаниях, или, по крайней мере, на эго указывается. Примечания составлены А. Т. Казаряном.
А. Т. Казарян
АНТОНИЙ РОМАНА И АНТОНИЙ ПРЕДАНИЯ
Обращение Флоренского к образу преподобного Антония Великого связано прежде всего с его духовным окормлениѳм у епископа Антония, ставшего наставником молодого Флоренского с весны 1904 г. и вплоть до смерти еп. Антония в 1918 г. В письме к матери от 3 марта 1904 г. Флоренский писал: «Как то на днях я познакомился с одним замечательным, хотя малоизвестным лицом. Это — лишенный епархии епископ Антоний, личность очень интересная и высокая. На меня же лично он произвел двойное впечатление, потому что манерами, лицом и даже голосом очень похож на тетю Юлю… и я думаю, тут может быть какое нибудь родственное сходство».
Важность встречи с еп. Антонием заключалась в том, что Флоренский в это время был увлечен идеей принятия монашества. Еп. Антоний резко воспротивился этому решению своего духовного чада: «Вы толкуете о какой то общественной деятельности. Значит, Вы помышляете не о монашестве, а о чем то другом. Обеты монашествующих содержат в себе долг повиновения и ученичества, а не учительства и начальствования». И далее: «Если суждено Вам быть в монашестве, то оно от Вас не уйдет». Но прежде он предлагал Флоренскому «испытать себя» в миру, в ожесточенных идейных и мировоззренческих схватках того времени, пройти черва испытания, прегрешения и осознание своих грехов.
С. Л. Кравец
Впервые опубликовано: Богословский вестник. 1907. Т. 1. № 1. С. 119—159. То же. Отд. отт. Сергиев Посад, 1907. 41 с. В конце статьи Флоренский указал время написания: «1905». В экземпляр статьи, включенной в «Опыты 1. 1903—1910», вложены библиографические заметки, 'которые использованы при составлении примечаний. Согласно проспектам «Собрания сочинений…» 1917 — 1919 гг., произведение должно было войти в «т. XIII. Статьи и исследования критические, методологические и педагогические». Публикуется по изданию 1907 г.
Подготовители первого издания заменили «Зола» на «Золя» — ред.) Примечания написаны С. Л. Кравцом.
Игумен Андроник
ВОПРОСЫ РЕЛИГИОЗНОГО САМОПОЗНАНИЯ
Статья, написанная в модном для начала века жанре переписки с читателями из народа (вспомним многочисленные и замечательные опыты Розанова в этой области), развивает тему таинства — сквозную и центральную тему богословия Флоренского. Как это вообще характерно для исследований Флоренского, вопрос о таинстве предполагает множество различных планов рассмотрения, из которых в данном случае к существенным и главным отнесены психология таинства (его восприятие) и онтология таинства (его действие). Эти планы анализа у Флоренского несводимы друг к другу и, что еще важнее, не могут быть отождествлены с традиционным противопоставлением субъективного переживания объективному действию. Вопрос о «действии» («силе») таинства, рассматриваемый в русле знаменитого учения преп. Серафима Саровского о стяжании Духа Святого, в статье Флоренского не конкретизируется; в поздних сочинениях, в частности в работе «Имеславие как философская предпосылка», он связан с учением об именах и энергиях. Наконец, отметим, что в работе важное место принадлежит теме религиозного просветительства, сознательного отношения к вере, что, по мнению Флоренского, имеет мало общего с религиозным рационализмом.
А. Т. Казарян
Впервые опубликовано: «Письмо I» в журнале «Христианин». 1907. Т. 1. № 1. С. 205—210. В ответ на это письмо Флоренского в редакцию поступили отклики, которые Флоренский, снабдив предисловием и комментарием, поместил как «Письмо И» и «Письмо» (Христианин. 1907. Т. 2. № 3. С. 635—653; Т. 3. № 10. С. 436—439). Три публикации в журнале «Христианин» были объединены Флоренским и изданы под общим заглавием «Вопросы религиозного самопознания» (Сергиев Посад, 1907).
Согласно проспектам «Собрания сочинений…» 1917—1919 гг., работа могла бы быть включена в «т. XIII. Статьи и исследования критические, методологические и педагогические*. Печатается по изданию 1907 г. Примечания написаны А. Т. Казаряном.
Игумен Андроник
ДОГМАТИЗМ И ДОГМАТИКА
Работа над рукописью прошла три этапа: написание двух черновых и окончательного варианта текста. В сохранившемся первом черновом наброске, датированном 26 сентября 1905 г., реферат имел название «Догматизм» и сопровождался следующим подзаголовком: «Речь на первое, торжественное заседание философского кружка при М. Д. А.». Некоторое представление о первоначальном замысле дает такой фрагмент черновика: «Жизнь не ждет нас, жизнь предъявляет свои требования, и ныне (неразб.] нельзя [неразб.] будет оставаться полу–верующим, полу ^православным, каково большинство нас, а надо будет либо нанести недрогнувшей рукой удары православной Церкви и быть беспощадным к самому дорогому (не исключая и краеугольного камня), —либо всеми силами души собраться в одной цели — в служении Церкви, в защите Церкви и, кто знает, быть может в мученичестве». Замысел реферата, каким он предстает по первому варианту, состоял в описании глубинного разрыва между «школьными» догматиками и идущей своими путями жизнью, а также в обозначении выхода из тупика догматизма через построение «опытной догматики», основанной на индивидуальных духовных переживаниях. В окончательном варианте рукописи появился новый, в значительной степени насыщенный философским содержанием второй раздел, а последний, теперь уже четвертый, дополнился наброском метода построения «опытной догматики». Реферат получил окончательное название — «Догматизм и догматика». К сопроводительным материалам доклада относятся написанные Флоренским «тезисы к реферату»:
1. Опознанность объекта поклонения есть неотделимое от нового сознания требование. 2. Опознание это схематизируется догматикой. 3. Догматика должна связываться с конкретной психической жизнью. Будучи оторвана от таковой, система догматов обращается из догматики в догматизм. 4. Догматизм современности — одна из существенных причин религиозного оскудения. Председатель П. Флоренский».
Имеющиеся в нашем распоряжении сведения о деятельности философского кружка при МДА, к сожалению, фрагментарны. Ниже публикуемая стенограмма прений по реферату Флоренского позволяет восстановить состав участников первого заседания: девять студентов 1—4 курсов (Η. М. Бабаков, П. П. Борисов, Н. П. Горностаев, В. Н. Маков, В. И. Парнасский, А, Ф. Советов, С. С. Троицкий, П. А. Флоренский, Г. X. Поп–Харалампиев), проф. патрологии (редактор журнала «Богословский вестник в 1903—1906 гг., автор известного исследования «Личность и учение блаженного Августина») Попов Иван Васильевич (1867—1938) и ректор Академии (1903—1909) архиепископ Евдоким (Мещерский, 1869—1935). Стенограмма прений служит хорошим комментарием к самому реферату Флоренского.
А. Т. Иванов
Прения по поводу реферата Л. А, Флоренского на тему: «Догматизм и догматика»
С. С. Троицкий. Я уже слышал твой реферат, и тогда он не удовлетворил меня и теперь то же самое. Мне пришлось встретиться на 2 к [ypcej с товарищем, приехавшим из семинарии. Он жаловался мне на то, что теперь в Академии ему приходится терять то, что он приобрел в семинарии. Меня смутила эта жалоба, и я старался, как мог, помочь ему. И вот мы теперь хотим создать какую то новую догматику. Старой догматики у нас, по твоим словам, нет, но и новой также нет. Старая система нас не удовлетворяет; необходима новая система — система переживаний. Но что же такое эти переживания? Христос и Павел говорили, проповедовали, но люди были ли готовы тогда к этим переживаниям? Они слушали и принимали. Если так, то нужно признать — или Бог виновен в том, что сообщал истины, не приготовив к восприятию, переживанию их, или люди — в том, что они не были готовы к слушанию проповеди Христа. Ты нарисовал нам золотую страну какой то новой догматики, но не сказал, как нам войти в эту страну религиозных переживаний. Итак, я хочу знать, как перейти нам от старой догматики к новым переживаниям.
П. А. Флоренский. Ты говоришь, будто этот реферат уничтожает старое и взамен нового ничего не дает. Напротив, то, что теперь есть, отнюдь не уничтожается рефератом, хотя ни для кого уже не секрет, что современная догматика не воспринимается [неразб.) как ценность. Соблазнять и разрушать верования у людей верующих было бы нехорошо и не составляет нашей задачи. Нам нужно только констатировать факт.
И. В. Попов. Я понял так, что в Вашем реферате не старое уничтожается, но проводится та мысль, что догматы суть не что иное, как обобщенные чувствования, и наша задача по отношению к ним должна состоять в том, чтобы разрешить догматические формулы в соответствующие чувствования
[1130]. Мне кажется, что отрицания догматики здесь нет, но что здесь утверждается только, что она безжизненна, т. к. не отражается в чувствованиях и вообще в жизни. И я думаю, что в ответе Вы сказали больше, чем в реферате…
П. А. Флоренский. Я только констатирую факт: догматика не есть уже ценность в сознании большинства. Второе возражение, направленное против меня, — удовлетворяет ли реферат жажде Бога? Конечно, нет; да и не только мой реферат и все рефераты, но и вся жизнь может ли ее удовлетворить? Но, может быть, неопределенные переживания гибнут под гнетом жестких форм. И подобный реферат способен разъяснить наше неуменье приступить к догматике — показать, что догматика тут ни при чем и что нужно не уничтожать чувствования, а культивировать их до сознательного отношения к религиозным истинам. — Что такое переживание? — Всякий момент духовной жизни, как момент, переживаемый именно данною личностью, — вообще всякое чувствование, какое бы то ни было. Ничего темного здесь нет, и я говорю не о мистических только чувствованиях, но обо всех вообще чувствованиях, всем более или менее известных. И каждая попытка в этом направлении — положить в основу религии какое нибудь чувствование (Кант, Трубецкой; В. С. Соловьёв, Достоевский отчасти), может быть, и есть то, о чем я говорю.
Далее, у некоторых, может быть, таких религиозных переживаний будет слишком мало. Но ведь их можно развить. Заразить же новыми истинами — это дело не философии, а проповеди и религиозного воспитания.
С. С. Троицкий. Эти слова дают больше, чем самый реферат. Но опять таки от тебя требовалось указать те источники, где бы я мог найти удовлетворение в своей жажде. Ты же отсылаешь нас к каким то смутным переживаниям. Далее, эти переживания надо культивировать, но ты не говоришь, как их культивировать…
И. В. Попов. В реферате нельзя сказать обо всем, это уже подробности. Реферат дает только формулу, но не иллюстрирует ее конкретными фактами. Есть одна главная истина: догматы могут иметь значение только в том случае, если можно их разрешить в сферу чувствований. Многие духовные писатели об этом говорят. Но замечательно,. что это направление никем не проведено еще в подробностях. Это зависит от самого существа дела: не все догматы могут быть разрешены в чувствования.
П. А. Флоренский. Я не говорю, чтобы каждый непременно догмат был разрешен в соответствующее чувствование. В построении догматики возможно большое разнообразие. Нужно только, чтобы догматы были для нас непосредственно истинны и неотделимы друг от друга
[1131]…
Н. П. Горностаев. Мне не ясно, как Вы относитесь к существующим догматам. Выходит, что мы должны разложить их на известные чувствования, и притом чувствования тех именно лиц, которые участвовали в составлении самих догматов. Но ведь догматы развиваются. Нельзя поэтому требовать от нас, чтобы мы жили их (?) чувствами и настроениями…
П. А. Флоренский. Я говорю, что исследование ничего не требует. Нужно попробовать, испытать известные системы. Может быть, мы и придем к новым догматам. В том то и трудности, что здесь надо иметь уверенность в том, что вы сохранили старую ценность, и в то же время быть свободными.
Н. П. Горностаев. Если каждый должен переживать догмат по–своему, то тогда невозможна догматизация, особенно если переводить их на чувства и ничего не давать им [?) из современной жизни.
П. А. Флоренский. Я говорю, — догматы должны быть разрешены в соответствующие переживания, поскольку каждый из них связывается с известным чувствованием, мыслью и т. д.
Η. П. Горностаев. Но тогда, если каждый будет переживать догматы по–своему, невозможна догматика.
П. А. Флоренский. Природа у всех людей приблизительно одинакова.
И. В. Попов. Здесь происходит тот же процесс, что и в образовании общих понятий… Точно также и в области чувствований есть известное единство, т. к. и они допускают обобщение.
П. А. Флоренский. Наука построяется по этому же методу, но только берет другую область переживаний… Если вы сомневаетесь… то стройте догматику только для себя.
Н. П. Горностаев. Тогда церковная догматика недостаточна (?]… Догматика и Церковь исключают друг друга, с вашей точки зрения. Как вы откинете сектантов? Ведь и они переживают по–своему.
П. А. Флоренский. Но может быть, они плохо воспитывают свои переживания.
Н. П« Горностаев. Сектанты моіуг то же самое сказать о вас.
П. А. Флоренский. По–вашему, не может существовать и нравственности.
И В. Попов. Каждое общество (Церковь) должно иметь свой цемент. Его надо свести к мистике и символам. Церковный символ вы наполняете своим содержанием…
Н. П. Горностаев. Но ведь это казуистика.
И. В. Попов. Как в теле существуют разные члены, так и в Церкзи мы, каждый по–своему, относимся к ее учению, изложенному в символе.
Н. П. Горностаев. Но тогда символ не имеет объективного значения.
И, В. Попов. Нет, символы — это только намеки, и чем богаче оки по своему содержанию, тем больше действия оказывают они. Возьмите, напр[имер], полковое знамя. Здесь каждый солдат по–своему оживляет его, соединяя с ним в своем сознании целую группу индивидуальных представлений, мыслей, чувствований…
Н. П. Горностаев. Но если солдаты действительно так относятся к своему знамени, то они разбегутся…
И. В, Попов. Нет, общее направление, тон, должно же быть и у солдат.
Н. П. Горностаев. Должно быть строгое соответствие между понятием и чувствованием.
И. В. Попов. Но ведь общие понятия обнимают подчиненные им конкретные… Скажите, Вы стоите за неизменную формулировку догматов?
[1132] Каждый в Церкви должен по–своему относиться к известным формулам вероучения. Это желание вполне естественно и законно: несомненно, запас духовной жизни все растет и требует новых форм для своего выражения.
Н. П. Горностаев] [?. Это верно.
П. А. Флоренский. Вы неправильно представляете себе развитие духовной жизни. Каждая отдельная духовная способность не может развиваться вечно. В своем постепенном развитии она доходит наконец до известного максимума, и дальше его уже не может идти, напр(имер1 трагическое у греков.
Н. П. Горностаев. Вы берете единичный факт. В развитии отдельных сил и способностей человеческого духа может существовать известный предел, но в развитии истины Христовой такого предела быть не может, она будет вечно расти и развиваться.
Преосв. Ректор. Каждый народ с одной какой нибудь стороны подходит к истине (напр[имер], школы Александрийская, Антиохийская и др., культуры греч(еская), римская, христиане из греков, римлян и пр. и мы, наследники Византии, — все мы подходим к истине с одной какой нибудь стороны). Наши чувства не могут вместить целиком христианские или языческие истины, но развить в них какую нибудь одну сторону — могут.
Н. П. Горностаев. Церковь универсальна, и нужно говорить о формах
П. А. Флоренский. Вот вам конкретный пример — долг, с которым я связываю этическое чувствование. Но может наступить момент, когда он перестанет вызывать во мне это, именно, чувствование… Каждая отдельная сторона духа (напр[имер) умственные силы) развивается только до известного предела.
И. В. Попов. £ще пример. Историческая личность Христа производила известное впечатление на современников. Это впечатление было формулировано в определенный догмат: было сказано, что Он — совершенный (Богочеловек —?). Но с другой стороны, древних не интересовало отношение к божеству физической природы. Мы теперь, в свою очередь, можем создать новый догмат (♦богочеловечение природы», — добавляет О. Ректор)…
Н. П. Горностаев. В таком случае не может быть определенной догматики…
И. В. Попов. Нет, отчего же? Если известная формула вполне исчерпывает соответствующее ей чувствование, то она может остаться неизменной.
Н. П. Горностаев. Нет, все здесь изменяется, каждый по–своему понимает…
П. А. Флоренский. Вы признаете науку?
Н. П. Горностаев. Признаю. Но Вы имеете в виду реальный факт, а в религии…
П. А. Флоренский. Я не намерен говорить о реальных фактах. У человека чувствования заключены в известные формы, и вы не можете выйти из этого круга, точно так же, как и в умственной и нравственной жизни существуют определенные законы. Догматы — это законы религиозных переживаний.
С. С. Троицкий. Мне кажется, что Церковь при таком понимании догматов не может существовать: одни так переживают, другие — иначе, одни основываются на внешнем авторитете, другие на свободном исследовании. Но есть ведь и такие, у которых ни того ни другого нет, как, напр[имер], нет этих переживаний у простого народа. Церковь, по–видимому, должна состоять из имеющих переживания, но ведь и у них переживания эти различны.
П. А. Флоренский. У простого народа, может быть, — больше переживаний, чем у…
[1133], но он не может их анализировать. Далее, в Церкви может быть постоянная война (борьба) между пшеницей и плевелами…
И. В. Попов. У всякой церкви существуют члены, связанные с нею только по имени.
П. А. Флоренский. Религиозные переживания должны основываться не на одном только порядке чувствований, а на всей вообще полноте духовной жизни.
С. С. Троицкий. Затем, не нужно забывать, что одни миссионеры так сообщают истину, другой — иначе и т. д. Каждый здесь стоит на различной ступени; нет одинаковой плоскости, которая всех сравняла бы…
П. А. Флоренский. По–моему, задача миссионеров должна состоять в том, чтобы освоиться с человеческой природой, найти нравственные и дріугие] переживания и показать необходимость других переживаний и как их воспитать.
С. С· Троицкий. Но тогда всякий может заявить: «Я все пережил уж!» Другой возразит: «нет, у меня больше переживаний». Что же тогда получится?
О. Ректор. Самое семя заключает уже в себе возможность роста. Вот почему обыкновенно бывает, что ученик становится со временем больше своего учителя.
П. А. Флоренский. Ты говоришь все о каких то недобросовестных людях…
С. С. Троицкий. Если у каждого должна быть своя догматика, то получится одно только вечное скитание…
И» В. Попов. Представьте себе, — миссионер приходит к дикарю- язычнику, для которого вся природа — нечто угрожающее, населенное грозными демоническими силами. И вот миссионер говорит ему, что все это пустяки, существует Бог–отец для всех людей. Нужно дать ему почувствовать всю разницу между прошлым его миросозерцанием и предлагаемым ему христианским…
С. С. Троицкий. Чтобы познать вполне (?) Бога, нужно быть Богом… Но нам нужна система, как фундамент для жизни. У нас зиждется нечто и на доверии. Одного основного переживания Бога вполне никогда нельзя достигнуть. Отсюда вечное колебание, скитание…
П. А. Флоренский. Самое это доверие зиждется на известном переживании. Конечно, чтобы познать вполне вещь, нужно быть самому вещью, отождествиться с нею. Так и в познании Бога: чтобы познать Его, необходимо отождествление, причастие Ему. Но вовсе нет надобности стать им всецело.
[В. И.] Парнасский. Идеальная система догматики, о которой Вы говорите, — может ли она быть создана с тем, чтобы ее приняли все, или это только мечта? Нужно переживать догматы, но хватит ли у человечества сил для того, чтобы пережить все догматы и т[аким] о(бразом) образовать стройную философскую систему? Или эта система — нечто условное, или не чисто христианское мировоззрение?
П. А. Флоренский. Я предлагаю только насытить данную систему психологическим содержанием. Хватит ли сил на все догматы, я не знаю. Но нечто в этом направлении уже сделано… Не нужно только забывать, что все здесь стоит в тесной органической связи, напр[имер], христологические догматы. Итак, нужно переживать Христа…
П. А. Флоренский [?]. Я не говорю, чтобы каждый догмат отдельно, нужна лестница, прицепка…
[В, И»] Парнасский. Если я могу при этом пользоваться чужими формулами, то будет старая догматика…
П. А. Флоренский. Если будет указано, как вести процесс образования догматов, это уже много. Догматы нужно не сочинять, а облекать их в известное конкретное содержание, связывать их со всей полнотой духовной жизни.
О. Ректор. Догматы родятся из переживаний, чувствований и переживаний…
С. С. Троицкий. Как же на Синае?..
|В. И.| Парнасский. Еще чуточку… По–вашему, сначала — переживание. Но если оно не явилось у меня, я не пойму догмата в чужой формулировке, и так [им] обр[азом| система эта всегда будет рисковать — остаться без содержания…
О. Ректор. Ваша скорбь очень понятна и присуща всем: большинство догматов для нас уже непонятны более. Это свидетельствует о том, что мы вышли из сферы влияния христианства.
[В. И.] Парнасский. Теперь трудно снова войти в эту сферу, нужно все сначала пережить и усвоить. Тогда нет, значит, и догматики [догматов?]…
И. В. Попов. Никто и не заставляет Вас переживать догматики: можно пережить лишь отдельные догматы, но не всю догматику. Всю систему пережить нельзя…
П. А. Флоренский. Неужели вы думаете, что в догматике Макария все догматы?
[В. И.] Парнасский. Может быть, и новые явятся? — тогда это не системы [?]…
|Г. X. J. Харалампиев. Вы говорите о научности догматики…
С. С. Троицкий. Вас[илий] Иванович не понимает того, что фундамент пирамиды может быть очень обширным для слишком острой [?] вершины… Тогда системы не будет… Переживание утверждается на этом основании… В религии наиболее важное — Бог; без Него не может быть никакого догмата… Нам необходимо доверие…
[Г. X.] Харалампиев. Мы говорим только о религиозной жизни. В христианстве даны известные истины религиозные… Христос, основатель Церкви, искал ей Духа Святого, имевшего открыть всякую истину. Живые ли личности составляют церковь? Как нам стать истинными христианинами? — Догматы — не логические формулы только, а нечто больше того — религиозные чувствования. Бог — любовь. Надо жить только жизнью Церкви, жизнью Духа Святого, и тогда христианину станет все понятным. Церковь есть тело, и в жизни ее каждый член принимает то или иное участие, сообразно со своим пониманием. Христианская истина обладает истинным членом Церкви, и он обладает ею. О количестве же постижения Бога нам нечего рассуждать: только любя Бога, можно Его постигнуть. В христианской Церкви живет Дух Святый. Кто искренне стремится к истине и она стремится к нему, и он познает истину Христову. — Человек есть индивидуальное существо, организм. Божество есть нечто объективное, но оно живет в человеке. Один лучше будет чувствовать Его присутствие в себе, другой — хуже. Формы этого чувствования, переживания могут быть самые разнообразные…
С. С. Троицкий. Существует только душа… Я молюсь духом и истиной Иногда чисто интеллектуально… Мы не можем жить без определ…
[1135]И. В. Попов. Вы смотрите на религиозную жизнь с мистичіеской] стороны, но ведь она (эта жизнь) происходит по законам психологическим, и вот этой то естественной ее стороной мы теперь и заняты.
(П. П.] Борисов. Реферат указывает на безжизненность усвоенной догматики. Это можно понимать или 1) в объективном смысле, т. е. что догматические книги не насыщены никаким содержанием; но тогда вы должны упрекнуть в этом и соборные постановления, — или 2) в субъективном, т. е. что с формой мы не соединяем жизненного переживания, усваивая догматы чисто рассудочно; но тогда вы не вправе упрекать в безжизненности догматику Макария. Найдутся, мож[ет] б[ыть], даже такие ортодоксальные люди, которые… — Чего же у нас нет, — жизненных ли произведений, или у нас нет восприимчивости? («Словом, живые ли мы души или нет?* — резюмирует Преосв. Ректор.)
Кто то вставляет: «У нас теперь религиозное оскудение». Г–н Борисов протестует против этой прибавки и оставляет свое возражение в прежн(ем) виде.
П. А. Флоренский. Я не буду упрекать опытных [?) лиц, напр(имер) Макария, в недостатках его догматики. Написать другую, значительно лучшую, догматику в ту эпоху, быть может, было невозможно: для этого нужно было бы быть мировым гением. Но если у нас есть известные запросы, и мы не удовлетворяемся Макарием, то…
[1136] · Не важно недостатки Макария или наши, — важно то, что у нас ощущается нужда в общей богословской пропедевтике. Здесь один главный недостаток — отсутствие известного течения в обществе. Личная же жизнь идет в стороне…
Свящ. [А. Ф.] Советов. В вашу догматику входит и богословие и философия. Вы хотите превратить ее или в нравственное, или в мистическое богословие. Но догматика должна существовать в виде отдельной самостоятельной науки. Она представляет собой консервы известных учений. Когда впоследствии стали иначе понимать, то явилась необходимость в этих трех сортах богословия (? J. Итак, догматизация должна быть, точно так же как нравственное или мистическое богословие
[1137].
П. А. Флоренский. Догматика должна существовать. Но фактически она не является вершиною других богословских дисциплин, а, напротив, ей приходится вводить другие области богословия.
Преосв. Ректор. Маленькая историческая справка. Сначала догматика, нравственное и мистическое богословие не разделялись. Потом схоластика разбила этот живой [организм?) на части. Эти части стали наслаиваться, и теперь, когда пришли к мысли снова сложить их, то оказалось, что они уже не складываются, не составляют стройного целого. В сущности же, вряд ли между ними есть существенная разница. Это не что иное, как единое органическое целое. В частности, догматика, по отношению к другим богословиям, есть конспект, оглавление, — то же, что математические или физические формулы, не существующие отдельно от физического мира.
С. С. Троицкий
[1138]. Я не согласен с вами. Раз существует один Христос.., то не нужно никакой науки… Но для удобства мы расчленяем, напр[имер1, в психологии духовную сущность на ум, волю и чувство…
И. В. Попов. Догматы слагались почти без психологич [еских] элементов. Христос явился и действовал всею Своею личностью на апостолов. У них никаких формул не было. Но впоследствии эти впечатления были формулированы. Догматы, как формулы, не могут одушевлять, и когда они превращаются в переживания, они перестают уже быть догматами. — Далее, не все догматы могут быть превращены в известные переживания. Зажечь наше внутреннее содержание [?1 могут только отношения Бога, как личности, подобно тому как влияние отца на сына обусловливается его нравственным воздействием. В Св. Писании содержится отображение Бога, как личности, и потому оно может воспламенять. Догматы же, поскольку они касаются физической природы Божества, вряд ли могут оказывать такое действие.
П. А. Флоренский. Но ведь аскеты прозревали же иногда вдруг.
И. В. Попов. Они мало говорят о Троице.
П. А. Флоренский
[1139]. Не думаю. Западные [?], [неразб.] церковные мистики [неразб.]. Хотя бы Симеон Нов[ый] Богослов.
Преосв. Ректор. Вы забываете определение Троицы блаж(енным) Августином…
И. В. Попов. Это только аналогия. И всегда, когда хотят более или менее осмыслить этот догмат, прибегают к аналогии, иллюстрации (напр(имер), еп[ископ] Антоний). Этим говорят только так, а не потому то…
IB. Н.| Маков. В процессе образования догматов дело началось с филологических посылок, и затем известная формула вырабатывалась чисто логическим путем. Какое же тут участие чувства? Известные догматы постигаются?] только умом…
И. В. Попов. Здесь нельзя брать процесс этот в отдельных моментах: вселенские соборы — это только итоги долгих споров и рассуждений. Правда, вопрос о Троице логически–сотериологического характера…
П. А. Флоренский. Я согласен с тем, что чисто логический элемент в догматах вырабатывался логически, — нужны были логические споры. Но что давало толчок этим спорам? У вас, т[аким] о(бразом), petitio ргіпсіріі: психические переживания несомненно были, с которыми и сравнивались в спорах известные положения. Эти переживания и давали толчок к спорам…
(В. Н.| Маков. Какие же эмоции были, напр[имер], на шестом вселенском соборе?
П. А. Флоренский. Сознание Христа как Христа (?) логически не вытекает из формулировки… Далее, люди святые могли создавать неверные формулы, но, чтобы был догмат, должны быть импульсы и толчки качественно определенные.
[В. Н.] Маков. Вы нарисовали пустую схему без всякого содержания.
[Г. X.] Харалампиев. На VI всел[енском] соборе были эмоции…
Секрет [арь] Н. Бабаков
РЕЗЮМЕ ЧЛЕНА РУКОВОДСТВА —?] ПРОФЕССОРА) И. В. ПОПОВА
Мы должны быть благодарны П[авлу) Александровичу] за его реферат: им поднят очень жгучий вопрос…
К достоинству его реферата нужно отнести то, что П[авел] Александрович] представляет в последнем то, что сам глубоко пережил.
Метод его работы сближается с методом современных [неразб.] писателей (напр[имер], Мережковского): берется некоторое основание и строится большая постройка (напр[имер], на некоторых мыслях в соч[мнениях) Достоевского [неразб.] система Мережковского).
Нужно признать такой метод неудачным для исторического богословия и совершенно необходимым для богословствования систематического. Здесь заставляются говорить сами тексты св. Писания. Референт показал [?] дух христианского сынопочитания (?) в противовес слишком распространенному у нас подчеркиванию рабского [?І состояния.
Секретарь С. Троицкий
Впервые опубликовано на болгарском языке под заглавием «Догматизм и догматика. Программна речь, четена от автора в заседаниято на философския кружок при Московската Духовна Академия. Написана въ време на московского възстание. Сергиев Посад». «Христианска мисъль» (София), 1907 г. Ч. 1. Кн. 3. Ноемврий. С. 160—1168; кн. 4. Декемврий. С. 252—257. Речь в философском кружке была произнесена Флоренским 20 января 1906 г. На экземпляре Флоренского, вплетенном в «Опыты 1. 1903—1910», имеются библиографические данные об издании и следующая запись: «Перевод с первоначальной (черновой) рукописи. Сделан Георгием Харалампиевичем Поп–Харалампиевым, канд(идатом) бог[ословия[М. Д. А.».
Георгий Харалампиевич — Поп–Харалампиев, болгарин, волонтер Самоковской духовной семинарии—13–й магистрант 62–го курса МДА (1903—1907). Вероятно, Флоренский был связан дружбой с ним по философскому кружку при МДА. Г. X. Поп–Харалампиев скончался 4 ноября 1908 г. в Сергиевом Посаде. Флоренский посвятил другу проповедь, которую произнес во время заупокойной литургии в Академическом храме б ноября. На русском языке статья впервые опубликована по авторской рукописи в кн.: Историко–философский ежегодник. Минск, 1990. Публикация игумена Андроника, П. В. Флоренского, М. С. Трубачевой. Подготовка текста и примечания А. Иванова.
Согласно проспектам «Собрания сочинений…» 1917—1919 гг., статья включалась в «т. XVII. Статьи и исследования богословские».
Печатается по изданию 1990 г.
Игумен Андроник
СОЛЬ ЗЕМЛИ,
то есть Сказание о жизни Гефсиманского Скита иеромонаха Аввы Исидора, собранное и по порядку изложенное недостойным сыном его духовным Павлом Флоренским
Со старцем Гефсиманского скита Троице–Сергиевой Лавры иеромонахом Исидором Флоренский познакомился в 1904 г. Первую характеристику о. Исидора встречаем в письме Флоренского к матери от 8 ноября 1904 г.: «Ходил навестить своего старца Исидора. Пошел к нему с недоумением, а вернулся легко и радостно, — с силами. Он — совсем простой, из бывших крепостных графа Толстого (не писателя), но понимает многое гораздо лучше ученых богословов, так что мысли, самые дорогие мне, с радостью выслушиваешь от него, — мысли, которые многие не понимают…. Отец Исидор весь белый, ласковый и радостный — будто светится… Меня особенно восхищали его детскости. Например, писал Александру III карандашом большое послание о том, что Церковь Единая и Святая, что нам больно видеть, как нашу Мать делят из за «канцелярщины», из за одной буквы, — это о том, что мы, православные, — кафолики, а сторонники Западной Церкви — католики…» Старец Исидор скончался 4 февраля 1908 г. и во все время учебы Флоренского в МДА наставлял его в жизни.
Значение старца Исидора в жизни Флоренского столь велико, что позднейшие исследователи отмечали: «Сочетание руководств двух старцев, — пишет игумен Андроник, — ученого богослова святителя (епископа Антония) и простеца иеромонаха (аввы Исидора) — дало для творчества П. А. Флоренского тот характерный духовный аромат, по которому легко узнаются строки его книг. В жизненном пути эти два духовника составили для него ту единственную благодатную почву, вне которой он, при исключительных дарованиях, мог не устоять…. С кончиной отца Исидора безвозвратно ушла полоса духовного вскармливания П. А. Флоренского (Игумен Андроник (Трубачев). Павел Флоренский — студент Московской Духовной Академии (рукопись)).
Впервые опубликовано в журнале «Христианин». 1908 (N? 10—11) и 1909 (№ 1,5). Отдельным изданием выпущено в 1909 г. издательством Свято–Троицкой Сергиевой Лавры.
Печатается по изданию 1908 г. Примечания составлены С. Л. Кравцом.
ПРАВОСЛАВИЕ
Работа не принадлежит к программным сочинениям Флоренского. Специальный характер издания — статья готовилась для книги, выходившей в серии «Народный Университет» — определил как выбор тем, так и преобладающую научно–популярную форму их изложения. В статье не рассматриваются сложные догматические и богословские вопросы, упор сделан на анализе исторически сложившегося в России отношения к Церкви, к вере, к молитвам и обрядам — темам трудным, но знакомым читателям. Убежденный в значении богословской тематики для судеб христианства, Флоренский со всей серьезностью относится и к тому непреложному факту, что в России спасаются «не богословием, а поклонением и лобызанием святынь» (наст, изд., с. 648), поэтому анализ феноменологии православного сознания, связанного с бытом и повседневностью, подчеркивание этой бытовой стороны (разрушенной в России сначала реформами Петра Великого, а затем капитализмом и революцией), приобретает особый характер и выходит далеко за рамки данной статьи. По своему содержанию и некоторым подходам статья перекликается со знаменитой работой Розанова «Русская Церковь», впервые опубликованной (без заключительных страниц) в журнале «Полярная Звезда» в 1906 г. Но если Розанова интересует вопрос, как исказилось христианство в историческом христианстве вообще и Русской Церкви в частности, то Флоренского больше занимает проблема выражения в русском православии черт и характера русского народа. Рассматриваемая здесь в основном в позитивном плане, эта тема в неоконченной работе, предположительно датируемой 1923 Г., «Записка
о православии* получает важное дополнение. Говоря об особом переживании Иисуса Христа в русском религиозном сознании (переживании, порой вырождающемся в «фамильярность»), Флоренский обращает внимание на опасность поглощения вселенской церковности «началами этническими, а этих последних — и прямо греховными».
А. Т. Казарян
Впервые опубликовано в кн.: (Ельчанинов А. В.\ История религии. М., 1909. С. 161 —188 — в качестве главы, написанной «в сотрудничестве» с Ельчаниновым. То же. Изд. 2. М., 1910. С. 161 —188.
Согласно проспектам «Собрания сочинений…» 1917—1919 гг., статья могла быть включена в «т. XVII. Статья и исследования богословские».
Печатается по изданию 1909 г. Примечания написаны А. Т. Казаряном.
Игумен Андроник
НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ К СОБРАНИЮ ЧАСТУШЕК КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ НЕРЕХТСКОГО УЕЗДА
Интерес к крестьянской жизни был, вероятно, вызван у Флоренского не только общетеоретическими предпосылками, но и личной дружбой с Сергеем Семеновичем Троицким. Троицкий происходил из села Толпыгина Нерехтского уезда Костромской губернии; к нему часто приезжали земляки–крестьяне, да и сами друзья собирались поехать в Толпыгино. В сентябре 1905 г. Флоренский после Оптиной едет в Толпыгино. Отдых в этом селе оказался очень продуктивным: Флоренский изучал крестьянские предания, пословицы и поговорки, частушки и прибаутки. Итогом этой работы стала книга ♦Собрание частушек Костромской губернии Нерехтского уезда», вышедшая в 1905 г. в Костроме.
Собирая материал для своей книги, Флоренский и Троицкий основали для крестьян народную библиотеку, много беседовали с ними, читали проповеди. Зимой 1905 г., когда занятия в МДА прекратились, Флоренский снова уехал в Толпыгино. Он писал оттуда: ♦В Толпыгине все завалено снегом, так что никуда из дома далеко не уйдешь. Поговоришь с крестьянами, чуть–чуть займешься, и весь день прошел как то незаметно, совсем как в городе. Но, и взлезши в обыденность и растительное существование, я, по необходимой наклонности, все верчу жернова своей мельницы — обдумываю окружающее, и результат получается в том же роде, что когда я сижу за книгой или в лаборатории. Больше всего меня занимает изыскание сокровенных корней религии и Отношение религии к быту, к обыденной, повседневной и еженочной жизни…. Для меня более очевидна та мысль, что религиозные начала проникают собою все существование человека, даже когда он не знает и не подозревает о них. То, что сначала кажется чисто практическим делом, то потом оказывается пронизанным традицией и обрядом; то, что сперва можно было бы принять за утилитарность, то самое скрывает в себе культ и ритуал.
Мне нужно выявить эти религиозные начала жизни и показать связь их с религиозными системами…»
С. Л. Кравец
Впервые опубликовано в кн.: Флоренский Я. А. Собрание частушек Костромской губернии Нерехтского уезда. Изд. Костромской губернской ученой архивной комиссии. Кострома, 1909 (на обл. 1910). С. 3—32. То же. Кострома, 1912.
В личном экземпляре со следующей надписью: ♦Из книг Павла Флоренского. 1910. X. Ручной экземпляр с дополнениями и исправлениями автора» — Флоренский оставил библиографические заметки, использованные им при публикации.
Согласно проспектам «Собрания сочинений…» 19J7—1919 гг., могло быть включено в «т. XVIII. Язык и обычай (материалы и заметки лингвистические и фольклористические)» или в «т. XIII. Статьи и исследования критические, методологические и педагогические».
Печатается по изданию 1909 г. Примечания составлены С. Л. Кравцом.
Игумен Андроник
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА, [ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ К ПЕРЕВОДУ: И. КАНТ. ФИЗИЧЕСКАЯ МОНАДОЛОГИЯ]
б октября 1902 г. состоялось публичное открытие «Студенческого историко–филологического Общества». Общество учредило философскую секцию, в работе которой принимал участие П. А. Флоренский. Секция собиралась заниматься и издательской деятельностью, о чем в тот же день Флоренский писал своей матери: «В университете идет много толков об учреждении общества, о котором я ранее писал тебе. Завтра будет первое торжественное заседание — к сожалению, слишком торжественное: общество раздули чересчур. — Если потом дело не войдет в свою колею и не пойдет без шума, то, думаю, никакого проку из общества не выйдет. — Оно собирается первым номером своей издательской деятельности пустить собрание латинских диссертаций Канта в русском переводе. Я взял одну маленькую — страниц 20 для перевода, а потом, если найду время, переведу еще другую, тоже небольшую» (Архив свящ. Павла Флоренского).
П. А. Флоренский обратился к этой работе Канта, ибо полагал «Физическую монадологию» Канта важным переходным этапом естествознания от материализма к спиритуализму. «Материалистический атомизм» превращается в «чистый динамизм» Босковича, Канта, Фарадея. В частности: «Физическая монадология имеет задачею конструировать материю (и преимущественно эфира) при помощи силы, свести понятие материи к понятию силы» (из неопубликованных лекций П. А. Флоренского «Философия Канта», раздел «Состояние и силы материи»; запись помечена: «1910. X.28. Серігиев] Посіад])·
Хотя П. А. Флоренский выполнил свой перевод, намеченное издание не состоялось. Напечатанный в «Богословском вестнике», этот перевод стал первой публикацией П. А. Флоренского в этом журнале.
Впервые опубликовано под заголовком: «Кант И. Физическая монадология. От переводчика» (Богословский вестник. 1905. Т. 3. N2 9. С. 95—99). К тексту перевода (с. 100—127) с латинского языка диссертации И. Канта «Metaphysicae cum geometria usus in philosophia naturali, cujus specimen I. continet monadologiam physicam», изданной в 1756 г. в Кенигсберге, имеются обширные примечания Флоренского. То же. Отд. огг. Б. м. Тип. Свято–Троицкой Сергиевой Лавры. Б. г. 33 с. Полное заглавие диссертации он переводит так: «Польза для натурфилософии геометрии, связанной с метафизикой. Первая часть ее содержит физическую монадологию, которую с соизволения славнейшего философского факультета в публичной диссертации для получения места 10–го апреля в часы VIII XII в философии будет защищать М. Иммануил Кант. Отвечать будет Лука Давид Фогель, студент теологии из Кенигсберга, а возражать Людовиг Эрнест Боровский, студент теологии из Кенигсберга, Георгий Людовиг Мюленкампф, студент теологии из Тремнина близ Даркемена и Людовиг Иоганн Круземарк, студент теологии из Киритца в Марке. В 1756 году». В дальнейшем П. А. Флоренский называет эту работу просто «Физической монадологией».
Данный перевод остался единственным и с тех пор не переиздавался. Этой работы Канта нет в «Сочинениях в шести томах» (М., 1963—1966). П. А. Флоренский отмечал, что «Физическая монадология» обычно проходит мимо внимания исследователей.
Согласно проспектам «Собрания сочинений…» 1917—1919 гг., предисловие могло быть включено в «т. XIII. Статьи и исследования критические, методологические и педагогические» или в «т. XI. Из истории новой философии».
В настоящем издании публикуется только вступительная статья П. А. Флоренского «От переводчика». Текст публикуется по изданию 1905 г. Примечания написаны С. М. Половинкиным.
Игумен Андроник, С. М. Половинкин
ПРЕДИСЛОВИЕ К СТАТЬЕ А. С. ЕЛЬЧАНИНОВА «МИСТИЦИЗМ М. М. СПЕРАНСКОГО»
Флоренский и мистика — тема, заслуживающая особого внимания. Интерес Флоренского к мистике, к оккультным и спиритическим явлениям общеизвестен и, по–видимому, характерен для всех этапов его жизненного пути. Этот интерес в богословской и философской литературе чаще всего подвергался критике и служил основанием для обвинений его в «спиритическом богословии» (М. М. Тареев). При этом менее всего принимались и учитывались по крайней мере два основных значения мистики у Флоренского, без понимания которых вопрос об отношении Флоренского к мистике лишается какой либо содержательности. Мистической связи человека с Богом Флоренский всегда придавал значение церковное и православное, противопоставляя эту подлинную мистику церковных таинств мистике неподлинной и внецерковной, имеющей лишь только научно–познавательное значение.
Церковно–политические, богословские и мистические взгляды Сперанского привлекли к себе внимание исследователей в связи с публикацией ряда его писем и автобиографических материалов.
Сперанский Михаил Михайлович (1772—1834), государственный деятель, автор знаменитого проекта политических реформ, был сторонником разработанной еще старцем Филофеем (ок. 1465—1542) концепции «Москвы — Третьего Рима».
А. Т. Казарян
Впервые опубликовано: Богословский вестник. 1906. Т. 1. № 1. С. 90—93. В конце текста Флоренский указал время написания: *1905. X. П. Ф.». Согласно проспектам «Собрания сочинений…» 1917—1919 гг., «Предисловие» включалось в «т. XIII. Статьи и исследования критические, методологические и педагогические». Примечания написаны А. Т. Казаряном.
Игумен Андроник
ПЛАЧ БОГОМАТЕРИ
[Вступительная статья к тексту русского перевода «Канона о распятии Господа и на плач Пресвятой Богородицы—творения Симеона Логофета»]
Впервые опубликовано: Христианин. 1907. Т. 2. № 3. С. 601—606. То же. Отд. отт. Сергиев Посад, 1907. С. 3—8; то же в кн.: Плач Богоматери. Сергиев Посад, 1907. С. 3—8.
Согласно проспектам «Собрания сочинений…» 1917—1919 гг., материалы включались в «т. XIII. Статьи и исследования критические, методологические и педагогические». Публикуется по изданию 1907 г. Примечания написаны С. Л. Кравцом.
«ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ» АНДРЕЯ БЕЛОГО. [Критическая] статья
В начале 900–х гт. появляются статьи Андрея Белого («Формы искусства» и др.), а также отрывки из его мистерии «Антихрист», которые пробудили интерес П. А. Флоренского к нему. Теургический символизм Андрея Белого оказался близок Флоренскому, его взгляду на познавательные возможности символа (переписку П. А. Флоренского с Андреем Белым и статью Е. В. Ивановой и Л. А. Ильюниной, раскрывающую суть их отношений, см. в изд.: Контекст. М., 1991. С. 3—61).
Впервые опубликовано: Контекст-1991. М., 1991. С. 62—67. Публикация Е. В. Ивановой и С. 3. Трубачева.
Публикуется по изданию 1991 года. Примечания написаны Е. В. Ивановой.
notes
Примечания
1
Принципиальная ошибка (греч.).
2
Свяц. Павел Флоренский. Детям моим. Воспоминания прошлых лет. Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание. М., 1992. С. 279.
3
Свящ. Павел Флоренский. Там же. С. 92.
4
Флоренский П. А. Автобиография//Наше наследие. 1988. № 1. С. 75.
5
Флоренский П. А. Детям моим… С. 126.
6
Архип свяіц. Павла Флоренского.
7
Флоренский Л. А. Детям моим… С. 145.
8
Флоренский П. Л. Детям моим… С. 211–212.
9
Там же. С. 215.
10
Цит. по: Андроник, иеродиакон. Епископ Антоний (Флоренсов) духовник священника Павла Флоренского//Журнал Московской Патриархии. 1981. № 10.
11
Свящ. Павел Флоренский. Собрание сочинений. Т. I. Статьи по искусству. Париж, 1985. С. 63–64.
12
См.: Флоренский П. А. Собрание частушек Костромской губернии Нерехтского уезда. Кострома, 1909.
13
Флоренский П. А. Приветственная речь на юбилейном чествовании А. И. Введенского 22 января 1912 г.//Богословский вестник. 1912. № 2.
14
Флорецский Я. А. Вступительное слово пред защитою на степень магистра книги «О духовной Истине» (М., 1912), сказанное 19 мая 1914 г. Сергиев Посад, 1914. С. 15.
15
Цит. по: Андроиик, игумен. Священник Павел Флоренскийпрофессор Московской Духовной Академии//Московская Духовная Академия. 300 лет (1685–1985). Богословские труды: Юбилейный сборник. М., 1986. С. 241.
16
Флоренский П. А. Столп и утверждение Истины. М., 1914. С. 3.
17
Там же. С. 5.
18
Флоренский Я А. Вступительное слово пред защитою на степень магистра… С. 9.
19
Феодор, епископ (Поздеевский). «О духовной Истине. Опыт православной Феодицеи» («Столп и утверждение Истины*) свящ. П. Флоренского. [Рецензия]. Сергиев Посад, 1914. С. 43–44.
20
Флоренский Я. А. Вступительное слово пред защитою на степень магистра… С. 15.
21
См.: Андроник, игумен. Священник Павел Флоренский — профессор Московской Духовной Академии//Московская Духовная Академия. 300 лет (1685–1985). Богословские труды: Юбилейный сборник. С 2^235
22
Лосев Л. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. С. 680.
23
Волков С. Л. Московская Духовная Академия в 1917–1920 годах. Воспоминания бывшего студента Академии. Загорск: МДА, 1965. (На дравах рукописи.)
24
Объявление о подписке на «Богословский вестник» в 1913 г.// Богословский вестник. 1912. Т. 3. № 10. С. 1–2.
25
Письмо полностью опубликовано. См.: Богословские труды. Сб. М., 1987. С. 296–297.
26
Архив свяіц. Павла Флоренского.
27
Там же.
28
Там же.
29
Цит. по: Андроник, игумен. Священник Павел Флоренский профессор Московской Духовной Академии и редактор «Богословского вестника»//Богословские труды. Сб. 28. М., 1987. С. 293.
30
Булгаков Сергий, протоиерей. Священник о. Павел Флоренский //Свящ Павел Флоренский. Собр. соч. Т. I. Статьи по искусству. Париж, 1985. С. 11.
31
Там же. С. 8.
32
Там же. С. 11–12.
33
Цит. по: Андроник, игумен. Священник Павел Флоренский профессор Московской Духовной Академии и редактор «Богословского вестника»//Богословские труды. Сб. 28. М., 1987. С. 304.
34
Булгаков Сергии, протоиерей. Священник о. Павел Флоренский//Свящь Павел Флоренский. Собр. соч. Τ. I. Статьи по искусству. 13–14.
35
Флоренский Я. Л. Автобиография//Наше наследие. 1988. № 1». С. 78»
36
Там же. С. 76–77.
37
Булгаков Сергий, протоиерей. Священник о. Павел Флоренский/ /Свящ. Павел Флоренский. Собр. соч. Т. I. Статьи по искусству. С. 15–16.
38
Архив свящ. Павла Флоренского.
39
См.: Флоренский П. Л. [Автореферат]//Наст, том С. 39.
40
Булгаков Сергий, протоиерей. Священник о. Павел Флоренский// СвяMf Павел Флоренский. Собр. соч. Т. I. Статьи по искусству. С. 10.
41
Архив свящ. Павла Флоренского.
42
Там же.
43
Т. е. просить об освобождении.
44
Архив свящ. Павла Флоренского.
45
Там же.
46
Там же.
47
Там же.
48
3 ноября 1958 года Невский загс г. Ленинграда сообщил ложную дату смерти П. Λ. Флоренского (15 декабря 1943 года), которая вошла в большинство справочников и энциклопедий. Не были указаны причины и место смерти П. Λ. Флоренского. Новые данные приводятся в свидетельстве о смерти, выданном 24 ноября 1989 года Калининским загсом г. Москвы по запросу семьи в Управление КГБ СССР.
49
Архив свяіц. Павла Флоренского.
50
Эктропия — здесь: изменение в сторону упорядочения, большей организованности, сложности, т. е. в сторону, противоположную энтропии, ведущей к хаотизации и деградации. — 30.
51
Каббала (др. — евр. — предание) — мистическое течение в иудаизме; последователи иудаизма считают, что в ней слова, буквы и числа насыщены божественными энергиями. — 39.
52
Манихейство — религиозное учение, основанное в III в. Мани. В его основе лежат представления о борьбе добра и зла, света и тьмы как изначальных и равноправных принципов бытия. Осуждено христианством. Гностицизм — религиозное движение поздней античности, оказавшее влияние на средневековые ереси и мистику Нового времени. Бо- гумильство — религиозное движение в Болгарии, начавшееся в X в. и осужденное как ересь, близкая к манихейству; в XIII в. приобретает широкое распространение в Европе. — 30.
53
Термин, введенный Н. В. Бугаевым и обозначающий миросозерцание, в основе которого лежит идея прерывности. Этой теме П. А. Флоренский посвятил работу «Об одной предпосылке мировоззрения» (см. наст, том, с. 70—78). —41.
54
Этому вопросу посвящена книга: Флоренский П. А. Мнимости в геометрии. М., 1922. — 41.
55
Раздел математики, изучающий свойства фигур, не изменяющихся при любых взаимооднозначных и непрерывных (без разрывов и склеиваний) преобразованиях пространства. —41.
56
Этот курс лекций П. А. Флоренский читал в 1921 —1924 гг. См.: Флоренский Я. А. Анализ пространственности и времени в художественно–изобразительных произведениях. М., 1993. —41.
57
Демоиолатрия — поклонение демонам. — 44.
58
Meyers [Conversations — Lexikon. Еіие Encyklopadie des allgerneinen Wissens. 4. Aufl. Leipzig, 1885—1892. Bd 1. S. 33. — 45.
59
Переписка Бенедикта де–Спинозы», пер. Гуревич. Письма XV-LX, pp. 333–359.
60
«Переписка Бенедикта де Спинозы» в переводе Гуревича. Спб., 1891. С. 346. — 45.
61
Там же. С. 353. — 46.
62
Llttrt Е. Dlctionnaire de la langue Frai^aise. 5 ed. Paris, Librairie Hacbette, 1881. P. 1148. — 4b.
63
Леман. «История суеверий», стр. 12–16.
64
Приводим полное название книги Лемана: «Иллюстрированная история суеверий и волшебства. О древности до наших дней». Авторизованный пер. Петерсена. М., 1901. — 47.
65
Предшествующее (лат.). — 48.
66
Вл. Солопьев. Статья «Немезида», стр. 205 (в сборнике «Три разговора»).
67
В первом предложении вместо слова «путь» у Вл. С. Соловьёва «мост», затем после слова «безднами» следует: «мост к истинному и могучему добру между бездною мертвого и мертвящего «непротивления злу»…». Ссылка на стихотворение А. С. Пушкина принадлежит П. А. Флоренскому. — 51.
68
Разработке основных принципов религиозного мировоззрения П. А. Флоренский посвятил специальную работу «Эмпирея и Эмпирия», первый вариант которой был написан в 1904 г. —52.
69
Местонахождение этой цитаты из Гёте не установлено. — 52.
70
Иоганн Кеплер (1571—1630) — выдающийся немецкий астроном, физик и математик. Ян Сваммердам (1637—1685) — голландский естествоиспытатель. В публикации журнала «Новый путь» в данном предложении вместо «Сваммердам» напечатано «Сведенборг» (Эмануэль Сведенборг, 1688—1772, шведский теософ). В личном экземпляре П. А. Флоренского ошибка исправлена: зачеркнуто «Сведенборг» и вписано «Сваммердам». — 53.
71
«Разговоры Гсте, записанные Эккерманом». Пер. Аверкиева.
72
В передаче Эккермана этот разговор с Гёте состоялся в среду 23 февраля 1831 г. (см. в новом переводе Н. Ман: Эккерман Иоганн Петер. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М., 1986. С. 399). —53.
73
Стихотворение М. Ю. Лермонтова, написанное в 1837 г.; П. А. Флоренский приводит первую строфу первого четверостишия и заключительное четверостишие. — 53.
74
Учение о Логосе, t. I, р. 241.
75
С. Максимов. «Нечистая сила», стр. 10–11.
76
Паскаль. «Мысли». Гл. XXII, VI.
77
Паскаль Б. Мысли (О религии)/Пер. П. Д. Первова. Изд. 2. М., 1889. С. 214. — 55.
78
2 Фессалон. 2, 9–10.
79
2 Фессалон. 2, 4.
80
Проблема воскресения — одна из основных религиозно–философских проблем всего творчества Вл. Соловьёва. Разработкой этой проблемы завершается одна из его ранних книг — «Чтения о Богочело- вечестве» (1811). В первом из «Семи пасхальных писем» Соловьёв писал: ♦Но то, что представляется как чудо, понимается нами как совершенно естественное необходимое и разумное событие. Истина Христова Воскресения есть истина всецелая, полная — не только истина веры, но также и истина разума» (Соловьев В. С. Собр. соч. 2 изд. СПб., 1911 —1914. Т. 10. С. 37). «Царство Божие, — писал в 1900 г. Соловьёв в своей последней книге, — есть царство торжествующей чрез воскресение жизни — в ней же действительное, осуществляемое, окончательное доб|ю» (Там же. Т. 10. С. 194). — 56.
81
Гофман. «Житейская философия Кота–Мура».
82
Эпизод из второго раздела романа Гофмана (см. в новом переводе А. Голембы: Гофмтан Э. Т. А. Крейслермана. Житейские воззрения Кота Мурра. Дневники. М., 1972. С. 228—229). —57.
83
всеми правдами и неправдами (лат.). — 57.
84
«Иллюстрирован, ист. Суеверий и Волшебства», д–ра Лемана, стр. 404–413 русск. издания, 1891 г.
85
Андерсен, «Норвежские сказки». Цитирую на память.
86
См. также у Л. Аксакова «Лнимизм и спиритизм», 2–е изд., стр. 530–539.
87
Роберт Дель Оуэн является автором книги «Спорная область между двумя мирами. Наблюдения и изыскания в области медиумических явлений», изданной в 1860 г. в Филадельфии (русск. пер. СПб., 18S6). —59.
88
Lc Sabbat dcs Sorcicrs par Bourncvillc с Tcinturier, p. 31. «Dissertation sur lcs Apparitions dcs csprits ct sur lcs Vampires ou lcs Rcvcnans de llongrie, dc Moravic etc. Par C. R. P. Dom Augustin Calmct, Abb0 dcs Scnoncs. Chap. HI. t. I.
89
Чтобы погубить людей дурной смертью, колдуны эксгумировали трупы, в особенности трупы подвергнувшихся пытке и повешенных. Субстанцию и материю для своего колдовства они извлекали из этих трупов, а также из орудий пыток — колов, кандалов и т. д., которые, считалось, давали некую силу и магическую способность заклинанию (франц.). — СО.
90
Огюст Кальме (1672—1757)—аббат Бенедиктинского ордена, духовный писатель, автор ряда сочинений: «О явлениях духов» (русск. пер. М., 1866), «Библейский словарь» (в четырех частях), комментариев к книгам Ветхого и Нового Завета. — 61.
91
Цитирую этот рассказ, равно как и следующее, по отвратительному русскому переводу книги Calmet» так как подлинника нет под руками. См. t. Ill, р. 25; для дальнейшего см. t. Ill, р. 28, 35.
92
Торквато Тассо (1544—1595) — итальянский поэт, автор исторических и религиозных поэм, сонетов, канцон, мадригалов, философских и эстетических сочинений. Первая редакция поэмы «Освобожденный Иерусалим» была подвергнута суду инквизиции и переработана автором в ортодоксально католическом духе. — 65.
93
Заимствую из примечаний к переводу «Освобожденного Иерусалима» Мина. (Над. Суворина, т. II, стр. 223.)
94
Гофман. «Серапионовы братья».
95
Гофман. Элексир сатаны
96
См. в новом переводе Н. А. Славятинского: Гофман Э. Т. А. Эликсиры сатаны. Л., 1984. С. 8. — 67
97
Вильям Крукс (1832—1919)—английский химик, автор ряда научных открытий, исследователь спиритизма. Александр Николаевич Аксаков (1832—1903) является автором многочисленных сочинений, посвященных спиритизму и таинственным явлениям психической жизни; издатель журнала «Psychische Studien» в Лейпциге. Основные работы на эту тему: Спиритизм и наука. СПб., 1871; Анимизм и спиритизм. ІІзд. 2. СПб., 1893. Иоганн Карл Фридрих Целльнср (1834—1882), немецкий физик и астроном, один из основателей астрофотометрии, был сторонником спиритизма. — 67.
98
В статье «Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей, если только это черти», опубликованной в январской книге «Дневника писателя» за 1876 г., Ф. М. Достоевский писал, что он «выдумал одну самую ясную и удивительную теорию спиритизма, но основанную единственно на существовании чертей…» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в тридцати томах. Л., 1972—1990. Т. 22. С. 33). Об отношении Ф. М. Достоевского к спиритизму и о его знакомстве как со спиритической литературой, так и с исследователями и сторонниками спиритизма — А. Н. Аксаковым и Н. П. Вагнером — достаточно подробно говорится в комментариях В. Д. Рака к упомянутому тому. В заключение своей статьи, полушутливой по форме, но вполне серьезной по содержанию, Достоевский призывает к беспристрастному и «свободному исследованию таинственных явлений, связанных со спиритизмом» (Там же. Т. 22. С. 37). — 67.
99
Вл. Соловьев. «Три разговора».
100
Соловьев В. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории с включением повести об антихристе и с приложениями. Изд. 3. СПб., 1901. С. 194 — 69.
101
Жорж Роденбах (1855—1898)—бельгийский писатель. — 70.
102
Жорис Борлют — герой романа Ж. Роденбаха «Выше жизни», перевод которого неоднократно публиковался в России. Приведенную цитату см., напр., в кн.: Родснбах Ж. Полн. собр. соч. Т. 1. М.: Изд. М. Саблина, 1909. С. 49—50. — 70.
103
Ам 8, II. — 70.
104
Позднее, в двадцатые годы, Флоренский оценивал будущую судьбу науки более пессимистично. См.: Итоги//Эстетические ценности в системе культуры. М., 1986. — 71.
105
См.: Ломоносов А/. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1950. Т. 1. 424. — 71.
106
Рукопись найти не удалось. — 72.
107
Нельзя перейти от одной крайности к другой, минуя промежуточное (лат.). — 72.
108
Лейбниц сам подчеркивал, что его взгляды на идею непрерывности сформировались под сильным влиянием его математических исследований. Помимо математики он пытался применить идеи непрерывности и бесконечно малых элементов в психологии, создав обширное учение о бессознательном (см. подробнее: ИМИ–ЗО. С. 169). — 72.
109
Жорж Луи Леклерк БкхМюн (1707—1788), французский естествоиспытатель, является автором многотомной «Естественной истории». — 73.
110
Перье Э. Основные идеи зоологии в их историческом развитии с древнейших времен до Дарвина. СПб., 1896. С. 76. — 73.
111
Цит. по: Перье Э. Указ. соч. С. 77. — 73.
112
Закона непрерывности (лат.). — 73.
113
Теория флюксий представляет собой математический анализ, в той форме, в которой он был открыт И. Ньютоном (см., напр.: История математики с древнейших времен до начала XIX столетия/Под ред. А. П. Юшкевича. Т. 2. М., 1970). — 73.
114
Чарльз Ляйслль (Лайель) (1797—1875) — английский естествоиспытатель, автор «Основ геологии» (1830—1833). — 74.
115
Георг Кантор (1845—1918), немецкий математик, является создателем теории множеств. Его основные работы в русском переводе с превосходными комментариями Ф. А. Медведева см.: Кантор Г. Труды по теории множеств. М., 1985. По поводу встречающихся в этой и следующей статье понятий и результатов теории множеств см., напр.: Александров П. С. Введение в общую теорию множеств и функций. М., 1948. — 74.
116
См.: Кантор Г. Труды… С. 91. Используемый здесь термин «группа точек» синонимичен термину «множество» и ныне вышел из употребления (не путать с понятием группы в алгебре!). — 74.
117
Закон непрерывности (лат.). — 73.
118
Артур Шёнфлис (1853—1923) — немецкий математик, специалист по теоретико–множественной топологии и геометрии. См.: Schoenflies А. Die Entwicklung der Lehre von Punktmaiinigfaltigkeiten. Leipzig, 1900. Bd S. 113. — 75.
119
Мощность, трансфинитная мощность — понятия теории множеств (см. о них литературу в прим. 15). — 75.
120
Французскому математику Эмилю Борелю (1871 — 1956) принадлежат работы по топологии, теории функций действительного переменного и теории вероятностей. — 75.
121
Имеются в вицу кривые Пеано и близкие к ним. Плоский лоскут — выражение, употреблявшееся Н. В. Бугаевым, одним из учителей П. А. Флоренского по Московскому университету (см. ниже прим. 27). По поводу изложенного здесь анализа теории особых точек кривых см.: ИМИ-30. С. 174—176. — 76.
122
Рихард Дедекинд (1831 —1916) — немецкий математик, основные работы по анализу и теории чисел. — 76.
123
См.: Дедекинд Р. Непрерывность и иррациональные числа. § 3. Одесса, 1894. С. 15. — 77.
124
Имеется в виду обстоятельное изложение теории множеств Кантора, данное Б. Керри (Kerry В. ОЬег G. Cantor's Mannig- faltigkeitsuntersuchungen//Vierteljahrschrift fur wissenschaftliche Philosophic. 1885. Bd 9. S. 191—>232). — 77..
125
Теперь говорят «η–мерный» вместо «п–размерный», «счетная» вместо «счетовая» и «всюду плотный» вместо «пантахическиіі». — 77.
126
Группа (или совокупность) точек, заключенная внутри данной области, называется ігсюд у–п лотной, пангахической, когда она обладает· тем свойством, что если мы выделим какую угодно область, заключенную в данной, то в нее непременно попадут точки нашей группы. Надо заметить, что вовсе не всякая всюду–плотная группа непрерывна, как это могло бы показаться на первый взгляд. — Группа точек называется с ч е т о в о й, когда есть возможность каким бы то ни было образом установить однозначно–взаимное соответствие между точками группы и числами натурального ряда 1, 2, 3…
127
См.: Кантор Г'. Труды… С. 56. — 78.
128
Николай Васильевич Бугаев (1837—1903) — русский математик, один из учителей П. А. Флоренского; основные работы по теории чисел и математическому анализу. О его оригинальных взглядах на разрывность и его учении о разрывных функциях (аритмологии), оказавших большое влияние на П. А. Флоренского, см.: ИМИ-29, 1985. С. 113—124. — 78.
129
Гуго де Фриз (1848—1935), голландский биолог, ввел в генетику представление о мутациях. — 78.
130
Сергей Иванович Коржинский (1861 — 1900), ботанико–географ, систематик и биолог, в работе «Гетерогенезис и эволюция. К теории происхождения видов* (СПб., 1899) изложил идеи, сходные с теорией мутаций де Фриза. — 78.
131
Густав Тамман (1861 — 1938), немецкий физикохимик; основные работы относятся к неорганической и физической химии; разработал (1897—1902) теорию кристаллизации. — 78.
132
СуОлиминальный — подпороговый. — 78.
133
Карл Дю–Лрель — немецкий психолог конца XIX в.; о его работах см.: Ибервег Ф„ Гейнцс М. История новой философии. СПб., 1890. С. 433. Фредерик Уильям Генри Майерс (1843—1901)—английский психолог, поэт и эссеист. Де Роша, Барадюк — никакой информации об этих двух ученых найти не удалось. — 78.
134
Георг Кантор — см. прим. 15 к с. 74. — 79.
135
=======================
136
Русская пословица. — 79.
137
боязнь бесконечности (лат.). — 79.
138
величина (лат.). — 80.
139
мыслимое сущее (лат.). — во.
140
Альберт Штёкль (1823—1895), немецкий историк философии, создал фундаментальную «Историю философии средних веков» (1864— 1866). — 80.
141
апнейрон, беспредельное (греч.); сам Кантор трактовал это слово как неопределенную, незаконченную, потенциальную бесконечность. — 80.
142
Синкатегорематическое (потенциально бесконечное) — термин схоластики. — 80.
143
бесконечное (лат.); Кантор понимает этот термин как потенциальное бесконечное (см.: Кантор Г. Труды… С. 265). — 80.
144
Подобные мысли встречаются в русской философской традиции не только у Флоренского, см., напр.: Трубецкой Е. II. Смысл жизни. Берлин, 1922. С. 32—37. — 80.
145
Хрисанф. «Религии древнего мира [в их отношении к христианству»]» т. I, (СПб.,] 1873, стр. 417–418.
146
Бернард Фонтенель (1657—1757)—французский философ, ученый и писатель, популяризатор науки. —81.
147
Противоречие в терминах (лат.). — 81.
148
Бесконечное число противоречиво (лат.). — 81.
149
Сальваторе Тонджорджи — итальянский католический философ XIX в. — 81.
150
Актуальная бесконечная величина противоречива (лат.). — 81.
151
Антиномия — противоречие между двумя суждениями, из которых каждое имеет законную силу. Специальное учение об антиномиях развито Кантом в «Критике чистого разума». Флоренский говорит о первых, так называемых математических, антиномиях Канта: 1) мир имеет начало во времени и пространстве; мир во времени и пространстве безграничен; 2) все в мире состоит из простого; нет ничего простого, все сложно. — 81.
152
П. Таннери. «Первые шаги древне–греческой науки», [СПб., 1902,) стр. 99 и след.
153
Процесс дихотомии (или диарезиса) весьма часто встречается в античной философии и, в частности, в диалогах Платона. См. его современное истолкование в кн.: Weyl II. Philosophy of Mathematics and Natural Science. Princeton, 1949. P. 52—54, а также: Вейль Г. Математическое мышление. М., 1990. С. 8, 360. —82.
154
Id., стр. 127.
155
В действительности (лат.). — 82.
156
В возможности (лат.). — 82.
157
Joseph von Schcllings sammtliche Wcrke, Erste Abth.
158
См.: Шеллинг Ф. В. И. Соч. в двух томах. М., 1987. Т. I. С. 490—589. — 83.
159
См. II. Poincard. «La Science ct l’Hypothdsc», pp. 20 etc.
160
См.: Пуанкаре Л. О науке. М., 1983. С. 17 и др. — 83.
161
Дионисий Лреопагит — афинянин, обращенный в христианство апостолом Павлом (Деян 17, 34). Традиция приписывает ему ряд сочинений, игравших важную роль в развитии идей христианского неоплатонизма. В научной литературе, однако, принято датировать эти сочинения V в., а их автора нередко именуют Псевдо–Дионисием. — 83,
162
Дионисий Ареопагит: «О небесной иерархии», гл. XIV (стр. 52 русск. пер. 1909 г.). Сочинение это относится, вероятно, к концу IV в. или к началу V в.
163
Кантор трактует этот термин как определенную, завершенную, актуальную бесконечность. — 83.
164
Категорематическое — актуально бесконечное (схоластический термин). — 83.
165
«Путешествие в Италию».
166
См.: Гёте И. П. Собр. соч. 2 изд. Т. 6. СПб., 1893. С. 37. — 83.
167
Const. Gutbcrlet. «Das Problem der Uncndllchcn». Zcitschrift fiir Philosophic und philosophische Krilik. Bd 88, 1886, p. 215.
168
Константин Гутбсрлст (1837—1928), немецкий теолог и философ, представитель томизма, был знаком с Кантором и оказал влияние на его интерес к теологии, в частности к Фоме Аквинскому. — 84.
169
Id., р. 196.
170
«Конечно, серьезная непоследовательность проявилась в том, что в Новое время все естественнонаучные и, очевидно, устаревшие взгляды Св. Фомы Аквинского старались использовать с педантичной тщательностью, в то время как отступились от него в таком важном спекулятивном вопросе, как вечность мира… Непоследовательность наблюдается также и в том, что в Познании [самого] Бога допускается актуальное бесконечное множество возможных вещей, сама возможность которого отрицается. Выходят здесь из положения тем, что говорят: не нужно переносить способ Божественного Познания на человеческое — совершенно верно, но не в этом дело: если актуальное бесконечное множество противоречиво в себе, то оно не может быть и в Уме Бога ничем иным, как абсурдом, чем то вроде четы реху голь нот круга» (нем.). — 85.
171
См.: Кантор Г. Труды… С. 264—268, 292. Заметим, что соответствующее математическое понятие не существует. — 85.
172
в Боге или творящем начале (лат.). — 85.
173
Весь этот кусок статьи П. А. Флоренского есть пересказ работы Г. Кантора «О различных точках зрения на актуально бесконечное» (Кантор Г. Труды… С. 262—268). — 86.
174
в конкретном (лат.). — 86.
175
в сотворенной природе (лат.). Кантор (Труды… С. 287) указывает, что он употребляет термины «natura naturaus» и «natura naturata» в том же значении, что и томисты, так что первый означает Бога как Творца созданных Им из ничего субстанций, стоящего вне их и сохраняющего их, второй же — сотворенный Им мир. — 86.
176
абстрактным образом (лат.). — 86.
177
в Боге (лат.). —87.
178
Эту классификацию всех мыслимых систем по их отношению к понятию бесконечности можно иллюстрировать различными схемами, среди которых наиболее удобной мне представляется такая:
Возьмем вписанный в окружность правильный шестиугольник со всеми его диагоналями. Пусть три диагонали, проходящие через центр, схематически обозначают те три направления в бытии, в которых бесконечность может быть утверждаема или отри- ь цаема. Диаметрально противоположные концы этих диагоналей пусть обозначают утверждение (+) бесконечности данном отношении (Dcus, Spiritus, Natura) или ее отрицание (-). Тогда всякий треугольник, вершинами которого служат какие-нибудь три вершины шестиугольника, обозначенные буквами D, Ѕ, N с тем или другим знаком, схематически представит некоторую систему мировоззрения. Число всех систем равно числу треугольников; но часть последних уже a priori, до всякого исследования соответствующих систем может быть исключена. В самом деле, треугольники, имеющие стороною диаметр, изобразят системы, одновременно утверждающие и отрицающие бесконечность в одном и том же отношении.
179
Бог, Дух, Природа (лат.). —87.
180
Ориген (ок. 185 — ок. 254) — греческий богослов и философ, представитель доникейской патристики. — 87.
181
Кантор Г. Труды… С. 290. —87.
182
Августин Аврелий (354—430) — христианский богослов и мыслитель, один из отцов церкви. — 87.
183
конечный (лат.). — 88.
184
цель, предел, завершенность (греч.). — 88.
185
о пределах добра, о пределах совершенства (лат.). — 88.
186
Приводимые слова принадлежат не самому Оригену, а представляют собой изложение его идей, содержащееся в «Теологической сумме» Фомы Аквинского (Thomas Aquinas. Opera omnia. Editio nova. Parisiis: Yives, 1895. V. 1. P. 48). Приводим русский перевод по: Кантор Г. Труды… С. 416. «Всякое существующее в природе множество сотворено; всякая же сотворенная вещь понимается как одно из проявлений какого то намерения Творца, ибо Создатель ничего не делает бесцельно. Следовательно, необходимо, чтобы б; якая созданная вещь понималась как число. Поэтому существование актуального множества невозможно даже по «совпадению»». — 88.
187
предвосхищение основания (лат.); логическая ошибка, заключающаяся в том, что в доказательстве в неявном виде используется доказуемое предложение. — 88.
188
Ср.: Кантор Г. Труды… С. 291. — 88.
189
созданная природа (лат.). —88.
190
См.: Кантор Г. Труды… С. 292. — 88.
191
Речь идет о «бесконечных числах» Фонтенеля, приведенных в его книге «Infini geometrique» (Paris, 1727). См.: Кантор Г. Труды… С. 408. — 80.
192
См.: кн. С. Н. Трубецкой. «Метафизика в Древней Греции», [М., 1890], стр. 190 и след.
193
Малые восприятия (лат.). Это понятие было введено в психологию Лейбницем, создавшим на его основе учение о бессознательном. Лейбниц рассматривал малые, или смутные, восприятия как психологический аналог бесконечно малых из анализа (см.: ИМИ-30. С. 169. Прим. 3). — 90.
194
См.: Гоголь Я. В. Собр. соч. Т. 5. М., 1978. С. 32. — 90.
195
Ликтор Викторович Бобынин (1849—1919)—русский историк математики. Здесь и далее имеются в виду его «Лекции истории математики. Донаучный период»//Физико–математические науки в их настоящем и прошедшем. Т. 9— 10. М., 1890—1893. — 90.
196
В ряде языков такие формы существуют. См.: Гумбольдт В. О двойственном числе//Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 395 и Cassirer Е. The Philosophy of Symbolic Forms. V. I. Language. New Haven, 1980. Ch. 3. § 3. P. 237, 246. — 91.
197
Быт 22, 17. — 91.
198
См.: Бобынин В. В. Лекции истории математики. С. 25 (см. прим. 51). Современные взгляды на происхождение счета и чисел см.: Башмакова И. ГЮткевич А. П. Происхождение систем счисле- ния//Энциклопедия элементарной математики. Т. 1. М.; Л., 1951. С. 11—74; Menninger К. Zahlwort und Ziffer. Bd 1—2. Gottingen, 1957—1958. Философский анализ см.: Cassirer Е. Цит. соч. и Вейль Г О символизме в математике и математической логикt//Вейль Г. Математическое мышление. М., 1890. С. 55—69. — 91.
199
См. у Бобынина («‹І›из. — мат. науки», тт. IX, X; «Исследования по истории математики»).
200
Здесь опечатка, следует: Физико–математические науки в их настоящем и прошедшем. Т. 2. Отдел научных статей. № 3. 1887. С. 205. — 92.
201
Альсид ДОрбипьи (1802—1857)—французский путешественник и палеонтолог, исследователь Южной Америки. — 92.
202
Чикитосы умеют считать только до единицы (тома), имея для дальнейшего только отношения сравнения (франц.) {D'Orbigny А. L’homme americain. V. 2. Paris, 1839. P. 163). — 92.
203
Карл Фридрих Марциус (1798—1868) и Иоганн Баптист Спике — немецкие путешественники. См.: Martius К. Г., Spix J. В. Reise ill Brasitien. Munchen, 1823. Bd 1. S. 387. —92.
204
Генрих Лихтенштейн (1780—1857) —немецкий путешественник и зоолог. См.: Lichtenstein 11. Reisen in sudlichen Africa in den Jahren 1803, 1804, 1805 und 1806. Bd 2. 1812. S. 610. — 92.
205
Эдуар Тэйлор (1832—1917) —английский этнограф, автор «Первобытной культуры» (1871), глава «Искусство счисления» которой посвящена числам и счету. — 92.
206
что и требовалось доказать (лат.). — 93.
207
Вероятно, описка: вместо Фенелон следует читать Фонтенель. Франсуа Муаньо (1804—1884) —французский математик и теолог, последователь О. Коши. Упоминаемое доказательство содержится в его работе «Impossibility du nombre actuellement infini; la science dans ses rapports avec la foi». Paris: Gauthier Villars, 1884. См.: Муаньо Ф. О невозможности в действительности бесконечно большого числа. Древность человеческого рода. Наука в соотношении с верой//Коши О. Л. Семь лекций общей физики… СПб., 1872. С. 59—82. Гиацинт Зигмунд Гердиль (правильнее — Жердиль) (1718—1802)—философ, теолог. Речь идет о его работах: Gerdil С. S. Essai d’une demonstration mathematique contre I’existence cternelle de la matiere et du mouvement infini…//Opere edite et inedite. Rome, 1806. V. 4. P. 261; M<5moire de Pinfini absolu consid<5r£ dans la grandeur//ibid., 1807. V. 5. P. 1. — 93.
208
Степан Петрович Крашенинников (1711 —1755) — русский путешественник, исследователь Камчатки, автор известного труда «Описание земли Камчатки» (1756; современное издание: М.; Л., 1949). — 93.
209
Бобынин В. В. Лекции истории математики. С. 34 (см. прим. 51). — 93.
210
В. В. Бобынин. «Очерки истории развития физико–математических знаний η России». «Очерк третий» (Физико–математичес. науки в их наст, и прошл. Т. I. [Отд. I.] № 3. 1885, р. 227–229).
211
Древнеиндийским сборник законов и предписаний, следующих догматам брахманизма. См.: Законы Ману. М., 1960. — 95.
212
Здесь и гораздо подробнее ниже, в конце статьи, П. А. Флоренский касается вопроса о связи национального характера и типа мышления. Вопрос этот интересовал многих в XIX и в начале XX в., среди прочих в Германии — Ф. Клейна (см. его «Лекции о развитии математики в XIX столетии». М., 1889), О. Шпенглера и др.; в России — В. С. Соловьёва, Н. Я. Данилевского. — 95.
213
Хрисан ф. «Религии древнего мира» Т. I, стр. 415.
214
Имеется в виду «Псаммит» (от греч. yxx/iftos — песок) Архимеда. См.: Архимед. Соч. М., 1962. С. 358—367, 598—603. — 96.
215
Источник установить не удалось. — 96.
216
Тут сразу вспоминаются тысячерукие боги индуизма. — 96.
217
См. прим. П. А. Флоренского на с. 93 наст. тома. — 96.
218
См. прим. 16 к с. 74. — 96.
219
Учение о множествах, учение о многообразиях (нем.). — 96.
220
Мы не приводим в настоящей статье литературных указаний, т. к. это заняло бы слишком много места. Значительную часть литературы можно найти в Encyclopadie der Math. Wissenschaften (статья ЅсһӧпПісѕѕ'а: Mengenlchre). издаваемой Бургардтом, и в Bibliotheca Math., кажется, за 1897 г.
221
Schoenflies А. Mengenlehre//Encykiopadie der mathematischen Wissenschaften mit Einschluss ihrer Anwendungen. Bd 1. Th. 1. Leipzig, 1898—1904. Vivanti G. Lista bibliografica della teoiia degli aggregati 1893—1899//Biblioteca mathematica. Ser. 3. 1900. Bd 1. S. 160—165. —97.
222
множество, многообразие (нем.), множество (франц.). — 97.
223
Блез Паскаль (1623—1662)—французский математик, философ и писатель. См.: Pascal В. De I’esprit gometrique et de Tart de persuader//CEuvres completes. Paris: Galllmard, 1954. P. 196. — 97.
224
Beitrage zur Begriindung der tranafjnitcn Mengenlchre von G. Cantor, Math. Annalen, Bd. 46, 1895, p.481.
225
См.: Кантор Г. Труды… С. 173—245. — 97.
226
Теперь говорят «подмножество» в точном соответствии с немецким оригиналом. — 98.
227
сущность (нем.). — 98.
228
Простое перечисление (лат.). — 98.
229
Acta Mathematica, 1883; 2; 4 о. 361. G. Cantor. Sur les ensembles infinis ct lindaircs de points. III.
230
См.: Кантор Г. Труды… С. 40—140, где содержится русский перевод первоначального немецкого варианта (Math. Апиаіеп, 1879—1883) этой работы. — 99.
231
См. прим. 20 к с. 75. — 99.
232
E. Borcl. Lcqons sur la theorie des fonctions, [Paris: Gauthier — Villars, 1898], p. 2.
233
это рассуждение… мы находим весьма интересным, но в то же время довольно трудным для понимания (франц.). — 99.
234
Теперь говорят «упорядоченность». — 100.
235
раньше и потом по порядку (греч.). — 100.
236
упорядоченный (нем.). — 101.
237
Такие множества называются n–кратно упорядоченными. См.: Кантор Г. Труды… С. 256—258. — 101.
238
Это не совсем верно. Цветность точки сама определяется тремя упорядоченными признаками. Этот и другие приводимые здесь примеры заимствованы у Кантора (см.: Кантор Г. Труды… С. 306—308). — 101.
239
Жюль Таннери (1848—1910), французский математик, основные работы которого относятся к теории функций, был одним из первых пропагандистов теоретико–множественного направления. — 102.
240
J. Tannery. Dc ГіпГіпіс mall^matique. Revue gcndralc des Sciences purcs ct appliquccs. Т. ѴІІЇ, 1897, pp. 129–140.
241
G. Canlor. Miltheilungen zur Lehre vom Transfinilen, VIII. Zcitschrift f. Philosophic und philosophische Krilik. 1889. Bd. 91.
242
т. е. бесконечных. — 103.
243
Тут речь идет только об установлении формального соответствия между тонами и цветами; вопрос же о реальном сродстве тех и других, основывающемся на внутренней связи их, остается в стороне.
244
Или треугольника Паскаля. Этот и другие примеры заимствованы у Кантора (см. Кантор Г. Труды… С. 289—299). — 104.
245
фактически (лат.). Эта конструкция принадлежит Галилею.
246
Теперь говорят «счетных». — 105.
247
Единое в разном… единое, внутренне способное ко многому (лат.). — 107.
248
Либераторе Моттео (1810—1892) — итальянский философ–неотомист. См. подробнее: Кантор Г. Труды… С. 298. — 107.
249
G. Cantor. Mitthcilungcn etc. Zeitschrift f. Phil. Bd. 92.
250
См.: Кантор Г. Труды… С. 268—324. — 107.
251
В русской литературе употребляют термин «кардинальное число». — 108.
252
Math. Annalen, Bd.46, Ѕ. 481.
253
См.: Кантор Г. Труды… С. 173. — 108.
254
противоречие в определении (лат.). — 110.
255
См. прим. 44 к с. 88. — 111.
256
боязнь бесконечности (лат.). — 111.
257
Math. Лппаісп, Bd. 46, Bd. 49
258
См.: Кантор Г. Труды… С. 173—245. — 111.
259
Zeitschrift Г. Phil. Bd. 91, Bd. 92.
260
Там же. С. 302. — 112.
261
целое больше своей части (лат.). — 113.
262
целое… часть (лат.). — 113.
263
См.: Кантор Г. Труды… С. 302—303. — 113.
264
Zeitschrift… Bd. 91, p. 84
265
Там же. С. 269. — 113.
266
ближайший род (лат.) — ближайший более широкий класс предметов, в который в качестве вида входят рассматриваемые предметы (см.: Кантор Г. Труды… С. 269). — 114.
267
Герман Шуберт (1848—1911) — немецкий математик; основные работы относятся к геометрии. — 114.
268
соединение, объединение (нем.). — 114.
269
Β дальнейшем развитии этих идей имеется одна теорема, остающаяся до сих пор не доказанной. Впрочем, если бы она и была неверной, то от этого каких-нибудь существенных изменений не внесется, и доказательство ее имеет скорее специальный интерес. По–видимому, все говорит, что она верна, а сам Кантор уверен в ней вполне. Множество подобных же случаев, оправдавших его проникновение, заставляют и тут надеяться на благоприятный результат.
270
По–видимому, имеется в виду континуум–гипотеза. Во вводимых ниже обозначениях она выглядит так: 2No N. Невыводимость этого утверждения из стандартных аксиом теории множеств показана 11. Дж. Коэном в 1963 г. См.: Коэн П. Дж. Теория множеств и континуум- гипотеза. М., 1969. — 115.
271
За недостатком надлежащей литеры, буква алеф заменена всюду через N.
272
Теперь говорят «произведение множеств М и Ν». — 116.
273
Этот термин теперь не употребляется. Говорят просто о множестве М в степени N. См. также: Кантор Г. Труды… С. 178. — 116.
274
просто упорядоченной (нем.). — 117.
275
Правильнее — порядковые типы. — 117.
276
В тексте опечатка: вместо * стоит =. — 118.
277
порядковые числа (нем.). — 118.
278
вполне упорядоченные (нем.). — 118.
279
1, 4, 3, 6, 5,
280
Какой из братьев Таннеры — математик Жюль или историк математики Поль — имеется в виду, установить не удалось. — 120.
281
Зенон Элейский (ок. 490—430 гг. до н. э.), древнегреческий философ, представитель элейской школы, одним из первых вскрыл противоречивость понятий множественности и движения. — 120.
282
Ин 1, 47. — 120.
283
Вероятно, имеются в виду слова Г. Кантора из его «Основ общего учения о многообразиях», которые в переводе П. С. Юшкевича (Кантор Г. Труды… С. 73) звучат так: «с ценными для меня традициями». — 121.
284
Tannery. «С. Сапіог» в «! а Grande Encyclopcdie» [I. 9. Paris, 1980, p. 128J.
285
правила приличия, (франц.). — 122.
286
Вильгельм Вундт (1832—1920) —немецкий психолог и философ. — 123.
287
См. прим. 33 к с. 86. — 123.
288
В переводе П. С. Юшкевича (Кантор Г. Труды… С. 275): «При таком понймании дела в Вашем понятии трансфинитного числа нет, насколько я пока вижу, никакой опасности для религиозных истин». — 123.
289
выдающийся ученый из Галле (франц.). — 123.
290
Пауль Діобуа–Реймон (1831—1889) — немецкий математик, основные работы которого относятся к теории дифференциальных уравнений с частными производными, тригонометрическим рядам и теории функций. — 124.
291
126. См.: Соловьев В. С. Еврейство и христианский вопрос//Собр. соч. Изд. второе. СПб.,. б/г. Т. 4. С. 133—185. — 124.
292
Там же. С. 144. — 125.
293
сделав соответствующие изменения (лат.). — 125.
294
Соловы; в Владимир. Стихотворения. Изд. 6. М., 1915. С. 85—87. — 125.
295
из стихотворения «В землю обетованную». См. Прим. 131. — 126.
296
Источник установить не удалось. — 126.
297
Вл. Соловьев. «Собран [ие] сочинений». Τ. IV, стр. 333.
298
с точки зрения конечного (лат.). — 127.
299
с точки зрения бесконечного (лат.). — 127.
300
Источник установить не удалось. — 127.
301
Быт 3, 5; Не. 81, 6. — 127.
302
Соловьев. «Собран [ие] сочинений». Т. IV, стр. 397.
303
Имеется в виду издательство «Скорпион», созданное в 1900 г. русскими символистами; кроме книг издавало журнал «Весы» (1904— 1909), альманах «Северные цветы». Формально возглавлял издательство С. А. Поляков при фактическом руководстве В. Я. Брюсова. — 129.
304
потустороннее (франц.). — 129.
305
Ср. знаменитое гегелевское положение о бытии вещи здесь и теперь (Гегель. Феноменология духа//Соч. Том. IV. М., 1959. С. 52—55). — 130.
306
Говоря о современных люциферистах, Флоренский имеет в виду конкретную секту, существовавшую наравне с сектами сатанистов, поклонников Изиды, неогностиков и прочих, упомянутую в книге Жюля Буа «Малые религии Парижа» (Hois J. Les Petites Religions de Paris. Paris, 1894). — 131.
307
Эндрю Джексон Девис (1826 —?) — американский спирит; главное сочинение «The principles of nature, her divine relations and a voice to mankind», вышедшее 30–м изданием в Нью–Йорке в 1869 г. Леон Ипполит Денизар Ривэль (псевд. Аллан Кардэк) (1804—1869)—знаменитый французский спирит, основатель спиритической церкви, разработавший некоторые приемы мнемотехники; основное сочинение — «Le Livre des espirits» («Жизнь духов»). Paris, 1857. — 132.
308
См.: Hois J. Op. cit. P. 2—19. — 132.
309
Ibid. P. 159—160. — 132.
310
Тут идет речь о теософии Блаватской, которая не имеет ничего общего с теософией Вл. Соловьева.
311
Вопрос о соотношении теософии Пл. Соловьева и теософии Е. Блаватской прояснял и сам Вл. Соловьёв, ибо ввиду странного недоразумения, возникшего из за увлечения его брата Всеволода Соловьёва теософией Блаватской, к Владимиру Сергеевичу часто предъявляли необоснованные претензии. Об этом Соловьёв писал в письме к А. Н. Шмидт: «Вы продолжаете меня путать с моим старшим братом Всеволодом Сергеевичем, имевшим какие то темные дела с госпожою Блаватскою и написавшим об этом какую то серую книгу, чему я ни душой, ни телом не причастен» (Шмидт А. //. Из рукописей. М., 1916. С. 285). Сам Соловьёв дважды писал о Блаватской: (1) краткая рецензия на книгу «The key to Theosophy». London; New York, 1889 (Русское обозрение. 1890. Август; Собр. соч. Т. 6, С. 394—400); (2) заметка в Словарь С. А. Венгерова (Критико–библиографический словарь русских писателей и ученых. Т. III. СПб., 1892. С. 315—319). — 132.
312
Стихотворение Ф. Тютчева «Песнь скандинавских воинов» с подзаголовком «Из Гердера» является вольным переводом стихотворения Гердера «Morgengesang im Kriege» (Утренняя песнь на войне). — 135.
313
по нарастающей (итал.). — 138.
314
по убывающей (итал.). — 138.
315
Имеется в виду сон Иакова, в котором он боролся с Богом (Быт 32, 22—30). — 140.
316
Откр 7, 14. — 140.
317
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в тридцати томах. Л., 1972—1990. Т. 14. С. 265. — 143.
318
после свершившегося (лат.). — 146.
319
Молча кричишь? (лат.). — 148.
320
Что есть истина? (лат.). — 148.
321
Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. XII. СПб., 1895. С1 769—770. — 148.
322
здесь букв. — змея прячется в траве (лат.); предупреждение о скрытой опасности. — 148.
323
обо всем, что можно знать, да и еще кое о чем (лат.). — 149.
324
смертельный исход (лат.). — 150.
325
Давид 1— избранник Божий, освященный помазанием, царь Израильско–Иудейского государства (X в. до н. э.), доблестный воин и искусный музыкант. Традиция ему приписывает составление псалмов (Псалтири). Значение рода Давидова в христианской традиции определяется в первую очередь тем, что Иисус Христос является потомком этого рода. «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя» (Откр 22, 16). — 151.
326
A Erdan [Epsend var. Jacob, Alexandre Andrd.] La France Mystique. [(Tableau des excentricites rcligieuses de ce temps… 2–е ed. rev, par. Taut, ct augm. d'une nouv. pref. Par Charles Fotvin. Amsterdam. Miejek, 1858).] Т. 1, p. 42.
327
Доминик Франсуа Жан Араго (1786—1853) — французский физик, исследователь поляризации света, гальванизма и магнетизма. «Тот, кто вне области чистой математики произносит слово «невозможно», поступает неосмотрительно» (франц.). — 151.
328
Ввиду того, что г–н Α., цитируя Паскаля на память, несколько изменяет подлинные выражения и тем очень изменяет смысл цитаты, мы позволим себе воспроизвести ее полностью. Вот как говорит Паскаль («Мысли», гл. XXIII): ««Чудо, — говорят иные, — подкрепило бы мою уверенность». Говорят это–не видя чуда. Если основания слишком далеки от вас, то это, по–видимому, ограничивает наше зрение, но стоит подойти к ним ближе, и мы начинаем видеть еще дальше. Ничто не может остановить подвижности нашего ума. Нет правила, говорят, без исключения, нет истины столь всеобщей, чтобы с какой-нибудь стороны она не оказалась неполной. Λ достаточно того, что она не абсолютно всеобща, — и мы имеем уже повод подводить под исключение — настоящий именно случай и говорить: «Это не всегда истинно; значит, есть случаи, где оно. не истинно». После этого остается только показать, что данный случай и есть именно такой; и разве только очень неловкий или очень неудачливый не найдет средств сделать такой вывод»». Заметим, что тон всего разговора делает несомненным, что изменение смысла цитаты есть следствие несколько односторонней памяти г–на Α., но ни в каком случае не недобросовестности.
В подлиннике все это место есть «Гимн любви», написанный стихами; русский перевод соответственным размером и указания на ритмичность см. у Муретова («Новозаветная песнь любви…») в «Богословском вестнике» (1903, № 11 и № 12).
329
Все это прекрасно; почти то же говорит и пастор, только немножко другими словами (нем.) (Гете Волырганг. Трагедия/Пер. в прозе Петра Вейнберга. СПб., 1904. С. 125). В стихотворном переводе Б. Л. Пастернака:
Почти что в этих выраженьях Так и священник говорит,
Все это так. Но я в сомненьях.
(Гёте И. В. Фауст. М., 1983. С. 129). —154.
330
другими словами (нем.). — 154.
331
когда слушаешь такие речи, выходит, как будто и правда; однако тут все таки фальшь: ведь ты совсем не христианин! (нем.) (Гёте В. Трагедия. С. 125). В переводе Б. Л. Пастернака:
Ты прав как будто поначалу,
А присмотреться — свет Христов Тебя затронул очень мало.
(Гёте И. В. Фауст. С. 130). — 154.
332
Катехизис — начальное учение о христианской вере. — 155.
333
Будете как Бог (лат.). Ср.: «…но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт 3, 5). — 156. добро и зло» (Быт 3, 5). — 156.
334
Уильям Джемс (1842—1910), американский философ и психолог, был одним из родоначальников теории «потока сознания», которую противопоставил ассоцианизму. Приводимый Флоренским пример утрированного использования некоторых положений психологии Джемса направлен, в первую очередь, против его концепции реальности как ♦группы чувственных элементов», объединенных на основе субъективной «полезности» и психологической веры. П. А. Флоренский проявлял интерес к исследованиям Джемса в области религиозного и мистического опыта, а также явлений спиритизма. — 156.
335
Здесь рукой Флоренского в рукописи написано: «Справиться, как называется лекарство, направленное против симптомов, а не против причин». — 157.
336
Одно из семи таинств, признаваемых православной и католической церквами: таинство помазания миром в православии совершается над новорожденными, непосредственно за таинством крещения, и царствующими особами при короновании. — 160.
337
приведение к нелепости (лат.). — 160.
338
Здесь Флоренским обнаружена одна из фундаментальных черт всех науки и некоторых течений философии XX в., их проективно–конструктивный характер. — 161.
339
естественно (лат.). — 163.
340
Собственная ссылка Флоренского: «Некрасов. «Нравственный человек». Полное собрание стихотворений в 2–х томах. 1842—1872. Изд. 4–е, т. 1 (СПб., 18861, сс. 29—31» — была им зачеркнута, видимо, чтобы не утяжелять диалог. — 165.
341
Здесь Флоренским зачеркнуто название книги В. Гюго «Труженики моря». Далее следует цитата из ч. I, кн. 6, гл. 6 этого произведения. — 165.
342
истинно (лат.). — 167.
343
Специально этим вопросам посвящена работа Флоренского «О символах бесконечности» (наст, том, с. 79—128). — 169.
344
говорится для того, чтобы рассказать, а не доказать (лат.). —172.
345
заранее (лат.). — 173.
346
Ср.: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал 2, 19—20). — 174.
347
Эти выдержки и письмо заимствованы мною из книжки M. А. Новоселова «Забытый путь [опытного Богопознания». Изд. 2–е, Вышний Волочек. 1902], с. 41 и след. — [с. 42, 43, 44, 45].
348
Соглашаюсь и завершаю (лат.). — 174.
349
полностью (лат.). — 174.
350
Здесь, говоря о натуралистическом мировоззрении, которое довольствуется протоколами этого мира, Флоренский критикует в первую очередь ранний позитивизм, который позднее в своей развившейся форме логического и семантического позитивизма (Б. Рассел, Л. Витгенштейн, представители Венского кружка, в особенности Р. Карнап) рассматривает проблему «протокольных предложений» как одну из главных. Но в отличие от позитивизма, который удовлетворяется логической и семантической структурой символа, Флоренский, признавая многослойность символа, отдает приоритет его богословскому и философскому толкованию. — 175.
351
В текст, по–видимому, вкралась ошибка — первым королем Кастилии был Альфонс VI. Источник нижеследующей цитаты установить не удалось. — 176.
352
В этой краткой, но вместе с тем емкой характеристике символа дано определение, которое имеет мало общего с традиционным истолкованием символа как знака, указывающего на присутствие другой реальности, пусть даже высшей. У Флоренского символ не «знак», не «обозначение чего то», не «указание на что то», символ сам обладает полнотой реальности, вмещающей в себя духовную основу и «пресуще- ствленную» конкретно–телесную материю. Именно таковы Символ веры, Святые таинства, слово в молитве, православная икона — все религиозные символы. Проблема символа — одна из главных и сквозных в трудах Флоренского. Интерес к ней был обусловлен не только традициями литературно–художественного символизма и определенным влиянием Вяч. Иванова и А. Белого, но и рано сформировавшимся убеждением, что проблема символа — это проблема философская и церковно–богословская. — У 78.
353
Никаких биографических данных об Эмвср–Гурбсйерс обнаружить не удалось. — 179.
354
частные откровения (лат.). — 179.
355
Заимствую эти сведения из статьи И. Левицкого «Эфес или Иерусалим?» («Христианское Чтение», 1900, т. CCX, ч. 2, с. 580–619).
356
Выражение, слышанное мною от одного старообрядческого начетчика Костромской губ.; он употребил его в смысле существенно, substantialitcr.
357
Митра — в древнеиранской мифологии бог солнца; митраические мистерии характеризовались жертвоприношением животных. Дионис — в греческой мифологии сын Зевса и Семелы, бог вина, виноделия и растительности, покровитель оргиастических культов. Орфическое движение, связанное традицией с именем мифического певца Орфея, возникшее на основе реформы культа Диониса, было пронизано эсхатологическими идеями и мистическими мотивами очищения. Не исключено, что во время работы над «Эмпиреей и Эмпирией» П. А. Флоренский познакомился со статьей Вяч. Иванова «Ницше и Дионис», которая была опубликована в журнале «Весы» (1904. № V). — 182.
358
сие есть Тело мое… сие есть Кровь моя (греч.). — 183.
359
См. статью П. Флоренского «0 суеверии» в № 8 «Нового Пути» за 1903 г. Первоначальное заглавие было: «О суеверии и чуде». Статья довольно сильно переделана в редакции: платоновско- соловьевский характер излагаемой там теории знания В. Я. Брюсо- вым, не понявшим дела, был превращен в кантовский. Написана в 1902 г.
360
Луг духовный. Творение блаженного Иоанна Мосха. Пер. с греч. священника М. И. Хитрова. Свято–Троицкая Сергиева Лавра, 1896 (далее–Луг духовный). Гл. 25, с. 30–31.
361
Св. Агапий I — папа римский в 535—536 гг. — 186.
362
Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцев. Пер. с греч. Изд. 4. М., 1871, с. 93–96. Об авве Данииле, 7.
363
Макарий Александрийский, христианский подвижник, отец церкви, известен как автор монашеских правил (404 г.), слова «Об исходе души» и других сочинений. — 187.
364
Жизнь пустынных отцев. Творение пресвитера Руфина. Пер. с лат. священника М. И. Хитрова. Свято–Троицкая Сергиева Лавра, 1898. Гл. 29, с. 105.
365
Луг духовный, гл. 199, с. 246–247.
366
Луг духовный, гл. 29, с. 38–39.
367
Собрание словес и деяний преподобных отец скитских, яже обретаются в латерице по алфавиту. Лист 165 и др.
368
Луг духовный, гл. 79, с. 99–100.
369
Сергий Радонежский (1314—1392)—один из наиболее почитаемых в России святых, основатель Свято–Троицкой Сергиевой Лавры. Об огненном освящении Сб. Даров у прсп. Сергия см. в кн.: Житие и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Свято–Троицкая Сергиева Лавра, 1904. С. 199—201. — 188.
370
Луг духовный, гл. 30, с. 40.
371
Юстиниан J (482—565), византийский император и законодатель, осуществил кодификацию римского права, «Свод гражданского права Юстиниана», является памятником римской и византийской юридической мысли. — 188.
372
Златоустого и св. Василия Великого» протоиерея В. Нечаева. М., 1884, с. 42. Цитирую по примечанию к «Лугу духовному», с. 243.
373
Луг духовный, гл. 196, с. 241–243.
374
Св. Афанасий, архиепископ Александрийский (326—373)* был ревностным защитником православия в борьбе с Арием и арианством. Далее в тексте следует большой отрывок из кн.: Луг духовный. Сергиев Посад, 1915. С. 244. — 189.
375
Выражение Достоевского.
376
Достоевский {Φ. М.] Братья Карамазовы. [Полное собрание сочинений,] т. XII. [СПб., 1895], с. 757.
377
Дмитрий Николаевич Овсянико–Куликовский (1853—1920)—русский литературовед, языковед, исследователь ведийской мифологии. — 191.
378
Не останавливаемся на ней, так как для этой цели пришлось бы входить в теорию символов, а это требует особого сочинения.
379
Преп. Исаак Сирин (Исаак Ниневийский), епископ Ниневии (661), известен как автор знаменитых сочинений по аскетике. — 193.
380
Замечательный и ни с чем несравнимый пример нового мифотво- рения представляет ♦поэзия» Андрея Белого, носящая в себе совершенно явный отпечаток мифа.
381
полностью (франц.). — 194.
382
Слово, употребляемое Ф. Шеллингом. Оно образовано в параллель «аллегорически» из ταύτα αγορευειν- говорить то же самое; аллегорически — иносказательно, тавтегорически — буквально.
383
см. прим. 6 к с. 325. — 194.
384
знамение (греч. и лат.). — 194.
385
Указанного большего сочинения в Архиве свящ. Павла Флоренского не обнаружено. — 196.
386
закон соотношения (лат.). — 196.
387
мыслимое сущее (лат.). — 197.
388
основание сущего (лат.). — 197.
389
Римская Империя (лат.). — 197.
390
В данном случае Флоренский объединяет по типу религиозного учения одно из направлений русского сектантства — «духовное христианство», разделившееся в XVIII в. на разные секты молокан и духоборов, и англо–американскую секту квакеров, возникшую в XVII в. в Англии. — 198.
391
Ср.: Мф 13, 24—31. — 200.
392
атараксия — от греч. αταραξία t невозмутимость, безусловное спокойствие духа. — 201.
393
тем самым (лат.). — 202.
394
Преп. Исидор Пелусиот, ученик Иоанна Златоуста, экзегет антиохийской школы/Русск. пер.: Творения, т. 1—3. М., 1859. — 205.
395
познавательная любовь к Богу (лат.). — 205.
396
При цитировании стихотворения Вл. Соловьёва «Милый друг, иль ты не видишь…» (1892), приводя две первые строфы стихотворения, Флоренский заменяет І–ю строку 2–й строфы — «Милый друг, иль ты не слышишь…» на 1–ю строку 3–й строфы. — 206.
397
Не задаваясь целью дать здесь биографию о. Серапиона, привожу только хронологический костяк ее. Владимир Михайлович Машкин происходил от состоятельной дворянской семьи из Курской губернии и родился в 1855 году. Получив сначала домашнее образование, он был затем в Мичманской школе, где познакомился с математикой. По увольнении от флотской службы в чине мичмана (25 июня 1876 г.), Владимир Михайлович поступил вольнослушателем на естественный факультет С. — Петербургского Университета и, пройдя там курс, — в 1884 г. в число· послушников Афонского Пантелеймонова монастыря. Там он прожил 6 лет под руководством старцев (Макария, а сперва Иеронима). Но затем его духовный водитель направил его в * Россию, предрекая там какую-то миссию. По указу Св. Синода за № 3509 27 августа 1892 г. Владимир Михайлович получил разрешение на слушание лекций Московской Духовной Академии в качестве стороннего слушателя. 10 октября 1892 г. он был пострижен (вместе с другим моряком–Μ. Ф. Алексеевым, ныне еп. Михеем) в монашество ректором Академии архимандритом Антонием (Храповицким), ныне архиепископом Волынским. При этом Владимир Михайлович получил монашеское имя Серапиона» Интересное «Слово при пострижении вольнослушателей Московской Духовной Академии Μ. Ф. Алексеева и В. М. Машкина» архиеп. Антония, как нередко у данного автора, метко схватывающее некоторые черты новопостригаемых, было напечатано в «Церковн. Ведом.» 1892 г. №43 и затем вошло в «Полное собрание сочинений». Т. I. Казань. 1900. Еп. Антония. (Стр. 229–232.) 18 октября 1892 г., через 8 дней после пострига, инок Серапион был рукоположен в иеродиакона, а 17 мая 1893 г. — в иеромонаха. Советом Академии он был удостоен степени кандидата богословия и 19 июня 1896 г. утвержден в этой степени митрополитом московским Сергием. 17 августа 1896 года указом Св. Синода за № 3952 был назначен на должность помощника смотрителя Перервинского духовного училища. В 1896 г. по представлении смотрителя училища награжден набедренником. 8 апреля 1897 года указом Св. Синода за № 1815 перемещен на должность смотрителя Заиконоспасского духовного училища. 20 декабря 1897 г. указом Св. Синода за №7071 перемещен на должность настоятеля Знаменского монастыря с увольне–нием от духовно–учебной службы. 9 января 1898 г. возведен в сан архимандрита. 17 июня 1900 г. указом Св. Синода за № 4049 уволен от должности настоятеля Знаменского монастыря с причислением к братству Волоколамского Иосифова монастыря (27 июня 1900 г.). По указу Калужской духовной консистории за № 7549 помещен на покой в Оптину Пустынь. Из Онтиной Пустыни о. Серапион, с целью отдохнуть от умственных занятий и излечить «тяжелую форму неврастении», вызванную «сильным умственным переутомлением» (по свидетельству пользовавшего его в 1899 году врача Штейнберга), уезжает к своей матери, в Курскую губернию, а потом, после некоторых хлопот, снова поселяется в Оптиной Пустыни. 20 февраля 1905 года архимандрит Серапион скончался, имея от роду 50 лет. Причиною смерти был разрыв сердца.
398
См.: Фонвизин Д. И. Недоросль. — 207.
399
с высоты птичьего полета (франц.). —208.
400
См.: Лукиан. Жизнеописание Демонакта//Лукмш/. Избранное. М., С. 324—335. — 208.
401
Ср.: Климент Александрийский. Строматы. Кн. 7. Гл. II. Ярославль, Стлб. 847—849. — 208.
402
Приведем, кстати, выдержку из письма о. канонарха М., рассказывающую о некоторых подробностях смерти о. Серапиона: «На сегодня, в час ночи преставился ко Господу уважаемый мною, и известный Вам, всечестной батюшка архимандрит о. Серапион… БожеІ упокой его душу! Дня три тому назад я встретил его у закупщика, и на мой вопрос: как поживаете, батюшка? — Слава Богу, о. М. — Благодушествуете? — Да, да, слава Богу. — Вчера высидел ' все бдение, которое кончилось V2 часа 12–го ночи. А в час ночи же его не стало… Сегодня утром в 7–м час., узнав о его кончине, мне необходимо захотелось посмотреть на его останки, которые уже были перенесены из келлии в больницу; но оставались в том же виде, как он скончался; лицо спокойное, светлое, мирное, до груди закрыт одеялом, глаза закрыты, рот тоже. Спит или умер? Вопрос, на который трудно ответить; открыв одеяло, я увидел связанные платком руки, и полуоткрытую громадную грудь… Приложив к ней руку, я тотчас же отдернул обратно: она была еще теплая… я сообщил это фершелу, который сказал мне, что уехали в Козельск за доктором, который, вероятно, констатирует смерть, и мы схороним архимандрита Серапиона, а в огромной массе страдальцев будет одним меньше… Говорят, что с ним не так давно были два припадка. И он сознавал свою опасность (у него болело сердце), даже написал завещание на имя преосвященного Антония Волынского, с оригинальной просьбой положить с ним в гроб яду, на случай, если он оживет: чтобы покончить страдания: кажется, имя яда «кокаин». Причащаясь каждую субботу св. Христовых тайн, он почему-то пропустил субботу пред смертию, хотя в пятницу и исповедался…».
403
См., напр.: Соловьёв С. М. Жизнь и творческая эволюция Вл. Соловьёв·. Брюссель, 1977. С. 358, 365. — 212.
404
Пс 31, 9. — 213.
405
Т. е. состояние абсолютного воздержания от всякого высказывания, являющееся результатом последовательного неразрешенного скепсиса.
406
доел.: задержка, приостановка (греч.); в философии скептицизма — воздержание от окончательного суждения или определения. — 214.
407
Слова из молитвы «Отче наш…», Мф б, 9—10. — 214.
408
«Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Мф 5, 42). — 214.
409
Приводим текст этого завещания:
«Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь.
В ночь с 9–го на 10–е февраля 1905 года в Оптиной Пустыни со мною сделался припадок, как бы удар. Я принимаю этот случай за первое предостережение, посланное мне Всемилостивым Богом, и, находясь в полном уме, пишу теперь это завещание. Завещание.
Завещаю в случае моей смерти в Оптиной Пустыни: 1–е, обители мою пишущую машину Ремингтон и русские духовно–нравственного содержания книги. 2–е, Духовной Московской Академии: французские книги и русские специально философского и математического содержания. 3–е, монаху, ходившему за мной, и помогавшему и во время болезни и ранее, мое платье, белье, подушки и одеяло. 4–е, настоятелю архимандриту отцу К. мою архимандричью мантию и архимандричий серебряный крест (наперсный). 5–е, мои самовары (два) завещаю нуждающемуся в них отцу или брату, у которого их нет. Наконец, обращаюсь к моим родственникам: жене брата, В. Α., племянницам О. и Ю. и племяннику С., благословляю и благодарю их за их память обо мне и помощь. Воздай им, Господи, сторицею по не ложному обетованию Твоему.
Обращаюсь и к знакомым моим: бывшему ректору моему и отцу духовному Его Высокопреосвященству епископу Волынскому Антонию. Прошу: то, что Вы, Ваше Высокопреосвященство, достопочитаемый архипастырь и отец, обещали сделать мне, т. е. помочь деньгами, прошу сделать это, по силе возможности, для отца Ф., ходившего за мной, как во время моей болезни, так и ранее, который сам болен и нуждается в лечении кумысом. Прошу помочь ему хотя на один сезон, на одно лето лечения на Волге. Прошу вашего благословения и любовно целую вашу благословляющую руку.
Прошу: это завещание мое после смерти моей переслать архиепископу Волынскому его Высокопреосвященству Антонию в г. Житомир.
Прошу: пред похоронами положить мне на грудь под крест достаточную дозу кокаину, или другого сильнодействующего яду, для того, чтобыг в случае обморока (могущего случиться со мною), я, проснувшись в гробу, мог бы прекратить свои страдания, приняв яду.
Господи Иисусе Христе, помилуй мя!
Пресвятая Богородица, спаси мя!
Все Св., молите Бога о мне, грешном!
Простите меня, грешного, все знакомые мои! И я всех ото всего сердца прощаю во всем, кто мог предо мною в чем-либо согрешить. И всем говорю: простите и прощайте! Аминь. Огітина Пустынь. Архимандрит Серапион Машкин. 18–го февраля 1905 г. Слушал монах отец Ф.».
410
доел.: питающая мать (лат.), обычно: образное определение учебного заведения по отношению к его питомцам. — 217.
411
П. А. Флоренский приехал в Пустынь уже после кончины о. Серапиона (см. преамбулу). — 217.
412
Слова св. Ефрема Сирина. — 217.
413
Эстетическое отношение Вл. Соловьёва к природе сформулировано им в работе «Красота в природе»//Соловьёв Л. С. Соч. в двух томах. Т. 2. М., 1988. С. 351—390. — 221.
414
См. сочинение Вл. Соловьёва «Философские начала цельного знания». — 222.
415
Привожу именно письмо, а не более значительные по содержанию выдержки из сочинений о. Серапиона, как ближе подходящее к прямой цели этой статьи — дать введение в его переписку.
416
Кстати: ходят слухи, будто он только и делал, что пил за этот период. Но вот доказательство противного: в переписанном виде сочинение, написанное им за этот период, занимает более 2250 стран, в пол–листа, напечатанных на «ремингтоне», и, кроме того, на полях сделано множество приписок мелким почерком. Написать и переписать эту бумажную груду, содержания очень отвлеченного, до мельчайших подробностей сплошь оригинального (не говоря уже о необходимости предварительно много думать над всеми этими вопросами, освоиться с литературою и перебрать целую библиотеку специальных книг), требует по меньшей мере нескольких лет неустанной, чисто–оригеновской работы, и она ни в коем случае не мыслима в соединении с нетрезвой жизнью, в которой обвиняют о. Серапиона. Далее, ходят анекдотические слухи, будто он чуть ли не в одном белье встретил императора, когда тот посетил Знаменский монастырь. За это его, якобы, и послали «на покой». Лучшие объяснения по этому пункту может, конечно, дать сам обвиняемый, честнейший и правдивейший о. Серапион. Вот текст прошения митрополиту, найденного в оставшихся от о. Серапиона бумагах; не знаю только, было ли это прошение послано митрополиту, как предполагалось первоначально.
«Его Высокопреосвященству Митрополиту Московскому и Коломенскому Владимиру.
Знаменского монастыря настоятеля архимандрита Серапиона
Прошение.
Ваше Высокопреосвященство, не откажите выслушать слово не оправдания, а правды. Вы изволили обидеться на меня, что я не встретил Государя Императора, и что я, во время Его пребывания в нашем монастыре, показывался в окнах. На это я имею сказать: последнее, пред Богом говорю, — ложь. То же, что я физической возможности не имел встретить Государя Императора, следует из того, что весть о Его прибытии я впервые нолучил от моего келейника, и тогда, когда уже Государь Император ехал во дворец. В это время, в нашем монастырском дворе, как я узнал о том после, уже стояли, готовыми ко встрече, Даниловский архимандрит Митрофан и наш казначей. Им было, очевидно, откуда-то известно о прибытии Высочайших особ, но мне они, хотя бы полусловом, не заявили об этом.
Судите же теперь, Ваше Высокопреосвященство, виноват ли я, что не мог встретить Государя Императора. — Я не мог иначе узнать о Его прибытии, как от людей, а из них, ведавшие, никто не дал мне знать. Впервые я узнаю от моего келейника, но уже поздно.
Судите же, Ваше Высокопреосвященство, раньше, чем отрешать меня от должности, которую я старался исполнять во Славу Божию.
Судите ранее, чем сделать несправедливость.
Обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой: соблаговолите оставить меня в звании и положении моем, исправлении должности, до времени приискания мною подходящего мне, по духу, места. В таком случае соблаговолите дать мне 29–ти дневный отпуск в губернии России (зачеркнуто: Курскую губернию, с сохранением). Вашего Высокопреосвященства Архипастыря и Отца нижайший послушник архимандрит Серапион. 26–го апр. 1900 г. Знаменский монастырь».
417
по приемам, свойственным геометрии (лат.). — 225.
418
Во избежание всяких недоразумений указываю cn toulcs lcltres, что далеко не во всем солидарен с содержанием этих писем.
419
без обиняков, напрямик (франц.). — 226.
420
Полное название: Духовный взгляд на Малюванщину и кликушества (по поводу статьи проф. И. Сикорского: «Психопатическая эпидемия 1892 года в Киевской губернии*. Университетские Известия. Апрель. 1893). Душеполезное чтение. 1893. Август. С. 589—595. В конце статьи стоит подпись «I. С. М. Д. Академия 3 июля 1893 г.». — 230.
421
Отзыв на кандидатское сочинение иеромонаха Серапиона «О нравственной достоверности» написал профессор Алексей Иванович Введенский (см.: Журнал заседаний Совета Московской Духовной Академии за 1896 год. Сергиев Посад, 1898. С. 173—176). — 230.
422
В 1900 г. о. Серапион направил в Совет Московской Духовной Академии прошение о соискании степени магистра богословия за сочинение на тему «Опыт системы Христианской философии» и о назначении ему рецензентами А. И. Введенского и архимандрита Евдокима (Мещерского) (см.: Журнал заседаний Совета Московской Духовной Академии за 1900 год. Свято–Троицкая Сергиева Лавра, 1901. С. 9). — 232.
423
Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает (франц.), — девиз английского Ордена Подвязки; к сожалению, указанного издания Е. Машкиной комментатору найти не удалось. — 234.
424
Привожу список статей и материалов, касающихся о. Серапиона, в порядке появления их:
[Екатерина Михайловна Машкина] ‚ — Четыре дня на пароходе‚ у берегов Святой Горы. Рассказ путешественницы, издаваемый в пользу Курского Благотворительного Общества. [Брошюра с эпиграфом: Ноппу so it qui mal у pense].
«Две недели в Константинополе» [статья по поводу поездки Ек. Мих. Машкиной на Афон]. («Современные Известия», 1888 (или 1889?)).
Архиепископ Антоний (Храповицкий), — Слово при пострижении вольнослушателей Московской Духовной Академии Μ. Ф. Алексеева и В. Μ. Машкина («Церковные Ведомости», 1892 г., № 43 — «Полное собрание сочинений Еп. Антония», Т. I, Казань, 1900, стр. 229232).
Указ из Святейшего Правительствующего Синода от 27–го августа 1892 г. за № 3509 о разрешении Влад. Машкину поступить в Моск. Дух. Акад. сторонним слушателем («Журнал Совета Московской Духовной Академии за 1892 г.», Сергиев Посад, 1893 г. Заседание 31–го августа 1892 г., IX, стр. 277)
Собственноручные показания студентов 1–го курса о желании их изучать тот или другой из предметов, по которым возможен выбор.
Серапион избрал греческий и французский. стр. 329. — Тут же дается список однокурсников о. Серапиона (стр. 328–331).
И[еромонах1 Серапион Машкин, — Духовный взгляд на Малспанщину и кликушество («Душеполезное Чтение», 1893, № 8, стр. и отд. отт.).
Отзыв экстраординарного профессора Алексея Ив. Введенского о сочинении вольнослушателя иеромонаха Серапиона: «О нравственной достоверности» («Журнал Совета Московской Духовной Академии за 1896 год», Сергиев Посад, 1898, стр. 173–176. Заседание 4–го мая, 1, 54).
Прошение о. Серапиона в Совет Академии относительно соискания степени магистра за представленное сочинение на тему «Опыт системы Христианской Философии» и назначение ему рецензентами Алексея Ивановича Введенского и о. Архимандрита Евдокима (Мещерского) («Журнал заседаний Совета Московской Духовной Академии за 1900 год». Свято–Троицкая Сергиева Лавра, 1901, стр. 9. Заседания 10 и 14 января 1900 года)
Павел Флоренский‚ — «К почести вышняго звания» (Черты характера архим. Серапиона Машкина). (Сборник «Вопросы религии», Вып. 1–й, М., 1906, стр. 143–173). [Тут же напечатан и послужной список о. Серапиона].
Письма и наброски Архим. Серапиона Машкина. Напечатаны П. Флоренским («Вопросы религии», Вып. 1–й, М., 1906, стр. 174220).
Заметка проф. Бронзова в «Колоколе» за 1906 г. по поводу писем о. Серапиона (№ 10).
Михаил Морозов, — Пред лицем смерти (в сборнике «Литературный Распад», СПБ., 1908). «Шуйца и десница мистицизма» (стр. 241244: об о. Серапионе); сравнение о. Серапиона с Н. А. Бердяевым (стр. 251–252). [Фактические сведения в этой статье все почерпнуты из писем о. Серапиона и моей статьи, напечатанных в сборнике «Вопросы религии» (№ № 9 и 10 сего списка)].
Письма о. Протоиерея Валентина Николаевича Амфитеатрова к Екатерине Михайловне и к о. Архимандриту Серапиону Машкиным («Богословский Вестник», 1914 г., Т. 2, июнь, стр. 327–350 и июль- август, стр. 508–534–отд. от. Сергиев Посад, 1914, 52 стр.). Напечатаны свяіц. П. Флоренским.
Архим. Никанор [Николай Павлович Кудрявцев] ‚ — Столп и утверждение истины («Миссионерское Обозрение», 1916, февраль, стр. 253–257, где содержится обвинение меня в плагиате из о. Серапиона).
425
Составлено на основании данных: архива Департамента Герольдии (Ив. Н. Бльчанинов) и семейного, хранящегося в с. Беляеве (свящ. П. А. Флоренский), П. Ф.
426
Прабабка о. Серапиона Машкина Анна Яковлевна Дурова была, по всей вероятности, дочерыо Якова Акимовича Дурова‚ одного из восьми стольников Петра В. с фамилией Дуровых в 1699 г. В это же время двадцать два Дурова владели населенными имениями. У Якова были братья — Тимофей и Федор Акимовичи; кроме того известны из них Афанасий‚ Александр и Лука Ивановичи, Семен Михайлович и Се- мен Абрамович Дуровы‚ все поименованные лица — стольники Петра В. Прасковья Александровна Дурова‚ во инокинях Палладия (род. 26 окт. 1777, †8 марта 1794), игуменья Тамбовского Вознесенского (1766–1772), потом Московского Новодевичьего монастырей, была, вероятно, дочерью Александра Ивановича. — Род Дуровых ведет свое происхождение с XV в. (О Дуровых кое-что см. в: Кн. П. Долгоруков–Российская Родословная книга, СПБ., 1857, Ч. 4–я, стр. 398399; Общий Российский Гербовник, Ч. III, № 80 и Ч. VII, № 94; Гр. А. Бобринскіш‚ — Дворянские роды, внесенные в Общий Гербовник, Ч. I, СПБ., 1890, стр. 637–638; — «Новый Энциклопедический Словарь» Брокгауза и Ефрона, Т. 16, столб. 918)Наибольшею известностью из рода Дуровых пользовалась Надежда Андреевна Дурова (*1783, †23 марта 1866), обычно называемая псевдонимами «Девица–Кавалерист» и «Александров» (о ней см. статью Е. С. Некрасовой в «Историческом Вестнике» за 1890 г., Т. 41, стр. 585–612; тут же, на стр. 585–586, указана и библиография о ней). — Еще следует отметить Дуровых: Захара Захаровичу музыкального писателя (†1886); Сергея Феодоровича (*1816, †1896), поэта, петрашевца; Николая — поэта (1848), Михаила Архиповича — историка (*1838, †1891), Д. — драматурга (1890), Анатолия Леонидовича — клоуна и дрессировщика, а также писателя Александра Николаевича — (1893) и Николая Павловича — преподавателя в высших учебных заведениях. П. Ф.
427
Бабка о. Серапиона Елена Михайловна Сердюкова была правнучкой знаменитого новгородского купца, строителя Вышневолоцкой системы каналов Михаила Ивановича Сердюкова. Родословие Сердюкопых таково:
I
7. Михаил Иванович Сердюков, по происхождению калмык. «Московский купец Евреинов привез его из Сибири в Астрахань совсем еще ребенком, окрестил в православную веру и, заметив смышленость и способности мальчика, мало–помалу сделал его из «сидельцев» своим приказчиком, даже стал поручать ему некоторые самостоятельные дела. В бытность Петра Великого в Астрахани, государь, осматрипая лавки и амбары приезжих из России купцов, в складе Евреинопа разговорился с Сердюковым, обратил внимание на его остроумные ответы, заметил его основательные познания коммерческих делах и механике. По возвращении в Москву, Петр В., при встрече с Евреиновым, спросил его о Сердюкове и, получив лестный отзыв о нем, велел Евреинову отпустить его, записал в новгородское купечество и стал поручать ему казенные комиссии; между прочим, Сердюков довольно долго был главным поставщиком материалов для казенных работ на Ладожском озере и на начатом тогда Вышневолоцком канале. Эта обязанность заставила его часто бывать в Вышнем Волочке и хорошо ознакомиться как с местностью, так и с работами. Он создал свой план работ и сумел привести этот план в исполнение». Когда работы иностранных мастеров по проведению Тве- рецкого канала окончились неудачею, то Сердюков в 1719 г. подал Петру свой проект–и просил передать это дело в его руки. Государь вполне одобрил проект и указом 26 июня 1719 г. исполнил просьбу Сердюкова и дал ему большие привилегии. «Сердюков поселился в г. Вышнем Волочке, построил себе дом, набрал рабочих и энергично принялся за дело. Петр очень интересовался его работами, часто посещал Вышний Волочек и при этом почти всегда останавливался в доме Сердюкова, даже иногда ночевал у него. Подобное отношение Государя к безродному калмыку доставило Сердюкову много завистников среди знати новгородской, и это чуть не погубило и его, и начатое им дело». Среди завистников был и архиепископ Феофан. Но интриги открылись, «Сердюков с удвоенным рвением принялся за дело и в два года, в половине 1772 г., уже окончил почти все главные работы — и сделал всю систему вполне удобною для судоходства», несмотря на препятствия со стороны вышневолоцких ямщиков, для которых проведение каналов было убыточно. Но и в борьбе с ними Сердюков вышел не только победителем, но и с новыми привилегиями по сенатскому указу от 25 мая 1722 г. В дальнейшем продолжается расширение системы каналов Сердюковым и приобретение им разных выгодных для него привилегий о пошлинах и об отчуждении в его пользу прилегающих к каналам земель. В 1735 г. он получает потомственное дворянство за его заслуги государству. За устройство регуляции воды в р. Мете и осушение болот, он получает чин коллежского советника, в 1745 г. Далее развивается им деятельность в подобных же направлениях и, вместе, усиливается борьба с ямщиками. Сердюков не оставался в долгу, «сильно притеснял ямщиков, совершенно несправедливо захватывал их лошадей под предлогом потравы его прибрежных лугов и бечевника, пользуясь своим знакомством с офицерами, ведавшими следственные дела в Вышнем Волочке, и вообще своим влиянием, как человека, оказавшего услуги правительству, позволял себе подвергать ямщиков истязаниям, сажать их без суда в тюрьму и т. д.». Дело закончилось сенатским указом, призывавшим офицеров к исполнению долга, а Сердюкову было предписано, под страхом суда, воздерживаться от беззаконных действий. Год смерти Мих. Ив. Сердюкова не определен с точностью. По одним данным, он † в 1752–1756 годах, а по другим–в 1748 г.
Могилу его и теперь показывают на кладбище с. Городолюбля. Подробности о нем и литературу см. в «Русском биографическом словаре», Том «Сабанеев–Смыслов», СПБ., 1904, стр. 366–371. — Ср. Великий Князь Николай Михайлович, — Русский провин- циональный некрополь, Т. 1, М., 1914, стр. 288, где смерть его датируется «около 1753 г.».
II
2. Елена Михайловна Сердюкова. Она считалась побочною дочерью Имп. Петра I; вторая, с 1777 г., жена генерал–аншефа Василия Ивановича Храповицкого, участвовавшего в возведении на престол Имп. Елисаветы Петровны (Руммель и Голубцов, — Родословный сборник русских дворянских фамилий, Т. 2, СПБ., 1887, стр. 607, Храповицкие, N· 4) (I)
3. Иван Михайлович Сердюков. В 1748 г. подавал прошение на имя генерал–губернатора кн. Трубецкого и тайного советника барона Черкасова о дозволении его отцу самому наблюдать за спуском судов через порог Вып и другие, чтобы «лоцманы по злобе для бесславия его не вредили барж в порогах», на что Сенат, указом от 1 мая 1749 г., выразил согласие. По своей энергии и личным качествам Иван Михайлович во многом напоминал отца. В 1761 г. он утонул в заводском водохранилище. — Женат он был на Евфимии Лкинфиевне Демидовой‚ правнучке Демида Григорьевича‚ по прозванью Антуфьева, кузнеца села Ііавшина, Алексинского уезда, Тульской 176., в 70–х годах XVII ст. служившего кузнецом Тульского оружейного завода и основавшего знаменитый род Демидовых, впоследствии князей Демидовых — Сан–Донато, светлейших князей Лопухиных–Демидовых. Важное здесь для нас начало родословия Демидовых таково:
I. Григорий.
II. Демид Григорьевич Антуфьев (2–я пол. XVII в.).
III. Никита Демидович Демидов‚ родился 26 марта 1656 г., † 17 ноября 1725 г., похоронен 20 ноября при Николо–Зарецкой церкви в Туле. В 1720 г. за «верную службу и особливо показанное примерное радение и приложенное старание в произведении медных и железных заводов» пожалован в дворяне и шляхтичи. В 1722 получил от Петра В. его портрет и рескрипт. Выдвинулся превосходством выделываемого им оружия, устройством металлургических Невьянского и Верхотурских заводов, а также денежными подарками Петру В. С 1676 г. был женат на дочери «самопальника», т. е. ружейного мастера, Евдокии Федотовне N. N.‚ которая † 1730.
IV. Акинфий Никитич Демидов. Родился 1678, † 5 августа 1745 (а по другим данным-5 сентября 1742 г.). 24 марта 1726 получил, вместе с братьями, чин д. ст. сов., и «все их законные наследники и потомство мужскаго и женскаго полу в вечныя времена в честь и достоинство всероссийской Империи по Нижнему Новгороду дворянства и шляхетства возведены», с освобождением от всех государственных служб, но под условием «вящщаго тщания и попечения» о процветании металлургии. Лкинфием Никитичем основаны многочисленные металлургические заводы и прииски — Уральские, Сибирские, Алтайские)
С 1723 г. 2–ю женою его была Евфымия Ивановна Пальңеваt † 1771.
V. Евфимия Акинфиевна Демидова‚ в замужестве за Ив. Мих. Сердюковым.
Достоин внимания, кстати сказать, брат ее Прокофий Лкинфиевич (род. 8 июля 1710, † 1 ноября 1786), богач и щедрый благотворитель, но чудак и самодур, и другой брат Никита Лкинфиевич (род. 8 окт. 1724, † 7 марта 1787 г.), меценат, а также племянники ее: Анна Прокофьевна, окончившая жизнь монахиней Зачатьевского монастыря в Москве, Павел Григорьевич, основатель Демидовского лицея, и др. (Подробности о роде Демидовых см. в: И. Н. Ель- чанинов‚ — Материалы для генеалогии дворянства Ярославской губернии, вып. 10–й, Ярославль, 1917, стр. 3–23. Там же указана литература; ср. также: Кн. А. Б. Лобанов–Ростовский‚ — Русская родословная книга, Т. 1, изд. 2–е, СПБ., 1896, стр. 179–189; «Русская родословная книга», изд. «Русской Старины», СПБ., 1873, Ч. 1, стр. 361–367.)
Из рода Демидовых следует отметить Анну Прокофьевну‚ дочь Прокофья Акинфиевича Демидова (род. 8 июля 1710, † 1 ноября 1786), родившуюся в 1751 г. и бывшую за московским купцом Даниилом Ивановичем Земским: она скончалась монахиней Зачатьевского монастыря в Москве (Кн. А. Б. Лобанов–Ростовский, — Русская родословная книга, т. 1, изд. 2–е, СПБ., 1895, стр. 180).
III
4. Михаил Иванович Сердюков. При его совместном с капитаном Бобрищевым–Пушкиным управлении системою каналов «ревизией генерал–майора Деденева были раскрыты крупные беспорядки на этом водном пути. Шлюзы, каналы и все сооружения оказались в таком плачевном состоянии, что Деденев находил нужным затратить около 360 тыс. рублей на их исправления. Ввиду результатов ревизии Деденева указом 14 июня 1765 года повелено было коллежскому асессору Писареву отобрать от Сердюкова управление водным путем и взять на себя сбор посаженных, канцелярских, таможенных денег, так как, сказано в указе, привилегии эти были даны предкам Сердюкова с тем условием, чтобы они всегда содержали в исправности каналы и шлюзы; раз это условие не соблюдается, правительство считает возможным отнять данные привилегии. Взамен взятого в казенное управление имущества Сердюкова было назначено выдавать ежегодно по 500 руб. В 1774 г., по представлению управляющего водяными сообщениями гр. Сиверса, эта выдача денег была прекращена, и все недвижимое имущество Сердюковых выкуплено в казну (указ 1–го декабря 1774 года) за 170.000 рублей» («Рус. Биогр. Слов.», Том «Сабанеев–Смыслов», стр. 370. Тут же и литература о Сердюковых, на стр. 370–371).
Степан Филиппович Сердюков (род. 1748, † 1780) — один из первых воспитанников Имп. Академии Художеств по исторической живописи. Был неоднократно награждаем медалями — за рисунки и гравюры и отправлен в заграничную командировку в Рим на счет Академии {Петров, — Материалы для Истории Имп. Акад. Худ.; «Рус. Биогр. Слов.», Том «Сабанеев–Смыслов», стр. 366).
Иван Иванович Сердюков (род. 1803, † 1886) — общественный деятель и писатель. В 60–х годах был мировым посредником в Моги- левской губернии. Написал несколько комедий, составил «Малорос. Словарь». Писал в различных органах по сельскому хозяйству, составлял разные записки и проекты о лучшей организации земледелия и сельского хозяйства вообще («Большая Энциклопедия», Т. 11, стр. 314).
Анатолий Иванович Сердюков — «политический деятель, сыгравший очень видную роль в первые годы народнического движения 70–х годов XIX века». За время своей революционной деятельности он шесть раз был арестован († 5 марта 1878) («Большая Энциклопедия», Т. 22, дополн. 1, стр. 495. Тут же и литература о нем).
Любовь Ивановна Сердюкова‚ тоже деятельница революции; в 1879 г. была арестована («Народная Воля», № 1, 1 окт. 1879. — «Литература партии Народной Воли», Вып. первый. Третье приложение к сборникам «Государственные преступления в России», стр. 43). П. Ф.
428
Известно шесть родов, носящих фамилию Коіиелевых. Пять из них происходят от Василия Кушелева‚ жившего в конце XV века. Известный общественный деятель и публицист Александр Иванович Коше- лев (1806, †1883), как и дядя £го, мистик Александровской эпохи Родион Александрович Кошелев (1749, †1827), — потомки этого Василия Кушелева, и принадлежат ко второй ветви. Другого происхождения род, пошедший от Аршера или Ари{ера Кошелева‚ записанный во вторую часть Бархатной книги под N9 288 (изд. Новикова, 1787 г., Ч. 2, стр. 332, ср. стр. 417), в шестую часть родословной книги Московского и Калужского дворянства и в четвертую часть Общего Гербовника (Ч. IV, л. 71), где помещено описание герба их: «В щите, имеющем голубое поле, изображена золотая Стрела, вверх летящая, и под нею серебряная Луна, рогами обращенная к положенным в низу щита крестообразно двум Пальмовым ветвям, а по сторонам Стрелы видны две Руки, выходящие из Облак. Щит увенчан обыкновенным дворянским Шлемом с дворянскою на нем короною и тремя Строу- совыми перьями. Намет на щите голубой, подложенный золотом». Далее, в Общем Гербовнике сообщаются некоторые сведения о Кошеле- шлх: «Предок рода Кошелевых Аршер Кошелев, выехал в Ғоссию к Великому Князю Василию Иоанновичу из Польши и пожалован поместьем. Потомки сего Аршера Кошелевы, многие Российскому престолу служили Воеводами и в иных чинах и жалованы были от Государей в 7116\1608 и других годах поместьями. Все сие доказывается жалованными на поместья грамотами, справками разрядного Архива, Вотчинного Департамента и родословною Кошелевых, означенными в присланной из Московского дворянского собрания родословной книге». К этому именно роду Кошелевых принадлежала Екатерина Михайловна, мать о. Серапиона Машкина. По прямой линии ее происхождение таково:
Аршер Кошелев, получил поместья при вел. кн. Иоанне Васильевиче в Рязани, Козельске и Белеве; потомок его
1. Василий Кошелев (не смешивать его с Василием Кушелевым), жил во 2–й половине XVI ст.
2. Семен Васильевич‚ †1608, убит в Козельске.
3. Иван Семенович‚ пожалована ему вотчина дяди Тимофея Васильевича, умершего бездетным в Козельском уезде (11 июля 1621 г.); Козельский городовой дворянин (1627–1629) и выборный, бывший на соборе 3 января 1642; воевода в Волхове (1650–1651); пожалован в московские дворяне (1652).
4. Дмитрий Иванович‚ жилец; служил у стола государева при приеме Грузинского царя (6 июля 1658); дворянин московский (1675); переписчик вотчинных и поместных земель Казанского уезда (1678); ездил за царицею (1688); межевщик поместных и вотчинных земель (1692).
5. Феодор Дмитриевич‚ родился 1678; в службе с 1683; стольник царицы Прасковии Феодоровны (1692); был под Азовом и Нарвою; капитан (1706); за участие в Полтавском сражении пожалован в при- миер–майоры (1709); подполковник (1710); полковник киевского гарнизона Черниговского полка (9 марта 1730); главный комиссар генеральной пограничной комиссии на польской границе (1737); бригадир, комендант в Переволочне; уволен от службы генерал–майором (18 марта 1854).
6. Дмитрий Феодорович‚ в службе в Казанском Кирасирском полку с 1749; уволен от службы секунд–майором (23 декабря 1764); предводитель дворянства Дмитриевского уезда (1789); родился 1731, † до 1806, жена его Екатерина Яковлевна N. N. родилась 1752, † после 1806.
Бабка о. Серапиона Машкина со стороны матери — Прасковья Ивановна Дергун была дочерью, по всей вероятности, майора Ивана Сергеевича Дергуна‚ упоминаемого как восприемник от св. купели Николая Павловича Войцеховича, родившегося 15 марта 1802 г. в с. Грузской, Кролевецкого уезда (В. Л. Модзалевский‚ — Малороссийский Родословник, Т. 1: А–Д, Киев, 1908, стр. 203). — Из других Дергунов могут быть указаны мною: Екатерина Наумовна — жена Михаила Максимовича Значко–Яворского (род. около 1762 г., † до 1822 г.; †1835 г.), бывшего помещиком в Полтавском, Лубенском и Кобеляцком уездах (В. Л. Модзалевский, — Малороссийский Родословник, Т. 2: Ε–К, Киев, 1910, стр. 169–170); Мария Андреевна † около 1830 г., дочь капитан–лейтенанта, жена Петра Степановича Кулябки (род. около 1763, † около 1828), помещика Глуховского уезда (Модзалееский, — id., Т. 2, стр. 617), и Мария Захаровна Дергуно- ва, коллежская секретарша (1829), родственница Марии Семеновны Кулябки (Id., стр. 630).
7. Михаил Дмитриевич‚ подпоручик (1806); рыльский помещик (1836); родился 1762, †. Жена его Прасковья Ивановна Дергун.
8. Екатерина Михайловна‚ родилась 5 февраля 1825, † в ночь с 22 на 23 декабря 1903. 19 января 1847 вышла замуж за Михаила Яковлевича Машкина. (Подробности о родословии Кошелевых см. в: В. В. Руммель и В. В. Голубцов‚ — Родословный Сборник русских дворянских фамилий, Т. 1, СПБ., 1886, стр. 424–428.).
429
Не была ли Екатерина Яковлевна N. N.‚ супруга Дмитрия Федоровича Кошелева, Дуровою по отцу, дочерью Якова Акимовича Дурова и, следовательно, сестрою Анны Яковлевны Машкиной? Тогда было бы понятно, почему Екатерина Михайловна, рожденная Кошелева, приходилась «троюродной или четвероюродной сестрой своего мужа», Михаила Яковлевича Машкина, как говорила мне семья † Α–pa Μ их. Машкина. — Если сделанное предположение верно, то схема родственных отношений Машкиных, Дуровых и Кошелевых получится такая.
430
Сергей Семенович Троицкий (1881 —1910), сын священника, в 1903 г. поступил в Московскую Духовную Академию, где познакомился с Флоренским и стал одним из самых ближайших его друзей. «Письма к Другу», из которых состоит книга Флоренского «Столп и утверждение Истины», были обращены к С. С. Троицкому. В мае 1907 г. Троицкий окончил МДА и был назначен преподавателем русского языка в 1–ю тифлисскую гимназию. В 1909 г. вступил в брак с сестрой Флоренского Ольгой. 2 февраля 1910 г. Троицкий трагически погиб, он был убит душевнобольным учеником (см.: Сборник, посвященный памяти С. С. Троицкого. Тифлис, 1912). — 250.
431
Перевод, избранный для эпиграфа, дается в книге, к которой Флоренский неоднократно обращался: Ученические годы Вильгельма Мейстера (кн. IV, гл. XIII)/Пер. П. Н. Полевого//Собр. соч. Гёте в переводе русских писателей. 2 изд. Т. IV. СПб., 1894. С. 154. — 250.
432
философская вольность (лат.). — 250.
433
В статье «Макрокосм и микрокосм» (1917—1922) Флоренский писал: «Различными путями мысль приходит все к одному и тому же признанию: идеального сродства мира и человека, их взаимнообуслов- ленности, их пронизанности друг другом, их существенной связанности между собой» (Богословские труды. Вып. 24. М., 1983). — 251.
434
тем самым (лат.). — 251.
435
В начале 20–х гг. И. А. Флоренским была написана статья «Диалектика», вошедшая в незавершенный труд «У водоразделов мысли». Флоренский считал, что наиболее полное и чистое воплощение диалектика получила в философии Платона. Диалектическое познание — этот «ритм вопросов и ответов» («Диалектика» — рукоп., с. 68) — ориентировано на вечную идею познаваемого. Близок Флоренскому и гётевский образ ткацкой работы, основание ткацкого челнока. «Мысль снует от себя к жизни и от жизни вновь к себе. Эго снование ее есть диалектика, философский метод» (Там же. С. 49). — 252.
436
Вариационное исчисление — раздел математики, имеющий своей задачей отыскание экстремальных, т. е. максимальных и минимальных, значений переменной величины. — 253.
437
Полное собрание всех сочинений… А. П. Сумарокова. Собраны и изданы в удовольствие любителей Российской Учености Николаем Новиковым. Изд. 2–ое, часть III, 1787 г., с.61–119.
438
противоречие в определении (лат.). — 257.
439
Ср. с близкой мыслью Выготского о Гамлете: «…с самого рождения он уже отмечен знаком трагедии» (Выготский J1. С. Психология искусства. М., 1986. С. 381). — 257.
440
Видимо, Флоренский имеет в виду книгу Гейне «Девушки и женщины Шекспира». Здесь мы находим следующую выдержку: «…в северном Вифлееме, именуемом Стрэтфорд–на–Эйвоне, родился человек, которому мы обязаны светским евангелием, как мы назвали бы шекспировские драмы» (Гейнс Г. Собр. соч. в десяти томах. М., 1958. Т. 7. С. 310). Далее Гейне говорит о «величайших откровениях». в произведениях Шекспира и о проникновении поэта в существо природы. — 257.
441
Ученические годы В. Мейстера, кн. 5, гл. IX.
442
Близкий друг П. А. Флоре некого С. Н. Булгаков, вспоминая трагический 1916 г., так пишет об умонастроении их окружения в тот момент: «Из моих друзей только П. А. Флоренский знал и делил мои чувства в сознании неотвратимого и отдавался обычному для него amor fati» (Булгаков С. Автобиографические заметки. Париж, 1946. С. 89). — 258.
443
Наука, изучающая уродства. — 259.
444
в четвертую долю листа (лат.). — 259.
445
Жене в своей книге о Шекспире, к которой обращался Флоренский, пишет, что критики 90–х гг. XVI в. упоминают какую то драму «Гамлет», в которой бледный дух жалобно взывает: «Hamlet, Revenge!» (Гамлет, Мщение!). Жене оспаривает мнение, по которому данная пьеса не может принадлежать Шекспиру (см.: Жене Я. Шекспир, его жизнь и сочинения. М., 1877. С. 259). Он замечает также, что при первом внесении в издательские списки в 1602 г. Шекспиров «Гамлет» назывался «The Revenge of Hamlet». — 259.
446
См. Брандес. «Шекспир». Т. II, с. 50.
447
Брандес Г. Шекспир, его жизнь и произведения. Т. II. М., 1901, С. 50—51. — 259.
448
См.: Жене Р. Указ. соч. С. 256. — 260.
449
Гете И. Ученические годы Вильгельма Мейстера. Кн. III. Гл. XI. — 260.
450
«Отелло от природы не ревнив — напротив: он доверчив» («Table- Talk») //Пушкин Л. С. Собр. соч. в десяти томах. Т. 7. М., 1962. С. 208. — 262.
451
Согласно классическому определению, «трагедия есть подражание действию важному и законченному» (Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957. С. 56). — 262.
452
В связи с данным местом можно вспомнить статью Вяч. Иванова «Древний ужас (по поводу картины Л. Бакста «Terror antiquus»)». См.: Иванов Пяч. По звездам. СПб., 1909. С. 393—424. — 266.
453
до опыта (лат.). — 267.
454
соотносит (лат.). — 268.
455
Из стихотворения Д. Мережковского «Дети ночи» (1896):
Дерзновенны наши речи,
Но на смерть осуждены Слишком ранние предтечи Слишком медленной весны. — 271.
456
Оресте я, трил. Эсхила. Пер. Котелона, 1883, СПб.
457
Орестейя, единственная дошедшая до нас трилогия Эсхила/Пер. Н. Котелова. СПб., 1883. С. 74. — 271.
458
Из за поврежденности рукописи в этом месте слово разобрать не удалось. — 272.
459
Учен. Зап. Имп. Каз. Ун. 1904. № 12. Шестаков. «Персы» Тимофея.
460
Шестаков Д. «Персы» Тимофея. Вновь открытый памятник древнегреческой поэзии//Ученые записки Имп. Казанского университета. № 12. Казань, 1904. С. 24. — 273.
461
См. напр. в «Вестн. психол.» Бехтерева (год 1, вып. 1 и вып. 6). Спор Блюменау и Кремлева на эту тему.
462
В «Вестнике психологии, криминальной антропологии и гипнотизма» (под общей ред. В. М. Бехтерева и В. С. Серебреникова) была напечатана статья Л. В. Блуменау «Нравственная эволюция и вырождение» (см. вып. 1. СПб., 1904. С. 21—36). В числе литературных героев, относимых к патологическим личностям, был назван и Гамлет — «вечный тип неуравновешенности». — 276.
463
воочию (лат.). — 276.
464
Saxonis Grammatici Historiae Danicae Libri XVI e recensione Stephani Joannis Stephanii… ed. Cr. Ad. Clotzius. Lps, CI (I) CCLXXI.
465
Нам было доступно другое издание средневековой летописи Дании, созданной Саксоном Грамматиком. См.: Saxonis Grammatici Historia Danica Libri XVI. Stehpanus Johanis Stephanius Reg. Akad. Hafn. Bibliop. Cl (I) CXLIV. P. 49. — 276.
466
«Около 1559 г. сага о Гамлете была изложена по–французски в ♦Histoires tragiques» Бельфорэ и, по–видимому, этим путем проникла в Англию, где дала материал для первоначальной драмы о Гамлете, которая теперь утрачена, но указания на которую мы часто встречаем» (Брандес: Указ. соч. Т. И. С. 4). Полный английский перевод этих историй вышел в 1596 г., но отдельные из них, в частности о Гамлете, были распространены среди читающей публики и ранее. — 277.
467
Джордано Бруно с 1583 по 1585 г. находился в Англии, но с Шекспиром он не был знаком. Однако Шекспир мог прочесть философские трактаты Бруно по–итальянски; во всяком случае в речах Гамлета присутствуют выражения, не только близкие по духу мироощущению Бруно, но и почти в точности воспроизводящие формулировки итальянского гуманиста. Книга же «Опытов» Монтеня (в переводе Флорио лондонского издания 1603 г.) была единственной, о которой с достоверностью известно, что она принадлежала Шекспиру. В произведениях Шекспира исследователи находят почти буквальные выражения из Монтеня. — 277.
468
в этом споре языческому голосу противостоит сам Иисус Христос: «А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов; а ты иди, благовествуй Царствие Божие. Еще другой сказал: я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк 9, 59—62). — 278.
469
«Ученические годы Вильгельма Мейстера». Кн. IV. Гл. XIII (Указ. изд. С. 154). — 278.
470
См. «Шекспир» Гервинуса, в пер. К. Тимофеева (СПб., 1877. Т. III. С. 175). «Гамлет» здесь назван «пьесой, имеющей какой то пророческий характер, что то прозревающее в даль, опережающее духом свой век1. — 278.
471
«Учен. Годы Вил. Мейст.» (гл. ΧΓ, кн. III).
472
Из стихотв. Вал. Брюсова «Орфей и Эвридика», помещенного в ♦Новом Пути» (1904 г., VIII). Мы не знаем ни одного произведения, которое бы с такой небывалой ясностью и силою ставило проблему смерти, как ее единственно и можно понимать, если не признавать искупления. В каких-нибудь 44–х строчках поэту удалось передать такое количество своего знания в этой области, что вся гнетущая тяжесть проблемы сконцентрировалась как бы в одну точку — в одно острие. И поэтому, может быть, из всех антихристианских произведений нет ни одного, которое бы своим холодным ядом заставило сильнее всем существом почувствовать радость искупления, радость преодоления смерти, противопоставить острию — острие и бросить в лицо вызов. Ото была правда — страшная правда смерти. Но Искупитель наш жив, и мы имеем еще более достоверное знание, что эта правда, некогда всесильная, — теперь жалкая ложь
Смерти. И на просящиеся в музыку лживые слова Эвридики:
Ах, что значат все напевы
Знавшим тайну тишины!
Что весна, — кто видел севы
Асфоделевой страны! —
дан уже ответ в канонах Великой Субботы, от которых спадает со взоров «облак черный».
473
в качестве примера одного из текстов, которые здесь имеет в виду Флоренский, приведем 9–й ирмос канона на утрене Великой Субботы (написан византийской монахиней Кассией). Он имеет форму обращения Христа к Богоматери и проникнут духом победы жизни над смертью.
Не рыдай Мене, Мати, зряіци во гробе Егоже во чреве без семени зачала еси Сына: восстану бо и проелавлюся и вознесу со славою непрестанно, яко Бог, верою и любовию Тя величающия. — 280.
474
Мы ограничиваемся рассмотрением вопроса о типах возрастания и почти не говорим о типах убывания. Этого требовала краткость статьи, тем более, что последний вопрос не трудно обсудить по плану, аналогичному с предлагаемым в настоящей статье. Психологические же примеры, иллюстрирующие отвлеченную мысль, разбросаны повсюду, особенно у Достоевского. “Никакое падение личности не есть последнее падение» — вот тот вывод, который получился бы в итоге предполагаемого анализа. — Добавим еще, что некоторые из встречающихся здесь понятий (актуальная и потенциальная бесконечности, группа, ранговое отношение и т. п.) разъяснены в статье «О символах Бесконеч* ноет и» («Новый Путь», 1904, № 9).
475
Ср.: «Тот, кто исполнен грехов, не получит благодати духовных видений. Но если ты желаешь иметь прекрасное и замечательное видение, то я укажу тебе на одно из них: когда ты увидишь человека благочестивого, скромного сердцем, чистого, — вот прекраснейшее из видений: ты видишь Бога невидимого в этом видимом человеке. Не спрашивай другого видения, которое было бы предпочтительнее этого» (Жития Святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней св. Димитрия Ростовского, с дополнениями, объяснительными примечаниями и изображениями святых. Кн. 9. М.: Синодальная типография, 1908. С. 501 —502). — 281.
476
Так назван человек в чинопоследовании литургии пост, апост. «Пост, ап.», кн. 8, гл. 9 и 12.
477
«Бог решил, — говорили раввины, — создать такого человека, который был бы комбинацией ангела и зверя, дабы он имел способность следовать доброму и злому стремлению». (См. Н. Глубоковского «Благовестив св. Апостола Павла и т. д.», 1905, СПб., Кн. I, тракт. II, гл. IV, стр. 305, прим. 110. С ссылкою на Ѕ. Schechter, The Child in the Jewisch Literature в «Studies in Judaism», p. 347). Откидывая необоснованное утверждение, что человек сотворен таким, каким мы его наблюдаем, получим точное описание наблюдений.
478
Плотин признает двойственность существа человека. Человек есть существо, соединяющее в себе низкую, телесную, несовершенную, часть с высшей, духовной. — 282.
479
Данного места у Вл. Соловьева найти не удалось. — 282.
480
Это будет сделало в статьях последующих: об ангелологии, о возрастании типов и др.
481
Ср.: Флоренский П. А. Столп и утверждение Истины. М.: Путь. 1914. С. 531. По ангелологии П. А. Флоренским написаны следующие статьи: О терафимах (1904); Учение ветхозаветной апокалиптики об ангелах князьях царств (ок. 1909—1910). Набросок статьи «О возрастании типов» содержится в «Тетради И. Заметки и материалы» за 1904—1905 гг., хранящейся в Архиве свящ. Павла Флоренского. — 282.
482
Быт. 1, 2, 6, 27.
483
Фил. 3, 14.
484
θεωσ/у, dcificalio, ΰεοηοίησις, чрез которое делаемся, по слову ап. Петра, «причастниками Божеского естества», ϋε ias ЖОІѴОѴОΙ φύσεως (2 Поел. Петра 14). Так называемый Дионисий А ρ е о π а г и τ называет этот процесс «священны м», / εράν ΰεωσιν (Сар. I de eccles. Hierarhia, sect. II, р. 128), и «нам соответственным обо же ни ем», την ημων ανάλογον ϋεωσιν (Сар. I de coelesl Ilicrarhia, sect. III, р. 4). По его объяснению, это — «некоторое, сколько возможное, уподобление и единение с Богом», ΰεωσ'α εστίν η προ$ ϋεον, i)s εφιχτον, αφομοιωσι* τε χα/ ενωσκ. Другие подробности см., напр., у Свицера (Ioh. Caspari Suiceri Thesaurus Ecclesiasticus etc. Т. 1, col. 1398).
485
См. прим. 16 к с. 74. — 284.
486
См., напр., «Прелюдии» Виндельбанда, пер. С. Франка: «Система категорий», стр. 334–350, особенно в начале. См. также мое Вступление к переводу «Ф и з и ч е с к, монадологии» Канта («Богословск. Вестн». 1905. № 9).
487
Идея функциональной зависимости в рамках теории множеств Георга Кантора получила новое содержание. Здесь разрывные функции стали общим видом функций, а непрерывные функции — лишь частным случаем разрывных. Теорию разрывных функций разрабатывал и учитель П. А. Флоренского Н. В. Бугаев (см. прим. 27 к с. 78). — 284
488
Было бы невозможно раскрыть их в статье столь короткой, да это нам и не важно.
489
Так, например, даже истасканная функция Е(х), — rentier от х», — никогда не выражается рядами, хотя не трудно при помощи рестрикторов получить выражения ее чрез тригонометрические или даже степенные ӑ double entrde ряды. Но, написав их, мы ничего не прибавляем к познанию внутренней природы функции, и вполне понятно, что пользующиеся ею до раздражения часто, быть может, никогда не видали достаточно громоздких рядов, ее реализующих. (См. мою работу «Об особенностях плоских кривых, как местах нарушения их непрерывности», ч. II.).
490
«Рестрикторами Флоренский называет функции, заданные на числовой оси, равные нулю (или единице) на некотором интервале (а : β) и соответственно единице (или нулю) вне его. Сегодня такие функции называют характеристическими функциями интервалов веществен-ной прямой» (Историко-математические исследования. Вып. 30. М., 1986. С. 188). «Рестрикторы играли важную роль в построениях П. А. Флоренского, связанных с идеей прерывности» (см. прим. С. С. Демидова к публикации: Лузин И. Л. (О рестрикторах]//'Гам же. С. 179—181). — 256.
491
...бежит невозвратное время (лат.). Вергилий. Георгики, III, 284/Пер. С. Шервинского. — 286.
492
Впрочем, этот случай будет отчасти затронут в статье: «О любви ко злу».
493
Набросок статьи «О любви ко злу» содержится в «Тетради II. Заметки и материалы» за 1904—1905 гг., хранящейся в Архиве свящ. Павла Флоренского. — 287.
494
Т. е. после некоторого, достаточно великого значения х, функция нигде уже не убывает.
495
Собственно, «раст — пора быстрого росту зелени, хлеба, пора дозревания плодов, ягод» (Даль. «Толков, слов.», т. 4, стр. 67).
496
Покуда мы отвлекаемся от возможности потусторонних воздействий, рассматриваем путь только -человеческий, в кругу сил, имманентных действительному и возможному опыту. Возрастание же типов мыслимо именно при толчке извне, оттуда‚ и, следовательно, по существу дела, носит характер прерывный.
497
Для обозначения миросозерцания, в основе которого лежит идея прерывности Н. В. Бугаевым был введен термин «аритмология». В узком смысле этого слова аритмология — это теория прерывных функций, в широком смысле — идея прерывности, свойственная всему формирующемуся миросозерцанию, грядущему на смену аналитическим созерцаниям разного рода, в основе которых лежит идея непрерывности. См. также прим. 27 к с. 78. П. А. Флоренский полагал, что аналитическое миросозерцание не способно объяснить свободу, веру, чудо, подвиг, творчество, красоту, целеполагание. Все эти понятия — аритмологические. — 288.
498
Слышал от покойного на его лекциях-беседах. В печати этот термин появляется, кажется, впервые.
499
См. прим. 27 к с. 78. — 289.
500
Можно видеть и непосредственно, что порода ax более породы x2m (или вообще xb), как бы ни было велико m. В самом деле: разлагая ax по строке Маклорена, имеем:
ax=1+lalx+l2a2lx2+l3a3lx2+l2a3lx3+l4a4lx4+…+l2ma2mlx2m+…+l2m+na(2m+n)lx2m+n+…+ и т.д.,
где la есть натуральный логарифм от а, а l2a ‚ l3a … и т. д. — степени его. Отсюда следует, что написанный ряд состоит из бесконечного агрегата функций, подобных y3, но с тою только разницею, что при степенях x есть некоторые коэффициенты, и что степени X идут все возрастая. Поэтому, как бы ни было велико 2m — показатель степени итерированной m раз функции степенной x2, всегда можно найти в написанном агрегате степеней такой член, у которого показатель степени (2m+n) больше, нежели 2m. Отсюда следует, что, как бы ни был велик порядок великости x2m, всегда в числе слагаемых (элементов) ax найдутся такие, порядок которых еще больше, т. е. тип возрастания axпревосходит тип всякой функции x2 и, следовательно, ax является функцией с бесконечностью высшей породы, трансцендентной для бесконечности функции x2.
501
Вл. Даль. «Пословицы русского народа». Изд. третье. 1904, СПБ и М. Т. 5, стр. 21-31
502
См. прим. 127 к с. 124. — 291.
503
Считаем неуместным приводить здесь математическую литературу по данному вопросу, т. к. это заняло бы без нужды слишком много места. Указания по ней можно найти у Шснфлисса в Encyklopadie der mathematischcn Wissenschaftcn, редактируемой Мейером, Буркгардтом и др. (см. II Лііз, I А5п и др.). Особенно, см. Mathemat. Лппаіеп, 8 (1875), р. 363 и 11 (1877), р. 149, где помещены статьи дю Буа Реймон а. Суммарное изложение у Б о ре л я (Ьсҫопѕ sur la thdorie dcs fonctions, pp. 111–122). Маленькая заметка на ту же тему помещена Борелем в Revue philosophique, XL ѴШ, 1899, pp. 383–390. (A propos de Г«іпГілі nouveau».) См. также: Ε. Borel, Ьеҫопѕ sur lcs sdncs a tcrmes positifs. Читатель, знакомый с литературой предмета, заметит, что мы несколько расширяем понятие о типе и, вместе с тем, смысл дю–буа–реймоновской теоремы; в то же время упрощается ход доказательства.
504
Например: сложение — вычитанием, умножение — делением, потенцирование (возведение в степень) — радицированием (извлечением корня) и т. п.
505
Метод, широко использованный в современной основополо- жительной математике, например в теории групп, в теории функций, в теории чисел и т. д.
506
По недостатку места на черт. 1 изображен только кусок оси О У. Начало координат О не поместилось в пределах чертежа, равно как и точки а и b.
507
Читатель, конечно, заметит и поставит на вид странное, как будто, упущение: в статье говорится о духовном развитии, о святости, о совершенствовании и, вместе с тем, как будто нарочно замалчивается та область, где эти понятия играют первенствующую роль, — Библия и свято–отеческие писания. Объяснимся. Две причины не позволили воспользоваться тут этим материалом, расстилающимся пред работником мысли как целина, не познавшая еще плуга отвлеченной обработки. Во–первых, этот материал слишком обширен, чтобы его вместили размеры статьи, и слишком ценен, чтобы можно было небрежно вырвать из него две–три данные. Во–вторых, и главным образом, в указанных источниках типы возрастания рассматриваются динамически, в возникновении их, и рассмотрение их связывается с ниспосылаемой благодатью; мы же, в настоящей статье, имеем дело со статикой типов, с данными в наличной действительности неравенствами типов и рассматриваем самые типы и их неравенства, но не причину того и другого. Отсюда делается понятным, что библейские и святоотеческие свидетельства наиболее уместно будет разобрать при изучении динамики разбираемых нами типов, т. е. в статье «О возрастании типов». Кроме того, Библия и святые отцы большею частью предполагали готовые религиозные идеи, догматически идя от Бога к человеку. Цель же наших статей — пропедевтическая, и потому ход мысли критический — от человека к Богу. Это еще раз показывает, что сейчас было бы неудобно пользоваться названными свидетельствами.
508
Мф 5, 6. Эти слова включены в Литургию: их поет хор во время Малого входа. — 300.
509
Флоренский резко отрицательно относился к распространившимся в России оккультически-магическим движениям, литературу которых, как писал он, «едва ли у кого будет охота перечитывать» (Флоренский П. А. Отзыв о канд. соч. студента LXVI курса МДА М. Семенова «Типы современных оккультических движений в России»//Богословский вестник. 1912. Т. I. № 3. С. 326). «Большинство исследователей не отдает себе отчета, что оккультическая мистика вовсе не есть только учение, а есть прежде всего деяние, действо, практика; теория же вырастает уже на почве практики. Вот почему, будучи слабой и ничтожной в своем учении, этого рода мистика заразительна, сильна и опасна как непосредственное переживание» (Там же. С. 327). Магия — понятие многозначное у Флоренского: в это понятие он вкладывал смысл, отличный от общепринятого. Магическим будет «всякое воздействие воли на органы тела»; «...граница тела может суживаться, почти до исключения из тела большей части его объема, а может и расширяться неопределенно далеко. Магия, в этом отношении, могла бы быть определенной как искусство смещать границу тела против обычного ее места» (Флоренский П. Л. Органопроекция//Декоративное искусство СССР. 1969. N° 12. С. 40). В таком предельно широком понимании элементы магии, как орудия воздействия, есть во всякой деятельности человека: сакральной (имена), мировоззренческой (термины, понятия), хозяйственной (орудия техники), художественной (звуковые и зрительные образования). — 301.
510
Это предположение чисто–формальное, для пояснения мысли; реального же смысла пока мы не можем видеть в нем.
511
Поясним это аналогией биологического развития. «Роды» и «виды» в биологии несколько напоминают породы и порядки бесконечностей в математике. Особи разных «родов» или разных «видов» в своем онтогенез и се (развитие особи) повторяют фазы филогенезиса (развитие рода) и потому до известного момента своей утробной жизни оказываются неразличными; пути их развития до поры до времени идут вместе. Только впоследствии они расходятся между собою все более и более, устремляясь к совершенно различным целям, подобно кривым ψ1, ψ2, ψ3, …, ψn и т. д. (§ III), причем одни пути идут совместно на более долгом протяжении, другие — на менее долгом. Но мало того; в то время как месячный котенок живет уже более или менее самостоятельною жизнью, параллельно ему развивавшийся ребенок все еще остается не родившимся куском мяса. Λ когда ребенок родился и беспомощно и безмысленно копошится в пеленках, котенок готов уже превратиться в кошку. Но проходят годы, и выросший ребенок превращается в организм, неизмеримо превосходящий кошку.
512
Данного места у Гейне найти не удалось. — 302.
513
Томас Карлейль (1795—1881) — английский философ и писа-тель. — 303.
514
Исторические и критические опыты Томаса Карлейля. Пер. с англ. Μ. 1878; стр. 348. Из статьи *Р о б е ρ τ Берне».
515
Случай после посещения папской капеллы. [См. Карпентера «Физиология ума».].
516
Приводимая здесь первоначальная редакция стихотворения М. Ю. Лермонтова вписана им 4 сентября 1839 г. в альбом М. А. Бартеневой (Лермонтов М. Ю. Собр. соч. Т. I. М., 1964. С. 575). — 304.
517
Строфа из стихотворения В. Я. Брюсова «Одиночество» (1903). Брюсов Валерий. Urbi et Orbi. Стихи 1900—1903 гг. Μ., 1903. С. 93.— 305.
518
Из стихотворения А. Белого «Образ вечности», посвященного Бетховену. Впервые опубликовано в альманахе «Гриф» (М., 1903). Включено в сборник «Золото в Лазури» (М., 1904).
В жизни загубленной образ возлюбленной —
Вечности, с ясной улыбкой на милых устах.
(Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. С. 83). — 305.
519
Из стихотворения А. А. Фета «Сегодня день твой просветленья», написанного 19 июня 1887 г. См.: Фет А. А. Вечерние огни. М., 1971. С. 290. — 305.
520
Из стихотворения Л. Блока «Брожу в стенах монастыря...» от 11 июня 1902 г. См.: Блок А. Собр. соч. в восьми томах. Т. 1. М.; Л., 1960. С. 198. — 305.
521
Мф 6, 27. — 305.
522
«Слова разочарованного. — Я искал великих людей и всегда находил только обезьян их идеала» (Ницше, Помрачение кумиров, Афоризмы и стрелы, 39).
523
До сих пор, в рассуждениях об исследуемой функции, мы отвлекались от наличности в ней «произвольного параметра», волевого напряжения — точнее, предполагали его определившимся и постоянным, достигшим своего максимума. Принимая во внимание и его, мы должны сказать, что изменение волевого параметра деформирует траекторию, как бы заставляя время сжиматься или растягиваться, течь быстрее или медленнее. Но, как ни меняйся параметр, типы возрастания соответствующего семейства всегда имеют типы трансцендентные для себя. Это видно из доказанной теоремы (хотя группа линий семейства имеет мощность бӧльшую, чем счетовая), т. к. волевое усилие изменяет тип всегда в одном смысле.
524
Мф 11. 11. — 306.
525
«Честнейшая херувим и славнейшая без сравнения серафим» — так названа Богородица на Литургии св. Иоанна Златоуста. См.: Георгиевский А. И. Чинопоследование Божественной Литургии. М., 1951. С. 111. — 306.
526
Франциск Ассизский (ок. 1181 —1226) —святой римско-католиче-ской церкви. Π реп. Серафим Саровский (1760—1833)—святой русской православной церкви. IIреп. Амвросий Оптинский (1812—1891) — святой русской православной церкви. — 307
527
См. «Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни и Предтечева Скита». Вновь составленное Е(растом) В(ытропским) издание Оптиной Пустыни. Серг. Лавра, 1902, стр. 119.
528
Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни и Предте-чева Скита (Калужской губернии). Вновь составленное Е(растом) В(ыторпским). Изд. Оптиной Пустыни. Св.-Троицк. Сергиева Лавра. 1902. С. 119. — 307.
529
Жизнеописание Иеромонаха Серафима, написанное Иером. Иоасафом (не знаю точного заглавия, т. к. первый лист выдран), изд. 2–ое, стр. 66–67. Особенно интересно тем, что рассказы живые и не подвергнуты обычной житийной дистилляции.
530
Ср.: Сказания о жизни старца Божия Иеромонаха Серафима пустынника и затворника Саровской обители. Составлены схиигуменом Серафимом (о. Иосаф Тихонов), бывшим настоятелем Павло-Обнорского монастыря Вологодской епархии. Изд. 4. СПб.: Изд. Сераф.-Понет. женского монастыря. 1885. С. 55—56 (2-е изд. этой книги найти не удалось). — 307.
531
В. Розанов. «Около церковных стен», 1906 г., т. И, стр. 121-123 и след. См. также в «Нов. Вр.»
532
Имеется в виду статья В. В. Розанова «Из житейских и литературных мел о чей»//Ново е время. 1903. 21 и 22 января. С. 2. См. также: Розанов В. В. Оптина пустынь//Около церковных стен. Т. 2. СПб., 1906. С. 95—128 (указано В. Г. Сукачем). — 309.
533
Из стихотворения В. А. Жуковского «Счастье» (1809): перевод стихотворения Шиллера «Das Gtiick» (Жуковский В. А. Собр. соч. в четырех томах. Т. 1. М.; Л., 1959. С. 95). — 310.
534
Отрывок из стихотворения А. А. Фета «Что ты, голубчик, задумчиво сидишь...», написанного II февраля 1875 г. (Фет А. А. Вечерние огни. М., 1971. С. 43).— 310.
535
Из стихотворения В. А. Жуковского «Счастье». См. прим. 30. — 311.
40Мережковский Д. С. Грядущий хам. СПб., 1906. С. 4. Мереж-ковский вольно, с добавлениями пересказывает содержание «Прибав-ления» к гл. III части III «Былого и дум» А. И. Герцена, которая называется «Джон Стюарт Милль и его книга «Он liberty»». Слова, цитируемые Флоренским, по всей видимости, принадлежат Мережков-скому. — 314.
41круг земель; вся земля; весь известный мир (лат.). — 315.
42 Из просительной ектении «Литургии верных» (см.: Георгиевский А. И. Чинопоследование Божественной Литургии. М., 1951. С. 89). — 317.
536
Майков А. И. Полн. собр. соч. Т. 1. СПб., 1914. С. 9.— 311.
537
С разрешения автора, г. И. — Могут возразить мне, что данное письмо слишком проникнуто явно-выраженным личным чувством, чтобы придавать значение такому документу. Но, соглашаясь с подобной характеристикой письма г. И., протестую против заключения, и по двум причинам. В о-п е ρ в ы х, за тоном, повышенным от личного чувства, скрывается вполне определенный факт, что было что-то в г. Э., могло возбудить при разговоре о нем повышенность тона, и с этим «что-то» надо считаться. «Но, может быть,-скажут мне, — подобные чувства способны возбудить и другие лица». Не знаю; однако нет ничего странного, что и у них имеется свое «что-то», мимо чего большинство проходит невнимательно. Может быть, и каждый из них «гадкий утенок» из сказки Андерсена, — молодой, неоперившийся Лебедь, которого видит в «Утенке» только любящий взор. Но вернемся к разбираемому случаю. В о-в τ о ρ ы х, мне известны аналогичные (хотя и не столь повышенные по тону) свидетельства других лиц, и последние представляют дело по существу так же. прочем, не стану настаивать (потому что это мне не так важно) на объективной значимости содержания письма. Таков ли г. Э. или не таков — почти безразлично. Важно то, что читатель может составить себе по данному письму некоторый образ, хотя бы он был чисто-художественным, и некоторое понятие о том, какие переживания сопровождают общение с личностью высшего типа. Л в этом все дело.
538
«Э» — Сергей Семенович Троицкий. В Архиве свящ. Павла Флоренского сохранился черновик этого «письма». На полях имеется запись: «О мой Сережа. Ни о ком, как о тебе, я столько не думаю. Поймешь ли меня?» В тексте черновика вместо «Э» стоит «С». Черновик несет на себе следы большой работы над текстом. Сохранилась также корректура с надписью рукою Флоренского: «Для отдельного оттиска. 10 на хорошей бумаге и с надписью: Сергею Семеновичу Троицкому — Другу и Брату». Ниже «И» — В. А. Ильинский. — 312.
539
строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Ангел» (1839).— 312.
540
Царица мира (греч.). — 313.
541
Мать богиня (греч.). — 313.
542
Божья Матерь (греч.). — 313.
543
По поводу последних слов г. И. сделаю маленькое примечание. Человечество рассматривается теперь в качестве s h а і г ά s t а t! s t і q и с, и не мудрено, что под таким углом зрения исследователи упорно не замечают кричащих различий между личностями, сливая всех в серый комок, в «сплоченную посредственность (conglomerated mediocrity)» (Дж. Ст. Милль)39, в «паюсную икру, сжатую из мириад мещанской мелкоты* (Герцен)40: это, мол, только особи. Нежелание признать наличность типов возрастания заставляет боязливо стирать все различия, потому что они могли бы открыть глаза на существование духовной иерархии. Одно из таких различий в продолжение тысячелетий единодушно указывается священными книгами и литургическими памятниками всего рода людского, настойчиво, будто для обличения предвзятости, тысячекраты отмечается целою толпою свидетелей и оно, именно, многозначительно игнорируется — говорю о том, что святость и свет какими-то таинственными узами связаны между собою в человеческом сознании, и об этом кричит весь orbis terrarum41. Что святые наслаждались в своих созерцаниях «сладостью неизреченного света»; что подвижники во время видений сами сияли светом, и что это видели окружающие их; что сотни нравственно-религиозных «метафор» во всех языках и не меньшее множество ритуальных действий всех народов устанавливают ту же связь между впечатлениями от высокодуховной личности с впечатлениями от света или чего-то в этом роде — все это несомненно, все это великолепно знает каждый, кто хотя бы одним глазом беспристрастно заглядывал в Библию, святоотеческую литературу, в требник любого исповедания, в житие любого святого и т. п., кто сколько-нибудь непредвзято вдумывался в то, на что тычет пальцем и язык, и быт. Если бы ничтожную долю относящихся сюда свидетельств выписать на лоскутах бумаги и взвалить бремя выписок на спину современному позитивисту, то его спрессовало бы в лист, как какого-нибудь археоптерикса. Но и это соображение на позитивиста не подействует. Ведь он не спорит и не сомневается; он презрительно отмалчивается и легкомысленно скользит взглядом по внушительному арсеналу фактов: решил себе, что это-«только так», «поэтический оборот речи, укоренившийся от исторических влияний», и... успокоился. Говорят ему: «вот Л, Б, В и т. д. утверждают, что они сами имели переживания такого рода; по словам самовидцев тут, действительно, привносится в сознание какой-то специфический элемент, устанавливающий связь между светом и святым; имеется особая данная для сравнения того и другого». Но собеседник — все свое: «Метафора,-не более. Или, в некоторых случаях, просто световые ощущения, не имеющие никакой объективной значимости». — «Скажите, — спрашивают его, — могут ли просто световые ощущения занимать высоконравственных людей-людей, которых другие не могут не признавать цветом рода людского? Могут ли просто световые ощущения привлекать к людям тысячи посетителей? Л, с другой стороны, стоило ли бы говорить обо всем этом, как о чем-то особенно важном и особенном, если бы дело шло о простой метафоре? Подумайте: что-нибудь обозначается же нею. На что-нибудь опирается же метафора столь живучая». — «И думать не стану: все это чепуха и мистика. Кто может этому серьезно верить?»-«Да Вы пойдите и посмотрите, может быть и сами увидите». — «Тогда, значит, и я психоз», и т. д. Л между тем, указываемая категория фактов чрезвычайно важна. Ведь в ней, по-видимому, даются некоторые признаки, чтобы «объек-тивно» доказать действенность «идеального» фактора, дается ощутительность дыханию святости, даются ключи к тайникам религиозной жизни, полным старинного золота, осмысливается многое, что большинству кажется бессмысленным (напр., в культе) и что, однако, по неумолимым законам духа, из столетия в столетие, от народа к народу повторяется по всей земле. Эти явления «благодатного света» слишком существенны, чтобы можно было замалчивать их далее. Они требуют своего разбора и, если бы даже отринуть объективное содержание всех свидетельств, то все же останется еще другой факт — факт, делающийся при предложенном отрицании бблее загадочным, еще настоятельнее требующим внимания к себе, — это, именно, повсюдная повторяемость и всеобщность самого свидетельствования, какая-то внутренняя необходимость для человеческого духа свидетельствовать о «благодатном свете». Эти факты, повторяю, ждут своего исследователя. (Небольшая часть материалов по этому вопросу будет рассмотрена в одной из статей, соприкосновенных с работой «О возрастании типов».)
544
Сплоченная посредственность — выражение из книги английского философа Джона Стюарта Милля (1806—1873) «On liberty» (В русск. пер.: Милль Джон Стюврт. Утилитарианизм. О свободе/Пер. А. Н. Неведомского. Пб., 1866—1869). — 314.
545
Мережковский Д. С. Грядущий хам. СПб., 1906. С. 4. Мереж-ковский вольно, с добавлениями пересказывает содержание «Прибав-ления» к гл. III части III «Былого и дум» А. И. Герцена, которая называется «Джон Стюарт Милль и его книга «Он liberty»». Слова, цитируемые Флоренским, по всей видимости, принадлежат Мережков-скому. — 314.
546
круг земель; вся земля; весь известный мир (лат.). — 315.
547
Из просительной ектении «Литургии верных» (см.: Георгиевский А. И. Чинопоследование Божественной Литургии. М., 1951. С. 89). — 317.
548
В составленный автором список литературы внесены незначительные редакторские исправления. Ссылки на сочинения из данного списка в тексте даются в скобках; первая цифра указывает сочинение, вторая — страницу. — 318.
549
Здесь подробно пересказывается содержание книг: Schmollcr, Die Lehre ѵоіл Reichc Gottcs in dcn Schriften Neues Testaments, 1891; AVciss, Dic Predigt Jesu vom Rciche Gottes, 1892; Issel, Die Lchre vom Reichc Gottes im Ncucn Tcstament, 1891
550
Выходила отдельным изданием: Керенский В. А. Школа ричлиан- ского богословия в лютеранстве. Казань, 1903. — 3/9.
551
Книга вышла анонимно. Об авторе ее смотри «Московский сборник» К. П. Победоносцева.
552
Этим знаком отмечены книги, которыми я пользовался только для случайных справок. — П. Ф.
553
Греческий текст Иринея Лионского приводится по следующему изданию: Palrologiae cursus completus. Ed. J. — P. Migne. Series graeca. Tomus VII. Paris, 1857. — 323.
554
народное собрание (в Новом Завете — собрание христиан, церковь), тело, святой (греч.). — 324.
555
Высокопреосвященный Филарет Московский по поводу одного места восклицает (Слова и речи, ч. 1, с. 88): «О возлюбленная заповедь любви! Как достойно сожаления, что так долго не разумели силы твоей, сокрушали зуб о жесткую кору письмени, и не имели вкусить сладкого зерна, в ней заключенного».
556
См. прим. 22 к с. 558. — 324.
557
Позволю себе воспользоваться словом, введенным Кольриджем и повторенным вслед за ним Шеллингом (см. Fr. Wilh. Joseph von Schellings ѕӑпиіісһе Werke, zweite Abtheilung, Erster Band, S. 196, Anm. 1. Einleitung in die Philosophic der Mythologie achte Vorlesung. Stuttgart u. Augsburg, 1856).
558
«Мифология — не аллегорична, она тавтегорична. Боги для нее — действительно существующие существа, которые вовсе не что то иное, которые не значат ничего иного, но значат лишь то, что они есть» (Шеллинг Ф. В. И. Соч. в двух томах. М., 1987—1989. Т. 2. С. 325). — 325.
559
Was man nicht weiss, das eben brauchte man,
Und was man wciss, kann man nicht brauchcn.
«Faust» von Gothe. Vor dem Thor.
560
В переводе Б. Л. Пастернака:
В том, что известно, пользы нет,
Одно неведомое нужно.
(Гёте И. В. Фауст. Трагедия. М., 1983. С. 39). — 325.
561
Заметим, впрочем, что тот же Святитель в проповедях своих проводил иной взгляд и мысли глубоко–мистические на природу Церкви. (См. 10, 21, след.)
562
Проблема слова–имени является главной в книге «У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики)». См.: Флоренский П. А. Т. 2. У водоразделов мысли (Приложение к журналу «Вопросы философии»). М., 1990. С. 232—338. — 326.
563
«…и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, а что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф 16, 18—19). — 327.
564
от сделанного (лат.). — 329.
565
Еретическое учение в христианстве, отрицающее догмат единосущна Бога Огца и Сына. — 329.
566
Сторонники Нестория, подвергшие сомнению догмат воплощения: согласно этой ереси, Богородица родила не Бога, а человека (поэтому они именуют Ее — Христородицей или Человекородицей). — 329.
567
«Un corollairc du christianisme», «un produit contingent de la foi».
568
«Un dpanouisscmcnt de la foi» — собственно «распускание бутона веры».
569
Фалло говорит, собственно, только о таинстве крещения, которое некоторые не считают возможным совершать над младенцами и тем придают чрезмерное значение человеческой воле.
570
фалло — католический богослов; цитируемая работа оказалась для нас недоступной. — 330.
571
«…веренье (сгоуапсе) есть не более как логическое мнение и никогда не может стать верою, хотя нередко и присваивает себе ее название» (Хомяков А. С. Соч. Изд. 4. М., 1900. Т. И. С. 202). — 330.
572
Епископ Феофан (40, 279–281), объясняя этот стих, приводит следующие слова Феофилакта: «Не говори, что Церковь люди собрали. Она есть дело Бога, — Бога живого и страшного, а не мертвого и немощного, каковы боги еллинов» и Экумения: «Она Богом устрояет- ся, Богу посвящается и Бога имеет живущим в себе». «Сия-то Церковь, — говорит епископ Феофан, — есть столп и утверждение истины. Ибо есть Церковь Бога жива, который есть Бог истины, или самая истина. Почему всё в ней истинно — истинно исповедание веры, истинно освящение таинствами, истинно облагодатствование, истинна жизнь по Богу, Богом в ней зиждемая, истинна помощь Божия, истинны обетования, животворящие труждаюіцихся в доме Божием, — всё истинно в ней; и в другом где-либо месте не ищи истины. Есть подобия некие истины и вне ее; но настоящая истина только в ней… Слова: столп и утверждение — выражают твердость, непреложность и неизменность истины…»
Блаж. Феофилакт (см. там же) пишет: «Церковь есть истины совмещение. Ибо всё, в ней совершаемое, истинно, а не сеновидно, не образно, каково то, что в Церкви подзаконной…» См. также толкование на этот стих у Вейсса (57, 618–619).
573
истины (греч.). — 331.
574
церковь (лат.). — 331.
575
Короче говоря, если временно назвать чрез ecclesia17 не Церковь в ее целом, но только нормальную человеческую ее сторону, то выставленную противоположность двух односторонних антиномистичных теорий (объединяющихся лишь в непосредственном религиозном опыте верующего сознания) можно представить наглядно противположностью двух афоризмов, ведущих свое происхождение от глубокой древности. Это: Ubi spiritus, ibi et Ecclesla и Ubi Eccle- sia, ibi et spiritus. По первому из них выходит, что люди могут ничего не делать, а по второму — «что в них — всё дело» (см. также 26, 66).
576
Где дух, там и Церковь… Где Церковь, там и дух (лат.). Ср.: «Где Церковь, там и Дух Божий, и где Дух Божий, там и Церковь и всякая благодать. Дух же — истина» Uren. Наег lib. III. С. 24. § 1). — 332.
577
первый среди равных (лат.). — 332.
578
Тем более, что превосходный разбор относящихся сюда деталей читатель может найти в много раз цитированной книге Jalaguicr, отчасти у Fallot, WestphaPfl и др., а также (в более общем виде, применительно к религиозным сообществам вообще) у de la Grasscrie (35, 194–203), где разбираются «болезни» церковного организма и ставится вопрос о «rhygiene religieusc».
579
религиозная гигиена (франц.). — 334.
580
по желанию (лат.). — 335.
581
Мы привели (пока предварительно) синодальный перевод. Главное затруднение — в последнем стихе; ввиду этого приведем еще несколько переводов его.
Славянский пер.: «…яже есть тело Его, исполнение исполняющего всяческая во іісех».
Латинский пер. Феод. Безы: «…quae est corpus ipsius et com- plementum ejus qui omnia imptet in omnibus».
Немецкий пер. Мл ρ т. Лютера: «Welche da 1st sein Leib namlich die Fiille des, dcr alles in alien erfiillet».
Английский пер. Библейск. Общ.: «Which is his body, the fulness of him that filleth all in all».
Еврейский пер. Делича (Изд. Библ. Общ. 1902 г.): «'аѕег hi' gupho mclo* sel hamemate* *et hakol bakol».
Русский пер. Хомякова (4,389): «…которая есть тело Его, полнота Того, Кто всё во всех исполнил».
582
Доказательство, что именно так надо понимать Εφ. 1, 23, дается в дальнейшем.
583
Св. Иоанн Златоуст (345—407) — выдающийся церковный писатель, архиепископ Константинопольский; Экумений (X в.) — византийский церковный писатель, известен как автор комментариев к Новому Завету. — 337.
584
Migne 62, 26 и Occum., 118, 1185. См. 39, 327–328.
585
По поводу ст. 24 епископ Феофан (42, 108) замечает: «Мог бы подумать иной: пусть человек в лице Господа стал выше всего; нам же что от того? — То, что Бог, возвысив так естество наше в лице Спасителя не оторвал Его от нас, но дал главою Церкви, Которая есть тело Его. Если достоинство главы отражается на теле, то возвышение главы есть возвышение и тела, т. е. и нас всех верующих, составляющих тело Церкви. Какое воодушевление для сознавших сие?! — Св. Златоуст и взывает при сем: «Αχί и Церковь куда Он возвысил? Как бы некоторою машиною поднявши ее, Он возвел ее на высоту великую, и посадил ее на том же престоле, ибо где глава, там и тело»».
586
1, 61–99, гл. IV.
587
здесь: которая (греч.). — 338.
588
есть (греч.). — 338.
589
Мф. 2, 6: 7. 26; 13, 52; 16, 28; 20, 1; 25, I. Мр. 15, 7. Лк. 2, 10; 7, 37; 8, 3.
590
«Nicht selien geht ооτα auch auf einen bestimmten Gegenstand («doch so, dass dieser dadurch auf eincn zum Grunde liegcnden allgemeineo Begriff zuruckgcfiihrt wird».
591
В сноске Флоренский приводит немецкий оригинал переведенной им фразы. — 339.
592
Так употреблено οστιτ (по Гримму) • след. местах: Еф. 3, 13. Мф. 7, 15. Деян. 10, 47; 17, 11. Рим. 1, 25, 32; 2, 15; 6, 2; 9, 4; 16, 7Ѵ 2; 2 Кор. 8. 10; 1 Тим. 1, 4. Тит. 1, 11. Енр. 8, 6; 1 Петр. 3Ѵ 11. Откр. 12, 13 сл.
593
«Auch kann die Hinweisung auf einen Crund 1η ο στη liegen, weil er, wlefern er, wie das lateiniache u! qui, quippe qui»26.
594
Немецкий текст вышепереведенной фразы. — 339.
595
Собственно, Пейсс говорит про всю фразу: «argumentierend».
596
«Приветствуйте Приск(илл)у и Акилу, — которые (omves) голову свою полагали за мою душу, которых (ots) не я один благодарю» (Рим. 16, 3, 4). Сравн. также ст. 5 (of9 ибо делается простое констатирование) и ст. 6Ѵ 12 (ητκ, ибо дается характеристика, устанавливается известная причинная связь между приветствием и лицом, которому привет посылается).
597
который (греч.). — 340.
598
В современных изданиях Нового Завета на русском и латинском языках в этом фрагменте (Εφ 1, 23) отсутствует предлагаемая П. А. Флоренским поправка «именно». — 340.
599
полнота (греч.). — 340.
600
Не плотник ли Он… (Мк 6, 3)
Вы — соль земли (Мф 5, 13)
Вы — свет мира (Мф 5, 14)
Светильник для тела есть око (Мф 6, 22)
Ты — Христос, Сын Бога Живаго (Мф 16, 16)
Ты Царь Иудейский? (Мк 15, 2)
Я есмь воскресение и жизнь (Ин II, 25) (греч.). — 341.
601
Как утверждает Ив. Мансветов (2, 75, по поводу Εφ. 1, 23).
602
«Апостол Павел жизнь и сложение церкви представляет под удобопонятным для нас образом жизни и устройства обыкновенного органического тела» (Мансветов И. Новозаветное учение о Церкви. М., 1879. С. 75). — 343.
603
(1, 25) со ссылкою на Curtius, Grundz. der griech. Etymol. 5–te Aufl. Lpz., 1879 и Prellwitsch, Etymologischc Wortcrbuch dcr gr. Spr. Gotting., 1892, 60, 535; σώζω. Это примечание относится ко всему началу § IV.
604
Хомяков. Т. V, изд. 3, 1900, с. 582.
605
Наиболее точный — славянский: юже с телом содела. Другие — менее точны.
Так, русский: «что он делал, живя в теле». Латинский Феод. Безы: «іп согроге». Английский Библ. Общ.: «in his body». Немецкий Лютера: «Ьеі Leibes Lcben».
606
Plat. Tim. 31, B. Diod sic. 1. 11 (60, 542).
607
См.: Платон. Соч. в трех томах. Т. 3. Ч. I. М., 1971. С. 472; Diodori Siculi Bibliothekae Historikae. Tomus I. Lipsiae, 1829 (1.11). P. 19—21. — 345.
608
Рим. 12, 4–8; 1 Кор. 12; Гал. 2, 20; Εφ. 1, 22, 23; 2, 16–22; 4, 4–16; 5, 22–23; Флп. 2. 5; Кол. 1, 18–29; 2, 17–19.
609
Ср. гл. 3, Ѕ Ш.
610
Ср. гл. И, § I.
611
большая посылка (лат.): церковь–тело Христово (греч.);
меньшая посылка (лат.): мы верующие — тело Христово (греч.);
следовательно, заключение (лат.): мы верующие — церковь (греч.).
Вывод на основе третьей фигуры силлогизма. — 347
612
Ср. гл. in, § HI.
613
здесь: причащаться (греч.). — 348.
614
См. святоотеческие свидетельства насчет этого в (I, 62 и след.).
615
Точнее сказать было бы: «перестает быть Телом Христовым, вращивающим в себя верующих».
616
Цитата, приводимая в (1, 157) без ссылки.
617
«Верующие разумеют тело Христово, если они не небрегут принадлежать к телу Христову» (Aug. Trakt. 26, 13). Во 2–м изд. книги Е. Аквилонова (СПб., 1904. С. 103) ссылка есть. — 348.
618
Николай Кавасила — митрополит Солунский (1360–1390), как известно, был защитником афонских монахов в их учении о вечном, не создан ном божественном свете. («Энц. Слов.» Брокгауза и Ефрона. Т. XXI, с. 117). См. также (1, 82) и ♦Прав. Бог. Энцикл.» А. П. Лопухина–Н. Н. Глубоковского, т. VII, с. 627–630 — ♦Кавасила Николай», ст. И. И. Соколова.
619
Ερμηνεία ти‹ј›аХаиї›дҧѕ єһ την ϋείαν Λατουργιαν> Par. 1624. fol. Рус. лер. Николай Ҟавасила. Изъясн. бож. литург. гл. 38. См. Писание свв, оо. и учит. Церкви. СПб., 1857, III, 384–385. Цитата из Аквилонова, с. 82.
620
здесь: единственное в своем роде (лат.). — 349.
621
Епископ Антоний (Храповицкий). Нравст. идея догмата Церкви, «Вера и Церковь», 1901, т. II, с. 375.
622
Там же, с. 380–384.
623
Другие места о Церкви, как Теле Христовом, см. в «Словах» того же Святителя. Указания см. в (10, 40, 41, 44).
624
Иванцов–Платонов. «Прав. Обозр.», 1878, 2, с. 444.
625
Собственно, Керенский говорит о Царстве Божием.
626
Альбрехт Ричль (1822—1889), протестантский теолог, близкий к традициям немецкой классической философии, в особенности Канта и ІІІлейермахера, оказал большое влияние на формирование взглядов Гарнака и Трёльча. — 350.
627
«Это две совершенно разные вещи — бывать в Церкви или быть ее частью» (франц.). — 350
628
J. Chrysostomus. In ер. ad Ерһеѕ. с. L. hom. III, Орр. ed Mintf. XI. 24; рус. пер. с. 47. Цитата из Аквилонова, с. 102.
629
«…полнота Наполняющего все во всем» (греч.). — 353.
630
Критику и изложение их см. в (55, 29–32). Тут же указаны некоторые источники. ӗ
631
Пока упомянем: 62, 354–355: πληρψ, πληροφορία etc.; 61, 302–303: те же слова; 60, 502–505: те же слова; 2, 89, 90; 39, 330–336; 64, 612.
632
Хомяков. Т. V. С. 265.
633
См. источники, указанные в прим. 48.
634
тем самым (лат.). — 355.
635
Они собраны в источниках, указанных в прим. 48, — особенно в (60).
636
прошедшее совершенное время (лат.). — 356.
637
χαυχημα 2. Привожу в тексте примеры, так как возможность подобного значения πλήρωμα некоторыми (как, например, Г. А. Вил. Мейером, из наших — Богдашевским) оспаривается.
638
Сперва кажется, что тут слово πλήρωμα имеет значение завершения, но, вглядевшись в контекст, убеждаемся, что тут указывается на то, что любовь, будучи, так сказать, суммою закона (Рим. 13, 9), тем самым исполняет, осуществляет на практике закон, является Verwirklichung der Geaelz (60, 505), как это и заповедал апостол (Рим. 13, 8, сравн. также Гал. 5, 14).
639
здесь: действие исполняемое. — 356.
640
по преимуществу (лат.). — 357.
641
здесь: специальный термин (лат.). —359.
642
У Гольтцманна и Плейдерера приведена и литература.
643
У Nestle отсутствует; у Tischcndorf'a имеется.
644
средний залог (лат.); страдательный залог (лат.). — 360.
645
Относительно лаѕ и о лаѕ см. (66, 157–159; 55, 36).
646
«πληρουσΰαι (mcd sibi, і. с. ad consilia sua ckscquenda)».
647
инструментальный датив (лат.): в греческом языке обозначает предмет или понятие, при помощи которого совершается действие. — 362.
648
«…ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (греч.). — 363.
649
Как, например, переводит Grimm, р. 1: in omnibus locis.
650
Слова Шенкеля из его толкований на это место Поел, к Еф.; см. (55, 37).
651
Мы не будем входить в детальное рассмотрение этого текста, тем более что весьма подробный экзегезис его можно найти в (2, 143–160); (39, 557–565); (42, 273–280); (59, §§ 140–145) и др. См. также (30, II, 244, 257).
652
Расчленение сделано проф. Богдашевским. Не останавливаясь на доказательстве правильности его, отсылаем читателя к источникам, упомянутым в прим. 56, особенно к Мансветову и Богдашев- скому.
653
(42, 277); там же слова со. Златоуста, говорящего, что св. Павел в данном тексте «довольно не ясно изложил свои мысли–оттого, что хотел высказать все вдруг». Также (59, 107).
654
По свойству πα* о.
655
соединяемо и скрепляемо (греч.). — 368.
656
Ср. Herod. 1, 74; Thuc. 2, 29, 5; Plat. Rep. p. 504. Л. Кол. 2, 2.
657
В (39, 559–560) указаны некоторые из них.
658
Здесь в текст Флоренского вкралась ошибка: названного греческого слова нет в 1 Петр 4, 4. Анализируя эти фрагменты, Д. Богдашевский (в указ. соч., с. 560) отмечает, что «речь идет о божественном подаянии», о «подаянии Духа». — 371.
659
Иоанн Златоуст, блаж. Феодорит, Экумений, блаж. Феофилакт, Преосв. Феофан (Затворник), Meyer, Wohlenberg. — См. (39, 562563, 563 прим. 3).
660
здесь: по мере (греч.). «и как по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры…» (Рим 12, 6). — 373.
661
энергия (греч.). — 373
662
Беседы на послание к Ефесянам. СПб., 1858, с. 188. См. (2, 155); (42, 278).
663
…и$ Которого все тело… получает приращение для созидания самого себя в любви (греч.); в скобках «Христос» — добавлено Фло–ренским;…от которой все тело… растет возрастом Божиим (греч.). — 373.
664
Такую же расстановку слов признают Ilaupt, Ellicott, Abbott, Braunc.
665
Конечно, это только гадания. Блаж. Феофилакт (см. (41,131)), напротип, видит в «мускулах» — Апостолов и учителей, а в «нервах» — Самого Иисуса Христа. Впрочем, те или другие детали толкования и не особенно важны, коль скоро уяснен общий смысл.
666
1 Кор. 11, 3; Еф. 4, 15; Еф. 5, 23; Кол. 1, 18; Кол. 2, 10, 19; Εφ. 1, 22.
667
Словарь русск. языка составлен. Имп. Акад. Наук, втор, изд. Т. I. Л–Д, кол. 840 след.: голова (и производи.).
668
(41, 47~48): «иже есть начаток, αρχηΛ начало, восстановленного человечества. Оно в Нем сначала восстановлено, а потом по Нему и силою домостроительства Его восстановляются и все восста- новляемые, прилепляясь к Нему верою…. Восстановленное человечество, каким ему подобает быть в сем состоянии, явилось в воскресшем Господе. Почему собственно начатком его — такого Он стал чрез воскресение, или яко перворожденный из мертвых».
669
такое историческое предвосхищение (нем.); gahal— латинская транскрипция слова «кагал» (община). —376.
670
См. прим. 9 к с. 327. — 377.
671
Ив. Троицкий. Талмудическое учение о посмертном состоянии и о конечной участи людей. СПб., 1904, с. 42–68, §§ 14–25; с. 126–132, § 45.
672
Не оста на ал ива емся на этимоне этого слова, ибо тут нет какого-нибудь установившегося мнения. Различные взгляды на этот вопрос собраны Троицким на С. 130, прим. 1, §45.
673
Молох в Библии — божество, которому приносились человеческие жертвы; по современным данным — одновременно и сам ритуал сож–жения. — 377.
674
Троицкий, с. 44, прим. 1, § 14.
675
Не вдаваясь в подробности, отсылаем к книге Троицкого, с. 63–69, §§24–25.
676
ад, аид (греч.). — J79.
677
Некоторые подробности о словоупотреблении α<5ιρ в Новом Завете и в переводе LXX см. у Cremer'a (60, 65–67). В (63, т. 1, col. 87–96) разъясняется по преимуществу святоотеческое словоупотребление.
678
Siegfried u. Stade, Hebr. Worterbuch, S. 823–824.
679
<64. 666); Α ίόον π υ λα ι — смерть.
680
Aeneid. VI 126 facilis descensus Averni Noctcs atque dies patct atri janua Ditis: sed revocare gradum supcrasque evadere^ ad auras, hoc opus huc labor est. Theognis 707. Кυανεα^ те πυλοί παραμειψεχαι% αΐτε ϋανονχων ψυχαί ειργουαιν, *αι пер αναινομενας. Eurijp. ITccuba I. *Ηχ«> νεχρων χενϋμωνα χα/ ажохον πυλα* λιπών, ί'ν'άόης χωρπ–εχχιόχαί θεων. II, s. 646 αλλ* υπ* ε μου 6μηϋενχα πυλας αιδαο π ερησειν. II. VIII. 13. η μεν. Ovid. Metam. 1, 661. Ncc finire licet lantoc roihi «orle dolores, sed nocet essc Deum, praeclusaque janua la Η Praemia sed manes reclusaquc janua leto. Propert. IV. 11, 1. Define. Paulle, meum lacrimis urgere sepul- cnim. Panditur ad nullas janua nigra preces. Te licet orantem furvae Deus audiat aulae, Nempe tuas lacrimas furda bibent. Quum scmel infernas intramnt funera leges, Non evorato stanl adamante viae Achilles. ^Fat. V, p. 297.
681
См. в русских переводах: Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1979. С. 244; Феогнидов сборник//Доватур А. И. Феогнид и его время. Л., 1989. С. 166; Овидий. Метаморфозы. М., 1977. С. 48; Проперций. Элегии//Катулл. Тибулл. Проперций. М., 1963. С. 451. В публикации 1974 г. после цитаты из Проперция пропущен текст. Воспроизводим его по фотокопии рукописи (с. 104): Tat. V. р. 297. о\ 6 ε εφεάαυοάν με εξ αυτών των του ϋανατόυ πυλών. VI. ρ. 389. ον οΰτω φιλουαιν ο\ ϋεοϊ, ωστε ανιόν *αί с χ μέσων των του ϋανατου πνΧων αναγαγε7ν. Comicus. χρυσοί 6* άνοιγε ηάντα, аѢоѵ π υ λα*. Theog. 427. φυντα δ* оттаю ωτυστα πύΑα* αίδαο περησαι Plut. de Superst. p. 167 Α. αδου τivts ανοίγοντα χυλαι βαΰεΤαι. Luclan. Menippo 6. magos [μάγο*] ανοιγειν τ ου αδου τάϊ πίλας. Themistius Ο. ΧΙΧ–εχαναγαγε7ν ε'α τ ο ν ηλιον с χ των χυΐων του αχερο\*το*-ε ι 6ομεν ανθρώπους εχ των του αδου πρόθυρων eif το ζην επανιδντας Theocrit. Id. Μ. I. 159 Sch. την του αδου χρουοει πυΧην, τουτ* εστίν αποΰανεΊταί. Eurip. Hlppol. 56, ου γαρ ανεωγμενας πυΧας^ αδου. Schol. ουχ ^ ίπ ι στατα/, ои έτοιμος α υ τω ο θανατος. 1447. οίωλα, χα ι δη νερχερων ορων πυΧας. Petron. Sal. 62. eccc autem mllcs fortis, tanquam Orcus Apulej. VIII. Ipsa que ^morte, quam formldant allii, fortiorcm. Od. Λ. ^ 276 η δ' ερη ett <*}δαο πυλάρταο χρατεραο. ^Eustalh. πυλαρτης^ 4 ε ως χα ι αΧΧαχου ερρεϋη αδης, о таг πυΧας αραρυίας ιχων, δια το εχεΤΰεν δυσεξίτητον. II. ΰ. 367. с ι тс μιν ε) ς αίδαο πυΧάρταο προπεμψεν. Od. ζ. 156. εχΰρο^ γαρ μοι χεΤνος, όμως α'ιδαο πυΧηδι Τινεταΐι ως πενιη ε ι xwv ала τ ήλιος βαζεί. И: И. 1. 712. Aristfdes, S. Sacr. III. р. 310. ποΧΧους δ* ε χ. ΰανατοιο ερυσαχο δερχομενοιο αυχραφεεοι πυΧηοι επ* ανιησιν βεβαωχας α'ι'δεω. Markc Aboth. 24 и ι t Chagiga XV, 1. Etiam janitor gehennae rcsistcre tibi non potuit, cum vcnires ad educendum [?] Acharcm.
682
χατισχυειν significat praevalere ad versus aliquem, ex praepositionis жата <67, 1, 431). Далее идут параллели.
683
χαπσχυειν означает одержать верх над кем-либо в силу зна–чения предлога χατά (лат.). — 38].
684
здесь: ее (греч.). — 381.
685
здесь: камень (греч.). — 381.
686
церковь (греч.). — 381.
687
(67, 1, 430–431): аѵтѵјѕ. σε Thomas. Patriarch. Ніегоѕ ар. Abucaram, In te Cassia n. de Jucarnat III, 14. Epiphan. Η. XXX: xvXat a So υ, μη χαπσχυονσαι της лет pat. LXX1V. Origenes, in f. г fvoi 6ε avrrjt\ ара γαρ Ttjt летраѕ η τη$ ειηΧησια*\ αμφϊβουλο* γαρ η φράση, de Petro autem InteiliglC In EsaJ. H. 7 in Ezech. II. 12 in Matth. H. 1 & 3 & 35 Celsum 1. VI лгрі άρχων γ.β. & Hieronymus, In I. — Cumque hie de Petro proprie эепво Tit, simplicius est, ut intclligatur de Petro potlus quam de Ecclesla dlci, portas infernorum el non praevalituras. Hieronymue: Secun- dim metaphoram petrae recte dicitur el: Aedificabo ecclesiam meam super te, ut Ephes. II, 20, Αρχ. XXI, 14, 1 Pet. II, J.
688
(1) Врата Ада неспособные удержать камень (греч.). (2) Что это такое? Не камень ли Церкви? Высказывание это двусмысленно (греч.). (3) Однако понимает как сказанные о Петре (лат.). (4) Поскольку слова эти сказаны собственно о Петре, самым простым было бы сказать, что они говорятся более о Петре, нежели о Церкви, что, мол, адские врата против него не устоят (лат.). (5) Правильно сказано в согласии с метафорой относительно камня: Построю церковь мою на тебе как… (лат.). ГІер. И. И. Маханькова. —381.
689
«…чтобы они были едино, как и Мы» (Ин 17, 11); «…да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино…» (Ин 17, 21); «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино» (Ин 17, 22); «Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино…» (Ин 17, 23) (греч.). — 383.
690
Так же понимает этот Donpoc Антоний, архиеп. Волынский; так же разумели его В. Соловьев и др.
691
Относительно συν σωμα или σύσσωμος см. (60, 542); (38, 125).
692
Местонахождение данной цитаты установить не удалось. — 385.
693
Οσοι γαρ ε) s Χρίστο ν εβαπτί σΰητε, Χρίστο ν ενεδυσασϋε. ο υ χ. ε νι *Ι ουδαιος ουδε Ελλην, ονχ ενι δούλος ουδέ ελευΰερο? ουχ, ενι αρσεν χα) ΰηλν. πάντες γαρ υ με ι τ е7ѕ εστε εν Χριστώ * Ιησού — «все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» ‹Гал. 3, 27, 28). Встречающееся здесь слово ενι (собственно, ενεστι‚ ενί — еѵ, как пара — παρεστι (1 Кор. 6, 5, Гал. 3, 28; Кол. 3, 11; Иак. 1, 17)) равносильны ε στ t ν, «сѕ gicbt» (66, 50).
694
Толкования на этот текст см. (39, 507–512); (42, 241–247).
695
Толкования на это место см. (39, 389–410); (42, 152–162).
696
(39, 407): Otshausen, Braune, Ellicott, Bisping и др. Из древних — Экумений.
697
Кому принадлежит данное выражение, установить не удалось, возможно, св. Иоанну Златоусту. — 386
698
«Церковь, — говорит Шерер, — есть абстракция, посредством которой церкви рассматриваются как нечто целое, — L'Eglise est une abstraction par laquelle les igVises sont const d<5res com me un ensemble» (Sherer, Esquisse d'une theorie de TEgllsc chretienne, pp. 14, 27, 34, 154. — Пит. no (26, 181)). «L'ctat normal, — говорит Вине, — est que PEglise se сотроѕё d'un norabre d'associations libres correspondant aux diffe rentes conceptions dogma- tiques» (Vinet, De la manifestation des convictions religicuses. Цит. no (26, 181))
699
Вполне естественным является положение, когда Церковь состоит из множества свободных объединений, соответствующих различным догматическим концепциям (франц.). — 387
700
подлинные и истинные знаки, знаки ума (лат.). — 387.
701
подлинный и истинный знак Тела Христова (лат.). — 387
702
Св. Ириней Лионский. Наег. II, 8, § 5. Цитата из Аквило- нова.
703
Толкования на это место см. (45, 405–407).
704
Добавим от себя: вопреки всем уверениям «либеральных» реформаторов Церкви, видящих все обновление церковной жизни в правовой организации прихода и совершенно не задумывающихся над мистическою природою Церкви и единством Церкви в выясненном смысле. Как благодатная жизнь Церкви не зависит от большого или малого числа лиц, ведущих Церковное управление. Мало ли их, много ли — совершенно безразлично, раз только они не будут действовать «в Силе Божией» (2 Кор. б, 7). А действующие «в Силе Божиеи» несут в себе всю Церковь, независимо от своего числа.
705
Толкования на это место: (2, 197—200); (39, 630—635); (42, 376— 382).
706
слова, изречение (греч.). — 391.
707
Так признают Златоуст, блаж. Феодорит и блаж. Феофилакт.
708
Блаж. Феофилакт. Благовестник, ч. 4; Ев. от Иоанна, с. 433. Цит. по (2, 4—5).
709
Не считаем возможным останавливаться тут более подробно на этой силе «вязать и решить».
710
Как здесь, так и во всем настоящем параграфе мы только набрасываем ход мыслей, совершенно не имея возможности излагать их, ибо для того потребовалось бы приложить чуть ли не все нравственное богословие.
711
О космическом понимании слова «тварь» (хт/‹т) см. (2, 216–218).
712
«Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык» (Ис 45, 23). — 400.
713
О термине хадоһхоѕ см. (63, 11, 13–17); (62, 214); (61, 164, 165); (1, 133–136 сл.).
714
Св. Мефодий (820—885) и св. Кирилл (827—869) — составители славянской азбуки, переводчики богослужебных книг. — 403
715
Св. Кирилл Иерусалимский. Огласит, поучения. ХѴШ, п. 23, с. 424–425. Цитата из «Прав. Догм. Богословия» Макария, т. II, с. 245. Греческий текст с лат. перев. см. в (63, т. II, 14).
716
В рукописи (фотокопия, с. 140) Флоренского после слова «вроде» следует: «русское православие» — и далее по тексту. В подстрочном примечании Флоренского (перед ссылкой на работу Вл. Соловьёва) следует: Одни только боморе осуждены за филетизм в 1872 г. на Константинопольском соборе. — 404.
717
απόστολος от αποστολή, а не αποστολή от απόστολος. Аквилонов, с. 144; в прим. 4 собраны доказательства, что так же думали Златоуст (НошІІ. V іn Epist. ad Hebraeor — Евр. 3,1), Феофилакт (толк, на то же место), Феодорит, р. 407. Тертуллиан, Pracscr., с. 20, 21, Августин, Tract. іл Ioan., 124, с. 5.
718
Довольно близко к проводимому здесь взгляду на соотношение и единство предикатов: «кафолическая» и «апостольская» у Филарета, архиепископа Черниговского. См. (23, 383–400).
719
Дух… теле… жизни (греч.). — 412.
720
Подобно этому говорит и Антоний (Храповицкий), архиеп. Волынский: «Итак, Церковь есть совершенно новое, особенное и единственное на земле бытие (unicum), которого нельзя с точностью определить никаким понятием, взятым из мирской жизни. И если в помянутом нами богословском споре те мыслители, которые указывали на превосходство своего определения Церкви, как общества, сравнительно с определением ее, как Тела Христота, думали, что они приводят действительное определение Церкви, тогда как их противники предлагали только сравнение, то заметим, что притязания первых вовсе не были основательны. Всякое земное общество имеет столько сторон, совершенно непохожих на жизнь Церкви, и так мало общих с Нею признаков, что такому видимо формальному определению можно было бы предпочитать сравнение, тем более сравнение, авторизованное Св. Писанием, если бы, как мы выше сказали, относящиеся сюда слова Апостола рассматривать во всей их полноте, без урезки их главной мысли. Л эта главная мысль (для приращения себя самого в любви) уже нарушает образ тела, не знающего никакой любви, и тем снова указывает на то, что понятие о Церкви есть понятие о бытии исключительно противоположном всему земному». Преосв. Антоний, «Нравств. идея догмата Церкви» («Вера и Церковь», 1901, т. И, отд. I, с. 375).
721
все течет (греч.) — положение, приписываемое Гераклиту. Платон считал, что эта мысль выражена уже у Гомера (Ил. XIV 201). — 414.
722
Hillcri. Onomasticom Sacrum, р. 917: cxauditio, audicns.
723
«Послушание, по имени сооему, — говорит святитель Филарет Московский, — есть последование тому, что слышишь, как наставление, или как повеление». Петр, слушающийся воли Божией, есть Симон, выслушивающий волю Божию и идущий за ней. «Каменность» его есть его готовность отдаться в руки Божии, как только «услышана» воля Божия. Поэтому Петр непременно предполагает под собою, прежде себя Симона. Это типологическое значение Симона–Петра «делает его или, лучше сказать, его тип камнем, на котором зиждется Церковь».
724
НіІІегі. Onomasticon, р. 907.
725
Иероним толкует имя Петр то как agnoscens, то как dis- solvcns75, см. Dc Lagardc, Onomasticum sacrum, 73, 7 p. 107; 65, 18 p. 98; 176, 53 p. 206 и проч.
726
«внимающий», «разрешающий» (лат.). —415.
727
August. Tract. ίπ Іоап. Ин. 12, 4 с. 5 (см. (1, 145)).
728
Hillcri. Onomasticon, p. 907.
729
«…и на сем камне создам…» (Мф 16, 18) (греч.). — 416.
730
Различные толкования указаны в (39, 169–173); (42, 168170); (2, 15–53).
731
См. (21), б 5. Как выражается Гарнак, — «осадизшиеся» в общине; Гарнак, Texte und Untersuchungen. Bd. II, Hf. 2, S. 119. См. также (28, Η, 235, 239). Это видно, например, из того, что Одни и те же личности (Варнава и Савл — Павел), названные προφηται жа ι όιόάσχαλοι, когда они находились в среде христиан (с ν Αντιόχεια жата την ου σαν εχχληαιαν) (Деян. 13, 1), квалифицируются как οι απόστολοι, когда они проповедуют среди язычников (Деян. 14, 14), εν Λυστροκ (Деян. 14, β).
732
«В Антиохии, в тамошней церкви…» (Деян 13, 1); «как апостолы» (Деян 14, 14); «в Листре» (Деян 14, 8) (греч.). — 417
733
Нечто подобное говорит митрополит Московский Филарет (7, 81) относительно Римского епископа.
734
У Nestle «краеугольный» и «избранный» идут в обратном порядке.
735
Про вселенную говорится: «Кто есть положивший краеугольный камень на ней» (по перев. LXX: *АІѲоѕ γωνιαίος* (Иов. 38, б).
736
Мансветов (2, 40–41), со ссылкою на HoffmaniTa, Ileilige Schrift, t. I, IV, I. 1870, S. 104.
737
μονη у собственно, — палатка, шатер.
738
Коппипгэм Гсііки — автор четырехтомного труда «Жизнь и учение Христа»; Флоренский цитирует примечание Гейки к третьему тому, в котором тот, в свою очередь, ссылается на другое издание (см.: Указ. соч./Пер. с англ. М. Фивейского. Вып. 3. М., 1894. С. 396). — 423.
739
Тема «власти ключей» — одна из основных у Л. Шестова. В отличие от Флоренского Шестов ограничивает анализ этой темы сферой философии: по своему происхождению «власть ключей» — это всего лишь «изобретение католичества» (хотя Шестов и считает провозвестником этой идеи самого Сократа), а по существу — способ отвлеченно–логиче–ского и рационального описания бытия. См.: Шестов J1. Potestas clavium. Берлин, 1923. С. 41—47. — 423.
740
У Nestle «Иисус» нет, что более подходит и по смыслу.
741
ученикам своим… Петру (греч.). — 423.
742
ты (греч.). — 424
743
Соображения, подобные вышеприведенным, высказывает и проф. Руд. Зом (21, 64–66), по мнению которого «дар учительства есть дар управления, дар, уполномочивающий во имя Бога править христианством». «Власть ключей, — говорит он, — есть власть решить и вязать, т. е. это вообще власть дозволять и разрешать и, притом, дозволять и разрешать именем Бога; это власть учительства (повелевающая над всею жизнью экклезии) в установленном выше смысле. Это власть держать речь, а тем самым и правление от имени и на место Бога. А потому непременно также и власть именем Бога отпускать или оставлять грехи, потому что отпущение грехов представляет только частный случай применения правления слова… Дар учительства основывается на обладании Святым Духом. Знак же этого обладания — исповедание веры во Иисуса, как в Христа, Сына Бога Живаго (ср. 1 Кор. 12, 3). Исповедание веры во Христа, Сына Бога Живаго–это тот камень, на котором создана Церковь, и осененным Духом Божиим носителям этого исповедания и этого учения дана власть ключей в доме Божием (в экклезии), т. е. власть правления во имя Бога и орудием слова Божия». — Это же воззрение подтверждается и следующим отрывком из Псевдо–Климентия (ок. 200 г.?), Клим, к Иаков, гл. 3: Петр дает поставленному им епископу «власть вязать и решить, чтобы о всяком, кого он рукоположит на земле, было возвещено и на небесах, потому что, как знающий правило экклезии, он свяжет того, кто должен быть связан, и разрешит того, кто должен быть разрешен», ср. гл. б; гомил. Ill, гл. 72 и т. д. (21, 65).
744
По поводу этих текстов см. (19, II, 314–317); (19, III, 279); (19, IV, 252); (30) и др.
745
Das Leben Jesu, viertc Auflage. Tubingen, 1840, Bd. II, SS. 312–318.
746
Давид Фридрих Штраус (1808—1874), немецкий протестантский теолог, один из основателей Тюбингенской школы, автор многочисленных сочинений по истории религии. — 428.
747
Апостол языков или «язычников» — так именуют апостола Павла, проповедовавшего христианство в среде язычников и иудеев. — 429.
748
Эта близость Ин. 2, 19 и Послания к Евреям так поразительна, что видна даже без всякого экзегезиса, ӑ ІІѵге ouvert.
749
Пфлейдерер (32, 351–352), не обинуясь, утверждает: «Das Wort ѵош Abbrechen und Aufrichten dcs Temples (2, 19) findct sich in dieser Form in keinem unserer synoptyschen Evangelien; wahrscheinlich hat es der vierte Evangelist aus dem Hebraerevangelicn, wo er auch die unrichtige Deutung auf den Tod und die Auferstchung Jesu gefunden haben mag. Der ursprungliche Sinn dcs Wortes 1st nur in der Vcrsien dcs Markus noch klar, aber wenn die judenchristliche Urgemeinde von dtesem Sinn desselbcn nichts wissen wollte, hat sie das antijudische Wort tcils fiir ein «falsches Zeugniss» erklart, teils als Weissagung der Auferstehung Jcsu gedeutct- beides gleich willkiirlich. Moglich ist iibrigens, dass der vierte Evangelist in dem er diese in seiner judenchristlichen Quelle vorgefundene Deutung accepticrte, mit ihr elnem zweiten und allegorischcn Sinn vcrband indem er unter dem «Tempcl seines Lcides» zuglcich den mystischen Leib Christi nach paulinischcm Sprachgebrauch d. h. die christlische Gemeinde verstand, womlt der urspriingtiche Sinn des Wortes richtig getroffen ware»84.
750
Стих о разрушении и воздвижении храма [Ин 2, 19) в такой формулировке не обнаруживается в наших синоптических Евангелиях: по–видимому, им располагал четвертый Евангелист в Евангелии от евреев; здесь же он мог найти неправильное толкование смерти и воскресения Христа. Изначальный смысл стиха лишь в версии Марка еще ясен |Мк 14, 58], но поскольку иудео–христианская община не желала знать о самом этом смысле, то она отчасти объясняла этот антииудейский стих «лжесвидетельством», отчасти толковала его как пророчество о воскре–сении Иисуса: оба объяснения одинаково произвольны. Впрочем, возможно, четвертый Евангелист, приняв это толкование, обнаруженное в своем иудео–христианском источнике, связал с ним второй и аллегорический смысл, тем, что под выражением «храм тела Своего» понимал одновременно и мистическое тело Христа, — по словоупотреб–лению Павла, — т. е. христианскую общину, в которой встречался правильный изначальный смысл этого стиха (нем.). Q Евангелии от евреев см.: Сващіщкая И. С. Тайные писания первых христиан. М., 1980. С. 83—92. — 429.
751
строить… воздвигать, исцелять, воскрешать (греч.). — 430.
752
Все приведенные свидетельства заимствованы из книги Акви~ лонова (1, 46–47).
753
«…ведь необходимо, чтобы целое предшествовало части» (Аристо–тель. Соч. в четырех томах. Т. 4. М., 1984. С. 379). — 431
754
Толкования на это место см. в (51, 183–191) и (53, 745762). Тут толкования: Андрее Кесарийского, с. 745–748; П. Светлова, с. 748–755; Ф. Яковлева, с. 755–762; Филарета, митроп. Мос- ховсіс., с. 762.
755
«La comparalson… d'un ёсПГісе (οικοδομή) dit si Го η veut d'une slrie de constructlons parallЈlcs», Bovon (28, II, 230). «Этот локальный смысл» Бовон усматривает в 1 Кор. 3, 9 (ср. ст. 16) и, быть может, не без основания. Может быть, в смысле города или, во всяком случае, «ряда параллельных строений» должно понимать и Еф. 2, 19–22, ибо в стихе 21 (в большинстве лучших кодексов стоит яааа οϊχοόομη, всякое здание, а не яааа η οϊχοόομη, — все* целое здание. (Ср. Воѵоп, там же.)
756
«Приступая к Нему, камню живому (\!ϋον ζωντα), человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный (χαι αυτοί а›ѕ X'tdot ζώντες οίχοδομεσϋε, оТжоѕ ηνενματιχός ε it ίεράτενμα аүіоѵ хтД.), священство святое…» (1 Петр. 2, 5).
757
Очень красиво выразилср относительно образа Здания Бовон: «А cct Јgard, le symbole dc)'Egtlse, Telle que la depeint icl Tapdtre, cc ne sont pas ces palais d'industrie qui i'etendent i perte de vue Д 1'horison pour »'attacher i la terre en у occupanf le plus d'espace possible. La reprЈsentaiion saislssante de l'Јglise, ce sont ces monumenls elevles par la piltl des anclens figes, et qui montent vers le ciel, Mbres et Joyeux comme ші hymme de louange, ces cathedralee dont toutes les formes d'architecture semblent iTavoir qu'un but unique: diriger les regards et les pen«5es de Thomme jusqu** Dleu…» (28, Η, 232).
758
В этом отношении символом Церкви, такой, какой она изображена здесь Апостолом, не могут выступать индустриальные «дворцы», прости–рающиеся к горизонту насколько хватает глаз и стремящиеся как можно сильнее прикрепиться к земле, захватывая у нее все большие простран–ства. Изумительнейшим выражением Церкви являются возведенные средневековой набожностью монументальные соборы, в которых каждая деталь архитектурной формы преследует единственную цель — направ–лять взгляд и мысль человека к Богу (пер. с франц. О. А. Булак). — 432.
759
Tristram's Nat. Hist, of Bible, p. 363. См. (19, IV, 38).
760
Обыкновенная горчица в Палестине одинакова с нашей, но вырастает гораздо выше, чем у нас, особенно на плодородной почве Иорданской долины. — Tristram, с. 473. Это sinapis nigra из порядка cruciferae. Томсон (с. 414) видел горчичные растения на богатой долине Акры вышиною с лошадь и всадника. Лайтфут приводит (т. И, с. 216) следующее место из сочинений раввинов: «…был стебель горчичного растения в Сихине, из которого выросли три ветви; из них одна отломилась и закрыла палатку горшечника и произвела три каба горчицы (почти шесть мер)». Р. Симеон–бен–Калафта сказал: «На моем поле был стебель горчичного растения, на который я имел обыкновение влезать, как другие люди влезают на смоковницу». Эти извлечения приведены также у Буксторфа (с. 823). Он добавляет, что, по словам раввинов, был случай, когда некто собрал урожай сам–трехсот на поле, которое он засеял (19, III, 386). Эти же и многие другие подробности о зерне горчичном можно прочесть у Ветштения, в его комментариях к Нов. Завету (67, 404405), где собраны свидетельства классической древности и равви- нистической литературы.
761
термин сравнения (лат.).
762
Обратим внимание, что Отец, насаждающий Лозу или виноградник (Мр. 21, 28, 33, сл., Мр. 12, 1, сл., Лк. 20, 9, сл. — притча о виноградарях. Лк. 13, 6–9–притча о смоковнице. Мф. 20,1, сл. — притча о работниках, нанятых в разное время. Откр. 14, 14–20. Ср. 1 Кор. 3, 6–9), дает веру в Богосыновство Иисуса, т. е. дает первооткровение (ср. Мф. 16, 17; Ин. 6, 44, 65). Поэтому Христос говорит: «Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится» (Мф. 15, 13).
763
Толкование на это место см. у еп. Феофана (44, 152–164). Обращаем внимание на следующее замечание: “Обыкновенно прививок облагораживает соки дерева; но, замечают древние и новые путешественники, у маслин бывает иначе: дикая маслина, привита будучи к корню, принимает в себя соки добрые. Так обновляют устаревшие маслины» (с. 154).
764
«Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли». — 438.
765
(13, 162–165). Соловьев, собственно, имеет в виду выяснить необходимость папства из факта исповедания Петра. Но mutatis mutandis мы пользуемся частью его рассуждений для цели гораздо более общей.
766
Holtzmann (30, 176) со ссылкой на Weizsacker, Das apostol. Zeitalter der christlichen Kirche, S. 601, 610 f.
767
Содержание басни, или притчи, которую рассказывал римский консул Менсний Лгриппа (ум. в 493 г. до н. э.), таково: члены человеческого тела, возмущенные тем, что желудок ничем не занят, кроме как перевариванием пищи, отказались работать, и это привело к гибели всего организма. — 441
768
Nork. Rabbiniscne Quellen und Parallelen, S. 231: Synopsis Sohar, p. 13, n. 64. «Подобно тому как человек состоит из многих членов, которые все образуют только одно тело, также все творения земли представляют единственное великое Тело; и Закон, состоящий из многих отдельных частей, образует, однако, в общей связи Целое».
769
Таково мнение Bern. Weiss'a (29, 407–408). Привожу его, впрочем, не настаивая на его правильности, — поп ad probandum, sed ad narrandum.
770
Для того, чтобы рассказать, а не для того, чтобы доказать (лат.). — 442.
771
І Кор 11, 3. — 442.
772
Fallot (25, 123–124). Вообще см. всю главу XII, «Les Mini- steres», pp. 108–135. Автор — умеренный реформат, видящий узость конфессионализма и стремящийся стать на почву вселенского христианства во всей его кафолической полноте. Вот почему многие из суждений Фалло не бесполезны и для православной Церкви.
773
Выражение Императора Николая I.
774
(32, 1, 303). Толкование на 5–ю главу 1 Кор. см. (45, 173–191); (48, 107–151); Nork. Rab. Quellen, ЅЅ. 242–252.
775
См. гл. 3, § V. Ср. (26, 172).
776
«Е/ оХоѵ то σωμα οφΰαλμος». Шёттиген (Schottigen) подозревает здесь намек (Anspiclung) на представление иудеев об Ангеле смерти, что он полон очей. Avoda Sara foi. 20 col. 2. Об Ангеле смерти говорят, что вся его наружность (Gestalt) полна очей (male 5unTm) Nork. Rab. Quel., Ѕ. 257 (К 1 Кор. 12, 17).
777
Разбор этих мест можно найти в указанных выше толкованиях.
778
Дщери Сионовой — 16bat zTyon (Ис. 62, 11).
779
В этой фразе после слов Дщери Сионовой τη ϋνγατρι Σ/αл»; после Царь твой в скобках о Βασιλευs. — 450.
780
Последних слов у Nestle нет.
781
Пояснительные примечания к этой притче, талмудические и античные параллели см. в (67, I, 507–509).
782
Толкования на это место см. у Ветштения, т. II, pp. 855856. Pollux III. 41. Χαλείται 6 ε xts των του ννμφιου ψιλών χα ι ϋυρωρό$9 ο τa7s ϋνραΐί ε φεστηχωί, χα ι ε"ργον таҫ γυναΤχαѕ βοηϋε7ν τη νύμφη βοωση Jud. XIV. 20. I Масс. IX. 39 Multa de parinymphls. quos sosdbinTm vocant, In libris Judaeorum vetcrum reperiuntur. Tarchuma f. 78. 1. Paranymphus respondlt: nonne vidi illam, et dixl ad regem, nullam hac pulchriorem esse? f. 79. 4. Simile de rege qui uxorcm duxlt, elque dixit: paullo post mittam tibl tabu- las per manum paranymphl. Cctuvoth f. 12. 1. Olim In Judaea duos paranymphos constituebant, unum sponso, alterum sponsac, ut illis mlnistrarent, quando in chuppam Ingredluntur: sed In Galilaea tale quid observe turn non est. Далее идут свидетельства (Tosephoth ad Bava Bathra f. 144. 2, Bava Balhra IX. 4. Bammidbar R. XXI. Devarim R. J.) о подарках дружке, о том, что царские дружки иногда женились на царских женах и проч. В Aboth Nathan IV Бог, а в XII Ангелы рассматриваются как паранимфы Адама: «Fuerunt autem angeU ministcrii velut paranymphl custodientes thalamum». B. Bereschlt R. VIII. 15 видит R. Juda f. Siramis паранимфов Адама в Михаиле и в Гаврииле. Succa f. 25. 2. Sponsus et paranymphl et omnes ПИ! Chuppae im manes sunt a preclbus et а ТһерһШіп. San- hedrin III. 5. Amicus 1. e. paranymphus ejus. Bava Bathra f. 145. 1. Date mihl paranymphum meum, et lactabor cum eo. 2 Кор. 11, 2; Εφ. 5, 25: Откр. 19, 7; 21, 9; 22, 17. — Ср. также Nork. Rabb. Quell.. S. 167.
783
(1) Зовется же так один из друзей жениха и привратник, который стоит возле дверей и не пускает женщин, стремящихся на помощь кричащей невесте (греч.). (2) О друзьях жениха, которые зовутся Sosebinim, можно многое найти в сочинениях древних иудеев (лат.). (3) Дружка отвечает: не видел ли я ее, и сказал царю, так ли она прекрасна, как та? (лат.) (4) Подобное же — о царе, который берет себе в жены женщину и говорит ей: вскоре пришлю тебе таблички через моего дружку (лат.). (5) Некогда в Иудее назначалось двое дружек: один жениху, другой невесте, чтобы им служили, когда входят в chuppa; однако в Галилее такого обычая не существовало (лат.). (6) Были же ангелы прислужниками, словно дружки, охраняющие брачный покой (лат.). (7) Жених, дружки и все дети chuppa неумолимы к просьбам и к Thephitlin (лат.). (8) Друг, т. е. его дружка (лат.). (9) Дайте мне моего дружку, и я похвалюсь им (лат.). Пер. И. И. Маханькова. — 452.
784
Winer, Ehe, т. 1. S. 60. Cm. (19, III, 44).
785
(67, 359–360). Тут же свидетельства о постах, как о полном воздержании.
786
Для большей ясности этих и дальнейших образов приведем из Коннингэма Гейки (19, II, 283–285) несколько выдержек, касающихся еврейской свадьбы (сноски опускаем): «Свадьбы на Востоке всегда были временем больших увеселений. Жених, украшенный и умащенный, сопровождаемый дружками, «сынами чертога брачного», отправлялся в древности, как отправляется и теперь, в день брака в дом невесты, которая ожидала его> будучи покрыта с головы до ног. Это последнее делалось согласно с восточными понятиями о собственности, а равно и в знак подчинения мужу, как жены. Особенный пояс, «нарядиться» в который невеста не могла забыть, составлял всегда часть ее одеяния; венок из миртовых ветвей, живых или поддельных, золотых или вызолоченных, похожий на наши венки из желтых цветов, был совершенно необходим… Если она не была прежде замужем, то ее волосы оставались распущенными; все ее одежды надушались ароматами; на ней блестело столько драгоценных камней, сколько их было в распоряжении семейства; если же она была бедна, то могла взять их взаймы на этот случай. Ее брачное одеяние, особенные украшения, мази и духи для нее, приношения из плодов и других предметов присылались ей ранним утром в день свадьбы женихом. Невеста же с своей стороны посылала ему, согласно предписанному обычаю, в подарок верхнюю одежду, которую он надевал в каждый новый год и в день очищения. А она в эти дни надевала присланные им одежды… Жених и невеста оба постились в течение целого дня пред браком и с молитвою исповедовали свои грехи, как в день очищения. Когда невеста доходила до дому отца ее будущего мужа, в котором должна была праздноваться свадьба, то жених встречал ее, все еще совершенно покрытую, и вводил во внутрь дома с великими ликованиями. Он даже выходил из дому отца своего вечером, чтобы встретить ее, а пред ним шли игроки на флейтах и певцы. Его дружки и другие лица, с горящими факелами или светильниками, шли вместе с ним среди громких ликований, которые еще более увеличивались, когда он вел ее, возвращаясь назад. Соседи толпились на улицах. Звуки флейт и бараба–нов вместе с пронзительными криками наполняли воздух, и процессия подвигалась вперед. На пути к ней присоединялись девушки, друзья невесты и жениха, которые ожидали их. В Талмуде сохранился отрывок одной из песней, которые пели подруги невесты и девушки во время своей пляски перед нею на ее пути к дому жениха… В доме отца женихова, бывавшем временно местопребыванием молодых, время проходило весело; устраивался праздник, на который приглашались все друзья и соседи… Невеста не могла участвовать в пиршестве, но находилась в отдельной комнате, среди женщин, одетая в длинное брачное покрывало. Ее не мог видеть даже супруг. Она не могла принимать участия и в последующих увеселениях и вообще показываться. Только когда муж и жена окончательно оставлялись вместе, покрывало снималось с невесты в первый раз. Между тем время проходило быстро среди семейных увеселений. Пир устраивался на счет жениха и продолжался обыкновенно семь дней, сопровождался величайшим весельем. Жених надевал венок, сделанный часто из цветов, которым, как говорится в книге Песнь Песней, «увенчала его мать в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его» (3, 11), и сидел, «одетый, как священник, в свои одеяния» (Ис. 59, 10); а невеста сидела в женском отделении, «украшенная своими драгоценными камнями». Пение, музыка и пляски, смешные загадки, остроумные шутки забавляли гостей в течение нескольких ночей, когда продолжался пир. Только тогда, когда все утомлялись таким весельем, жизнь входила опять в прежнюю колею и начинала отличаться прежнею монотонностью».
787
«…и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин 8, 32). — 455.
788
Lemme. Das Wesen des Christen turns und die Zukunftsreligion. Berlin, 1901, S. 30–31. См. «Прав, соб.», 1862, Її, с. 539. См. также (17) и (60, 153–155, 158–159).
789
кразис (калька с греч.) — соединение. — 456.
790
Некоторые параллельные места из раввинистической литературы, объясняющие упрек Никодиму со стороны Спасителя, Ин. 3, 10, можно найти у Nork'a, Rab. Quel., ЅЅ. 164–165, и в (67, X, 851852).
791
Слова Спасителя о рождении «от воды и Духа» буквально исполняются в судьбе самого Никодима. Никодим, фарисей, член Иудейского синедриона, после смерти Иисуса Христа, по Преданию, был крещен апостолами. — 457.
792
(8, 494). Определение Церкви, как Матери верующих, встречается у святителя Филарета довольно часто; см. (8, 246, 253, 299, 494, 515 и др.).
793
Все живое из живого, каждая клеточка из клеточки (лат.). — 458.
794
В толковании на притчу о закваске св. Иоанн Златоуст говорит: «Как закваска над большим количеством муки производит то, что муке усвояется сила закваски, так и вы (говорит Господь ученикам) преобразуете целый мир… Не говори мне: чтб сможем сделать мы, двенадцать человек, вступив в среду такого множества людей? В том самом и обнаружится яснее ваша сила, что вы, вмешенные во множество, не предадитесь бегству. Как закваска тогда только заквашивает тесто, когда бывает в соприкосновении с мукбю, и не только прикасается, но даже смешивается с ней (потому и не сказано — положи, но–скры), так и вы, когда вступите в неразрывную связь и единение со врагами своими, тогда их и преодолеете» (Творений т. VII, кн. 1, с. 484. СПб., 1901). Цитата из Светлова (16, 91).
795
(69, II, 1377–1378); (68, 899). — Как известно, в праздник Пасхи было запрещено вкушение всего квасного. Закваска, как разлагающая тесто и подымающая, есть образ похоти, злого влечения. Так, один учитель молится: «Боже, охотно хотим служить Тебе, но чтб удерживает позади, это–закваска в нас».
796
Платоновская теория «воспоминания» (или «припоминания») изложена в диалогах: Менон 85—86Ь; Федр 249Ьс; Федон 72е—76е. — 460.
797
Мф 13, 33. — 460.
798
Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Матфея, II, с. 293. Цитата эта из Мансветопа (2, 134).
799
П. Я. Светлов (16, 87). Светлов приводит в параллель: 1 Кор.+15, 28; Пс. 102, 19; Откр. 11, 15.
800
Потому что, действительно, число три в символике чисел имело вообще значение полноты, и тройственный принцип господствует всюду, по представлению древних, см. Символика чисел, барона Д. О. Шеппинга (Отд. оттиск из «Филолог, записок»), Воронеж, 1893, с. 2–4.
801
О библейской метрологии см. (69, I, 933–935), а также (68, 725–727);. пот соотношение мер для сыпучих тел (абсолютная величина мер не выяснена достоверно): 1 homer (kor) -10 * еурһӑһ — 30 ѕе'аһ (греческое σάτον) — 100 * omcr — 100 9 is ѕӑгоп — -180 kab. Существуют еще и другие меры, упомянутые в Талмуде и в Ветхом Завете. Во всяком случае сата–мера небольшая, равная 144–м яичным скорлупам, по объяснению одних раввинов («144 ova faciunt Saturn dcserti», Erubhin VIII. 2. et. f. 83. Hicrosolymus 173, Scphori 207), а по объяснению других -154 яичных скорлупы (Bava Bathra f. 9. 1. Cctuboth f. 64. Иероним). Цит. из (67, I, 405). Апраам, желая угостить Трех Странников (которых он принимал за простых проезжих), сказал Сарре: «поскорее три саты лучшей муки замеси, и сделай лепешки» (Быт. 18, 6). Замесить большое количество муки ♦поскорее» — невозможно, да этого и не требовалось, ибо надо было дать подкрепиться Трем Странникам. Точно так же про Анну, мать Самуила, говорится, что «она повела его с собою, взяв трех тельцов и одну эфу (т. е. три саты) муки» и проч. (1 Сам. 1, 24). Если текст можно понимать буквально, что сама Анна взяла одну эфу муки, то опять выходит, что это не особенно большое количество.
802
напротив (лат.). — 462
803
Синодальный переоод «о вас» и не верен, и не подходит к смыслу.
804
Толкование на все это место см. у еп. Феофана (46, 314–321 и сл.).
805
другой муж (греч.). — 465.
806
другой (греч.). — 465.
807
муж (греч.). — 465.
808
Stephani Thesaurus, t. 1, coil. 825–826.
809
соединиться с другим мужем (греч. и лат.); отделиться от кого-либо (греч. и лат.). Далее следует цитата из Демосфена (атри–бутирована И. И. Маханьковым, ему же принадлежит перевод). «Дал Сатиру свою жену, бывшую некогда его». Dem. Ог. 36. 8. — 465.
810
с соответствующими изменениями (лат.). — 466.
811
Толкования на это место см. (2, 91–95); (42, 373–392); (39, 627–Ј45).
812
То μυστήριο* τούτο με γα εστίν (Εφ. 5, 32) — «это есть великая тайна» d2…yegTra (Jalkut Rubeni, fol. 59. col. 4), см. Nork. Rab. Quel., S.^293.
813
'Εχώ 6e λίγω eii Χριστό vt χα/ ει* την εχχλησιαν. «Тайна браченья (Vermahlung) с супругой есть тайна соединения Бога с Его народом», Jalcut Rubeni, fol. 17. col. 4. См. Nork. Rab. Quel., S. 293. Nork, S. 292, проводит также параллели ic стиху 28–му.
814
Дальнейшие параллели в этом отношении развивали Иоанн Златоуст (Беседы ма Поел, к Еф., с. 321), блаж. Феодорит (Творения, т. VII, с. 447), Мефодий Пата рек ий и др. См. также Мансветов (2, 92).
815
Толкования на это место см.: (52, 267–286); (53, 641–643); (51, 90–94).
816
Св. Мародий (ок. 230—311), ошибочно именуемый Патарским, — епископ Олимпии (Ликея), противник Оригена и гностиков, автор многочисленных сочинений, из которых полностью сохранилось лишь одно — «Пир десяти дев»; св. Андрей (между 563—614)—архиепископ Кесарии Каппадокийской, автор «Толкования на Апокалипсис». — 468.
817
«ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис 9, 6); «И ты, Вифлеем–Ефрафа, мал ли ты, между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных» (Мих 5, 2). — 460.
818
Толкования на это место см.: (52, 297–303); (53, 650–657); (51, 97–99).
819
Не останавливаясь на подробном изложении относящихся сюда вопросов, отсылаем к вышеуказанным источникам; особенно см. Барсова (53, 694–711, 745–762); Оберлен (52, 353–407).
820
Кроме поименованных вначале сочинений о Царстве Божием, укажем еще: Die Lehre vom Reiche Gottes im Neuen Testament. Eine von der Haager Gescllschaft zur Verteidigung der christlichen Religion gekronte Preisschrift von Ernst Issel. Leiden, 1891.
Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes. Von Lie. Johannes Weiss. Gottingen, 1892.
Die Lehre vom Reiche Gottes in den Schriften des Neuen Testa* ments. Bearbeitung einer von der Haager Gesellschaft zur Verteidigung der christlichen Religion gestellten Aufgabe von Otto SchmoIIer. Leiden, 1891.
Das Reich Gottes nach den synoptischen Evangelien. Eine Un- tersuchung zur neutestamentlichen Theologie von Lie. W. Liitgert. Giitersloh, 1895.
821
объект спора, тяжбы (лат.). — 471.
822
икономия (греч.), домостроительство — одно из центральных понятий христианского вероучения. — 471.
823
О власти ключей ср. у Nork'a, Ѕ. 76, целый ряд раввинских параллелей: Реѕасһіш 4, 5 и Sabbath 1, 5; Megilla fol. 26. с. 2. Ѕоһаг k Levitic. fol. 26. col. 102. Jalkut Simeoni, г. 1 fol. 225. col. 1. Bereschit Rabba 75, 8. Sanhedrin fol. 103. col. 2.
824
высшее благо (лат.). — 473.
825
Пользуемся разделением Бовона (28, I, 386–388).
826
Здесь и далее до конца раздела I Флоренский после цитат Бовона, как правило, приводит фразы, и снова на французском — языке оригинала. — 474.
827
нынешний (франц.). — 475
828
Иванцов–Платонов, Прав. Обозр. 1878, 2, с. 246.
829
Сравн. с этим определение Царства у Светлова: «Царство Божие в общем или широком смысле есть постепенно устрояемый Провидением совершенный порядок вещей в природе и истории, в котором возглавляемое Христом человечество участвует во всех благах осуществленного Им Божественного совета об искуплении мира» (16, 97, ср. 113).
830
О Царстве Божием в отношении к Церкви см. также: Керенский (17, 1903, II, 645, 647, 651; 1902, II, с. 391); Светлов (16, 98–113, 274, 332, 333–336); (60, 132–136).
831
Филологическими указаниями я пользовался из: Ilerzog, RE, Bd. X, SS. 316 ff. «Кігсһе» Онц. Слов.» Брокгауза и Эфрона полутом 75, с. 107 сл. «Церковь» (Горчаков); а также (19, III, 396); (21, 33–42); (63, 1049); (38, 83–85); (60, 334–336); (10, 20, 21, 18). Иванцов–Платонов. Прав. Обозр. 1878, 2, с. 427, 443.
832
Писания свв. отцев и учителей Церкви. СПб., 1855, I. 270. Цит. по (I, 122).
833
Церковь, Церковь Христова, Церковь Божия (греч.). — 470.
834
Apost. Ζ. А. Ѕ. 620; Зом (21, 34).
835
«В Афинах, во время республики, εχχλησία означала исключительно правящее народное собрание; собрания союзов назывались не Ιχχληυ!α% а αγορα*. Доказательство из аттических надписей приводит Adam Reusch, De diebus contlonum ordinarium apud Athenienses, Argcntorati: 1870, p. 65, 66, 138. В прочих греческих ^ надписях до–римского периода союзное собрание носит название тО ЖОІѴОѴ, или συναγωγή или αυνο6ο*% или σύλλογο*; ср., напр., Corpus Graec. Nr. 2448 (2 или 3 век до Р. X.). В римских надписях союзное собрание обычно называется «conventus». Зом (21, 34).
836
Доказательства см. у Зома (21, 34–35).
837
Перевод LXX, или Септуагинта (лат.), греческий перевод Ветхого Завета (сер. И в. до н. э.) семьюдесятью (по некоторым данным — семьюдесятью двумя) толковниками. На русском языке этому вопросу посвящена капитальная работа: Корсунский И. Перевод LXX. Его значение в истории греческого языка и словесности. Свято–Троицкая Сергиева Лавра, 1897. — 480.
838
синагога (греч.). — 480.
839
Schurer. Сеѕсһ. des Jud. Volkes, Bd. И, S. 361, Ант. 48. См. Зом (21, 36).
840
Α. Μ. Kraus (Unsichtbare Kirche, SS. 134, 135) осюду понимает под экклезией только местную общину (см. Зом (21, 37)). Так же думает и Weiss (29, 135).
841
Harnack, Zeil. f. wiss. Theol. 1876, SS. 104 ff. и примечан. к Ерму, Зенов. XI, 9 (Patrum apost. орр. fascic. III). См. Зом (21, 39).
842
где трое, там церковь (лат.). — 482.
843
Доказательства указанных положений см. у Зома (21, 39–41).
844
См. Cremer's Worterbuch (60, 32–55): аүюѕ и derivata. Делаю суммарное изложение кремеровского артикля. Подробности см. у него, равно как некоторые дополнения и поправки в Religionsge- schichtliche Studlen zur Frage der Beeinflussung des Urchris ten turns durch das antike Mysterienwesen von Ceorg Wobbermln; Berlin, 1896, SS. 59–70, «Das Wort ӓуюѕ». См. также (68, 504–509); (38, 7–9).
845
здесь: стремиться к доблестным делам более чем достаточно (лат.) (см. также стихотв. перевод А. И. Доватура в книге «Феогнид и его время». Л., 1989. С. 158). — 484.
846
Аристотель — типичнейший из греков- довел это представление до конца, заявив: «Божество не таково, чтобы любить, но таково, чтобы быть любимо».
847
Источник установить не удалось. — 484.
848
Быть может, не без влияния Востока, частные, — Откровения еврейскому народу.
849
священный, благочестивый, досточтимый, святой, непорочный (греч.). — 485.
850
В слове Upos не содержится ничего другого, кроме того, что эта вещь или лицо посвящены Богу, однако здесь отсутствует какое-либо понятие о личных свойствах и нравах; но прежде всего то, что зачислено в священные (лат.). Пер. И. И. Маханькова. — 486.
851
прежде (лат.). — 489.
852
поэтический эпитет (лат.). — 489.
853
Источниками и пособийми при писании настоящей статьи служили:
По истории литературы:
1°. — История французской литературы Густава Лансона, т. И, стр. 531–536.
2°. — Флобер по воспоминаниям Максима Дю Кана. «Наблюдатель», 1883 г., № 8, стр. 57–71; № 9. стр. 166–194.
3°. — Флобер в своих письмах. Д. Мережковского. «Северный Вестник», 1888 г., № 12, отд. 2–й, стр. 27–48. Перепечатано в сборнике статей Д. Мережковского «Вечные Спутники», СПб., 1893.
4°. — Густав Флобер. Брандеса. «Русская Мысль», 1882, № 2, стр. 233–267.
5°. — Парижские письма. — Густав Флобер, как писатель и человек. ІЛХ. Эмиль Золя. «Весгник Европы», 1889, № 7, стр. 353–389.
6°. — Поль Бурже. Очерки современной психологии. Пер. Ватсо- на. СПб., 1888, стр. 79–110.
7°. — Жорж Пелисье. Литературное движение в XIX ст. Пер. Доп- пельмайера. 1895, стр. 350–361; 366, 369, 379.
8°. — Парижские письма. VIII. Флобер и его сочинения. Эм. Золя. «Вестник Европы», 1875, № И, стр. 401–429.
9°. — Из истории стремлений художника. (Очерк о Гюставе Флобере.) А. И. Красносельского. «Русское Богатство», 1897 г., № 1, стр. 129–160.
По истории монашества и специально об Антонии Вел:
1°. — Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отце в. Пер. с греч., изд. 4–е. СПб. 1881.
2°. — Луг Духовный. Творение блаженного Иоанна Мосха. Пер. с греч. с примечан. свящ. М. И. Хитрова. Изд. Свято–Τρ. Серг. Лавры, 1896.
3°. — История боголюбцев или повествование о святых подвижниках. Блаж. Феодорита, еп. Кирскоіҽ. Пер. с греч. СПб. 1853.
4°. — Жизнь пустынных отцев. Творение пресвитера Руфина. Пер. с латинского с примечан. свящ. М. И. Хитрова. Изд. Свято–Троицк. Серг. Лавры, 1898.
5°. — Житие преподобного отца нашего Антония, описанное святым Афанасием в послании к инокам, пребывающим в чужих странах. — Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великого. Архиеп. Александрийского. Ч. Ш, стр. 178–250. Серг. Лавра, 1903. Сокращен, цитация–Аф.
6°. — Архимандрит Палладий. Новооткрытые изречения преподобного Антония Великого. По коптскому сборнику сказаний о преподобном. Казань. 1898.
7°. — Annalcs du Musce Guimet. Т. XXV. Monuments pour servir & l'histoire dc TEgypte chrdtienne. Histoire des Monastdrcs dc la Bassc-Egyptc, tcxte coptc et trad. franqaisc par E. Amdlincau. Paris. 1894. pp. XVIIl-XX (Vahr6$6 de la Vic copte de St… Antoinc, conservd par. le Synaxare). Тут же приводятся изречения, переведен, на русск. яз. (см. 6°).
8°. — Архимандрит Палладий. Новооткрытые сказания о преподобном Макарии Великом. По коптскому сборнику, 1898, Казань.
9°. — Жизнь преподобного отца нашего Антония Великого и его устные и письменные духовно–подвижнические наставления. Свято–Троицк. Серг. Лавры Иеромонаха Агапита. СПб. 1865.
10°. — История православного монашества на Востоке. Ч. I и Ч. II. Проф. Петра Казанского. Москва. 1854.
11°. — Писания преподобного о. Иоанна Кассиана Римлянина. Пер. с лат. Москва, 1878. Изд. Ферапонтова.
12°. — Преподобный Антоний Великий. М. С. Извекова. •Христианское Чтение* 1879. Ч. II, стр. 66–130; 272–317.
13°. — Добротолюбие в русском переводе, дополненное. 1895, т. I, стр. 1–152. Св. Антоний Великий.
14. — Собрание словес и деяний преподобных отец скитских яже обретаются в патерицех по алфавиту (Алфавитный патерик). 1491 г.
15°. — Святого Отца нашего Антония Великого наставления для нравственности человеков и доброй жизни, в 170 главах (стр. 237–297). Достопамятные предания о Великом Антонии (стр. 298–312). «Христианское Чтение» 1821 г., часть I. Основным источником служило «έάιίιοη сІёГтШѵе»z. «La Tentation dc Salnt Antolnc» par Gustave Flaubcrt. Paiis, 1898; Bibliothdque-Charpcntier, EugЈne Fasquclle, dditeur. Во время печатания настоящей статьи вышли также два перевода «Искушения Святого Антония»; один из них–П. А. Ивашовой, другой–А. И. Шестаковой.
854
сверенное издание (франц.). — 491.
855
Первый из указанных П. А. Флоренским переводов обнаружить не удалось, второй: Флобер Г. Искушение святого Антония/Пер. А. И. Шестаковой. СПб., 1906. —491.
856
«Это как смерть, более глубокая, чем смерть… Сознание мое лопается под этим расширением небытия». Г. Флобер, «Искушение» (франц.). — 490.
857
Мережковский, стр. 344.
858
Статья Д. С. Мережковского «Флобер в своих письмах» основывается на двух источниках: (1) Gustave Flaubert. Correspondance. Paris, 1887. В первом томе опубликованы письма Флобера за 1830—1850 гг. (2) Lettres de Gustave Flaubert & George Sand. Paris, 1884. Цитируется письмо к Альфреду Лепуатъену (см. прим. 28 к с. 502) от 16 сентября 1845 г. (ср.: Флобер Г. О литературе, искусстве, писательском труде. Письма. Статьи. Т. 1. М., 1984. С. 65). — 491.
859
G. Flaubert, par Guy de Maupassant; цитата из Мережковского, стр. 35.
860
Имеется в виду: Guy de Maupassant. Gustave F1aubert//Lettres de Gustave Flaubert k George Sand. P. I LXXXV1. — 492.
861
Золя, стр. 370. № 7.
862
Дю Кан. № 8, стр. 63.
863
Золя, стр. 377, № 7.
864
Дю Кан, № 9, стр. 273.
865
В указанной Флоренским работе этих данных обнаружить не удалось. Сам Флобер писал: роман «Мадам Бо вари» принес «300 франков, которые заплатил я сам» (письмо к Рене де Мерикуру от 4 января 1867 г.// Флобер Г. О литературе… Т. 2. С. 49). Однако в действительности Флобер продал право на издание романа в течение 5 лет издателю Мишелю Леви за 800 франков, что, конечно, было непомерно низкой ценой (Там же. С. 505). — 493.
866
Соггеѕр. II, р. 64. См. Красносельский, стр. 154.
867
Письмо к Луизе Коле от 1 января 1852 г. — 493.
868
«Катоблепас» — черный буйвол со свиною головою, падающею до земли и прикрепленною к его плечам посредством тонкой шеи, длинной и плоской и как опорожненная кишка. — Он валяется на земле; ноги его скрыты под громадною гривою из толстой щетины, которая закрывает ему лицо. «Жирный, меланхоличный, дикий, — говорит Ҟатоблепас, — я постоянно ощущаю под своим брюхом теплоту грязи. Мой череп настолько тяжел, что мне невозможно носить его. Я поворачиваю его вокруг себя, медленно; — и приоткрыв челюсти я вырываю своим языком ядовитые травы, обрызганные от моего дыхания. Раз я сожрал себе лапы, не заметил того…» «Его тупость влечет меня», — восклицает Антоний. С. Floberl, «Tentation», pp. 288–289.
869
Золя. Парижск. письма, 47. См. Красносельский, стр. 153.
870
В указанной Флоренским работе Золя данный текст отсутствует. Флоренский цитирует по статье Красносельского. — 494.
871
Брандес, стр. 240.
872
Бурже, стр. 81.
873
Бурже, стр. 107.
874
Мережковский, стр. 339.
875
Письмо к Луизе Коле от 13 сентября 1846 г. — 495.
876
Id., стр. 34.
877
Письмо к Луизе Коле от 8 авіуста 1846 г. — 495.
878
Corresp. III, р. 71. См. Красносельский, стр. 15.
879
Письмо к Луи Бонанфану за декабрь 1856 г. — 495.
880
Дю Кан, стр. 185.
881
Золя, стр. 384–385, № 7.
882
Сильвестр Теофиль (1823—1876), литературный критик, в своей рецензии («Le Figaro», 8 января 1843 г.) назвал роман Флобера «Саламбо» «собранием каннибальских ужасов» (Флобер Г. О литературе… Т. 2. С. 404). — 496.
883
Золя, стр.386, № 7.
884
Соггеѕр. III, р. 68, см. Красносельский, стр. 159.
885
Письмо к Роже де Женетт за октябрь 1856 г. — 497.
886
Соггеѕр. III, р. 86, см. Красносельский, стр. 159.
887
Письмо к Леруайте де Шантени от 18 мая 1857 г. — 497.
888
Определение Д. С. Мережковского. Указ. соч. С. 32. — 497.
889
L'homme n'est гіеп, Гоеиѵге est tout. — Мережковский, стр. 32.
890
Брандес, стр. 241.
891
подлинные слова мастера (лат.). — 498.
892
небытие (греч.). — 498.
893
Майя, понятие древней и средневековой индийской философии, обозначает иллюзорность всего воспринимаемого мира, скрывающую под видимым многообразием свою истинную сущность — брахмана, т. е. безличный абсолют, лежащий в основе всего существующего. — 498.
894
видимое ничто (лат.). — 498.
895
Вспомним, например, его письмо по случаю смерти любимой сестры!
896
Жозефина–Каролина Флобер, по мужу — Амар (1824—1846). Вероятно, имеется в виду письмо к Максиму Дюкану от 7 апреля 1846 г., в котором Флобер писал о смерти сестры (наступившей от послеродовой горячки) и смерти отца (15 января 1846 г.): «Впрочем, я не ропщу; последние несчастья опечалили меня, но не удивили. Со всей остротой переживая их, я их анализировал как художник…* (Флобер Г. О литературе… Т. 1. С. 67). — 498.
897
Строки из стихотворения «Майя* из цикла «Индийские травы». — 499.
898
Брандес, стр. 251.
899
Строки из стихотворения Тютчева «День и ночь». —500.
900
Подобное же, но с меньшим трагизмом, встречаем у другого французского писателя; разумею Эрнеста Ренана, не знающего никаких пределов своему духовному «гортанобесию», не останавливающегося ни пред чем, чтобы смаковать внутренне пустое, — внешне эстетическое бытие. †Кн. С. Н. Трубецкой хорошо определял это свойство Ренана, как «универсальный, все–смакающий диллетантизм», «похоти воображения» и «сладострастное смакование всех человеческих чувств» («Русская Мысль», 1896 г.)23. Но, несмотря на множество точек соприкосновения с Ренаном, Флобер гораздо безнадежнее и серьезнее в своем эстетическом нигилизме.
901
Имеется в виду статья С. Н. Трубецкого «Ренан и его философия*. См.: Русская мысль. 1898. Кн. 3. С. 86—121. —501.
902
Дю Кан, № 8, стр. 65.
903
Флобер имел в виду картину именно Питера Брейгеля Младшего. В письме к Альфреду Лепуатьену от 13 мая 1845 г. Флобер писал из Милана: «Видел недавно картину Брейгеля, изображающую искушение святого Антония; она навела меня на мысль переделать «Искушение святого Антония* для театра, но тут потребовался бы кто нибудь поискуснее меня* (Флобер Г. О литературе… Т. 1. С. 59).*— 501.
904
данного выражения у Ж. — П. Рихтера отыскать не удалось. — 501.
905
Дю Кан, № 9, стр. 169.
906
Имеется в виду письмо, датированное концом мая 1848 г. Флоренский немного неточен в своих выкладках: над первой редакцией «Искушения святого Антония* Флобер работал с мая 1848 по 12 сентября 1849 г.; над второй редакцией — в мае — октябре 1856 г. (частично опубликована в журнале «Артист* в декабре 1856 — феврале 1857 г.); над третьей — с июня 1870 по 20 июля 1872 г. —501.
907
Id., № 9, стр. 171.
908
Золя, стр. 378, № 7.
909
Разрядка Флоренского. У Золя: ««La Tentation de Saint Antonie* до конца остался его любимым произведением*. — 502.
910
Дю Кан, № 9, стр. 171.
911
Альфред Лепуатьен (1816—1848) — соученик Флобера по Руанскому коллежу. Оказал большое влияние на литературные и эстетические взгляды Флобера. — 502.
912
Сохранились, хотя и далеко не полностью, рукописи первой и второй редакций. Опубликованы в рус. переводе в четвертом томе собрания сочинений Г. Флобера (М., 1936). —502.
913
Золя, стр. 385, № 7.
914
Дю Ҟан, № 8, стр. 387.
915
Золя, стр. 378, № 7.
916
Брандес, стр. 265.
917
Брандес, стр. 267.
918
Золя, № 7, стр. 378.
919
Мы указывали уже на сходство в мироотношениях у Флобера и Ренана. Это сходство влечет за собою одинаковый коренной промах в главных по своему замыслу произведениях названных писателей. Все сказанное о неисторичности «Искушения» mutatis mutandis должно быть сказано и о «Жизни Иисуса» — тоже своего рода поэме на религиозную тему (ср. «Эрнест Ренан и его «Жизнь Иисуса»». Митрофан Муретов. «Богосл. Вестн.» 1892 г. и отдельные оттиски)31.
920
изменив то, что следует изменить (лат.). —504.
921
В этом номере статьи Д. Муратова нет. — 504.
922
Лансон, стр. 353.
923
наглядно (лат.). — 505.
924
Ср. Аф., §§ 6, 7, 8, 9.
925
Ср. Аф., § 46.
926
Ср. Аф., § 69, § 70.
927
Ср. Аф., § 52.
928
У Афанасия Вел. мы находим следующие свидетельства этому: «Отроком он (Антоний) не захотел учиться грамоте» (§ 1, стр. 179); «не учился письменам» (§ 78, стр. 238), см. также § 77 (стр. 179); далее: «память заменяла ему книги» (§ 3, стр. 182); «не учась грамоте» (§ 72, стр. 254); философы «думали осмеять его в том, что не учился он грамоте» (§ 73, стр. 235); Антоний, по получении писем, сказал: «не умею отвечать на подобные писания» (§ 81, стр. 240); сравн. § 93, стр. 249. — Далее Сократ (Церкоон. Истор., кн. 4, гл. 23), Синезий и Августин указывают на неграмотность Антония. — См. также у Извекова, стр. 81 и стр. 79–83.
♦ Ср. Аф., §§ II, 12.
929
См.: Флоренский П. А. Спиритизм, как антихристианство (наст, том, с. 129—145). — 509.
930
Деян 10, 11–13. — 570.
931
Нав 8, 22—29; 10, 10—13, 25—42; И, 7—22; Есф 9, 5—16. —510.
932
Дан 2, 46. — 510.
933
4 Цар 10, 13. —510.
934
3 Цар 10, 17. —510.
935
Никейские отцы — участники Первого Вселенского собора в г. Никея (325). Собор оыл созван по поводу ереси ариан (см. прим. 40). На Первом Вселенском соборе был принят Символ Веры. — 510.
936
Ср. Аф., § 55.
937
Ср. Аф., § 39.
938
Ср. Αφ., §§ II, 12.
939
Ариане — последователи ереси Ария (ум. в 336 г.) из г. Александрия. Согласно учению Ария, отвергалась единосущность Бога Сына и Бога Отца; Христос, как творение Бога Отца, ставился ниже. Арианство было осуждено на Первом (Никейском) Вселенском соборе и на Втором (Константинопольском) Вселенском соборе в 381 г. —512.
940
Ср. Аф., §§ 81, 84, 85.
941
Золя, № 11, стр. 422.
942
См., напр., Штёрринга «Психопатология в применении к психологии», курсы психиатрии — Корсакова (новое издание), Крафт–Эбинга и др.
943
Имеются в виду следующие работы: Штёрринг Г. Психопатология в применении к психологии/ГІер. с нем. А. А. Крогниуса. Предисловие автора и акад. В. М. Бехтерева. СПб., 1903; Корсаков С. С. Курс психиатрии. Изд. 2 (посмертное). Т. 1—2. М., 1901; Крафт–Эбинг Р. Учебник психиатрии/Пер. с нем. А. Черемшанского. СПб., 1890 (вышли также два дополнения по новым немецким изданиям в 1891 и 1897 гг.). —514.
944
Вероятно, имеется в виду Вагнер, сотворивший гомункула. См.: Гёте И. Фауст. Ч. П, акт 2, сцена «Лаборатория в средневековом духе». — 514.
945
Ср. Friedr. Ρ а u 1 s е п. Schopenhauer. Hamlet. Mephistopheles. Drei Ausatze zur Nalurgeschichte des Pessiraismus. Berlin. 1900. — Есть русский перевод: Фридрих Паульсен. Шопенгауэр. Гамлет. Мефистофель. Три очерка из истории пессимизма. Пер. с немецкого С. Н. Зелинской. Киев. 1902.
946
аргумент к человеку (лат.), т. е. довод, приводящийся в противоположность объективным доказательствам. —516.
947
См. «По ту сторону добра и зла».
948
Ср.: Нищие Фр. По ту сторону добра и зла. М., 1900. С. 7, 29. — 516.
949
Самый крупный цветок экзотического семейства рафлезиевьіх; размер цветка достигает в поперечнике 45 см. — 516.
950
Ср. Аф., § 25, § 35.
951
Гимнософисты — эллинистическое название индусской касты брахманов; Симон–маг — гностик I в. родом из Самарии, противник ап. Петра (Деян 8, 18—24); Аполлоний Тианский— неопифагореец I в. — 517.
952
См. Извекова, стр. 113–117. Афанасий Вел.: § 72, стр. 234; § 73, стр. 235; § 74, стр. 236; § 75, стр. 236; § 76, стр. 237; § 77, стр. 237; §§ 78, 79, 80, стр. 238–240.
953
Чувствуя неестественность выставленного им положения, Флобер заставляет Антония ссылаться на мнения Ксенофана, Гераклита, Меллисса и Анаксагора («Tentation», р. 264), но, судя по всем данным, эти мнения о бесконечности всегда оставались только отвлеченными философемами, не имевшими места в конкретном миропредставлении.
954
Бурже, стр. 79.
955
Роман «Эликсиры сатаны» был создан Гофманом в 1815—1816 гг. — 523.
956
Поэма Л. — Б. Шелли «Плач об Адонаисе» (1821) написана в форме ритуального плача. — 523.
957
См.: Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии. Т. 1. Ч. 1. СПб., 1864. С. 52—61. — 523.
958
Аф., § 86, стр. 245.
959
Id., § 87, стр. 245–246. См. Извекова, стр. 123 и след.
960
Ср. Аф., § 72, § 73, § 74–80.
961
Аф., § 14, стр. 192.
962
«Человеческое, слишком человеческое» — название книги Фр. Ницше, первый том которой увидел свет в 1878 г. —525.
963
Ср. Джемса «Зависимость веры от воли»
964
«Мы должны знать истину, и мы должны избегать заблужде- ний — вот первые и величайшие заповеди для всех нас, стремящихся к познанию…» (Джемс У. Зависимость веры от воли/Пер. С. И. Церетели. СПб., 1904. С. 19). —525.
965
Ср. Αφ., § 13.
966
я не христианин (франц.). —527.
967
1 Кор 15, 55. — 527.
968
Публикацию «Письма 1» в журнале «Христианин» редакция сопроводила следующим примечанием: «Под этим общим заголовком Редакция намерена предложить читателям материалы, выясняющие религиозное сознание современной России. Помещаемое в настоящем номере Письмо I подымает один из вопросов этой области, — вопрос о психологии таинств. Ред.». — 528.
969
Из беседы преподобного Серафима Саровского с Н. А. Мотовиловым «о цели христианской жизни» (см.: Нилус С. Великое в малом. Сергиев Посад, 1911. С. 179.>— 529.
970
Отрицательное отношение Л. Н. Толстого к евхаристии выражено со всей ясностью в ряде художественных, публицистических и религиозно–философских произведений. В частности, этому вопросу посвящено несколько страниц в «Критике догматического богословия». В ♦Определении Святейшего Синода» от 20—22 февраля 1901 г. особо отмечалось, что Толстой «не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из Таинств, святую Евхаристию». В ответ на это «Определение…» Толстой еще раз подтвердил свое неприятие церковных таинств (см.: Толстой Л. И. Полн. собр. соч. Т. 34. М., 1952. С. 250). —530.
971
Для пояснения необходимо упомянуть, что священник Н. Б. принципиально против наставлений во время исповеди и вообще против всякого «совопросничества», потому что видит в себе во время совершения таинства исключительно лишь свидетеля и не считает удобным примешивать к благодатному воздействию своих, чисто–человеческих разговоров и соображений.
972
Относительно последнего пункта Н. Б. несколько колебался, назвать ли это второе я девушки ее Ангелом Хранителем или же ее очищенным духовным центром. Это понятно ввиду тесной связи обоих понятий.
973
Это просил подчеркнуть сам рассказчик Н. Б.
974
По просьбе Н. Б. опускаем ее.
975
Петров Григорий Спиридонович (1868—1925), священник, получивший известность своими публицистическими выступлениями. — 543.
976
Программная речь, читанная 20–го января 1906 года на заседании философского кружка при МДА.
977
Троицкий Сергей Семенович — см. прим. 1 к с. 250. — 550.
978
Термин антроподицея — оправдание человека — впервые употребляется Флоренским в настоящей работе. Затем он встречается в книге «Столп и утверждение Истины» (М., 1914. С. 638) и получает развернутое обоснование во «Вступительном слове пред защитою на степень магистра…» (Сергиев Посад, 1914. С. 4—7). См. также письмо П. А. Флоренского к В. А. Кожевникову от 27. VIII. 1912 г. (Вопросы философии. № 6. 1991. С. 108—109). — 551.
979
Из стихотворения Вяч. Иванова «Мі fur serpi amiche». См.: Вяч. Иванов. Cor ardens. М.: Скорпион, 1911. С. 93. —551.
980
Этот пункт будет выяснен в статье о догмате Троичности («Вопросы Религии», № 2).
981
Речь идет о письме «Триединство» в книге Флоренского «Столп и утверждение Истины». — 552.
982
Вяч. Иванов. Тантал//Северные Цветы Ассирийские. Альманах IV. М.: Скорпион, МСМУ (1905]. С. 215. —552.
983
Флоренский приводит слова выдающегося христианского богослова и церковного деятеля Василия Великого (329—378), произнесенные им в ответ на требование префекта Модеста принять арианство, которое исповедовал император Валент. Вероятным источником цитаты является «Слово 45, надгробное Василию, архиепископу Кесарии Каппадокийския» Григория Богослова. См.: Творения Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Ч. IV. М., 1844. С. 103—104. —552.
984
Фазис — греческое название реки Риони, упоминаемое в «Теогонии» Гесиода и «Аргонавтике» Аполлония Родосского. Семантика прометеевского мифа была особенно близка П. А. Флоренскому — уроженцу Кавказа. См.: Флоренский П. А. Природа//Литературная Грузия. № 10. 1985. С. 15—16. — 552.
985
Лелей (Пелион) и Оссал горы в Фессалии, вблизи Олимпа, упоминаются в мифе о братьях Оте и Эфиальте (см.: Нот., Od. XI 313—320/Пер. В. Жуковского). — 552.
986
Имеется в виду библейский рассказ о борьбе Иакова с Богом (Быт 32, 24—28). — 552.
987
Деян 9, 3—5. — 553.
988
И шеол (евр. £еоІ) — в иудаистической мифологии царство мертвых, загробный мир, противоположный небу (Пс 138, 8; Ам 9, 2; Иов 11, 8). — 553.
989
«тьма ·внешняя» (Мф 25, 30). См.: Флоренский П. А. Столп и утверждение Истины. С. 205. — 553.
990
«взывать из глубины* (de profundis — лат.). «Из глубины взываю к Тебе, Господи* — начальные слова 129–го псалма Библии. —553.
991
противоречие в определении (лат.). —553.
992
Ср.: Флоренский П. Л. Столп и утверждение Истины. С. 73, 538 (прим.). — 553.
993
Успенского Собора в Троицко–Сергиевской Лавре.
994
в скрытом виде (лат.). —554.
995
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в тридцати томах. Л., 1972 — 1990. Т. 14. С. 265. — 554.
996
М. Гюйо. Мои вчерашние стихи, пер. Ив. Ив. Тхоржевского.
997
Гюйо М. Стихи философа/Пер. Ив. Тхоржевского. СПб., 1901. С. 85. — 556.
998
Nietzches Werke. Abt. I. Bd V. Leipzig, Naumann, 1899. S. 228 (в рукописи ошибочно— 298). Вероятно, автор дает свой перевод по указ. нем. изданию. Ср. перевод со 2–го нем. издания А. Николаева: Нищие Ф. Собр. соч. М., 1901. Т. VII. С. 181 —182. — 556.
999
Ориентировка — фундаментальный принцип гносеологии Флоренского, позволяющий ему рассматривать познавательный процесс как «часть бытия» («Столп…», с. 160). Ориентировка, или ориентирование, осуществляется на основе определенной смыслонесущей очевидности, которая, став предметом веры, выступает в роли центра развертывания «основных углов зрения» — категорий. — 556.
1000
Соборный разум — центральное понятие гносеологии славянофилов, противопоставляемое ими «отвлеченному разуму». Соборный разум («волящий разум», «живознание» — у А. С. Хомякова, «верующее мышление» — у И. В. Киреевского) является, по словам И. В. Киреевского, «средоточием умственных сил, где все отдельные деятельности духа сливаются в одно живое и высшее единство» (Киреевский И. В. Соч. в двух томах. М., 1911. Т. 1. С. 201). — 557.
1001
Сильвестр (Малеванский) — епископ, в последней четверти XIX в. профессор Киевской Духовной Академии, автор труда «Опьгг православного догматического богословия» (Т. 1—5. Изд. 2. Киев, 1892—1897). Два Филарета — по–видимому, речь идет об архиепископе черниговском Филарете {Гумилевском, 1805—1866), авторе «Православно–догматического богословия» (Ч. 1—2. Изд. 2. Чернигов, 1865), и митрополите Московском и Коломенском Филарете (Дроздове, 1783—1867), авторе «Пространного Христианского Катихизиса Православной Кафолической Восточной Церкви» (начиная с 1820 г. — более 80 изданий). Макарий (Булгаков, 1816—1882) —митрополит Московский и Коломенский, видный православный богослов и историк русской церкви, автор «Православно–догматического богословия» (Т. 1—5. М., 1849—1853).
О критическом отношении Флоренского к «школьному богословию» говорит следующий отрывок из второго чернового варианта рукописи: «[…] существуют верующие атеисты, как существуют неверы православные. Насколько последние, не имея религиозного содержания, в тупом равнодушии готовы принять всякую схему, лишь бы не утруждать себя умственной работой, будь то символ веры или отсебятины Макария […!». — 558.
1002
Ин 17, 3. Подчеркнуто П. А. Флоренским. —559.
1003
Одобрено и пользуется дарованными королем привилегиями (франц.). — 560.
1004
По–видимому, имеется в виду статья Л. И. Толстого «К духовенству», впервые опубликованная в Лондоне в 1903 г. См.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в девяноста томах. Т. 34. М., 1952. С. 310. — 560.
1005
Храмовый остиарий — одна из низших должностей в католической и православной церкви. — 562.
1006
«палочного» довода (лат.), убеждения силой; в переносном смысле — осязаемого доказательства. — 562.
1007
Пелагианство — распространенная в V в. христианская доктрина, основателем которой принято считать кельтского монаха Пелагия (род. ок. 360 г.). Для теологических взглядов Пелагия характерно представление о незатронутости человеческой природы адамовым грехом, а также преуменьшение значения благодати для спасения, — 563.
1008
Розанов В. В. Около церковных стен. Т. И. СПб. С. 97—98. — 564.
1009
См.: Кашпор Г. Труды по теории множеств. М., 1985. С. 80. — 565.
1010
по преимуществу (греч.). — 565.
1011
вероятностная (от лат. probabilitas — вероятность). — 566.
1012
Имеется в виду евангельский рассказ о встрече Христа с самаритянкой (Ин 4, 21—24). —566.
1013
Н. М. Минский. Религия будущего (Философские разговоры). СПб., 1905, стр. 150–151.
1014
Флоренский использует это понятие в бэконовском смысле, возвращающем ему первоначальное значение греческого термина «призрак», «тень умершего», «видение». — 569.
1015
Здесь: аргументы, апеллирующие к человеческим качествам; к человечности (лат.). — 569.
1016
Здесь: аргументы, апеллирующие к свойствам Бога (лат.). —569.
1017
Подробнее говорить об этом было бы неуместно в настоящем беглом очерке. По словам Философа и Мученика, св. Иустина, крещение делает нас, «чад необходимости и неведения», «чадами свободы и знания» (ΛροΙ. I, с. 61). Однако и свободу и знание свое мы должны после крещения еще завоевать долгим подвигом, так как имеем их не в акте, а в потенции. И тогда только, достигнув свободы и знания, поистине мы получим право писать на своих соборах: «Ведомому Богу».
1018
Иустин (Юстин) Мученик (Философ) — христианский апологет в. Вероятно, Флоренский дает свой перевод по изданию: J. С. Th. Otto. Corpus Apolagetarura Christianorum Saeculi Secundi. Bd I. Jena, 1847. — 570.
1019
Опытная догматика была бы в полном соответствии со всею современною наукою, тоже стремящеюся строиться на опытном, непосредственно–данном основании.
1020
Откр 21, 1; Ис 65, 17. — 571.
1021
Ин 1, 1. —571
1022
Т. е. до и после Параклита, о чем, читатель, смотри ниже.
1023
Имеется в виду общежительная мужская пустынь св. Параклита, приписанная к Троице–Сергиевой Лавре и находящаяся в 8 верстах от Лавры. — 572.
1024
Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, Лествица, в русском переводе, 75, 60 (Сергиев Посад, 1908. С. 122). — 573.
1025
Быт 18, 2. —574.
1026
Огромная черная скала, расположенная в прибрежной (Красное море) части Фиваидской пустыни, колыбели монашества. — 574.
1027
См.: Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству Четьих–Миней св. Димитрия Ростовского. Кн. 1. Сентябрь. М., 1903. С. 363—364. — 574.
1028
Лк 24, 13—35. —576.
1029
Быт 18, 2. — 576.
1030
Принадлежность этих строк Я. Гоголю установить не удалось. — 577.
1031
Быт 18. —577.
1032
Мф 5, 10. —586.
1033
Ср. Рим 8, 18—23. — 586.
1034
Слова из молитвы седьмой ко Пресвятой Богородице (Молитвы утренние). — 587.
1035
Архимандрит Антоний, в миру Медведев Андрей Гаврилович (1792—1877), в 1831 г. поставлен митрополитом Московским Филаретом в наместники Троице–Сергиевой Лавры; пробыл на этом посту 46 лет. Филарет, митрополит Московский, в миру Дроздов Василий Михайлович (1783—1867), стал митрополитом в 1821 г. —592.
1036
Имеется в виду митрополит Сергий, в миру Ляпидевский Николай Яковлевич (1820—1898), митрополит Московский с 1893 г. —594.
1037
Жития святых, на русском языке, изложенные по руководству Четьих–Миней св. Димитрия Ростовского. Кн. 9. Май. М., 1908. С. 256. — 595.
1038
В Пустыньке, около келлии Старца, в садике, стоял круглый стол и вокруг него–стулья, сделанные Старцем из деревянных пней и сучков.
1039
Мф 12, 8; Мк 2, 27. —598.
1040
Т. е. во время революционного движения.
1041
Мф 16, 18. — б06.
1042
Митрополит Макарий (Булгаков) (1816—1882), митрополит Московский с 1879 г.; его сочинение «Православно–догматическое богословие» в 5 кн. впервые было опубликовано в 1849—1853 гг. —607.
1043
См: Письма митрополита Московского Филарета к наместнику святотроицкой сергиевы лавры архимандриту Антонию. В 4 частях. М., 1878—1885. — 608.
1044
Быт 2, 21—22; Ин 19, 34. — 609.
1045
Знаменитые слова преп. Серафима Саровского, вошедшие во все его жития. См., напр.. Житие преподобного Серафима Саровского (Современный извод)//Литературная учеба. 1990. Кн. 5. С. 140. Учение преп. Серафима о стяжании Духа Святаго содержится в его беседе с Н. А. Мотовиловым о цели христианской жизни. — 609.
1046
Георгий Затворник (в миру — Георгий Машурин) (1789—1863) — подвижник блггочестия, подвизался в Задонском Богородицком монастыре. — 609.
1047
Эта и другие молитвы будут помещены ниже, в Приложениях.
1048
Алфавит Духовный//Сочинения Святителя Димитрия Ростовского. Часть 1. Изд. 3. М., 1857. — 610.
1049
Источник установить не удалось. — 628.
1050
Имеется в виду святитель Нифонт (ок. 1370—1460), Патриарх Константинопольский, изгнанный с кафедры за обличения и скрывшийся под мантией простого монаха на Афоне. — 629.
1051
Услышу.
1052
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мк 5, 3). — 638.
1053
Апостольская Церковь — в узком смысле это имя относится к Церкви во время жизни и деятельности двенадцати апостолов, первых учеников Иисуса Христа, в широком — обозначает единство Церкви, верность переданному через апостолов учению Иисуса Христа и преданию, их неизменность, а также непрерывность церковной традиции, выражающуюся в преемстве даров Св. Духа, посредством священного рукоположения. — 638.
1054
Аз — название буквы «а» в древнерусской кириллице. Исправление богослужебных книг во времена патриарха Никона (середина XVII в.) привело к изъятию союза «а» из второго члена Символа Веры («сотворенна, а не рожденна»). Специально о различных редакциях славянского перевода Символа Веры см.: Гезен А. История славянского перевода символов веры. СПб., 1884. Отношение Флоренского к старообрядцам, которые были готовы принять смерть за единый аз, было уважительным, об этом свидетельствуют его высказывания о старообрядчестве. В личном экземпляре напечатанной в журнале «Новый путь» (1903 г. № 8) статьи «О суеверии» рукой Флоренского зачеркнуто слово «раскольниками» и надписано карандашом «старообрядцами». Далее в этом предложении следует: «не говорите лишнего». «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны» (Мф б, 7). — 638.
1055
Гарнак А. Сущность христианства. М., 1907. С. 220. — 638.
1056
Об этом специально писал Николай Афанасьев в книге «Церковь Духа Святого» (Париж, 1971. С. 12—18). —640.
1057
Стоглав//Российское законодательство X XX веков. М., 1985. Т. 2. С. 309—310. — 643.
1058
Там же. Т. 2. С. 370. — 643.
1059
Флоренский приводит несколько цитат из XVII лекции «Курса русской истории» В. О. Ключевского (см.: Ключевский В. О. Соч. в девяти томах. М., 1987—1990. Т. I. С. 315—316). В последней цитате опущено несколько слов. Приводим ее полностью: «Великоросс часто думает надвое, и это кажется двоедушием. Он всегда идет к прямой цели, хотя часто и недостаточно обдуманной, но идет, оглядываясь по сторонам, и потому походка его кажется уклончивой и колеблющейся. Ведь лбом стены не прошибешь, и только вороны прямо летают, говорят великорусские пословицы» (Там же. Т. I. С. 316). — 645.
1060
Цитата из работы Хомякова «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу брошюры г. Лоранси», 1853 г./Пер. с франп.//Хомяков А. С. Соч. Т. 2. М., 1900. С. 61. В тексте Хомякова—«Духом Божиим», а не «Духом Святым”. — 648.
1061
Стоглав//Российское законодательство X XX веков. Т. 2. С. 307. — 652.
1062
и от Сына (лат.). Речь идет о догматических разногласиях по вопросу об исхождении Святого Духа, возникших между православными и католиками. В православном Символе веры, которым стал Символ, принятый на 1–м (Никейском) и 2–м (Константинопольском) Вселенских соборах, говорится об исхождении Святого Духа от Отца (8–й член никео–царьградского Символа веры). Римско–католическая церковь придерживается добавления к Символу веры, принятого на Толедском соборе в 589 г. Согласно этому добавлению, Святой Дух исходит от Отца и Сына. — 653.
1063
Таинство причащения (лат.). В римско–католической церкви отличается рядом особенностей, в частности лишением чаши мирян, приобщением только под одним видом хлеба. — 653.
1064
Афанасьев А. И. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований, в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. Т. 1—3. М., 1865—1869. Т. 3. С. 763. — 655.
1065
Там же. Т. 3. С. 763—764. — 655.
1066
«Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, к Богу Моему и Богу вашему» (Ин 20, 17). — 657.
1067
«Нам подобает только сострадать Ему» (Паскаль Б. Мысли о религии/Пер. С. Долгова. М., 1892. С. 180). —657.
1068
Победоносцев К П. (1827—1907) —обер–прокурор Святейшего Синода, юрист и публицист. Данной цитаты найти не удалось. В статье «Церковь» Победоносцев писал: «Но у кого не шевелится в душе вопрос: как же быть на свете и в церкви мытарям и блудницам, тем, которые, по слову Христову, предваряют нередко церковных праведников в Царствии Божием?» (Московский Сборник. Издание К. П. Победоносцева. М., 1896. С. 201). — 657.
1069
Волжский (Глинка) А. С. (1878—1940) — публицист и литературный критик. В «Вопросах Религии» (вып. второй. М., 1908. С. 123—192) опубликована статья Волжского «Жизнь Ф. М. Достоевского и ее религиозный смысл». — 660.
1070
В приведенном отрывке из рассказа Я. Лескова «На краю света» после слов «к мальчонке подполз» следует «в дусе хлада тонка» и далее по тексту (см.: Лесков Я С. Собр. соч. в двенадцати томах. М., 1989. С. 348). — 661.
1071
Со слуха, в их фонетической транскрипции. — 665.
1072
См.: Марциал М. Эпиграммы. В пер. и с объяснениями А. Фета. Ч. 1—2. М., 1891. — 667.
1073
Полагаю, что читателю, быть может, не покажется бесполезной приводимая ниже (хотя далеко не исчерпывающая) литература о частушке:
1°, Д. Зеленин, Песни деревенской молодежи. Вятка, 1903. (Тут же, на стр. 3, приведена прежняя литература.)
2°, Д. Зеленин, Сборник частушек Новгородской губернии. (По материалам из бумаг В. Л. Воскресенского.) («Этнографическое Обозрение», год 17–й, кн. LXV-LXVL, 1905, № 2 и 3, стр. 164–230.)
3°, Д. Зеленин, Новые веяния в народной поэзии. О частушках Вятской губернии. («Вестник Воспитания», 1901, № 8, ноябрь.)
4°, Д. Зеленин, Черты современного народного быта по частушкам («Русские Ведомости», 1903, № 8).
5°, Д. Зеленин, Поэзия «казенных детей» («Волховский Листок», 1904, № 266: песни–частушки питомцев Воспитательного Дома по рукописному сборнику В. И. Степанова, часть которого напечатана в «Этнограф· Обоэр›, а часть остается в рукописи).
6°, Е. Линсва, Жива ли народная песня? («Русские Ведомости», 1903, № 31).
7°, Григ. Белорецкий, Заводская поэзия («Русское Богатство», 1902, № 12, стр. 38–50).
8°, И. Соколов, Деревенская молодежь в ее песнях — «частушках» («Биржевые Ведомости», 1903, № 379, 391, 403).
9°, В. И. Степанов, Деревенские посиделки и современные народные песни–частушки («Этнографическое Обозрение», 1903, IV, стр. 69–98).
10°, Штакельберг, Новое время — новые песни. О частушках Новгородской губернии («Россия», 1901, № 916).
11°, Гл. И. Успенский, Новые народные стишки («Собрание сочинений», изд. Павленкова, т. 3, стр. 650–662).
12 ‚ Д. Марков, Частушки, собранные в Ветлужском уезде Костромской- губернии. Казань, 1907 (из «Известий общества арх., ист. и этногр.», т. 23).
1074
Генрих Шурц, История первобытной культуры, перев. проф. И. И. Смирнова, СПб. (1908), стр. 535–537.
1075
Переводы взяты из статьи Г. А. Рачинского «Японская поэзия», впервые опубликованной в журнале «Северное сияние» (1908. № 1. С. 81—96). Вскоре вышло в свет отдельное издание (М., 1914), к которому и отсылаем читателя: с. 11, 13, 14, 17, 18, 19, 19. — 670.
1076
См.: Бальмонт К Д. Испанские народные песни. Любовь и ненависть. М., 1911. С. 73, 33, 37, 41, 76, 19. — 671.
1077
то же самое, но другое (лат.). — 676.
1078
в состоянии возникновения (лат.). — 678.
1079
разум, рассудочность (франц.). — 679.
1080
оговорка (лат.). — 680.
1081
поэтическая вольность (лат.). — 680.
1082
Публикацию перевода редакция «Богословского вестника» сопроводила следующим примечанием: «Помещая настоящий перевод Кантовой «Физической монадологии», редакция «Бог. вестн.» имела в виду главным образом тот современный интерес, какой могут представлять затрагиваемые здесь Кантом вопросы (см. предисл. переводчика), а затем — и то обстоятельство, что существующий, напр., немецкий перевод очень далек от совершенства» (Богословский вестник. 1905. № 9. С. 1). — 682.
1083
идея группы — см. прим. 71 к с. 96. — 682.
1084
Отсюда делается ясной важность «теории групп» (Mengenlchre, thdorie dcs ensembles) для философии. Ведь эта теория, формально изучая идею группы‚ создает вследствие этого ряд положений и схем, чистота которых не измарана предвзятостью. Поэтому там, где речь заходит о прерывности и непрерывности, бесконечности и конечности, пределе и подходящих к пределу элементах и т. п., применение готовых схем и строго доказанных теорем учения о группах является совершенно необходимым во избежание сплошь и рядом встречающихся в философских произведениях путаниц относительно таких вопросов.
1085
мнение (греч.). — 682.
1086
покрывало лживой Майи — см. прим. 18 к с. 498. —682.
1087
Боскович (Boskovic) Руджер Иосип (18.5.1711 — 13.2.1787) — ученый аббат, философ, математик, физик, астроном, дипломат. Почетный член СПб. АН (1760). В главном своем труде «Теория натуральной философии, приведенная к единому закону сил, существующих в природе» (1759) Боскович развил учение «чистого динамизма»: мир состоит из непротяженных и неделимых атомов, между которыми действуют силы притяжения и отталкивания. Эти атомы распределены в беспредельном пустом пространстве таким образом, что взаимные расстояния их хотя и могут быть бесконечно малы, но не равны нулю. У Фарадея силовые линии пронизывают все пространство. Такой взгляд лежит в основании современных представлений о поле. — 683.
1088
См., напр., Л. M. Лопатина «Положительные] задГачи] филос[офии]», Вл. Соловьева «Критика отвлеченных начал» и др.
1089
«Психический характер материи самой по себе начинает, впрочем, признаваться даже современными учеными, из коих более глубокомысленные сводят материю к динамическим атомам, то есть центрам сил, понятие же силы принадлежит совершенно к субъективной или психической области» (Соловьев В. С. Соч. в двух томах» Т. 2. М., 1988. С. 239). «…Материальность делается только явлением, а не сущностью действительности, атом перестает быть веществом, строго ограниченным пределами пространства, им наполненного; он превращается во что то реально, хотя и невещественно, присущее каждой точке мира» (Лопатин Л. М. Положительные задачи философии. Ч. 1. Область умозрительных вопросов. М., 1911. С. L91). — 684.
1090
В 1896 г. нидерландский физик Питер Зееман (1865—1943) открыл явление расщепления спектральных линий под действием внешнего магнитного поля (явление Зеемана), тем самым экспериментально подтвердив связь световых и магнитных явлений. — 685.
1091
первоначальная вещь (лат.). — 686.
1092
В 1904 г. английский физик Уильям Крукс (1832—1919) сконструировал спинатарископ — прибор для обнаружения а–частиц. — 686.
1093
Патангали, Патанджали (около II в. до н. э.) — индийский мудрец и мистик, автор Иога–сутры. Гюйон Жанна–Мария (1648—1717) — проповедница мистической «чистой любви к Богу»; считала как добро, так и зло равноугодными Богу, согласующимися с его волей; взгляды ее были осуждены католической церковью. Валентин (II в. н. э.) — римский философ и мистик, представитель гностицизма. Парацельс (псевд.; наст, имя и фам. — Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, 1493—1541) — теософ, мистик, естествоиспытатель и врач, наряду с Агриппой Неттесхеймским (1486—1535) —создатель оккультной «магической философии». Беме Якоб (1575—1624), немецкий философ и мистик, последователь Парацельса, систематизировал идеи немецкой средневековой мистики. Сен–Мартен Луи Клод де (1743—1803)—французский философ и мистик, последователь Бёме и Сведенборга, представитель «эманационной» теории и учения о воссоединении всего сущего с Богом. ГафиЗу Хафиз (наст, имя — Шамседдин Мохаммед, ок. 1325—1389, или 1390) — персидский поэт, в поэзии которого значительное место занимала мистика суффизма с его учением о божественных воплощениях. Св. Тереза Испанская (Агумада Тереза де, 1515 — 1582), монахиня, основательница многочисленных монастырей в Испании; причислена римско- католической церковью в 1622 г. к лику святых; автор автобиографической книги «Повесть об одной душе». Гезихасты афонские, исихасты — имеются в виду в первую очередь: Григорий Синаит (XIII XIV вв.) — византийский богослов, основоположник учений о богопознании и богообщении посредством восприятия божественных энергий, автор сочинений по религиозной аскетике и созерцательной мистике; Григорий Палама (1296—1359) — византийский богослов, ученик Григория Синаита, теоретик и систематизатор исихазма. Лао–Дзы (Лао–цзы) — древнекитайский философ предположительно VI V вв. до н. э. Традиция приписывает ему создание трактата «Дао дэ цзин», в котором изложены основные принципы философии даосизма. Ориген (185—253) — выдающийся богослов и философ, представитель ранней патристики; в своей философской системе сочетал неоплатонизм с христианским вероучением, сторонник «субординационизма» в трактовке божественных ипостасей (учения, осужденного Церковью). — 687.
1094
Некоторую попытку такого словаря к Апокалипсису представляет малоизвестная книга: «Apokalyptisches Worterbuch, brauchbar als eln Ѕсһіӥѕѕеі zur Eroffnung der geheimen Winke, die in der Offenbarung Jesu Christi enthalten sind. Von dcm Verfasser der Blicke in die Offenbarung. 1834. Im Verlag von С. T. Spit- tier, in Basel». Подобный же словарь составлен и к Я. Бёму.
1095
Стихиры Кресто–Богородичные поются на «И ныне», на «Господи воззвах», на стиховне и на «Хвалитех» по средам и пятницам. См.: Минея. Т. I. М., 1978—1989. — 690.
1096
слова (греч.). — 690.
1097
Жизнь пустынных отцев. Творение пресвитера Руфина. Пер. с латинского с примеч. свящ. М. И. Хитрова. Изд. Свято–Троиц. Сергиевой Лавры, 1898. С. 113. — 697.
1098
Добротолюбие. Т. I. Изд. Свято–Троиц. Сергиевой Лавры, 1992. С. 75. — 692.
1099
Краегранисие (церковносл.) — акростих. — 692.
1100
Имеется в виду обсуждение церковной реформы, начавшееся в 1905 г. по инициативе Священного Синода. Созданная при Священном Синоде Комиссия разослала по епархиям вопросник, касающийся возможных изменений разных сторон церковной жизни. См. сборник «Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе». СПб., 1906. Вопросы реформы богослужения живо обсуждались в церковной периодике. — 693.
1101
Ин 3, 8. — б93.
1102
Симеон Логофет (Симеон Метафраст), X в. Жизнеописание Симеона Логофета составил Михаил Псёлл. О сочинениях Симеона Логофета см.: Филарет, архиепископ Черниговский. Обзор песнопений и песнопевцев Восточной Церкви. СПб., 1857. Его же. Историческое учение об отцах Церкви. Т. 3. СПб., 1882. — 693.
1103
Черновой автограф, по которому печатается рецензия, представляет собой разрозненные наброски, являющиеся вариантами одного и того же текста. Наиболее законченной частью является текст, разбитый на четыре самостоятельные главки (4–я отсутствует). Из них первая и вторая есть собственно рецензия, остальные лишь краткий план. Как следует из письма Флоренского к Андрею Белому (от 15 июля 1905 г.), работа над неоконченной рецензией Флоренским была приостановлена в ожидании, что А. Белый предпримет издание всех своих симфоний и стихов. Флоренский отказался от мысли писать рецензию отдельно на сборник А. Белого «Золото в Лазури», и потому она так и осталась незавершенной. — 695.
1104
Бриарей — в греческой мифологии сын бот неба Урана и богини земли Геи, чудовищное существо с пятьюдесятью головами и сотней рук. — 696.
1105
Имеется в виду Лев Толстой. Увлечение его религиозными идеями Флоренский пережил в конце 90–х гг. — 696.
1106
Возможно, неточная цитата из стихотворения К. Бальмонта «Дух волны» (1898): «И я, как дух волны морской//Среди людей брожу…». — 696.
1107
Начало (неточное) первого стихотворения в цикле «Звезда пустыни» (1897) К. Бальмонта. — 696.
1108
Неточная цитата из вышеназванного стихотворения К. Бальмонта «Но слепо я безумным сердцем верю…». — 696.
1109
Против последней фразы приписано на полях: мягкие цвета, хотя и яркие. — 698.
1110
Против этой фразы на полях приписано: «темное, черное». — 698.
1111
Против отрывка: «…налетели ветры…» приписано на полях: «тусклые, серые, и грязные». — 698.
1112
Пробив слов: «Смирялись…» на полях приписано: «окамененное нечувствие». — 698.
1113
Стихотворение «Старинный друг» (1903), посвященное Э. К. Мет- неру (это и последующие стихи из сборника «Золото в Лазури»). — 699.
1114
Стихотворение «Разлука» (1903) в сборнике «Золото в Лазури» посвящения не имеет. Но на его связь со смертью отца А. Белого Н. В. Бугаева указывает дата создания и содержание. — 699.
1115
Стихотворение «Пир» (1902). — 699.
1116
Имеется в виду строфа из стихотворения «Душа мира» (1902):
Грядой серебристо
летит над водою—
лучисто —
волнистой
грядою. — 699.
1117
Стихотворение «Чающие» (1901). — 699.
1118
Стихотворение «Прощание», посвященное Эллису. — 699.
1119
Стихотворение «Полунощницы», посвященное Блоку. — 699
1120
Речь идет о символике цвета в стихотворениях «Возврат» (1903) и «Поеданье» (1903). — 699.
1121
Стихотворение А. Белого «Таинство» (1901) Флоренский сопоставляет со стихотворением Фета «С бородою седою верховный я жрец…» (1884). —699.
1122
Стихотворение А. Белого «Осень» (1903) Флоренский сопоставляет со стихотворением Фета «На Днепре и в половодье» (1853). —699.
1123
Карлики, гномы и великаны — герои ряда стихотворений А. Белого из сборника «Золото в Лазури». — 699.
1124
Замечание Флоренского относится к строкам из стихотворения
А. Белого «На горах» (1901):
Голосил
низким басом.
В небеса запустил
ананасом.
И, дугу описав,
озаряя окрестность,
ананас ниспадал, просияв,
в неизвестность… — 699.
1125
Имеется в виду стихотворение «Солнце» (1903) с посвящением «Автору «Будем как Солнце»», т. е. Бальмонту. — 699.
1126
Имеется в виду стихотворение «Золотое руно» (1903), где изображено отплытие корабля «Арго» за золотым руном, которое по содержанию может быть названо видением. — 699.
1127
Солнце — см. прим. 23. — 699.
1128
Образ Безвременья в стихотворении А. Белого «Закаты» (1902):
Уставший мир в покое засыпает,
и впереди
весны давно никто не ожидает.
И ты не жди.
Нет ничего… И ничего не будет…
И ты умрешь…
Исчезнет мир, и Бог его забудет.
Чего ж ты ждешь. — 699.
1129
+++ готово; ++ наполовину готово; + в набросках или в голове частью, но с подготовленным материалом. (Прим. П. А. Флоренского.)
1130
Пропуск возражения С. С. Троицкого. (Здесь и далее примечания секретаря И. Бабакова.) — Ред.
1131
Не ручаюсь за приблизительную даже верность передачи.
1132
Неясно записано, кто говорит…
1133
Пропуск в стенограмме (прим. ред.).
1134
Записываю буквально то, что мог с трудом разобрать в записи.
1135
Ничего не разобрал.
1136
Пропуск в стенограмме (прим. ред.).
1137
Очень отдаленная запись.
1138
Выписываю буквально то, что успел записать. Я не согласен с вами. Раз существует один Христос…, то не нужно никакой науки… Но для удобства мы расчленяем, налр(имер), в психологии духовную сущность на ум, волю и чувство…
1139
Запись сделана рукой П. А. Флоренского (прим. ред.).
1140
Пробная лекция pro venia legendi, читанная в общем собрании Совета Московской Духовной Академии 17–го сентября 1908 года.
1141
Ср.: «…если дано обусловленное, то дана и вся сумма условий‚ т. е. безусловное‚ благодаря которому единственно возможно было обусловленное» (Кант И. Критика чистого разума ⁄ Пер. Н. Јіосского. СПб., 1907. С. 257; аналогичные утверждения см. на с. 207, 288). — 9.
1142
учетверение терминов (лат.). Ошибка в силлогизме, заключающаяся в появлении четвертого термина, тогда как силлогизм должен содержать три термина. — 9.
1143
Ср.: Кант И. Критика чистого разума. С. 266. — 10.
1144
Ср. там же. С. 267. В тексте Флоренского пропущено «во времени» после слова «начала». — 10.
1145
как у Лосского (с. 270). — 11.
1146
как у Јіосского (с. 271). — 11.
1147
как у Лосского (с. 276). — 12.
1148
как у Лосского (с. 277). — 12.
1149
как у Лосского (с. 280). — 13.
1150
как у Лосского (с. 281). — 13.
1151
основное заблуждение (греч.). — 15.
1152
Настоящая лекция была написана до моего знакомства с впервые исследующей вопрос о происхождении Кантовых антиномий брошюрою JL Робинсона «Историко–философские этюды». Вып. первый. СПб., 1908. По мнению названного автора, Кант заимствовал свое учение об антиномиях из произведения Артура К о л ь е ρ а «Сіаѵіѕ universalis or a new inquiry after truth, being a demonstration of the non-existence or impossibilily of a external world», 1713, переведенного на немецкий язык Эшенбахом и изданного в Ростоке вместе с «Диалогами» Беркли под заглавием: «Sammlung der vornehmsten Schrifsteller, die Wirklichkeit ihres eigenen Korpers und der ganzen Korperwelt leugnen. Enthaltend Berkeleys Gssprache zwischen Hylas und Philonus und des Coll іегѕ Allgemeinen Schlussel. Ubersetzt und mit widerlegenden Anmerkungen versehen nebst einem Anhang worin die Wirklichkeit der Korper erwiesen wird von Joh. Christ. Eschenbach».
1153
Робинсон Лев Максимович — историк философии, автор книги «Метафизика Спинозы» (СПб., 1913). В указанном о. Павлом сочинении Робинсон писал, что учение об антиномиях «не есть оригинальное открытие самого Канта, а в своей основе заимствовано им… у Артура Кольера» (с. 3). — 16.
1154
Файхингер Ганс (1852—1933) — немецкий философ и историк философии, автор двухтомного комментария к «Критике чистого разума» (1881–1882), основатель журнала «Kant-Studien». В своих работах рассматривал Канта по преимуществу как гносеолога. — 17.
1155
Не совсем точная цитата из книги: Паульсен Ф. Иммануил Кант. Его жизнь и учение. 2–е изд. ⁄ Пер. Н. Лосского. СПб., 1905. С. 204—205. — 17.
1156
Кант И. Физическая монадология ⁄ Пер. с лат. П. Флоренского. Сергиев Посад, 1905 (Оттиск с журн. Богословский вестник. 1905. № 9). С. 7–8. В переводе Флоренского напечатано «способом», а не «образом». — 19.
1157
Там же. С. 8. В переводе П. Флоренского: «я решил», а не «решился», «привлек», а не «привел». — 19.
1158
Пусть Μ — масса мира, r (х, у, z) — плотность материи
в точке (х, у, z), а, а', b, b' с, с' — пределы интеграции, соответствующие крайним точкам мира. Тогда
Μ ==, r (х, у, z) dxdydz.
Если примем r за функцию точки А, то, обозначая радиус r каждой из сфер, на которой r = const., и считая мир бесконечным по протяжению, имеем
Однако Μ и Μ' могут быть и конечны, и бесконечны при всяких пределах интеграции а, а', b, b', с, с' — как конечных, так и бес–конечно–больших, величина их определяется видом функций, r (х, у, z) или
1159
Ср. у Вундта, Kant's Kosmologische Antinomies B «Рһііоѕорһ. Studies, Bd 2, 1855. Ѕ. 102–103.
1160
Именно этой цитаты в работе Канта «Всеобщая естественная история и теория неба» (1755) обнаружить не удалось. См. близкие по смыслу высказывания из указан, соч.: Кант И. Соч. В 6 т. Т. 1. M., 1964. С. 204, 209. — 28.
1161
круг (лат.). — 28.
1162
Для читателя, который пожелал бы вникнуть в проблему космологических антиномий, привожу небольшую часть обширной литературы:
1) Erhardt Fr. — Kritik der Kantischen Antinomien. Lpz., 1888. Рец.: в «Philos. Monatsh.». XXVI, 1890. S. 97 и 100 — в «Arch. f. Gesch. d. Philos.», V. S. 260 ff.
2) Quaatz Johan — Kant*s Kosmologische Ideen, ihre Ableitung aus der Kategorien, die Antinomie und deren Auflosung. Berlin, 1878. S. 32.
3) Reiche — De Kantii antinomiis quae dicuntur theoreticis. Gott., 1838, p. 60.
4) Maas — Briefe iiber die Antinomie der Verpunft. Halle, 1888, p. 92.
5) Renouvier Ch. — Les labyrinthes de la metaphysique. Les antinomies kantiennes de Tinfini et du continu (в «La Critique philosophue», 1876 [2], p. 81–96).
6) Renouvier Ch. — Les dilemmes, de la metaphysique pure. Paris, 1901.
7) Richter Jos. — Die Kantischen Antinomien. Manuh. 1863.
8) Ward Lester F. — Kant's Antinomie in the Light of Modern Science (в «J. of Specul. Philos.». XV, 1881, p. 381–394).
9) Wundt W. — Kant's kosmologische Antinomien und das Problem der Unendlichkeit (в Philos. Studien, II, 1885. S. 495–538). Замечания на работу В. Вундта дал Г. Кантор в статье: «Mitteilungen zur Lehre vom Transfiniten» (в «Zeitschr. f. Philos. und philosophische Kritik». 1887, XCI. S. 81–1?5, 252–270).
10) Favges Α. — L/idee du continu dans 1'espace et le temps. Paris, 1892, p. 278.
11) Guttler E. — Die Entropie des Weltalls und die Kantischer Antinomien (в «Zeitschr. f. Phitos. und philos. Kritik», XCIX, 1891, p. 1–80).
12) Dunan — La premiere antinomie de Kant (в «Rev. philos.», XLIX, 1900, avril, p. 353–377).
13) Stommel C— Die Dififerenz Kants und Hegels in Beziehung auf die Antinomien. Halle, 1876. 14) Zwanziqer — Unparteiische Erduterung iiber die kantische Lehre von Ideen und Antinomien (в «Deutsche Rev.», 1797).
15) Saisset Emil — Le scepticisme. Aenesideme, Pascale, Kant. Paris, 1861. 2–me ed., 1867.
16) Masci Fil. — Una polemica su Kant, 1'estetica transcendentale e la antinomie. Napoli, 1873.,
17) Couturat L. — De 1'infini mathematique. Paris, 1896. 2–me part., liv. IV, chp. IV.
18) Couturat L. — Les principes des mathematiques. Paris, 1907, p. 301.
19) Russel Bertrand — The Principles of Mathematics. Vol. I. Cambridge, 1903. Part VI, Chp. LII.
20) Evellin G. — La Dialectique des antinomies (в «Bibliotheque du Congres International de philosophie». Paris, 1900. I, p. 115—218).
21) Evellin F. — La Dialectique des antinomies kantiennes (в «Rev. de Met et de Мог>, X, 1902, 3, p. 244–324, 4, p. 437–474).
22) Cassirer Ernst — Kant und die moderne Mathematik (в «Kantstudien», XII, 1908. S. 1–49). 23) Робинсон Л. — Историко–философские этюды. Вып. I. СПб., 1908.
24) Об антиномиях, кроме того, можно найти в «Kantstudien» в следующих местах: III, S. 194, 196, 405; IV, S. 123, 253, 337, 341, 353; V, S. 488; VI, S. 147, 160, 469; VIII, S. 290, 474 и в других. Затем об антиномиях следует смотреть в сочинениях, посвященных общему обзору кантовской философии. Таковы:
25) Erdmann Benno — Kant's Kriticismus in der erster und der zweiter Auflage der Krit. d. rein. Vern. Lpz., 1878.
26) Volkelt Johan — Immanuel Kant's Erkenntnisstheorie nach ihren Grundprincipien analysirt. Lpz., 1879.
27) Паульсен Φρ. — Им. Кант, его жизнь и учение. Пер. с нем. Н. Лосского. СПб., 1898; 2–е испр. изд. СПб., 1905.
28) Paulsen Fr. — Versuch einer Entwicklungsgesch. der kantischen Erkenntnisstheorie. Lpz., 1875.
29) Риль А. и Виндельбанд — Им. Кант. М., 1905.
30) Виндельбанд — Ист. нов. филос., II. СПб., 1906.
31) Фишер Куно — История новой философии, т. IV, ч. 1. СПб., 1901; Им. Кант и его учение. Пер. с 4–го нем. изд. Η. Η. Полилова, Н. О. Лосского и Д. Е. Жуковского.
32) Cohen Herm. — Kant's Theorie der Erfahrung. Berlin, 1871; 2–te Aufl., 1885.
32) Vailhinger H. — Commentar zu Kant's «Кг. d. rein. Vern.», 2 Bde. Berlin u. Lpz., 1881–1893. И т. д. Библиографические указания можно найти в 4) Friedr. Oberwegs GrundriB der Gesch. d. Philosophie, Dritter Theil, 9–te Auflage bearbeitet von Мах Heinze. Berlin, 1901, § 34. S. 302–312 и в
35) Dictionary of Philosophy and Psychology by J. M. Baldwin, III 1. New York and London, 1905, p. 186–320.
36) А новая библиография по кантовской философии (с 1896 г.) систематически собирается в Kantstudien.
37) Специально немецкая библиография собрана в книге Е. Adickes, Bibliography of writings by Kant and on Kant, which have appeared in Germany up to the end of 1887 («Philos. Rev> II, 3, 1893; II, 4–6; III, 1–6; Suppl. Ν 1 и 2, 1895) и др. Вопросом об антиномиях, в его современной постановке, безусловно нельзя заниматься, не считаясь с исследованиями математическими и философско–математическими Г. Кантора и его многочисленных последователей. Сводку работ этого рода до известной степени читатель найдет в уже упомянутой книге Б. Рёсселя (Ν° 19) и, в более элементарном изложении, у Л. Кутюра (17 и 18); справочником может служить «Bericht uber die Mengenlehre», von Schonfliess (Jahresbericht der Deutschen Mathematiker Vereinigung, Bd VIII 2 и Bd IX).
Что же касается до обширной литературы, посвященной новейшим исследованиям проблем бесконечности и непрерывности, то она рассеяна по математическим и философским журналам. Указания на часть этой литературы читатель найдет в статье А. А. SchOnfliess, Mengenlehre (в Encyklopadie der mathematischen Wissenschaften, I А 5. S. 184–185 и в «Bibliotheca Mathematica», 1897). Из работ на русском языке имеются только:
Жегалкин И. Трансфинитные числа. М., 1908.
Флоренский П. О символах бесконечности («Новый Путь», 1904, № 9) и, отчасти, в курсе:
Weber N. и Wellstein J. Энциклопедия элементарной математики. Т. I. Элементарная алгебра и анализ.
1163
Ср. анализ этой проблемы в книге: Франк С. Л. Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания. Пг., 1915. С. 10—28. — 30.
1164
Из читанного в 1908–м и 1909–м годах студентам Московской Духовной Академии курса «Введение в историю античной философии».
1165
См.: Аристотель. Метафизика I 2, 982Ь // Соч. В 4 т. Т. 1. M;, 1976. С. 69. — 34.
1166
В 1904—1905 гг. Н. О. Лосский напечатал в журнале «Вопросы философии и психологии» трактат «Обоснование мистического эмпиризма», который позже вышел отдельным изданием под заглавием «Обоснование интуитивизма» (1–е изд. — 1906, 2–е изд. — 1908. См.: Н. О. Лосский. Избранное. M., 1991. Вст. ст., составление, подготовка текста и прим. В. П. Филатова).
В архиве семьи Флоренских сохранился листок, написанный рукой Флоренского и вложенный в рукопись «2–ой редакции» раздела лекций «Знание, как система актов различения», следующего содержания: «Интуитивизм Лосского кажется весьма сродным имманентизму Шуппе. Но между ними та разница, что для Лосского объект знания «входит» в субъект знания, а для Шуппе — в нем «пребывает». След., он, для Лосского, может быть и вне субъекта и есть там, а для Шуппе — никогда». — 35.
1167
Аналогично понимал панметодизм немецкого философа Германа Когена (1842—1918) и кн. Е. Н. Трубецкой: «Обыкновенно под «методом» разумеется наш человеческий способ достижения чего-либо; в частности, под методом научным подразумевается способ исследования, способ отыскания истины. Иное дело у Когена: у него истина и метод — одно и то же: он не знает истины, отличной от нашего способа ее отыекания. В конце концов истина для него отождествляется с «суммой категорий», а категории — со «способами действия суждения», иначе говоря — с методами нашей основополагающей мысли» (Кн. Е. Н. Трубецкой. Метафизические предположения познания. Опыт преодоления Канта и кантианства. M.: «Путь». Издание автора, 1917. С. 225). — 36.
1168
Ход мыслей в начальных §§ этого рассуждения возник под скрещивающимся влиянием Шеллинга, кн. С. Н. Трубецкого и М. А. Остроумова («История философии в отношении к откровению*. Харьков, 1886).
1169
B разделе 3 лекций — «Религиозно–мистический момент познания» — сохранилась следующая ссылка на кн. С. Н. Трубецкого: «В противность основному положению эмпиристов мы утверждаем, что субъект выходит из себя метафизически всеобщим образом, в каждом акте своего восприятия, познания или сознания, в каждом акте жизни своей, во всяком своем отношении. Никакая эмпирия не может этому противоречить» (Метафизика в Древней Греции. M., 1890. С. 16).
Остроумов M. А. История философии в отношении к откровению. Взгляд на условия исторического развития философии. Харьков: Тип. Окружного штаба, 1886. С. 286 (Собрание оттисков из журн. «Вера и Разум»). — 36.
1170
тем самым, в силу этого (лат.). — 37.
1171
Способ неопределенных коэффициентов — крупнейшее открытие Декарта, опубликованное им в «Геометрии» (1637). Способ основан на том, что из тождества двух целых алгебраических многочленов следует тождество их коэффициентов при членах одинаковой степени. См.: Ренэ Декарт. Рассуждение о методе с приложениями: Диоптрика, Метеоры, Геометрия. Л., 1953.
Способ неопределенной функции Бугаева представляет собой обобщение метода неопределенных коэффициентов Декарта. — 38.
1172
Μ. [Α.] Остроумов — id., с. 18.
1173
О рядах рефлексий Фихте писал, например, в трактате «Основа общего наукоучения» (1794) (см.: Фихге И. Г. Избр. соч. ⁄ Пер. под ред. кн. Е. Трубецкого. Т. 1. M.: «Путь», 1916. С. 197 и др.). — 40.
1174
«Система трансцендентального идеализма» (1800) завершается словами: «Таковы неизменные и бесспорные для знания моменты в истории самосознания, в опыте определяемые как беспрерывная последовательность ступеней, которую можно выявить и вести от простого вещества к организации (посредством которой бессознательно творящая природа возвращается к самой себе), а отсюда посредством разума и произвола — высшему единению свободы и необходимости в искусстве (посредством которого сознательно продуктивная природа замыкается и завершается в самой себе)» (Шеллинг Ф. В. Соч. В 2 т. Т. 1. M., 1987. С. 489). Обозначения А и A2 встречаются в «Мюнхенских лекциях» «К истории новой философии» (читаны в 1827 г.) (см.: Шеллинг Ф. В. Соч. В 2 т. Т. 2. M., 1989. С. 475–476). — 40.
1175
Можно, более формально, рассуждать и так: А
А(1) (I), т. е.: либо умножение, ибо Α=Α
1
либо потенцирование, ибо А=А1
Итак, первая формула показывает, что операция А есть или умножение, или потенцирование. Затем, обозначая наудачу взятым знаком действие какого-то сравнивания двух потенций, пишем:
Аn * Аn-1 = Аn-1 * Аn-2 =… = А2 * А1 — А1 *А0 (15).
Действие * может быть либо разностью, либо делением.
1176
Эдуард фон Гартман. Сущность мирового процесса или философия Бессознательного. По 4–му нем. изд. полное изложение системы А. А. Козлова. Вып. второй и последний. M., 1875. С. 316: «…в основе мистического порыва лежит иллюзия. Это есть порыв, стремление прямо постичь в сознательном ощущении тождество все–единого Бессознательного с субъектом сознания и насладиться ощущением этого тождества. Ho цель этого стремления, по самой его природе, недостижима: ибо сознание не может выйти из своих пределов и не может постичь Бессознательное, как такое, а следовательно и единство Бессознательного с сознательным индивидуумом. Впрочем, в области мистики более, чем в какой-либо иной, прогрессирующее человечество усматривает иллюзию и освобождается от нее. Нельзя сказать, чтобы после нашего времени просвещения могли повториться средние века с их мистикою». — 46.
1177
от идеального к идеальнейшему (лат.). — 49.
1178
от реального к реальнейшему (лат.). — 49.
1179
бежит ли время? (лат.). — 55.
1180
невозвратимо, безвозвратно (лат.). — 55.
1181
небытие (греч.). — 56.
1182
Немецкий физик Генрих Герц (1857–1894) полагал, что теория Максвелла сводится к системе его уравнений, ибо законы электромагнетизма, описываемые этой системой уравнений, есть единственно ценное, что остается от достаточно сомнительных интерпретаций этих уравнений самим Максвеллом. См.: Н. Herz- Untersuchungen iiber die Ausbreitung der electrischen Kraft. Lpz., 1892. Ѕ. 23. — 57.
1183
Генрих Гейне. Мысли и заметки // Собр. соч. ⁄ Под ред. Петра Вайнберга. Т. 6. СПб., 1899. С. 130. — 57.
1184
В зародыше, в сжатом виде, кратко (лат.). — 59.
1185
В архиве Флоренского сохранилось много иллюстративных материалов, собранных в альбомы, которые лишь частично воспроизведены в издании 1913 г. — 61.
1186
Точную дату знакомства Флоренского с С. H. Булгаковым установить не удалось. Самое раннее из сохранившихся в архиве Флоренского писем С. H. Булгакова к нему относится к 15 марта 1906 г. — 61.
1187
В архиве Флоренского сохранились четыре вступительные лекции к его курсам лекций по философии — за 1908, 1909, 1911 и 1913 гг. Вступительная лекция за 1908 г. была прочитана как прибавление ко второй лекции. Она была написана 12—15 октября 1908 г., т. е. уже после чтения первой лекции, и, судя по содержанию и по самому названию — «Объяснение со слушателями о необходимости приучаться к работе по сырым материалам», — была вызвана неудовлетворением Флоренского слушательским восприятием. В следующем, 1909 г., данный тест с дополнениями читался как самостоятельная первая лекция, что и привело к расхождению в нумерации лекций. Сохранившиеся в архиве записи, однако, лишь частично совпадают с изданным в 1910 г. «Предисловием к издаваемому курсу лекций» (Лекция и Lectio (Вместо предисловия к издаваемому курсу лекций) // Богословский вестник, 1910. Т. 1. № 4), что свидетельствует о том, что данный текст существенно перерабатывался Флоренским для издания. — 62.
1188
Речь идет о примечаниях автора, помещенных как и в 1–м изд. после лекций (см. наст, том, с. 84—89 и с. 125—130); им соответствуют цифры без звездочек [ред.).
1193
Орфей — легендарный фракийский певец, автор многочисленных религиозно–мистических поэм; Евмолп — легендарный прародитель жреческой династии Евмолпидов в Элевсине. — 71.
1194
В 396 г. до н. э. Мессина, греческий город на северо–восточном побережье о. Сицилия, была полностью разрушена карфагенянами. — 71.
1195
Имеется в виду теория немецкого эволюциониста Эрнста Гек- келя (1834–1919) о происхождении многоклеточных от общего двухслойного предка — гаструлы. — 71.
1196
tabula rasa — чистая доска (лат.); вощичек — покрытая цветным воском деревянная табличка, по которой писали стилем или иным острым предметом. — 72.
1197
евгемеризм — теория происхождения богов от избранных людей, названная так по имени основателя, греческого философа из Мессины, Евгемера (ок. 300 до н. э.). Or его основного труда «Священная запись» сохранились лишь отрывки в латинском переводе Эннея. — 72.
1218
Более подробно этимологию имени Елена Флоренский разбирает в работе «Имена» (см.: Священник Павел Флоренский. Имена. M., 1993. С. 171–179). — 79.
1226
Пушкин А. С. Руслан и Людмила. — 81.
1245
1246
По вопросу о крито–микеңской и отчасти других древних культурах кроме статей, указанных в 23–м примечании к «Пращурам любомудрия» (см. с. 86), назовем на русском языке, еще:
Р. [Ю.] Виппер — Древний Восток и эгейская культура. Пособие к университетскому курсу. M., 1913 г.
Б. А. Тураев — История Древнего Востока. СПб., 1912 г.
Саломон Рейнак — Аполлон. История пластических искусств. M., 1913 г.
Гастон Куньи — Античное искусство. Греция. — Рим. Сборник статей. Пер. с франц. П. Смирнова. M., 1898, с. 19–38.
Музей изящных искусств имени Императора Александра III в Москве. Краткий иллюстрированный путеводитель. Ч. I. 6–е изд. M., 1913 г.
Евг. [Er.] Кагаров — Культ фетишей, растений и животных в Древней Греции. СПб., 1913 г.
1247
Е. Г. Кагаров — Новейшие исследования в области крито- микенской культуры («Гермес», 1903 г., Ns 17–20 = отд. отт. СПб., 1910, с. 4).
1248
Journal of hellenic studies XXI (1901), p. 78. Цит. из иссл. кн. С. Н. Трубецкого — Этюды по истории греческой религии («Собр. соч.». Т. II. M., 1908, с. 456). Там же цит. из Д. Меккэнзи: тот же журнал XXIII (1903), р. 172, 174.
1249
Рисунок — из книги о. М. — Ж. Лагранжа, id., р. 26, fig. 10.
1250
Id., р. 28–29. — Тут же, на с. 28–31, несколько изображений критских ваз.
1251
Изображение вазы — по The Annual of the British School at Athens, X, fig. 1 (= Лагранж, id., p. 29, fig. 14).
1252
Путеводитель по Музею Имп. Алекс. Ill [2], с. 56–57.
1253
Такое мнение выражено в статье Fougeres (Comptes rendus du Congres International d'archeologie, 2–te; 1905, p. 232 s). См. Кагаров — Культ фетишей, с. 35, прим. 4.
1254
С. Рейнак — Аполлон, с. 82.
1255
Макс. Волошин — Архаизм в русской живописи («Аполлон». 1909 г., октябрь, с. 47).
1256
По The Annual of the British School at Athens, IX, fig. 58(= Лагранж, id., p. 73, fig. 46).
1257
Лагранж — id., pi. VI 3, p. 72–73.
1258
A. I. Reinach — изложение и анализ некоторых книг по критологии («Revue de Thistoire des religions», 1909, 5, p. 234—237).
1259
Rene Dussaud — Questions Mycenienns («Revue de Thistoire des religions», 1905, JSfe 1 (151), p. 29).
1260
Лагранж — id., p. 73.
1261
Id., p. 93, fig. 74.
1262
Бузескул — Введение в историю Греции. Харьков, 1907 г., с. 510.
1263
С. Рейнак — Аполлон, с. 34.
1264
Рисунок, по The Annual of the British School at Athens, VII, fig. 17(=Лагранж — id., p. 42, fig. 22).
1265
Волошин — Архаизм в русской живописи (id., с. 47).
1266
Лагранж — id., р. 41.
1267
Furtwangler — Antike Gemmen, 1900, Bd III, Ѕ. 13 сл.; Филипп Опунтский — Epinomis, 987 D (цит. по Трубецкому [55], id., c. 465).
1268
id.
1269
Μ. Gomes — Natur-und Uigeschichte des Menschen. Bd II 1905, Wien und Lpz., S. 425, Anm. 1. Туг же — ссылки на разных, друг другу противоречащих, авторов.
1270
id.
1271
id.
1272
Вит. Клингер — Животное в античном и современном суеверии. Киев, 1911 г.
Евг. [Er.] Катаров — Культ фетишей, растений и животных в Древней Греции. СПб., 1913 г.
1273
A. Dietrich — Mutter Erde. Eine Versuch uber Volksreligion. Lpz. = Berlin, 1905. С. И. Смирнов — Исповедь земле. Сергиев Посад, 1912 г. («Бог. Вести.», 1912 г., ноябрь).
I. I. Bachofen — Das Mutterrecht. Stuttgart, 1861 (есть и новое издание).
1274
Эсхил — Хоэфоры, 119 сл. Слова Электры.
1275
Гесиод — Теогония, 117 слл.
1276
G δ г η е ѕ — id.
1277
Еврипид — Ипполит, 568–569.
1278
id.
1279
Preller — Eleusinia (Pauly-Wissowa — Real. — Encyklopadie class. Alterth.), Bd III, Ѕ. 108 ff.
1280
G δ r η e s — id., Bd II. S. 584–587.
1281
Gomes — id., S. 586.
1282
Вяч. [И.] Иванов — Древний ужас («По звездам»). СПб., [1907 г.], с. 413.
1283
id. — с. 414.
1284
Театр Еврипид а. Перевод И. Ф. Анненскоіх›. СПб., [1907 г.], «Ипполит», дейст. 1–е, явл. 5–е, с. 286–287.
φοιτβ S 'άναίθέρ'-έστι δ 'έν θαλασσίφ κλύδωνι Κύηρίς χάντα S 'έκ ταύτης έφν. ήδ'έστίν ή σπείρουσα και διδοϋσ'έρον, οΰ πάντες έσμέν Ы κατά χθόν έκγονοι
(Euripidis Tragoediae, ed. ster. Lipsiae, 1828, Т. II, ρ. 258, Ίππόλιηος ν. 452–455).
1285
Ср. Вяч. Иванов [38] — id., с. 410. — О Судьбе, как о Времени; см. подробнее в книге: Свящ. П. Флоренский — Столп и Утверждение Истины. M., 1913 г., с. 530—534: «Время и Рок».
1286
Гр. А. А. Голенищев–Кутузов —Серенада.
1287
Парность и существенную неразделимость переживаний половой любви и смерти давно подметила изящная литература. Древняя трагедия вся напоена этим двуединством. Но и новые писатели дают глубокое проникновение в эту тайну. Таковы: Шекспир, Пушкин, Гюи де Мопассан, Мережковский, Роденбах, Мельников–Печерский, Бальмонт, Брюсов и др. я, в особенности, Тургенев, Тютчев и Гол ени щев–Кутузов — называю первые припомнившиеся имена.
1288
Gornes — id., Bd И, Ѕ. 563–564.
1289
Perrot et Chipiez — Histoire de Tart dans l'antiquite, Т. VI, р. 741.
1290
W. Н. Roscher — Ausfuhiliches Lexicon des griechischen und гӧшіѕсһеп Mythologie, Bd I. Lpz., 1884–1890, col. 407.
1291
Gomes -id., Bd IIs Ѕ. 563.
1292
P а н к ҫ — Человек. Пер. со 2–го нем. изд. под ред. Д. А. Ключевского. СПб., т. II, с. 75.
Ч. Дарвин — Происхождение человека и половой подбор. Ч. 2, гл. XIX. СПб., 1871, с. 387.
1293
Schuchhardt— Schliemann's Ausgrabungen in Troja, Tiryns, Mykena, Orchomenos, Itaka, 2–te Aufl. Lpz., 1891, Ѕ. 230, fig. 189 (= Lagrange — id., p. 92, fig. 73 — по фотографии; тут выступают особенно ясно половые отличия).
1294
Perrot et Chipiez [45] — id., τ. VI, р. 741.
1295
Lagrange — id., p. 75, fig. 48.
1296
Mortillet — Musee prehistorique, n° 229 (=» Lagrange — id., p. 70. fig. 486).
1297
Lagrange — id., p. 77, fig. 51.
1298
Roscher — Ausfuhriiches Lexicon (46], Bd I, col. 647.
1299
Кн. C. H. Трубецкой — Этюды по истории греческой религии («Собрание сочинений»), т. И. M., 1908, с. 447. Трубецкой в своих взглядах опирается на работы Дюмлера, Онефальш–Рихтера и Э. Мейера (id., с. 461). Впрочем, скептический С. Рейнак «стремится не только отстоять самостоятельное «эгейское» происхождение этой богини, но даже доказать, что древнейшему вавилонскому искусству тип нагой богини был чужд» (id., с. 461, прим.).
1300
Vigouroux — Dictionnaire de la Bible, т. I, col. 1161, fig. 323: человеческое жертвоприношение пред богиней, у коей юбка из семи оборок, а на затылке — петля (б а н т?).
1302
В. Поржезинский — Введение в языковедение. Пособие к лекциям. M., 1907 г., с. 197.
1303
Кн. С. Н. Трубецкой [55Ј — id., с. 447.
1304
Н. Ebeling — Lexicon Homericum, Lipsiae, 1885, Vol. I, p. 106; «Forma [i. e. άμφικύπελλο\] nota quidem fuit inferioris aetatis hominibus, cf. Arist. h. a. 9, 40, sed ipsa pocula non amplius in usu fiierunt»; и как бы в опровержение первой половины своего тезиса автор заметки — Б. Гизеке — приводит несколько взаимоопро- вергающих суждений о форме амфикипеллов, — суждений, высказанных древними грамматиками.
1305
Изображение воспроизведено в сильно уменьшенном виде из издания:
Собрание Б. И. и В. И. Ханенко — Древности Приднепровья. Каменный и бронзовый века. Киев, 1899 г., вып. I, табл. VIII, рис. 46. Описание — на с. 13.
1306
Gornes — id., Bd II, Ѕ. 437. Тут же помещено изображение одного из таких сосудов.
1307
Киевский Городской Музей. 1 — шкаф VII It витрина № 6, внизу; 2 — там же; 3 — шкаф VI, Νδ 12338.
1308
Киевский Городской Музей, шкаф VII 1 (четыре экземпляра); шкафы VIII и IX и др.
1309
Московский Исторический Музей, зала «бронзового века», витрина № 23, у входа; сосуд разбит.
1310
Собрание Ханенко [60], id., вып. I, с. 11.
1311
id.
1312
G δ г η е ѕ — id., Bd II, Ѕ. 437.
1314
id.
1315
Об этих предметах речь будет идти в последующих лекциях.
1317
Дуду, или дед, — священный символ у египтян, употреблявшийся при погребении. Значение его толкуется различно. Есть объяснение, видящее в нем модель ниломера, т. е. прибора для измерения высоты воды в Ниле. Но гораздо вероятнее, что дуду означает хребет Озириса. Изображение двойного дуду, вообще довольно редкое, можно видеть, например, на саркофаге (со стороны ног) египтянина Маху, современника ХѴІІІ–й династии (XVI-XV вв. до P. X.), в Московском Музее Имп. Александра III (зал I, № 4167).
1319
«Неопределенная двоица» у пифагорейцев считалась началом женским, а «единица» — мужским. На этой почве и четные числа вообще считались женскими, а нечетные — мужскими.
1320
Ph. Buttmann — Lexiiogus, oder Beitrage zur griechischen Wort-EkIarung, hauptsachlich fur Homer und Hesiod, Bd I, 2–te Aufl. Berlin, 1825, rf> 40: άμφικύπελλον, S. 160–162.
J. Terpstra- Antiquitas Homerica, Lugduni Batovorum, 1831. Ill, 2, § 5, p. 142–144.
G. Ch. Crusius — E. E. Seiler — Vollstandiger Griechisch- Deutsches Worterbuch ӥЬег die Gedichte der Homeros und der Homeriden, 6–te Aufl. Lpz., 1863, S. 45.
J. B. Friedreich — Die Realien in der Iliaden und Odyssee. Erlangen, 1851, III, § 73, S. 255–256.
Η. E b e 1 i η g — Lexicon Homericum. Lipsiae, 1885, Vol. I, p. 106.
Pauly-Wissowa — Real-Encyclopadie der classischen Altertumswissenschafl. Neue Beaibeitung. 9–te Halbband. Stuttgart, 1903, coll. 228–231, Art. Δέπας.
Pierre Paris et G. Roques — Lexique des Antiquitfts grecques. Paris. 1909, p. 27.
1324
Pauly-Wissowa [72] — id., S. 229, 13–16; Buttmann [72] — id., 143, строки 1–4 снизу.
74 Кагаров — Культ фетишей [1], с. 284–285.
1326
Клингер — Животное в антич. и совр. суеверии [28], с. 72.
По свидетельству Ә л и а н а, «белые голуби посвящены Афродите и Деметре» (Aelian. п. а. VIII 22; Dionys. de аѵ. I 31) и т. п. — О природе и функции жертвоприношения см.:
H. Hubert et Μ. Mauss — Melanges d'histoire des religions. Paris, 1909.
1327
H. Харузин — Этнография. Ч. IV, верования. СПб., 1905, с. 356 сл.
1328
Аристотель — Historia animalium. IX, 40 (у Шнейдера IX, 27, 4). Цит. по Буттману.
1329
Crusius-Seiler [72] — id., Ѕ. 45.
1330
Pauly-Wissowa [2] — id., coll. 229, 16–22; 230, 63–70.
1331
Krausc- AngeioI., S. 58 (ссылка у Crusius-Seiler [72], id., Ѕ. 45).
1332
Аристарх — Etym. М. 90, 42 сл.; Аристарху следовали в этом толковании и еще некоторые грамматики. Athen. XI 7836, 482 дал.; Eustath. Od. XV, 20. — Согласно этому толкованию, в амфикипелле должно видеть предшественника позднейшего к а н φ а ρ а. Это объяснение имеет свои преимущества: существование в Трое и др. местах таких праканфаров доказывается раскопками Шлимана (Pauly-Wissowa [72], id., col. 229, 23–65). С другой стороны, такой сосуд действительно был бы пригоден для черпания жидкости из кратира. Наконец, составная часть названия его — άμφί — понимается правильно. Но зато совсем неправильно в этом объяснении подменяется понятие κύπελλον понятием ручки. Неужели это одно и то же?!
1333
Ѕсһ. L. 584 (Ebeling [72], id., р. 106 со ссылками еще на: Ар. 25, 18 Неѕ. Ath. XI, 783).
1334
Winkelmann— Geschichte der Kunst des Alterthums, Bd XI, Η. I. § 15 (Werke. Stuttg., 1845, Bd I. Ѕ. 450). — Цит. по Friedreich [72], id., Ѕ. 255—256).
1335
Ε. Boisacq — Dictionnaire ethymologique de la langue grecque. Heidelbeig-Paris, 1907, 1–re Iivr., p. 58. To же — в словарях Курциуса, Ваничка и др. — См. также:
Al. Walde— Lateinisches Etymologisches Worterbuch, 2–te Aufl. Heidelberg, 1910, Ѕ. 31–32.
1336
А. Добиаш— Опыт семасиологии частей речи и их форм на почве греческого языка. Прага, 1893 г., отд. IV, с. 301–304. В некоторых случаях «может поблекнуть или даже совсем исчезнуть представление о различии положения круга, т. е. представление вертикальности в одном, а горизонтальности в другом предлоге, и тогда περί и άμφί до того уравниваются между собою, что могут заменять друг друга, кроме значения «выше», в котором *περν> восстанавливает свой первоначальный смысл и до которого, как сказано, άμφί не дошло» (id., с. 303).
1337
Подобных примеров можно привести еще много, см. словари греч. языка — Бензелера, Эрнести, Византия, Анфима Газиса, Софокла и т. д.
1338
Такой взгляд на Гомера устанавливает, напр., Мёррэй: Murray — The Rise of the Greek Epic. Oxford, 1907 (обзор этой книги см. ЖМНП, 1910 г., февраль, с. 404 сл.).
1339
Тимофей — Персы (Д. Шестаков — «Персы» Тимофея. «Учен. Записки Имп. Казанск. Универ.», 1904, (LXXI) г., N° 12).
1340
П. Милославский— Древнее языческое учение о душе, о странствованиях и переселениях душ… Казань, 1873 г., с. 183, прим. 1–е.
1341
К. Tumpel — Die Muschel der Aphrodite («Philologus», Bd 51, N. F. Bd 5, 1892. Ѕ. 384–282).
1342
id., Ѕ. 384–385. — 1. Ваза из Микен (Furtwangler und Loschke — Mykenische Ѵаѕеп, Т. XXVI 20), сильно уменьшено. — 2. Ваза из широкообразной гробницы I (по Шлиману II) (Furtwangler und Loschke — Mykenische Theugefasse, Т. III 12а), уменьшено. — 3. Каменная форма из Микен (Schliemann — Mykenai. Ѕ. 121, Fig. 164). — 4. Изображение наутилуса — для сравнения (Oken — Naturgeschichtl. Atlas V, Т. XIII 7), уменьшено. — 5. То же, по Брэму (Brehm — Thierleben, VI, Ѕ. 770, I), уменьшено, — 6. Ваза с о–ва Родоса (Furtwangler und Loschke — Myken. Ѵаѕеп. I, 80, Fig. 38). — 7. Египетская ваза («American Journal of Archeol.». VI, 1890, pi. 22). — 8. Кружка из Микен, в Марсели, по наброску Фурт- венглера. — 9. Стакан из Микен («'εφημ. άρχαιολ.», 1887, ην., 13, 2).
1343
Эсхил— Умоляющие, 157—158.
1344
Еврипид — Ипполит, 420; «ώ δέσποινα πόντια Κύτφ» и др. места. Vigouroux [56] id. Т. I, coll. 1200–1202, fig. 342–345.
Атаргатис (= Деркето), fig. 343. Жертва голубями Астарте, fig. 344, col. 1201, — Деркето, полу–женщина, полу–рыба; в руке — рыба. На другой стороне монеты — галера и морское чудовище.
1345
id. I, col. 1898, fig. 497 и др.
1346
id. I, col. 1184, fig. 332.
1347
О еп. Антонии (Флоренсове) см.: Андроник иеродиакон (Трѵба- нее). Епископ Антоний (Флоренсов) — духовник свящ. Павла Флоренского // Журнал Московской Патриархии. 1981. Ns 9. С. 71—77; № 10. С. 65–73.
С апреля 1898 г. еп. Антоний жил на покое в Донском монастыре. Встреча П. А. Флоренского и еп. Антония произошла в 1904 г. См. преамбулу к «Антоний романа…» на с. 736, т. 1. В письме к А. Белому Флоренский пишет об очередном свидании с епископом как о событии чрезвычайной важности: «Виделся также с Преосвященным Антонием. Он был в этот раз вполне серьезен и говорил прямо, «своим голосом», почему произвел особенно сильное впечатление». — 131.
1348
Пс. 103, 25. — 132.
1349
путь вверх… путь вниз (греч.). — 133.
1350
Эти планы были реализованы Флоренским в работах «Философия культа» (1918) и «У водоразделов мысли» (1918—1922). — 134.
1351
сила напряжения, ритм, тонус (греч.). — 136.
1352
наглядно (лат.). — 137.
1353
Dig. lib. 50, tit. 17, fr. 202 (Coipus juris civilis, ed. stcrcot. сига I.
1354
всякое определение в гражданском праве в высшей степени опасно… ибо редкое из них не может быть опровергнуто (лат.). Диге- сты — свод законов в компиляции Юстиниана — Corpus iuris civilis. — 139.
1355
решето Эратосфена — метод обособления первых чисел натурального ряда, разработанный древнегреческим ученым Эратосфеном из Кирены (ок. 282–202 гг. до P. X.). — 139.
1356
персонажи диалектической драмы (лат.). — 141.
1357
Пс. 72, 28. — 142.
1358
М. М. Tapeeв — Уничижение Господа нашего Иисуса Христа. M., 1901, с. 4. Его же — «Основы христианства». Сергиев Посаљ 1908 г., т. 1, с. 10.
1359
Н. [Н] Глубоковский — Благовестив св. апостола Павла и теософия Филона Александрийского («Христианское Чтение». 1901 г., II, с. 809. Его же — Благовестие св. апостола Павла. Книга вторая. СПб., 1910, с. 281).
1360
А[-ей И.] Чекановский — К уяснению учения о самоуничижении Господа нашего Иисуса Христа (изложение и критический разбор кенотических теорий о Лице Иисуса Христа). Киев, 1910, с. 171.
1361
в дурном смысле (лат.). — 144.
1362
Φ. Г. Тёрнер — Опыт изъяснения на Послание св. Апостола Павла к Филиппийцам («Православное Обозрение», 1891 г., № 1, с. 106 = «Вера и Разум», 1892 г., № И, т. I, с. 551).
1363
Id., Vl3 (Migne — id., р. 221; рус. пер. с. 268).
1364
Id., VII2 (Migne — id, р. 230; рус. пер. с. 279).
1365
в хорошем смысле (лат.). — 145.
1366
буквально: насильники им овладевают (греч.). — 145.
1367
См. [4].
1368
Здесь и далее цифры в квадратных скобках указывают на номер сноски. — 145.
1369
Замечательно, что «θεφ» стоит без члена, и, следовательно, все речение «τό εΐναι ίσα θεφ* равносильно «быть божественным» или даже просто «обожение», «божественность».
1370
быть равным Богу (греч.). — 145.
1371
человеку (греч.). — 145.
1372
букв.: не почитал пребывание равным Богу за хищение (греч.). — 146.
1373
пребывающий в образе Бога (греч.). — 146.
1374
Прот. М. И. О ρ л о в — Литургия св. Василия Великого. Первое критическое издание. СПб., 1909 г., с. 185 25*
1375
не почитал пребывание равным Тебе, Богу и Отцу, но, будучи Богом предвечным (греч.). — 147.
1376
Id.. с. 18325–18526.
1377
технический термин (лат.). — 147.
1378
Филон —О созерцательной жизни. Μ., 47313–18 (Philo about the contemplative Life, ed. by Fred. C. Conybeare. Oxford, 1895, p. 41—42).
1379
H. П. Смирнов — Терапевты и сочинение Филона Иудея «О жизни созерцательной». Киев, 1909, с. 55–57 (= «Труды Киевской Духовной Академии», 1909 г., февраль, с. 264–267). Ввиду важности для нас возможно ранней датировки трактата «О созерцательной жизни», сошлемся на историю споров об авторе и дате этого сочинения, отчетливо изложенную в указанной выше диссертации Н. П. Смирнова (id., с. 3–27, а также с. 27–70). От древности и до половины ХІХ–го века не возникало сомнения в авторстве Филона, и если ставился какой вопрос — то лишь о самих ферапевтах, кто были они и каковы были их отношения к христианству. Но во второй половине ХІХ–го века начинают со стороны историков раздаваться голоса, отрицающие подлинность сочинения «О созерцательной жизни». Таковы Иост (1856 г.), Гретц (1863 г), Никола (1868 г.); сюда же должно отнести Френкеля, Кюнена, Дарамбура, Г. Иоловича, Эд. Целлера, Дж. Друммонда, Э. Шюрера, В. Бенна, Г. III трак а и др. Наконец, решительное слово произносит П. Э. Луциус (1879 г.), развивающий гипотезу о «подделке трактата под Филона» кем-нибудь из христианских аскетических писателей конца III или начала IV века. Аргументация Луциуса быстро привлекла к себе сочувствие ученого мира, так что защита исконного взгляда показалась бы жалкою наивностью. У нас к ней присоединился t А. П. Лебедев. Но в последней четверти XIX века начинается внимательное филологическое изучение трактата «О созерцательной жизни». Выступает ряд специалистов по филоновскому тексту, а к ним присоединяются историки, из коих некоторые ранее высказывались в противоположном смысле. Масбио (Massebieau, 1888 г.), Иессен (1889 г.), Дитерих (1891 г.), П. Вендланд (1896 г.) и К. Кон (1893 г.), оба — ученые издатели филоновсҟих творений, Э. Ренан (с 1892 г.), Конибир (Conybeare, 1895 г.) — издатель текста «О жизни созерцательной», Герио (1898 г.), П. Пфлейдерер (1902г.), Мид (1902г.), Н. П. Смирнов (1909 г.) твердо стоят на признании пререкаемого сочинения за подлинно–филоновское. Сюда же должно присоединить: А. Эдершейма, Фр. Зифферта, В. Сэндея, А. Аалля, кн. С. Н. Трубецкого, Дж. Джибба, Брука, Н. Н. Глу- боковского, О. У о клера. B результате этого дружного натиска на устаревший взгляд Луциуса, является почти всеобщее воспризнание первоначального исторического предания. А вслед за признанием филоновского авторства, удается установить и современность «О созерцательной жизни» сочинению *De profugis». Отсюда-то и устанавливается дата: 30–е годы по P. X. Отзывы о сочинении Н. Смирнова, данные В. Рыбинским и свящ. А. Глаголевым, см. в «Извлечениях из журналов Совета Киевской Духовной Академии за 1907–1908 учебный год». Киев, 1909 г., с. 504-–512.
1380
9–я книга ѴІ–й Эннеады в хронологическом порядке, по общему счету, есть тоже книга 9–я (Porphyrius-De vita Plotini, 4. — B издании Эннеад Фолькмана. Vol. I, Lipsiae, 1883, р. 813–14). Значит, она вручена была Порфирию Плотином «на десятом году царствования Галиена» (Porphyrius — id., 4. — Фолькман, id., р. 717), т. е. в 263 г. А так как Плотин начал писать свои Эннеады только с началом царствования Галиена (&άπό μέντοι τοΰ πρώτον έτους τής Γαλιήνου άρχής προτραπείς ό Πλοτΐνος γράφειν..9 Porphyrius — id., 4. — Фолькман — id., р. 7н–іб), т. е. в 254 г., то, следовательно, занимающее нас место из Эннеад относится приблизительно к первому пятилетию 254—263 гг., в конце какового промежутка времени у Плотина была уже написана всего двадцать одна книга (Porphyrius — id., 4. — Фолькман, id., р. 7і9).
1381
Plotinus — Enneades, VI, 9ц (Plotini Enneades praemisso Porphyrii De vita Plotini deque ordine liberorum ejus libello edidit Ricardus Fo Ik ma η η, Lipsiae, 1884. Vol. И, p. 5232o-24> особ. см. 23)·
1382
O. Bardenhewer — Patrologie [35], § 617, Ѕ. 215.
1383
И. [И.] Троицкий — Обозрение источников начальной истории египетского монашества. Сергиев Посад, 1907, гл. XII, с. 354—397. Итог исследования: «Мы должны сказать, что вообще нет никаких вполне веских доказательств в пользу мысли о поврежден- ности и непринадлежности «Жизни Антония» Афанасию» (id., с. 372). «О «Жизни Антония» мы должны сказать, что имеем в нем исторический источник высокой ценности… Интерес, важность и значение этой летописи… не подлежат сомнению; имя великого архиепископа и внутренний характер его летописи ручаются нам за ее полную достоверность» (id., с. 393).
1384
И. И. Троицкий — id. [18I, с. 375, 376.
1385
Св. Афанасий Великий — Житие преп. отца нашего Антония, 65 [674–675\ (Migne — Patrolog. ѕег. gr., Т. 26, coll. 933С—935В).
1386
Migne — id.
1387
Apophtegmata Patmm (Appendix I ad Palladium), Ij Об авве Си- луане, 2 (58) (Migne — Patrolog. ѕег. gr. Т. 65, col. 468С «= Cotelerius — Monumenta Ecclesiae Graeca, 4–е. Т. III). — Латинские выражения заимствую из перевода сочинения Verba Seniorum неизвестного автора на латинский язык, сделанного диаконом Пелагием и напечатанного в сборнике De vitis Patrum, lib. V; Verba Seniorum, III, § 15 (Migne — Patrolog. ѕег. lat. prima. Т. 73, col. 862 С, D).
1388
Apophtegmata Patrum Σ, Об авве Силуане, 3 (62) (Μ i g η e — Patrol. ser. gr. T. 65, col. 409 А). Лат. выражения — из Verba Seniorum, I, § 1 (Migne — Patrolog. ser. lat. рг. T. 73, col. 993 A).
1389
И. И. Троицкий — Обозрение [18], с. 25. — По мнению некоторых ученых, это было 9 мая 345 г., а по указанию Αρχ. Сергия — 348–го года (Архимандрит [впоследствии Архиепископ Владимирский] Сергий [Спасский]. — Полный месяцеслов Востока. M., 1876. Т. 2, ч. I, с. 127).
1390
Id., с. 321.
1391
Ho, во всяком случае, «Апофтегмы» написаны не автором ‹Лав- саика» Палладием, епископом Еленопольским, как свидетельствуют сир- ские рукописи (И. [И.] Троицкий — Обозрение источников начальной истории египетского монашества. Сергиев Посад, 1907, с. 320).
1392
И. И. Троицкий — id. [26], с. 324, 333.
1393
И. И. Троицкий — id. [26], с. 333.
1394
Krumbacher — id. ρη, Ѕ. 188, n0 843-- Ср. у И. И. Троицкого — id. Ρ], гл. XI, с. 310, 354.
1395
Писания преп. о. нашего Иоанна Кассиана Римлянина. Пер. с латинского еп. Петра. Изд. 2–е. M., 1892, с. 517.
1396
Ioannes Cassianus — Collationes, eollatio XIX, cap. IV (Migne — Patrolog. ser. lat. prima. Т. 49, coll. 1130В—1131 А). Тсуг же термин «восхищение» употреблен и немного ниже.
1397
Bardenhewer — Patrologie [зѕ], § 101, Ѕ. 444–445.
1398
Bardenhewer — id. [32].
1399
Δοροθέος Σχολάριος — Κλεΐς Πατρολογίας каі βυζαντινών συγγραφέων— υπ Μιγίου (Migne). Έν "Αθήναις; 1879, σ. 314.
1400
Ο. Bardenhewer — Patristik, 3–te Aufl., Freibuig im Br., 1910, § 824, S. 495.
1401
Преп. Нил Синайский — К досточтимейшей Маше, диаконисе Анкирской, слово о несгяжаггельности (De voluntaria paupertate ad Mamam), гл. 27 (Migne — Patrolog. ѕег. gr. Т. 49, col. 1004А, В).
1402
К. Krumbacher — Geschichte der Byzantinischen Litteratur. 2–te Auflage beaibeitet — von A. Ehrhard und Η. Gelzer. Мӥпсһеп, 1897, Ѕ. 187, N 84. Ср.: О. Bardenhewer, id. pj, 1910, § 109, Ѕ. 483.
1403
Иоанн Mocx — Луг Духовный, гл. 150 (Migne — Patrolog. ѕег. gr. Т. 87, pais III, col. 316 С).
1404
Κ. Krumbacher — id.[37], S. 143, N 56.
1405
О. Bardenhewer — id.[35], § Ill3, Ѕ. 495.
1406
Преп. Иоанн. Јїествичник — Лестница. Слово 28|9 (Migne — Patrol, ser. gr, Т. 88, col. 1132 D).
1407
Творения иже во св. о. нашего Аввы Исаака Сириянина. Слова подвижнические. Изд. 3–е. Сергиев Посад, 1911, с. VI. — Эти даты устанавливаются по открытым в 1896 г. аббатом Шабо сообщениям сирского историка Иезудены.
1408
Chabot — De Ѕ. Isaaci vita, scriptis et doctrma, Lovani, 1892, p. 61 = Творения [42I, с. VIII.
1409
Преп. Исаак Сирин — Послание к преп. Симеону Чудотворцу (по греческому изданию Никифора Φ е ото к и, Лейпциг, Epist. IV, σ. 579; в русск. перев. «Творений» [42] слово 55–е, с. 261 — 262).
1410
К. Krumbacher — id. Ғ], Ѕ. 152–153, N 63.
1411
Пpen. Симеон Новый Богослов — Слово 451 о (Слова преп. Симеона Нового Богослова. B переводе на русский язык с новогреческого епископа Феофана. Изд. 2–е. Москва, 1892. Вып. I, с. 413— 418). — Του οσίου και θεφορου πατρός ήμων Συμεών του Νεου θεολογου τα ευρισκόμενα. Μέρος πρώτον, περιεχει λογούς μεταφρασθεντας εις την κοινην διαλεκτον παρα… Διονυσίου Ζαγοραιου. Изд. 2–е Иоасафа из Псаф. Ev Συρφ, 1886, σσ. 230–232.
1412
K. Krumbacher — id. P7], Ѕ.157, N 67.
1413
Γρηγορίου τοϋ Σιναΐτου κεφαλαία AV άκροστιχίδος πάνυ ωφέλιμα (S. Patris nostri Gregorii Sinaitae Capita valde utilia per acrostichidem dis- posita), 111 (Migne — Patrolog. ser. gree. posterior. Т. 150, col. 1227 С). — Русский перевод «Глав о заповедях и догматах, угрозах и т. п› Григория Синаита сделан епископом Феофаном Затворником и помещен в «Добротолюбии» (Т. 5, M., 1889, с. 222). К сожалению, перевод этот весьма далек от точности, — так даже, что текст оказывается «исправленным», в чем читатель может убедиться, хотя бы сличив, — приводимые полностью, — отрывки русского перевода с соответственным текстом.
1414
Преп. Григорий Синаит — id. [48], 58 (Migne — id., col. 1256 А — «Добротолюбие», id., с. 207).
1415
Преп. Григорий Синаит— id. [48J, 59 (Migne — id. coL 1256 В — «Добротолюбие», id., с. 207).
1416
К. Krumbacher- id. [37], Ѕ. 153, N 69.
1417
Nicolai Cabasilae de vita in Christo libri septem, VII\н–і 17• Περί τής έν Χριστώ ζωής λόγος έβδομος, 114–117 (W. Gass- Die Mys- tik des Nicolaus Cabasilas von Leben in Christo. Lpz., 1899, S. 197–198. = Migne — Patrolog. ѕег. graeca posterior. Т. 150, col. 714д–в = Николая Кавасилы Архиепископа Фессалоникского «Семь слов о жизни во Христе». Перевод с греческого. M., 1874, с. 185–186).
1418
[К. Г. Тёрнер] — Хронология Ветхого и Нового Завета. Перевод с английского со введением и в редакционной обработке Н. [Н.] Глубоковского. Киев, 1911, с. 136 (= «Труды Киевской Дух; Акад.», гл. LII, кн. VII-VIII, 1911 г., июль—август, с. 368–369).
1419
[К. Г. Тёрнері — id., с. 136 (= «Тр. К. Д. Ак.», id., с. 368).
1420
Зд.: мир (лат.). — 161.
1421
L. Ғ. Romer— Naehrichten von der Kiiste Guinea. Kopenha- gen und Lpz., 1769. Ѕ. 67 (цит. по: Тэйлор — Первоб. культ., СПб., 1873. Т. 2, с. 419).
1422
Н. [Н.1 Харузи н — Этнография. IV. Верования, СПб., 1905, с. 39.
1423
О Гарпиях см.:
Sittig — Haipyien (Paulys Real-Encyclopadie der classischen Altertum swissenschaft. Neue Bearbeitung von G. Wissowa, herausg. von W. Kroll. Stuttgart, 1912, Bd 72, coll. 2417–2431).
V. Berard — Harpyia (Dictionnaire des Antiquites grecques et romaines, publie sous la direction de Ch. Daremberg et Ed. Saglio. Т. 3b Paris, 1899, p. 13–17).
Engelmann — Harpyia (Ausfuhrliches Lexikon der griechischen und romischen Mythologie… herausgegeben von W. H. Roscher. Lpz., 1884–1890. Bd I, coll. 1842–1848).
Jessen — Phineus (Roschcr's Ausf. Lex., Lpz., 1902. Bd З2, Lief. 51, coll. 2354–2375) и т. д
1424
«&ανμας δ' Ώκεανοΐο βαθνρρείταο θύγατρα ήγάγετ' Ήλέκτρην. ή δ' ώκεΐαν τέκεν Vpivt ήϋκόμους θ' "Αρπυιας, 'Αελλώ τ' Ώκυπέτην τε..> (Гесиод — Феогония, 265—267. Hesiodi carmina etc. ed. Lehrs. Pa- risiis, 1840, Didot, p. 6).
«Πόντου δέ.., θαύμας. θαύματος μέν οΰν каі Ηλέκτρας τής Ωκεανού Vpic каі "Αρπυιαι Αελλώ, Ώκυπέτψ (Аполлодор — Библиотека, I, 2, 6. Apoilodori Bibliothecae libri III, ed. stereotypa, Lipsiae, 1832, p. 4). To же у Гигина (Hygin. tab. 14).
1425
Valerius Flaccus — Argonautica IV, 428 [84J.
1426
Maurus Servius — Commentarii in Virgilii Aeneidem, III 241 (Commentarii in Vii^ilium Serviani, rec. H. Alb. Lion. Gottingae., 1826, Vol. I, p. 206).
1427
Etymologicum Magnum, s. v., p. 31821; у Схолиаста к Одиссее I 241; в Etymologicum Gudianum и пр. (Paulys Real-Encyclopadie der classischen Altertumswissenschafl. Neue Bearbeitung, — von G. Wissowa и. W. Kroll. Stuttgart, 1912, Bd 72, 14–ter Halbband, col. 2418).
1428
Hesychii Alexandrini Lexicon. Editionem minorem curavit Mauricius Schmidt. Ed. altera. Jenae, 1867, col. 1146іб•
1429
W. Prellwitz — Etymologisches Worterbuch der griechischen Sprache, Gottingen, 1892, S. 33: αρπάζω.
1430
Ε. Boissacq — Dietionnaire etymologique de la langue grec- que. HeidelberB-Paris, 1908, 2–me livraison, p. 81: άρπάζω.
1431
Suidae Lexicon graece et Iatine. Post Gaisfordum гес. et anno- tatis ас critica instruxit God. G. Bernhardt. Т. I. Halis et Brunsvigae, 1853, col. 75¾. $. v. По мнению рецензента, «glossa temere inculcata».
1432
«…άρπυια Ποδάργη βοσκομένη λειμώνι παρά βόον Ώκεανοΐοь (Гомер — Илиада, XVI, 150–151).
1433
Аполлодор — Библиотека, I, 9, 21 ([106], р. 31).
1434
Псевдо–Писандр у Схолиаста на Аполлония Родосского, II, 1089, о Гарпиях: «Πιθανώς δέ ό Πείσανδρος τούς δρνιθάς φησι, εις Σκυθίαν άποπτήναι, όθεν каі έληλύθεσαν* (Pseudopisandri Heroica Theoga- mia, 14. « Pisandri Fragmenta», ed. DidotJ81], ρ. 10).
1435
Virgilius — Aeneis, III, 209, 213 (Oeuvres de Viigile, texte latin, par Ε. Benois, т. 2, Paris, 1882, p. 148), ср. Hygini Fabul. 14.
1436
Аполлоний Родосский — Арп›навтика, II, 296–297. (Didot [82], р. 2%). Servius, — Comm. in Virg. Aen. Ill 209. (Lion [60J, Vol. I, pp. 203–204).
1437
"Αρχνιαι… έδυσαν κευθμώνα Κρήτης Μινωΐδος* (Аполлоний — Аргонавтика, II, 298–299. Hesiodi Carmina, Apollonii Aibo- nautica etc., ed. Ғ. J. Lehrs et Fr. Dubner, Рагіѕііѕ, 1840, Ғ. Didot, р. 34).
1438
Аполлодор — Библиотека, I, 9, 21 (id. [103], р. 32).
1439
Слово Океан, Ωκεανός, есть транскрипция семитского hokewan, т. е. Залив (или пазуха, грудь, κόλπος) Богатств, Средств к жизни и т. п. Следовательно, название Океан значит как раз то же самое, что и позднейшие названия занимающего нас Лукрского залива: Πλουτώνιο ν или Κόλπος Πλουτώνιος у греков, а также Κόλπος Εμπορικός, т. е. Купеческий залив или Залив Торговли, Sinus Lucrinus у римлян, Golfe du Lucre или Golfe de la Richesse (Berard, id. [75], pp. 316—317).
1440
V. Berard- Les Phenieiens et IOdyssee. Т. II. Paris, 1903, р. 316.
1441
«…аі CAfmOtm] St ύπέδνσαν ЅеЏит Δικτοάης ττεριώσιον άντρον έρίπνης* (Аполлоний Родосский — Аргонавтика, II 433–434, id. [82], р. 36).
1442
Ныне открытою трудами археологов. Соответствующая история археологических изысканий суммарно изложена Ж. Тутэном в статье « Archeologie religieuse de la Crete ancienne» (J. Toutain- Etudes de Mythologie et d'histoire des religions antiques, Paris, 1909, p. 157–174 = «Revue d'Histoire des Religions». T. 48. an. 1904). Прочая литература околокритских исследований указана в статьях:
П. Флоренский — Пращуры любомудрия («Богословский Вестник», 1910 г., I, апрель, с. 639–644).
П. Флоренский — Напластования эгейской культуры («Богословский Вестник», 1913 г., II, июль–август, с. 384–389).
Сюда надо добавить:
Rene Dussaud — Les civilisations prehelleniques dans Ie bassin de la mer £gee, 2–me edition, Paris, 1914.
P. Ф. Лихтенберг— Доисторическая Греция. СПб., 1914 г.
Ε. Г. Кагаров— Из заграничных впечатлений. СПб., 1912 г. (Отд. от. из «Гермеса» за 1911 и 1912 гг.).
Е. Г. Кагаров — Основные моменты в истории критско- микенского искусства. Одесса, 1911. (Огд. от. из «Зап. Имп. Одес. О–ва Ист. и Древн.». Т. 29).
1443
О пещерах, как местах мистических культов, см. кое-что в: Свящ. П. Флоренский — Смысл идеализма. Сергиев Посад, 1915, гл. XI, с. 46–48 (= «Юбилейный сборниҳ Императорской Московской Духовной Академии». Сергиев Посад, 1915 г., ч. 2, с. 84—87.)
1444
Servius — Commentarii in Ѵіг^іШ Aeneidem, III 209 (Lion [60]. Vol. I, р. 204): «Sane apud inferos furiae dicuntur, et canes; apud superos dirae et aves. — in medio vero Harpiae dicuntui».
1445
Разумно, что в преисподней их именуют фуриями и собаками, на небесах — дирами и птицами, посредине же — Гарпиями (лат.). — 165.
1446
Лукан — Фарсалия, VI 733 (Μ. Annaei Lucani Pharsalia, ed. ster. Lipsiae, 1834, p. 137).
1447
Servius — Commentarii in Ѵіі£ІІіі Aeneidem, III 252 (Lion [60]. Vol. I, pp. 207–208).
1448
Hesyehius — Lexicon [62I, col. 232 34–35, s. v. Впрочем, так понимает это место В. Берар (Daremberg et Saglio. Т. III ј, р. 14). М. Шмидт же, издатель «Словаря» Исихия, ставит иную интерпункцию; а именно: +'Αρκυίας. άρπακτικούς κύνας*.
1449
Аполлоний Родосский — Аргонавтика, II 289 (Неsiodi Сагшіпа, Ар о 11 о η і і Aigonautica etc., ed. F. J. Lehis et Fr. Dubner, Parisiis, 1840, F. Didot, p. 33).
1450
Servius — Commentarii in Viigilii Aeneidem, III 209 (Lion [60J. Vol. I, p. 204).
1451
прислужницы Юпитера (лат.). — 166.
1452
C. Valerii Flacci Aigonauticon, IV 520 С (Bibliotheque Latine-fran aise, publie sous les auspices de S. A. R. M. Le Dauphin. 17–melivraison, Paris, 1829. Valerius Flaccus, 1'Ai^onautique).
1453
Berard (Daremberg et Saglio, id. (57], pp. 14–15).
1454
A. Maury — Histoire des rcligions de la Grece antique, Paris, 1857. Т. I, p. 167, an. 6
1455
Erwin Rhode — Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen, 4–te Aufl., Tubingen, 1907. Bd. I, SS. 71–73. — Г. Вейкер, О. Крузиус и В. П. Клингер видят в Гарпиях, как и в Сиренах, Керах, Эринниях и других существах низшей мифологии греков, «души мертвецов», причем это толкование не исключает и толкование их как ветров, ибо самая душа мыслится в мифологии как вихрь, как ветер (Витольд [П.] К л и н г е р. — Животное в античном и современном суеверии. Киев, 1911 г., с. 41—42 сл.). Но из того, что Гарпии суть (?) души–вихри, ничуть не следует, будто похищение Гарпиями есть смерть, ибо явления, отчасти подобные смерти, вроде восхищения, летаргии и т. д., тоже могут производиться существами хтоническими.
1456
Гомер — Одиссея, XV, 250–251. Пер. Жуковского.
1457
Гомер — Илиада, XX, 232—235. Пер. Гнедича.
1458
Гомер — Одиссея, I, 235.
1459
Id., I, 241—242.
1460
Id., XIV, 371.
1461
Id., XX, 61–81. — Пер. "Жуковского. В стихе 63–м меняю «О!» на «Иль», представляющий точную передачу «# έπειτα — или же»; в стихе 77–м опускаю произвольно и неосмысленно вставленный эпитет Гарпий «гнусные». Точно так же не совсем основательно переводчик характеризует Эринний, как «грозных» да еще «чудовищ» и предает им в «рабство» дев. Ничего такого у Гомера, кажется, нет; слово «στνγερήσιν», вероятно, употреблено в смысле постоянного эпитета, и восхищение дев Паңцарея изображается поэтом в тоне отнюдь не трагическом, и тем более не элегическом.
1462
Гимны Орфея, 19і9, 36іб, 71ц (цит. по Берару, у Darem- berg et Saglio [57]).
1463
Insc. of Cos 322 (Rhode — Psyche, 4–te Aufl. Tubingen, 1907. Bd. 2, S. 411).
1464
Софокл — Аянт–биченосец, 1192–1194 (Рус. пер. Ф. Зелинского, M., 1914. Т. 1, с. 112; текст — по парижскому изд. G. Didot 1864 г.).
1465
Софокл — Трахинянки, 953 (Рус. пер., id. Т. 3, с. 243; текст — id., р. 206).
1466
Софокл — Филоктет, 1092 (рус. пер., id. Т. 1, с. 243; текст — id., р. 206).
1467
Еврипид — Ион, 809–812 строфа 5–я (Театр Еврипида. Пер. И. Ф. Анненского. Т. I, СПб., [1907], с. 487; Euripidis Tragoediae. Ed stereotypa, Lipsiae, 1828. Τ. 4, pp. 362—363).
1468
Id., 1461–1463. (Пер. Анненского, id., с. 515; текст id., р. 383.)
1469
Id., 1461–1463. (Пер. Анненского, id., с. 515; текст id., р. 384.)
1470
Еврипид — Ипполит, 1304—1309. (Пер. Анненского, id., с. 320; текст — id. Т. 2, р. 286–287.)
1471
Еврипид — Умоляющие, 830–833. (Текст — id., — 2, id., p. 419.)
1472
Ср. Daremberg et Saglio — id. [57], тут же и некоторые рисунки. У С. Ренака (Salomon Reinach — Repertoire des vases peints grecs et etrusques. Т. I, Paris, 1899) можно найти маленькие воспроизведения этих изображений и точные указания на первоисточники. Гарпии и Финей: pp. 119з,4; 200–201 427д а, в; 441. Финей, но без Гарпий: р. 3469, 463з.
Еще об изображениях Гарпий см. в статье Зитгага, Jsfe 4 (Pauly- Wissowa — Real. — Enc. [57], соИ. 2420–2423).
1473
Этот миф излагает уже Гесиод в *Γής Περίοδος». Страбон (VII302); Эсхил в «Промефее» (ст. 725) и в «Евменидах» (ст. 50) и Софокл в «Антигоне» (ст. 9804), сделавшие на него намеки, ставили его на сцену (Исихий, под словом καταρράκτες); его возобновили затем Антимах и Писандр (Схолиаст к Аполлонию Родосскому И, 296 и 1088); до нас дошла лишь поэтическая обработка мифа у Аполлония Родосского в «Аргонавтике» (II, 184 сл.); в «Аргонавтике» Валерия Флакка (IV, 450) дан перевод предыдущей обработки, но с некоторыми вариантами. Сообщения Дионисия. Милетского, Гелл аника и Фере- кида передаются нам Диодором Сицилийским (IV, 43–44) и схолиастами (Схолии к Аполлонию Родосскому II, 207, 178, 181, 279). Другие варианты сообщены Аполлодором I, 9, 21; III, 15, 3), Сервием (ad Aen. III 209), Гигином (Fab. 14), Палэфатом (Άπιοт. XXIII), Цеце (ad Lycoph. 653) и др. (См. Darembeig et Saglio, id. [57], р. 15).
1474
Аполлодор — Библиотека, III, 921 (Apollodori Atheniensis Bibliothecae libri III. Editio stereotypa. Lipsiae, 1832, р. 31).
1475
Аполлодор — Библиотека, III, 921 (id. [106J, р. 31). Ср. у Cep- вия, «Quidam autem dieunt hune Phineum ob divinitatem a Thnicibus regem cooptatum» (Servius — Commentarius in Viigilii Aeneidem, III, 209; ed. Lion I60]. Vol. I, p. 904).
1476
О Бореадах см.: Rapp- Boreaden (Roscher's Ausf. Lexik. [57], Bd coll. 797–803).
Л. Э. Стефани — Борей и Бореады («Известия Императорского Археологического Общества». Т. 7, 1872 г., с. 387—426) = L. Stephani — Boreas und die Boreaden (Memoires de I'Academie des sciences de St. — Petersbuig, VII serie, sc. pol., hist. et. phil. T. 16 (1871), N 13, и отд.
1477
См. о Борее: Rapp- Boreas (Roscher's Ausf. Lexik. [57]. Bd I, coll. 803–814). Worner — Oreithyia (id. Bd 3Ь coll. 942–955, и особ. coll. 949–954).
1478
Гомер — Илиада, IX, 5; XXIII, 230.
1479
Eustath. ad. Dionys. Perieg. 424; ср. Heraclid d. Incred. 28: «βασιλεύς τών τότνων έκείνων» (цит. по Раппу).
1480
Гесиод — Труды и дни, 553 (Didot [81], р. 41). Ср.: Тиртей, 12 4 (Th. Bergk — Poetae lyrici graeci, ed. 4–ta, Lipsiae, 1882. Vol. 2, p. 16); Ивик — Фрагм. 18 (Bergk — id., 1882. Vol. 3, p. 235); Аполлоний Родосский — Аргонавтика, I, 214 (Didot [81], р. 7), I, 1300 (id., р. 27); II, 427 (id., р. 36); Феокрит, XXV 89.
1481
Rapp — Boreas (id. [109]).
1482
Калл и мах — Дельф. Гимн., 26.
1483
Схолиасты к I, 211 Аргонавтики Аполлония Родосского.
1484
Л у к а н — Фарсалия, V1 603 [79].
1485
Cp.: Rapp- Boreas [109], coll. 806–807.
1486
Каллимах— Дельф. Гимн., 291. — У Псевдо–Плутарха эта пещера названа «холоднейшим местом».
1487
Roscher's Ausf. Lex. [57J, Bd I, coll. 806, 808, 810. — S. Rein- ас h — Repertoire des vases peints grecs et etrusques. Paris. Т. I, 1899; p. 146.. 182; 2402j; 2674; 305; 352j; 358,,2; т. II, 1900; p. 78l>3; 3163.
1488
Roscher s Ausf. Lexik. [57J. Bd I, col. 811. — Стефани [108]. — S. Reinach — Repertoire de la statuaire grecque et romaine, Paris, 1909. Т. II. Vol. II, p. 5113.
1489
Tyт должно назвать: Эсхила, Софокла, Симонида, Ферекида, Хэрилла, Аполлония Родосского, Аполлодора и др.
1490
Платон — Фэдр, 229 (Platonis Opera ex rec. Hirschigii, Pa- гіѕііѕ, 1866. Vol. I, p. 699–670).
1491
Симонид (у Схолиаста к I, 211 Аргонавтики Аполлония Родосского) и Акусилай (у Схолиаста к XIV 533 «Одиссеи» Гомера).
1492
Платон — Фэдр, 229 B (id. f122], р. 69935_э7) —
1493
Id., 229 С, D (id. [і22], 69945ј5і).
1494
С. Fr. Hermann — Praefat., 17.
1495
Хэрилл.
1496
Симонид [123J.
1497
Симонид [l23J.
129 F. G. Welcker — Alte Denkmaler, Munchen, 1849–1864. Bd 3, S. 149 (цит. по Раппу).
1498
Акусилай р23].
1499
Rapp — Boreas ([105], col. 803).
1500
Гомер — Одиссея, XIX, 200.
1501
Пиндар — IV Пифийская ода, 181–282 (Bergk— Poitae Iyrici graeci [112J ed. 4–ta, Lipsiae, 1879. Vol. I, p. 183).
1502
Схолиаст к I 1826 Аргонавтики Аполлония Родосского.
1503
Софокл — «Антигона», 983–986 р6]. Текст — р. 172; пер. Ф. Зелинского. Т. 2. М., 1915, с. 401
1504
Гомер — «Илиада», XV, 171; XIX, 348.
1505
Гомер — «Одиссея», V, 296.
1506
G. Curtius— Grundziige der griechischen Etymologie. 4–te Aufl., Lpz., 1873, Ѕ. 350, N 504; Ѕ. 474, N 645. (См. также по указ. Раппа: Μ. MӥIler — Sprachwissensch. Vorles. von. Bottiger 2, 9.) См. [117].
1507
См. [117]
1508
Диодор Сицилийский — Историческая Библиотека, II, 477 (Diodori Siculi Bibliothecae Historicae que supersunt ex nova ге- censione L. Dindorfii. Vol. I, Parisiis, 1842, p. Ібдо–із). Каллимах — Дельф. Гимн., 291.
1509
Etym. M., р. 823, Αχ.
1510
Cm. у Рошера р7]. Bd Зь col. 94032–4о.
1511
Μ. Маус г — Die Giganten und Titanen, 240 (цит. по статье Orpheus» О. Группе в Roscher's Ausfuhrlich. Lexik. d. Mythol. Bd 3i coll. 1062–1063).
1512
Priscianus — Institutiones grammaticae. VI, 1892 (Prisciani Caesariensis Grammatici Opera, ex. rec. Aug. Krehl, Lipsiae, 1819. Vol. I, p. 283): «…Dores… qui pro… Όρφεύς "Ορφης ετ "Ορφεν dicunt… Similiter Ibicus όνομα κλυτόν "Ορφενdixit…» и далее.
1513
Hesychii Alexandrini Lexicon [62], II, col. 10622s-26, col. 1146|б•
1514
Id., col. ІІ4З35.
1515
Id., col. 1146j7.
1516
Roscher — Ausfuhrl. Lexik. [57] Bd Зь coll. 1062*7–68 — ІО6З1–9 и т. д.
1517
В книге: С [С.] Глаголев — Греческая религия. Ч. 1–я. Верования. Сергиев Посад, 1909, с. 219–225, — дается сводка различных мифов об Орфее.
1518
Священник Д. [С.] Глаголев — Второе великое путешествие св. ап. Павла с проповедью Евангелия, Тула, 1893 г., с. 122.
1519
В. Ф. Фаррар — Жизнь и труды св.. апостола Павла. Пер. с XIX англ. изд. А. М. Лопухина, СПб., 1887 г., с. 952, прим. 839 — Ср. у Д. С. Глаголева, id. ^0]. с. 112, прим.
1520
Д. С. Глаголев- id. [ί5°], с. 112.
1521
Д. С. Глаголев — id. [15°], с. 132 и прим.
1522
Фаррар — id. [151], с. 954, прим. 867.
1523
Аполлодор — Библиотека, I, 4j, id. [106], р. 6.
1524
Иеромонах Григорий — Третье великое благовестническое путешествие св. Апостола Павла, Сергиев Посад, 1892, с. 440, прим. 107.
1525
Freiheiherr von Soden — Die Schriften des Neuen Testaments, Theil, I Abtheilung, Berlin, 1902, S. 300, [72]. Subscriptio 2–го Послания к Коринфянам: *έγρώρε άπό Φιλίτΐπων διά Τίτου καί ΛουκάСр. издание Нового Завета Эб. Нестле. edito octava recognita, 1910, р. 478.
1526
Κ. Г. Тернер- id. [53] (= «Тр. К. Д. Ак.», id., с. 364).
1527
похищение (лат.). — 186.
1528
само действие похищения (лат.). — 186.
1529
разграбление (лат.). — 186.
1530
Stephanus — Thesaurus Graeeae linguae, post ed. anglicam novi. G. R. L. de Sinner et Т. Fix, Parisiis, 1831. Vol. T. 2, coll. 2024D — 2026.
1531
то, что похищено; добыча (лат.). — 186.
1532
вещь, которая должна быть похищена (лат.). — 186.
1533
The Vocabulary of the Greek Testament illustrated from the Papyri and other non-litterary sources by James Hope Moulton and George Milligan. Part I, London, New-York, Toronto, 1914, p. 78; άρπαγή, άρπαγμός.
1534
Тёрнер — id. [53] (= «Тр. К. Д. Ак›, с. 368).
1535
B «Сказании о бессмертном успении Пресвятая Богородицы», составленном св. Димитрием Ростовским («Минеи Четьи», Август, 15–е число), читаем, как, пред успением Божией Матери, «быстро внезапу шум аки гром зельный, и множество облаков, окруживших дом оный: Божиим бо повелением Ангелы святии восхитивше Апостолов святых от конец вселенныя, внезапу принесоша на облацех во Иерусалим и на Сионе пред дверьми храмины Пресвятая Богородицы поставиша». А по воскресении Приснодевы, Апостолы, «паки облаком носимии, кийждо в свою, идеже проповеда, страну возвратишася». По сообщению Мелитона Сардийского, и св. Иоанн Богослов из Эфеса «облаком, якоже и прочии Апостоли, прежде этих восхищен и принесен бысть к погребению Богоматерей. — Ср. в «Акафисте Успению» конд. 3–й: «Сила Вышняго восхити от Индии Фому» и конд. 5–й: Апостолы «восхищени быша на облацех, по широте воздушней».
1536
В «Архиве свящ. Павла Флоренского» сохранилась рукопись, написанная о. Павлом 9 октября 1917 г. в Сергиевом Посаде к очередному диспуту Туберовского. Приводим отрывок из нее, проливающий свет на историю с «гадким утенком».
«Вы припоминаете, — пишет о. Павел, обращаясь к Туберовскому, — что в своем отзыве, стараясь объяснить и выгородить некоторые недостатки Вашей работы, я имел неосторожность назвать ее «гадким утенком». Вы изволили обидеться на меня. Об этом моем проступке было доложено и ревизору с заявлением, что мой отзыв был написан преднамеренно так, что Св. Синод якобы должен был на основании его отказать Вам в степени. Последнее, выражаясь корректно, «не соответствует действительности». Но я должен покаяться, что, действительно, в своем отзыве старался парировать мнения из слышанных мною возражений на Вашу книгу, выступал Вашим защитником‚ вместо того чтобы быть нейтральным, — и за это был наказан. Что до «гадкого утенка», то мне право непонятно, почему Вы самостоятельно пришли к пониманию этого сравнения как обидного для себя? Ведь Вы помните сказку Андерсена о молодом лебеде, вылупившемся среди утят, который был нескладен и главное не походил на утят, и за это получал презрительные взгляды, а потом развернулся лебедем. После уже я сообразил, что подобное сравнение бестактно: но отнюдь не в отношении к Вам, ибо быть молодым лебедем, хотя и обижаемым, лестно всякому‚ а в отношении к нашим товарищам, словно Вы и в самом деле гуляете среди коллег, как лебедь среди уток. Итак, мы все утята, но и Вы — не более, чем утенок, но отнюдь не лебеденок…» (К диспуту Туберовского // Начала. № 4. 1993. С. 82–83). — 193.
1537
есть невыразимое (греч.). — 195.
1538
путь отрицательный (лат.). — 195.
1539
В машинописи карандашом: «Вы портите систему двух царств, но зато делаете ее православной». — 198.
1540
кенозис (греч.). Кенотическая теория — богословское учение о самоуничижении (вочеловечении) Иисуса Христа. Подробному разбору одного из самых важных источников для любой кенотической теории посвящена работа Флоренского «He восхищение непщева (Филипп. 2, 6–8)» (Наст. том. С. 143–188). — 198.
1541
ум (греч.)… простая единица (лат.). — 201.
1542
В машинописи карандашом: «об этом уже говорили». — 204.
1543
В машинописи карандашом: «и об этом было сказано. Ho может быть [нрзб.]». — 204.
1544
В машинописи карандашом: «Ваша настойчивость в утверждении автономии разума и плоти, Ваша уклончивость в признании благодатного разума, благодати слова есть [нрзб.] именно этой стороны кенотизма. Отсюда учение о свободе плоги в [нрзб.]. Ho надо быть последовательным: душевная жизнь самодвижется по своим законам. — нет места духовности, а я думаю: при кенотизме вся жизнь [нрзб.] плотская и нет места [нрзб.]. Она есть пустое притязание, ее не может быть. А если она есть, то нет кенотизма». — 204.
1545
В машинописи карандашом: «Итак: «До свидания, до свидания», — и А. М. машет платком, уносясь на попут[ных] от своего недавнего союзника и мимолетного попутчика». — 206.
1546
В машинописи карандашом: «А Вы, A. M., философ». — 206.
1547
В машинописи карандашом: «принципиально нового, — нового откровения, — а не какой-либо частности, и притом откровения важнейшего и превосходнейшего. Если тело с душою мы называем человеком, то одно тело нельзя называть человеком, и наоборот». — 207.
1548
Варлаам‚ калабрийский монах, прибывший в царствование Андроника Младшего в Византийскую Империю, в начале своей деятельности — защитник православия; разногласия с афонскими исиха- стами у него возникли по поводу толкования природы Фаворского света в связи с учением о сущности Бога и Его энергии. Учение Bap- лаама и Акиндина‚ выступающих против разделения сущности и энергии, было признано еретическим на поместном соборе в 1341 г. и предано анафеме на поместном соборе в 1351 г. Варлаам, переселившийся в Италию, стал католическим епископом. — 210.
1549
Должно быть отмечено, кстати, что воззрения А. М–ча Туб–п› противоречат и наиболее вескому источнику церковного предания — Св. Литургии. Bo второй части благодарственной евхаристической молитвы в Литургии св. Василия Великого властно устанавливается существенная и необходимая связь между всеми событиями в жизни Господа Иисуса Христа, и в особенности между Боговоплощением и Воскресением Христовым. Христос «και άναστάς τβ τρίτβ щіѓрџ. каі όδοποιήσας πάση σαρκΐ τήν έκ νεκρών άνάστασιν, καθότι ούκ ήν δυνατόν κρατεΐσθαι υπό τής φθοράς τόν άρχηγόν τής ζωής» (по пергамент, рукоп. Евхология еп. Порфирия, обычно определяемой XI и даже X веком; но по авторитетному мнению самого ученого владельца — не позже VIII в. Теперь в Имп. Пуб. Библ., под № CCXXVL Прот. М. И. Орлов, — Литургия св. Василия Великого. СПб., 1909, стр. 188, 44–46). По славянскому переводу: «въскрнье ‹†єже› йз мертѕыхќельмд ‹же› не бЬ мощно д‹Ьржнмоү еытн йстлѣны^мь ндчдлникоү жизни». (Пергам. Служебник XlI в. в Моск. Син. Библ. № 343 (604). Орлов— id. 189, 44—46) или, по друг, рукописям: «елмд нє в‹й мощно», «понеже не возможно в•ѣ», «Ґдко не башє можно» и т. д. (Орлов, стр. 189). — По современному тексту: «воскрес в третий день, и путь сотворив всякой плоти к воскресению из мертвых, зане не бяше мощно держиму быти тлением начальнику жизни». Итак, не напрасно ли А. М. разделяет воскресение Христово от Его воплощения, вопреки свидетельству Литургии, что Христос воскрес «зане не бяше мощно держиму бьгги тлением начальнику жизни»? И не слишком ли он нападает на супрана- туралистов, полагающих это «не бяше мощно» в основу своей теории?
1550
природа Божия (греч.). — 214.
1551
Божией природы (греч.); одна природа (греч.). — 214.
1552
Ф. И. Успенский — Синодик в неделю православия. [Записки Императорского Новороссийского Университета, т. 59, 1893, стр. 420–421].
1553
Докетизм — еретическое учение, считавшее телесную природу Христа видимостью, или утверждавшее, как это делали Аполлинарий и Евтихий, что божественная природа в Христе полностью поглощает человеческую. — 214.
1554
Черной ручкой вписан авторский перевод данного отрывка: «Анафема (трижды) тем, кто затевает придумать (έπάγειν) и отыскать новую точку зрения (исследование) и учение о неизреченном домостроительстве воплощения Спасителя нашего и Бога: а именно, каким образом Сам Бог Слово соединен с человеческой глиной и по какому принципу (по какой причине) обожил воспринятую плоть, — и [ради того] пытающимся при существовании вновь введенного термина «сверх естества» диалектическими аргументами всуе словоборствовать о «природе» и «положении» двух естеств — Божеского и человеческого». — 215.
1555
по природе… по положению… превосходство природы (греч.). — 216.
1556
На полях карандашом: «Я расхожусь с Вами и назло Вам буду называть [нрзб.]. — 219.
1557
телотворение… плототворение (греч.). — 221.
1558
из обитающих здесь сможет уразуметь, что Отчий облик, низойдя, воплощается, подобно плющу, обвивающему ствол, и просветляется, будучи всецело единосущим Отцу Небесному, и так восходит в высший мир (греч. — перевод И. И. Маханькова).
В машинописи карандашом: «Итак, слово σωματοτεοιεΐν хотя и не невозможно в значении воплощения, но очень неопределенно, расплывчато и, кроме того, неупотребительно. Пользоваться им можно лишь с величайшей осторожностью и никак не вытесняя им слово «воплощение»». — 226.
1559
динамизм… энергия… энтелехия (греч.). — 228.
1560
противоречие в определении (лат.). — 230.
1561
противоречие в терминах (лат.). — 230.
1562
квадратный круг (лат.). — 232.
1563
Оствальд Вильгельм Фридрих (1853–1932), немецкий химик, лауреат Нобелевской премии. В своих натурфилософских сочинениях рассматривал энергию в качестве субстанции всего сущего. — 233.
1564
царица наук (лат.). — 234.
1565
Макарий (Булгаков Михаил Петрович, 1816—1882), митрополит Московский, выдающийся русский богослов и историк русской церкви, автор «Православно–догматического богословия». Преподобный Макарий Великий‚ или Египетский, христианский подвижник, обладавший даром пророчества и чудотворения, автор знаменитых «Бесед». — 235.
1566
Несмелое Виктор Иванович (1863—1920?), русский философ, автор получивших известность работ — «Догматическая система Григория Нисского», «Наука о человеке» (Т. 1—2). Тареев Михаил Михайлович (Максим Матвеевич, 1866—1934), философ и богослов, проф. МДА, автор ряда богословских сочинений: «Основы христианства» (в четырех томах), «Христианская философия» и др. Годэ Фредерик Луи (Godet), швейцарский теолог протестантской ориентации, в своих комментариях на послания апостола Павла придерживался кенотической теории. — 237.
1567
Фишер Куно (1824—1907), известный немецкий историк философии Нового времени, автор многотомной «Истории новой философии» (в рус. изд. Т. 1–8. СПб., 1901–1909). — 237.
1568
злоупотребление не тождественно употреблению (лат.). — 246.
1569
По–видимому, Хомяков пересказывает следующее сообщение Ю. Ф. Самарина:
«Кургессенская Церковь запамятовала, какой она веры.
Это похоже на шутку, но дело весьма серьезно. Верховный представитель тамошнего духовенства (мы не беремся перевести по- русски название его личности: Superintendenturverweser-ConsistoriaI- rath) Гофман в окружном послании, изданном им при вступлении в должность, объявляет буквально следующее: «В нашей отечественной реформатской Церкви возник, как известно, горячий спор по поводу вопроса о том, к какому вероисповеданию она принадлежит: должно ли считать ее строго реформатскою, или лютеранскою, или смешанною, или, наконец, примиряющею в себе противоположности двух учений»?
Самый вопрос этот, как кажется, возник случайно и для всех неожиданно, по поводу каких-то административных столкновений между консисториями и правительственными учреждениями. Пошли толки о правах Церкви, стали наводить справки, слово за слово, вопрос политический перешел в богословский, и теперь, после многих ученых отзывов и особого мнения, поданного от лица целого факультета Марбургского университета, Гессенская Церковь все-таки еще не знает, куда ей примкнуть и что сказать о себе. Вопрос остается нерешенным — die Frage ist eine offene geblieben, der Kampf iiber die Frage‚ welcher Art die Hessische reformirte Kirche ѕеі, muss durchgekampft werden (спор о том, к какому разряду Церквей принадлежит Гессенская, должен быть доведен до конца), в этом сознается чистосердечно и даже с радостью сам Гофман. Он приветствует возникшее недоумение и все усилия разрешить его как утешительный признак духовного пробуждения, наступившего после целого периода беззаботного равнодушия — в этом нельзя ему не сочувствовать. Вот его слова: «Очень естественно, что наша Церковь, будучи увлечена общим стремлением недавно воскресшей христианской жизни и приобретя убеждение в бесплодности и неутешительности результатов рационализма, примененного к делу веры, ощутила внутреннюю потребность, так сказать, очувствоваться и уяснить самой себе свою сущность, свое содержание, для того чтобы узнать наконец, к которой из церковных партий протестантского мира следует ей примкнуть». Далее, он отрицает всякое обязательное значение у мнения, поданного Марбургским Богословским факультетом, потому, во–первых, что никому другому, как только самой Церкви в лице ее законного представительства (генерального Синода) не подобает произносить окончательного решения о существе и о принадлежностях ее, так же как и об отношениях ее к другим вероисповеданиям; во–вторых, потому, что при существующем теперь всеобщем разномыслии между Богословскою наукою‚ преподаваемою в университетах^ и Церковным исповеданием (dem Kirchli- chen Bekentnisse) нельзя и ожидать, чтобы Церкӧвь подчинилась безусловно приговорам науки. После всего этого вы ожидаете, что автор послания наконец сам разъяснит дело и покажет, отчего произошло странное, временное затмение умов; но он приходит к совершенно неожиданному заключению. Вопрос о Гессенской Церкви не только не разрешен, даже всякая попытка разрешить его теперь была бы преждевременна. Для того недостает данных. Нужно сперва совершить ряд приготовительных трудов: привести в известность все материалы, потом переработать их, затем составить по ним возможно полную и всестороннюю историю развития Гессенской Церкви; ибо только путем ученого исторического исследования, к которому Гофман приглашает подчиненное ему духовенство, Гессенская Церковь придет наконец к самосознанию и приобретет способность безошибочно назвать себя по имени».
Таков небольшой отрывок, почти слово в слово переведенный Ю. Ф. Самариным, из «Аугсбургской газеты».
(Ю. Ф. Самарин — Сочинения. Т. VI. M., 1887. «О Кургессен- ской Церкви, стр. 536–539.)
1570
В машинописи карандашом: «Однако около этой мысли об однородности жизни Христа и жизни христиан, о генетическом подобии Воскресения Его и их тел [нрзб.]. Тут мы подходим к вопросу о кенотизме». — 254.
1571
Бухарев Александр Матвеевич (архимандрит Феодор, 1822— 1871), русский богослов, автор знаменитого исследования об Апокалипсисе; в знак протеста против решения Синода запретить печатание этого труда в 1863 году сложил с себя сан. — 254.
1572
Друммонд Генри (1851—1897), английский богослов, натуралист и путешественник, в своих трудах пытался согласовать Библию с современным ему естествознанием. Отношение Флоренского к философии «общего дела» Н. Федорова включало: как общую высокую оценку заслуг Федорова в постановке темы Воскресения, так и критику натурализма как преобладающего метода и подхода Федорова в разработке этой темы. — 255.
1573
Мефодий Олимпийский (ошибочно именуемый Патарским, ок. 230—311), епископ Олимпии (Ликея), противник Оригена и гностиков; среди дошедших до нас его сочинений — «О Воскресении». — 257.
1574
Кайзерлинг Герман (Keyserling, 1880—1946), граф, немецкий философ, автор многочисленных сочинений, в том числе «О бессмертии» (на нем. яз.). — 260.
1575
«Фотизмами называются оптические галлюцинации, основывающиеся на постоянных раздражениях света и цветоощущениях» (нем.). — 261.
1576
Ин. 1, 17. — 264.
1577
Возникновение секты эѳионитоѳ относится ко времени правления императора Домициана (кон. I в.); эвиониты считали, что мир сотворен Богом, признавали «чудесное Рождение» Иисуса Христа, но отрицали его божественность. — 265.
1578
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав (Тропарь на Пасху). — 266.
1579
Феофан Затворник (Говоров Георгий Васильевич, 1815—1894), епископ, автор трудов по аскетике, девятитомного толкования посланий апостола Павла и др. сочинений. О его понимании кенотизма свидетельствует следующая фраза: «Воплощение есть первая ступень самоуничижения, в лице Бога, благоволившего скрыть славу Божества под покровом человечества» (Толкования послания св. ап. Павла к Фил. и Сол. M., 1883. С. 76). — 266.
1580
Comupux‚ дьякон Константинопольский, затем патриарх Анти- охийский, еретически толковал таинство причащения, взгляды его были осуждены Поместными Соборами в 1156 и 1158 гг. в Константинополе; обвиненный в еретичестве, он был отлучен от Церкви.
В машинописи карандашом: «В самом деле, пусть А. М. ответит, кому приносится эта жертва? [«Ты еси приносяй и приносимый, при- емляй и раздаваемый»]. — 267.
1581
В машинописи карандашом в скобках: «[чьем?]». — 267.
1582
Савеллианство — еретическое учение в христианстве, получившее свое название от имени его основателя Савеллия (III в.), который видел в триипостасности Бога лишь форму отношения к миру (Бог в себе, согласно этому учению, — единое Существо). — 267.
1583
В машинописи карандашом: «Вы ссылаетесь на греческий текст, но не делаете из него должного вывода». — 268.
1584
белый камень (Откр. 2, 17). — 268.
1585
В машинописи карандашом: «Кому же давался оправдательный камень? Его бросали в урну». — 268.
1586
В машинописи карандашом: «и [нрзб. 1 сл.] потому иерофанты — священноименные ίερόννμοι — рассматривались как безымянные — άνώνυμοι». — 268.
1587
В машинописи карандашом: «например, имея в виду тела святых». — 270.
1588
В машинописи карандашом: «функции явной». — 270.
1589
В машинописи карандашом: «например, щитовидной железы». — 270.
1590
В машинописи карандашом: «Неужели же А. М. думает, что всех не сущих в браке, не женящихся и не посягающих, надо оскопить. Ведь и святые тела угодников, не женившихся и не посягавших, не утрачивают, однако, органов своего тела». — 270.
1591
В машинописи карандашом: «не будем же ворочать толстые фолианты». — 270.
1592
от того, что возможно, к тому, что существует (лат.). — 271.
1593
первый день недели (греч.); См.: Mt. 28, 1 (Novum Testamen- tum Graece et Latine. Editio quinta decima. Stutgart, 1951). — 271.
1594
первый (греч.). — 271.
1595
В машинописи карандашом: «Не материи, а греху». — 271.
1596
Ср.: «Производя как раз обратное тому, что сделал Коперник (это можно назвать птолемеевским подвигом Канта), Кант создал необычайно глубокую систему трансцендентального антропоцентризма* (Вл. Эрн. Борьба за Јїогос. Опыты философские и критические. M., Путь, 1911. С. 42). Отметим, что сравнение основной кантовской установки с «мыслью Коперника» впервые было проведено самим Кантом (см.: Кант И. Критика чистого разума. M., 1994. С. 18). «Коперником философии» называют Канта — Вл. С. Соловьев в своей статье «Гегель» из Энциклопедического Словаря (см.: Соловьев В. С. Соб. соч. Второе изд. Т. X. СПб., б. г. С. 305–306), а также сам Флоренский в «Космологических антиномиях Канта» (см.: Наст. Том. с. 32) — 272.
1597
в маишнописи карандашом: «когда он сам есть название». — 272.
1598
Аполлоний Тианскийу странствующий неопифагореец I в. Литературная версия его жизни представлена в книге Флавия Филострата (см.: Флавий Филострат. Жизнь Аполлония Тианского. M., 1985). — 272.
1599
познай самого себя (греч.). — 273.
1600
Τ. I, кн. I, с. XIV.
1601
ХѴІ+866+ХПІ+1422+866+ѴІІІ+ѴІ+ХѴІІ+306=1788 стр.
1602
Т. I, кн. I, с. 1.
1603
Τ. I, кн. I, с. XVI.
1604
id. с. XV.
1605
Н. А. Бердяев — А. С. Хомяков. M., 1912 (в серии «Русские мыслители», издаваемой книгоиздательством «Путь»), с. 42.
1606
т. I, кн. I, с. IX.
1607
Т. I, кн. I, с. ѴІІІ–ІХ.
1608
Т. I, кн. 1, с. 35–49.
1610
См., напр., его доклад «Авторитет в вопросах веры («Бог. В.») и книгу «Римский духовный Цезаризм»…
1611
Илиодор (Труфанов Сергей), иеромонах, деятельный участник «Союза русского народа», антисемит, мнимый выразитель интересов крестьянства, демагог, призывающий к расправе над интеллигенцией, к бунту и неподчинению властям. В 1912 г. по постановлению Синода заточен во Флорищеву пустынь Владимирской епархии, в октябре того же года в письме в Синод покаялся в своей деятельности и отрекся от православия, поэтому был расстрижен и освобожден из монастыря. — 290.
1612
Упомянутая выше книга Н. А. Бердяева, по некоторым заданиям своим («Хомяков и мы»), более подходит к труду того типа, в котором нуждается наше время. Но, к сожалению, данная книга, по–своему не лишенная остроты мысли, и не вполне церковна, и не достаточно обстоятельна.
1613
дано третье (лат.). — 295.
1614
Трудно сказать со всей определенностью, о каких «жалобах» Бердяева идет речь. Единственная жалоба, если ее считать жалобой, а не констатацией факта, относится совсем к другой теме: «Нам нет возврата к славянофильской уютности, к быту помещичьих усадеб. Усадьбы наши проданы, мы оторвались от бытовых связей с землей» (Бердяев Н. Алексей Степанович Хомяков. M., Путь, 1912. С. 77).
Отмечаемая Флоренским связь «имманентизма» с волеизъявлением церковного народа, как бы коллективно «сочиняющего» Истину, дает основания предполагать, что его реплика имеет в виду тему свободы, которая Бердяевым в соответствии с его собственными философскими и политическими идеями выдвинута на первый план при рассмотрении учения Хомякова. («Хомяков же верил, неизменно, что только в Церкви есть свобода, что Церковь и есть свобода, и потому свободное богословствование было для него богословствованием церковным», там же, с. 85 и далее, в особенности — с. 93, где Бердяев полностью разделяет критикуемую Флоренским точку зрения: «Даже вселенские Соборы потому только подлинно вселенские и потому авторитетны, что они свободно и любовно санкционированы церковным народом».) Одно несомненно, сам Бердяев, который в ответной статье «Хомяков и свящ. Флоренский» цитирует Флоренского (опустив слова «вопреки жалобам Н. А. Бердяева»), эту реплику увязывает с проблемой свободы и заявляет категорично, что «предстоит сделать решительный выбор между свящ. Флоренским и Хомяковым, отдать решительное предпочтение одному из этих учителей Церкви, пойти направо или налево, к свободе или принуждению» и далее о Флоренском: «Он последовательно истолковывает христианство как религию необходимости, принуждения и покорности» (Бердяев Н. А. Собр. соч. Т. 3. Париж, 1989. С. 569). «Отец Флоренский открывает в Хомякове опасный уклон к имманентизму. Но это и есть в нем уклон к религиозной свободе, не до конца доведенный. Имманентизм, глубоко продуманный, и есть религия свободы и свободных» (Там же. С. 574—575). — 296.
1615
всеобщее согласие в любви (лат.). — 297.
1616
всеобщая подача голосов (франц.). — 298.
1617
Св. Ириней Лионский — Против ересей, IV, 185.
1618
«Полное собрание сочинений А. С. Хомякова», т. 2, изд. 5–е. Μ., 1907, с 14, § 8.
1619
Ср. id., с. 131, прим. 3.
1620
Id., с. 128–132.
1621
Id., с. 131–132.
1622
Id., с. 131, прим. з.
1623
Е. J. Kimmel— Monumenta fidei Ecclesiae Orientalis. Јепае, 1850. Pars I, pp. 456–463. — Русский перевод исповедания патриарха Досифея см. в «Костромских Епархиальных Ведомостях», т. VIII, 1894 г., № 18 и 19, часть неофициальная.
1624
«Костромские Епарх. Ведомости», т. VIII, 1894 г., JSfe 16 и 17, часть неофициальная. — См. также собрание грамот Вселенских патриархов, изданное Св. Синодом в 1846 г.
1625
Член ХѴІІ–й приведен по переводу в издании Св. Синода.
1626
Исповедание патр. Досифея, чл. XVII.
1627
Кіттеі — Monumenta fidei Eccl. Orient. Pars, I, p. 462.
1628
Минея. Месяц Иануарий 1904, л. 10.
1629
Архиеп. Антоний (Храповицкий) — Собрание лекций и статей по пастырскому богословию. Издание «Религиозно–Философской Библиотеки». М., 1909, с. 18.
1630
с. XIV.
1631
с. XIV.
1632
Общий Гербовник Дворянских родов Всероссийской Империи, начатый с 1797 г. Ч. шестая 22. I отд. — Тут же и рисунок.
Укажем также, что у гр. А. Бобринского, в его исследовании: «Дворянские роды, внесенные в Общий Гербовник Всероссийской Империи», Ч. I, с. 620, отмечены трое Хомяковых, убитых в 1812—13 годах.
1633
Из московской жизни сороковых годов. Дневник Блисаветы
Ивановны Поповой. СПб., 1911. Введение, с. XII-XIII.
1634
Id., с. XIII.
1635
Id., с. XIII.
1636
Письмо Гилярова к князю Шаховскому («Русский Архив». 1889 г. Т. 3, с. 267). — То же — в письме к И. Ф. Романову («Сборник сочинений Н. П. Гилярова–Платонова». Т. I, с. VII).
1637
«Дневник В. [С.] Аксаковой», 19 апр. 1855 г., с. 112. Цитату из Дневника и подбор относящихся сюда свидетельств можно прочесть в статье Ф. [К.] Андреева «Московская Духовная Академия и славянофилы» («Богосл. Вестн.» № 10–12. Т. 3. 1915 г., с. 599–601, и отд. от. Сергиев Посад, 1915 г., с. 45–47).
1638
«Русский Архив», 1889 г. Т. 3, с. 267–269.
1639
«Полн. собр. соч. А. С. Х–ва». Т. 4, 1900. М., с. 8–89.
1640
Id., с. 92–93.
1641
Id., с. 94–96.
1642
Id., с. 96–97.
1643
Id., с. 102–103.
1644
Id., с. 99–100.
1645
Id., с. 101.
1646
Id., с. 305–418.
1647
Id., с. 116–292.
1648
Id., с. 98.
1649
Id., с. 105.
1650
Id., с. 105.
1651
Id., с. 105.
1652
Id., с. 107.
1653
Id., с. 106.
1654
Id., с. 105.
1655
Id., с. 58.
1656
Id., с. 108.
1657
Id., с. 108.
1658
Id., с. 109–112.
1659
Id., с. 293–302.
1660
Id., с. 419.
1661
Т. III. M., 1700, с. 474–481.
1662
Id., с. 459–468.
1663
Id., с. 454–457.
1664
Id., с. 469–471.
1665
I Id., с. 472–474.
1666
Id., с. 474.
1667
Id., с. 475–477.
1668
Id., с. 481–482.
1669
Id., дополн. с. 1—11.
1670
Супруга Алексея Степановича Хомякова.
1671
Отрывок из записок Ю.. Ф. Самарина (сообщено баронессою Э. Ф. Раден) («Татевский сборник» Е. А. Рачинского. СПб., 1899).
1672
Л. И. Бартенев — Из записной книжки «Русского Архива» («Русский Архив», 1908, кн. H1 с. 167).
1674
«Русский Архив», 1915 г., 6, с. 130–131, год 53–й. — Курсив автора.
1675
R. — На заре крестьянской свободы («Русская Старина», 1898 г., март, т. 93,. с. 486
1676
«Русский Архив», кн. 3, с. 565—566. Анонимно.
1677
«Русский Архив», 1890, кн. 3. с, 563. Анонимно.
1678
Записки Дм. П. Свербеева. М., 1899, т. I, с. ѴПІ, предисловие Д. X
1679
Письмо было напечатано и за границей, и в России («По вып. I», с. 66–71; «Общество пропаганды 1849 тл Лейпциг, 1875 г., с. 71–79; «Северный Вестник»,. 1896 г., «Полярная Звезда» на 1862 г., I, 1861, кн. VII, № 1, «Петрашевцы», изд. Саблина, с. 37–40, перепеч. из «Полярной Звезды»), но с пропусками и неточностями. В «Голосе Минувшего», 1915 г., № 12, декабрь, с. 62—65, часть его напечатана вновь в исправленном виде В. И. Семевсқим в его статье о петрашевцах. Заимствую текст именно оттуда, равно как и вышеуказанные сведения.
1680
«Голос Минувшего», там же, с. 63.
1681
Там же, с. 64.
1682
Куда она ездила по случаю смерти Императора Николая Павловича.
1683
Несколько замечаний православного христианина о западных вероисповеданиях (франц.). Не полное и не точное заглавие не позволяет с достоверностью утверждать, идет ли речь о брошюре Хомякова от 1853 г. («По поводу брошюры Лоранси») или же 1855 г. («По поводу одного окружного послания парижского архиепископа»). — 33L
1684
Воспоминания протоиерея И. И. Базарова («Русская Старина», 1901. Т. 106, с. 57).
1685
«Фельдмаршал Паскевич в Крымскую войну» (перев. из Jahrbiicher f. d. deutsche Armee u. Marine, за 1874 г.,'Ν 35 и 36). Перев. и прим. Н. Шильдера. В примечании показано, что содержание «Видения» передано неточно («Русская Старина», 1875, кн. 13, с. 608 — 609).
1686
Барсуков — Жизнь и труды Погодина. Т. IX, с. 37.
1687
А. Кирпичников — Между славянофилами и западниками («Русская Старина», 1898 г., декабрь, т. 96, с. 570).
1688
Л. И. Кирпичников — Между славянофилами и западниками («Русская Старина». Т. 96, 1898 г., ноябрь, с. 317, прим. 2 к пред. е., письмо от 12 ноября 1831 г.).
1689
Там же, с. 327. Письмо от 1(13) ноября 1838 г, из Москвы.
1690
Там же, с. 327.
1691
Там же, декабрь, с. 571, прим. 5 к пред. с.
1692
«Русская Старина», 1891 г. Т. 71, с. 269, «Дневник гр. П. А. Валуева».
1693
«Русская Старина». Т. 67, с. 211.
1694
Id., N 36, с. 46.
1695
id., с. 98.
1696
Записки Дмитрия Николаевича Свербеева (1799—1826). M., 1899. Т. 2, с. 308.
1697
Id., с. 309–310.
1698
Id., т. 2, с. 98.
1699
«Русский Архив», 1868 г. — «Записки». Т. 2, с. 397–404.
1700
А. В. Никитенко. Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был». Записки и Дневник (1804–1877 гг.). Т. 1, с. 221.
1701
Id. Т. 1, с. 404.
1702
Id. Т. 1, с. 409.
1703
Id. Т. 2, с. 470.
1704
Id. Т. 1, с. 10–11.
1705
Сообщение на заседании Братства Святителей Московских 1 декабря 1916 года, в сороковой день кончины Ф. Д. Самарина (t 23 октября 1916 года).
1706
завтра, всегда завтра, так проходит жизнь человеческая (лат.). — 345.
1707
В качестве эпиграфа П. А. Флоренский использовал название одного из разделов первой книги стихов Вяч. Иванова «Сог Ardens» (1906). Эпиграф «Солнце–Сердце» содержит глубокий философский и биографический подтекст. Он символизирует жизнь и трагическую судьбу мыслителя, характер его философского дарования и напоминает о солнечном прочтении Платона (Эрн писал о «гелиофании» у Платона «как постижении самой Истины», тема Солнца, разрабатываемая в русской философской традиции, начиная от Г. Сковороды до Вяч. Иванова и В. В. Розанова, была близка ему). Кроме того, эпиграф — свидетельство духовной близости Вяч. Иванова, В. Ф. Эрна и П. А. Флоренского. Эрн болел и умер в московской квартире Вяч. Иванова, с которым его связывала многолетняя дружба. Поэт посвятил Эрну 18 Газэл в пятой книге «Сот Ardens», на смерть Эрна им в ноябре 1917 г. были написаны два стихотворения — «Скорбный рассказ» и «Оправдание». — 346.
1708
Речь идет о работе «Верховное постижение Платона», которую Эрн не успел дописать. Написанная часть была опубликована: «Вопросы философии и психологии». 1917. Т. 2–3. С. 102—173. — 348.
1709
Пс. 107, 2. — 351.
1710
Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским ⁄ Пер. с арабского Г. Муркоса // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей Российских при Московском университете. 1898. Кн. 4(187). Издана под заведованием Е. В. Барсова. — М. Университетская типография. 1898. С. 29. — 352.
1712
Источник цитаты не обнаружен. — 354.
1713
См.: «Слово похвальное преподобному отцу нашему Сергию, написанное учеником преподобного Епифанием Премудрым». Здесь преподобный Сергий назван «земным ангелом» (в кн.: Памятники литературы Древней Руси. XIV — сер. XV в. M., 1981. С. 421). Существовала традиция называть ангелами пророков, святых, епископов, священников и др. — 354.
1714
начинается история (лат.). — 356.
1715
Неточная цитата из трагедии В. И. Иванова «Прометей». Впервые вышла под названием «Сыны Прометея» («Русская мысль», 1915, январь). В библиотеке о. Павла Флоренского сохранился оттиск из журнала с дарственной надписью: «О. Павлу Александровичу Флоренскому.
Τον Παντοσεμνον πάνσοφόν χ έμών φίλων ΣοφΙρ καλλιεροϋνια Σοφίας κόραίς; κιτττφφής ροδοστεφή δάστιάζομαι.
11 мая 1915 Вячеслав Иванов».
Пер. Елены Митрофановны Григоровой — духовной дочери епископа Антония (Флоренсова), а затем о. Павла Флоренского: «[Тебя] Высокочтимого, всемудрейшего из моих друзей, Мудрости [Софии] и девам ее себя посвятившего, и розам увенчивая, с любовью тебя приветствую». См. также: В. И. Иванов. Прометей. Трагедия. Пг., «Алконост», 1919 // Собр. соч. Т. И. Брюссель, 1974. С. 112. — 357.
1718
Святитель Григорий Палама (1296–1359), византийский богослов, в полемике (паламитские споры) с представителями западного рационалистического богословия (Варлаам, Акиндин) отстаивал учение, согласно которому подвижник освящается нетварной и невещественной благодатию Божиею (энергией Божией), Светом Фаворским, который видели апостолы на горе Фавор во время Преображения Господа Иисуса Христа. Константинопольские Соборы 1341, 1347, 1351, 1352, 1368 гг. установили, что «Божественный Свет не есть ни Существо Божие, ни тварь, но несозданная благодать и осияние и энергия, всегда происходящая из Существа Божия». «Существо Божие не может быть приобщаемо» ничему тварному, но «приобщение свойственно благодати и энергии» (Журнал Московской Патриархии. 1988. № 3. С. 66). — 359.
1720
В архиве свящ. Павла Флоренского находятся следующие две черновые выписки к данному месту:
1. «Церкви св. Троицы упоминаются по летописям:
по указателю к I-VIII тт. П. С. Р. Л.
В Кракове: 6794/1286 — погребен Лешко Казимирович — II, 213 (вар. Богородицы).
В Лысце: 6769/1261 — упоминается каменная — II, 200.
В Москве: 7034/1526 — старая; до нее дошел пожар — VIII, 227.
В Новгороде В. в мон–ре Рождества Богородицы, на Михалице: 6707/1199 — поставлена во имя св. Троицы и Богоматери на месте чуда от просфоры.
В Новгороде В. в мон–ре Богородицы Успения, в Коломцах: 6818/1310 — по ошибке названа ц. Богородицы Успения — 6925/1417: поставлена каменная Юрием Онцифоровичем.
В Новгороде В.: 6873/1365 — заложена каменная Югорцами (Юрьевцами) — III, 133; IV, 65.
В Новгороде В. на Шетинце: 6673/1165 — построена Шетициници (жителями Шитной ул.?).
В Паозерьи: 6986/1478 — здесь стоял со своею ратью Иван III — III, 143.
В Пскове в Кремле соборная: 6646/1138 — в ней погребен кн. Всеволод Мстиславич, который ее и создал — I, 133; II, 12 вар., 14; IV, 177; Уп. 6773, 6794, 6780, 6845, 6850…
В Серпухове соборная: 6888/1380 — создана кн. Владимиром Андреевичем — VIII, 34.
В Холме: 6767/1259 — упоминается, что была заложена, когда Батый пленял Русь, но потом возобновлена — II, 196» (почерк неизвестного лица). 1918. XI. 25, вечер. Серг[иев] Пос[ад]
2. «Стихира святаго священномученика Климента, папы Римска- Tof на Господи воззвах, 2–я (25 ноября).
«Петра верховнаго ученик, отче, быв, на камени того создал еси, яко камень честный тебе самаго, всехвальне, твердостию словес твоих все развратил еси здание многобоҗное: храмы же воздвигл ecu божественный в честь Троицы‚ о Ней же подвизался еси, блаженне, и мучения венец приял еси».
Как понимать эту стихиру? В общем ли смысле храмов Троицы, т. е. душ человеческих, в которых Пресвятая Троица «сотворит себе обитель», или же в смысле созидания вещественных храмов в честь Пресвятой Троицы? Последнее было бы маловероятно.
Интересно выяснить, когда, где и кем была составлена служба Пресв. Троице. М. б., она составлена позже XIV века, и тогда понятен ретроспективный перенос в прошлое деятельностей и идей позднейших. И стихира и вопрос об ее авторстве имеет существенное значение при установке места Преп. Сергия Радонежского в истории догматического и вообще церковного творчества Руси» (автограф Флоренского). — 360.
1721
Источник цитаты не обнаружен. Выражение могло быть заимствовано из книги: Кн. Е. Н. Трубецкой. Умозрение в красках. M., 1916. С. 12. — 361.
1722
Секст Юлий Африкан (III в.) — раннехристианский писатель, историк Церкви. Вероятно, Флоренский опирался на изд.: Д. В. Айна- лов. Мозаики IV-V вв. СПб., 1845. С. 112. — 362.
1723
См. о символах «Земля и небо» в сга†ье И. Б. Роднянской — Лермонтовская энциклопедия. M., 1981. С. 302—304 («Мотивы»). — 363.
1724
Вероятно, Флоренский цитирует Воскресенскую летопись по изд.: Никон архимандрит. Житие и подвиги преподобного и богонос- ного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Изд. 5–е. Свято–Троицкая Сергиева Лавра, 1904. С. 253. — 366.
1725
Ср.: Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. В русском переводе. Т. 4. Кн. 1. СПб., 1898. С. 358: «…притекло великое богатство, — и тотчас пресеклось согласие, и там, где был мир и союз любви (явились) ссоры и вражда. Подлинно, где мое и твое‚ там все виды вражды и источник ссор, а где нет этого, там безопасно обитает согласие и мир» (из беседы на книгу Бытия. XXXIII, 3). — 366.
1727
Настоящая заметка есть доклад в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице–Сергиевой Лавры. Она затрагивает, по поводу совершенно конкретного случая, вопросы большой сложности и большой важности. Автор оставляет ее в ее первоначальном и эскизном виде доклада; так беглость обсуждений имеет свое оправдание. При иной же форме изложения потребовался бы, конечно, обширный трактат. П. Ф.
1730
Муратов И И Образы Италии. Т. И. M., 1994. С. 27–28. — 372.
1731
имя путать с вымыслом рассказчика (лат.). — 374.
1732
Далее в машинописном оригинале текст, не включенный Флоренским в окончательный опубликованный вариант:
«Исходя из этих представлений о задачах музейного дела нашего времени, я — возвращаюсь к покинутой мысли — выражаю свое единомыслие с уже заслушанным и одобренным Комиссией докладом Ю. А. Олсуфьева, как опытом принципиально мотивировать вполне конкретное предложение и сливать русло наших работ с общим руслом теоретико–эстетических изысканий. Примыкая к докладу вышеуказанному, настоящий — пытается взять нить мысли, оставленную Ю. А[лександрови]чем, и, исходя из теоретических основоположений, уже принятых Комиссией, сделать дальнейшие конкретные выводы, существенно определяющие охранительную и реставрационную деятельность Комиссии. Скажу более, эти выводы мне представляются решающе важными». — 374.
1733
Далее в машинописном оригинале текст, вычеркнутый Флоренским карандашом и не включенный в окончательный опубликованный вариант:
«Повторяю, я говорю сейчас не во имя интересов религии, а во имя интересов культуры, ибо с чистой точки зрения религии, может быть самое полезное было бы, говоря несколько афористически, раскассировать Лавру и в пустых стенах ее устроить музей: есть глубокая правда в, опять-таки брошенных афористически, словах покойного митрополита Владимира, сказавшего в ответ на беспокойство о церковных древностях, что следовало бы все их собрать и сжечь. Но именно…»
Данное высказывание надо соотносить с мыслью Флоренского о двойственной природе религиозного культа и религии: «Культ постигается сверху вниз, а не снизу вверх […] Снизу вверх рассматриваемый культ есть некоторая деятельность человека, именно вид культурной его деятельности, существующей наряду с другими» (Священник Павел Флоренский. Культ, религия и культура // Богословские труды. Сб. 17. M., 1977. С. 101). — 381.
1734
Окончание статьи в машинописном оригинале: «Глубоко надеюсь, что утонченное чутье современных специалистов по той или иной отрасли искусства уже проникло вглубь до самого средоточия Искусства, как первоединой деятельности. Но если так, — то от них не сокрыто, где — не только текст, но и все художественное воплощение «Предварительного действа». В такой указке, м. б., нуждается толпа, но не просвещенные организаторы русского искусства». — 382.
1735
От реального к реальнейшему и от реальнейшего к наиреальнейшему. См.: Вячеслав Иванов. По звездам. СПб., 1909. С. 305: «Итак, в эстетических исследованиях о символе, мифе, хоровой драме, pea- лиоризме (пусть будет мне позволено употребить это словообразование для обозначения предложенного мною художникам лозунга: «а realibus ad геаііога», т. е.: от видимой реальности и через нее — к более реальной реальности тех же вещей, внутренней и сокровеннейшей) — я подобен тому, кто иссекает из кристалла чашу, веря, что в нее вольется благородная влага, — быть может, священное вино». — 383.
1736
Поверху строки: «около которой обращался весь дом». — 385.
1738
Горский А. В. Историческое описание Свято–Троицкия Сергеевы Лавры. M., 1890. — 387.
1739
Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Т. 2. Пг., 1915. — 388.
1740
Не многое, но много (лат.). — 388.
1741
Опись Троице–Сергиева монастыря 1641 г. хранится в отделе рукописей Сергиевского историко–художественного музея–заповедника. Цитата выверена по книге: Николаева Т. В. Древнерусская живопись загорского музея. M., 1977. С. 72, 71. Орфография и пунктуация по этой книге. — 389.
1742
Далее в тексте второй редакции Флоренский вычеркнул следующую фразу: «, побуждающие относить их не только к одному времени, но и к одной мастерской, — скажем более: к одному мастеру,». — 392.
1743
Вариант: бытийственно. — 394.
1744
Питер Зееман (1865—1943) — нидерландский физик, лауреат Нобелевской премии. См. его книгу: Происхождение цветов спектра. Одесса, 1910. — 394.
1745
Вариант: антропология. — 402.
1746
Далее в тексте второй редакции Флоренский вычеркнул следующий абзац: «Но среди всех известных мне икон особенное сходство, скажу более: поразительное сходство, наводящее на мысль об единстве иконописной мастерской, представляет икона Владимирской Божьей Матери из Успенского собора в Москве. При различии композиции келлейной Одигитрии и Владимирской черты типа той и другой, а также фактурные особенности до чрезвычайности сходны. Тут я имею в виду, конечно, современное (1919), то есть после расчистки 1918 года, состояние Владимирской, освобожденной от записи тоже древней, кажется ХѴ–го века. К чертам сходства отношу: общие обеим иконам форму шеи — длинной, мощной, конической, с основанием конуса вниз; форму рта и носа, почти прямоугольного, с легкой горбиной (свойственной греко–сербским иконам), киль носа без переносицы, резко очерченный; правильность очертания бровей; очень низкую посадку ушей; разрез глаз с сильно опущенным нижним веком — и притом сильнее у наружного края, — так что виден белок над нижним веком, а радужная оболочка отчасти прикрыта верхним. Далее, к чертам сходства относится: обшивка мафория из пяти параллельных полос, общий округленный контур головы, некоторая подчеркнутость лобных мускулов и не особенно поднятый лоб, светло–карие глаза и характерная линия руки в наружном контуре, несколько входящая внутрь, как в той, так и в другой иконе, что показывает на поворот Богоматери». — 407.
1747
Плохие времена, будьте на страже (лат.). — 413.
1748
1 Ин. 1, 5. — 416.
1749
Ср.: Соловьев Вл. Три свидания. — 417.
1750
Ср.: Иванов Вяч. Голубой покров (Цикл сонетов). — 417.
1751
Пс. 103, 26. — 418.
1752
Ср. прим. 7* к статье «Троице–Сергиева Лавра и Россия». — 418.
1753
На полях рукописи даты: 1921.ѴІ.17; 1922.ѴІІ.8. — 419.
1754
Символ веры (1–й член). Ср.: Колос. 1, 16. — 419.
1755
Интерес о. Павла ко снам, пробудившийся, скорее всего, под влиянием детских и юношеских впечатлений (см.: Флоренский П. Воспоминания. Ч. 1. Раннее детство. Гл. «Впечатления таинственного». Ч. VI. Наука // Свящ. П. Флоренский. Детям моим… M., 1992. С. 42— 43, 210—212, 214—216), отразился уже в его статье «Пределы гносеологии» (насг. т. С. 55—60).
Физиологической символике сновидений в контексте теории ор- ганопроекции посвящена статья о. Павла «Символика видений» (название несколько отличается от объявленного в проспекте, который помещен в книге «Мнимости в геометрии»). См.: Символ. № 28. 1992. С. 171–182, 204–207. — 419.
1756
Здесь о. Павел имеет в виду работы Карла дю Преля. Неизвестно, был ли знаком он с диссертацией дю Преля, вышедшей в 1869 г. под заглавием «Oneirokritikon. Der Traum vom Standpunkt des transcen- dentalen Idealismus». На эту диссертацию указывает Ульрих Вернер в примечаниях к немецкому изданию «Иконостаса» (Werner, прим. к с. 39 на с. 184). На книгу дю Преля «Философия мистики» ссылается сам о. Павел (см.: Столп.., прим. 350 на с. 716), а О. И. Генисаретский нашел выписку о. Павла из этой книги в подготовительных материалах к «Анализу пространственности и времени в художественно–изобразительных произведениях» (Μ., 1993. С. 317). См.: Дю Прель К. Философия мистики или двойственность человеческого существа ⁄ Пер. с нем. М. С. Аксенова. Спб., 1895 (Ч. 2. О научном значении сновидений. Гл. 4. Метафизическое значение сновидений- С. 48—79, особенно 56—57, а также 99 и др.). См. также: Флоренский И А. [О кандидатском сочинении студента XV курса МДА Евгения Синад- ского на тему «Мистико–монистическая система философии Карла дю Преля и мистика христианских подвижников». 10 июня 1910 г.] — Богословский вестник. 1910. Т. 3. № 11. С. 201–208. — 420.
1757
«Цитата из русского апокрифического сказания «Сон Богородицы». Указано Ф. Гидашем, Будапешт* (Wemer9 прим. к с. 37 на с. 184). Ср.: Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Гр. Кушелевым–Безбородко. Вып. 3. Ложные и отреченные книги русской старины, собранные А. Н. Пыпиным. Спб., 1862. С. 125 («мало спалось и во сне много виделось»); Бессонов П. Калеки перехожие. Вып. 6. M., 1864. С. 175–209 (№ 605–619) («не много спалось, много во сне виделось» — № 609–611 и др.); Сумцов Η. Ф. Очерки истории южно–русских апокрифических сказаний и песен. Киев, 1888. С. 76 («мало припочивала — много во сни снов явилося»). Книги Пы- пина и Бессонова о. Павел использовал при работе над разделом «Макрокосм и микрокосм» труда «У водоразделов мысли», см.: Богословские труды. Сб. 24. M., 1983. С. 240. О сне Богородицы см. также: Петров Н. О влиянии западно–европейской литературы на развитие русской культуры // Труды Киевской Духовной Академии. 1872. № 6. С. 470–473. — 420.
1758
См. выше, прим. 4. — 420.
1759
Бог из машины (лат.). Выражение восходит к Аристотелю. См.: Поэтика 1454а—1454b // Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. M., 1984. С. 662. — 423.
1760
«Завязки χ» (в M и БТ «х» пропущено) = «завязки события, приведшего к развязке х». — 423.
1761
См.: Hildebrandt Ғ. W. Der Traum und seine Verwertung fur's Le- ben. Eine psychologische Studie. Leipzig, 1875. Ѕ. 37 ff. Госпожа Франсуаза Лэст (Брюссель) обратила наше внимание на то, что приведенная в «Иконостасе» цитата из книги Гильдебрандта имеется в исследовании 3. Фрейда «Толкование сновидений» (ср.: рус. пер. 3–го, доп. нем. изд. M., 1913. С. 26—27). Однако перевод, сделанный о. Павлом, не совпадает с указанным русским изданием Фрейда.
Далее Флоренский, говоря о примере из истории французской революции, имеет в виду сновидение, пережитое А. Мори (Maury А. Le sommeil et Ies гёѵеѕ. Paris, 1878. Р. 161). Это сновидение, с указанием источника, упоминается в книге Фрейда (указ. изд. С. 25 и 356), но изложено там менее подробно, чем в данном месте «Иконостаса». По всей видимости, о. Павел пользовался не только исследованием венского психоаналитика, но и обращался непосредственно к первоисточникам. — 423.
1762
О времени, причинах и следствиях в мнимом пространстве см. также: Флоренский П. А. Мнимости в геометрии. M., 1922, § 9. — 426.
1763
Ср. два следующих отрывка: «Когда поэты достигают приблизительно поясницы Люцифера, оба они внезапно переворачиваются… Миновав эту грань, т. е. окончив путь и миновав центр Mupai поэты оказываются под гемисферою…» (Мнимости в геометрии. С. 46). «Разве' в этом обратном мире… мы не узнаем области мнимого, хотя это мнимое для тех, кто сам вывернулся через себя, кто перевернулся‚ дойдя до духовного средоточия Mupai и есть подлинно реальное…» («Иконостас») (курсив везде мой. — А. Д.). — 427.
1764
На полях рукописи дата: 1922.ѴІІ.9. — 427.
1765
Источник цитаты не установлен; впрочем, само выражение «тонкий сон» — довольно распространенное. См., напр.: Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. Paris: YMCA-Press, 1989. С. 70 (эта книга была в библиотеке о. Павла). — 428.
1766
Образ, возможно, навеян «Федром» Платона (246de, 247de). Если это так, то интересно сравнить интерпретацию «Федра» о. Павлом Флоренским (в контексте идей «Иконостаса» о границе двух миров и обратном времени) и А. Ф. Лосевым (Античный космос и современная наука // Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. M., 1993. С. 214–216). — 428.
1767
Ср.: Из богословского наследия священника Павла Флоренского [«Философия культа»] // Богословские труды. Сб. 17. M., 1977. С. 139. Противопоставление дионисийского и аполлоновского начал восходит к книге Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» (1872), а также к развивающим этот круг идей работам Вяч. Ив. Иванова. — 429.
1768
На полях рукописи дата: 1922.ѴІІ.12. — 429.
1769
Имеется в виду, как думается, не значение «постоянно» («непрерывно»), а именно «отсутствие прерывности» как условия перехода в мнимое пространство («не прерывно»), и, скорее всего, эту фразу следует понимать так: «мы вступаем в весьма отличающиеся от обычных условия, хотя и не в условия прерывности». — 429.
1770
1 Пар. 9, 19. — 430.
1771
Еф. 2, 2 («в нихже иногда ходисте по веку мира сего, по князю власти воздушныя, духа, иже ныне действует в сынех противления»). — 430.
1772
О роке и времени см.: Столп… С. 530–534; Из богословского наследия… С. 140. Ср.: «Из моих друзей только П. А. Флоренский знал и делил мои чувства в сознании неотвратимого и отдавался обычному для него amor fati». — Булгаков С. Автобиографические заметки. Париж, 1946. С. 89 (цит. по: Литературная учеба. 1989. Νδ 5. С. 151. примеч. 9). — 430.
1773
1 Кор. 13, 12? Ср. ниже, с. 67, и прим. 115. — 430.
1774
Имеется в виду один из эпизодов поэмы Т. Tacco «Освобожденный Иерусалим» (песнь 13, строфы 5—11, 17—51). Указание на этот же эпизод и цитату из письма маршала Вальяка с описанием похожего случая см. в работе о. Павла «О суеверии [и чуде]» // Свящ. Павел Флоренский. Соч.: В 4 т. Т. 1. M., 1994. С. 65. — 430.
1775
Стикс, согласно греческой мифологии, главная река в подземном царстве Аида, в европейской культуре — символ загробных мучений. О. Павел не случайно упоминает о «стигийских топях», говоря о грешнике, который, по отсутствию духовного разума (своего или чужого, т. е. руководителя), осмелился проникнуть в астральный мир. Ср.: Смысл идеализма // Сборник статей в память столетия (18141914) МДА. Ч. 2. Сергиев Посад, 1915. С. 81, прим. 74. — 430.
1776
«Бесы многократно преобразуются в ангелов света и в образ мучеников и представляют нам в сновидении, будто мы к ним приходим: а когда пробуждаемся, то исполняют нас радостию и возношением. Сие да будет тебе знаком прелести; ибо ангелы показывают нам муки, страшный суд и разлучения, а пробудившихся исполняют страха и сетования. Если станем покоряться бесам в сновидениях, то и во время бодрствования они будут ругаться над нами. Кто верит снам, тот вовсе не искусен; а кто не имеет к ним никакой веры, тот любомудр. Итак, верь только тем сновидениям, которые возвещают тебе муку и суд; а если приводят в отчаяние, то и они от бесов» (преп. Иоанн Лествич- ник. Лествица. Сергиев Посад, 19097. С. 19–20 // Слово 3. Гл. 28; Migne J. P. Patrologiae cursus completus. Series graeca. Paris, 1857—1866. Т. 88). — 431.
1777
См. прим. 24, а также Столп.:. С. 267 и прим. 154 на с. 679. — 431.
1778
О Л. Н. Толстом см.: Столп… С. 129 и др. — 432.
1779
Быт. 9, 13. См. также: Столп… С. 272–273. — 432.
1780
Необходимо отметить, что в работу «У водоразделов мысли» должна была войти глава «Смысл идеализма (метафизика рода и лика)». См.: Флоренский П. А. Мнимости в геометрии. С. 69. — 433.
1781
Ср.: Флоренский П. А. Время и пространство // Анализ про- странственности. С. 200; Из богословского наследия… С. 141. — 433.
1782
Быт. 1, 26. О различии между образом и подобием Божиим см.: Столп.., прим. 538 на с. 746—749; Из богословского наследия… С. 141–142; Булгаков С. Свет невечерний. M., 1917. С. 309–312. — 434.
1783
Ср. отдельную раннюю запись П. А. Флоренского: «1912. XII. 7
Сочные краски, богатая светотень и т. д. и т. д. удивительно как неправославны, не говоря уж о раскрашенной скульптуре католиков. Наша иконопись есть схема, рисунок, но ни в коем случае не картина, не передача рельефа. Она есть и должна быть плоской.
В существе своем икона есть ничто иное, как лик и только лик. Но лик есть, в сущности, имя. Существо иконы будет, если на кусочке бумаги написать имя святого».
На эту запись обратил наше внимание иг. Андроник. Заметим, что о. Сергий Булгаков, рассуждая о проблеме имеславия (Философия имени. Париж, 1953), считает нужным специально остановиться на постановлениях Седьмого Вселенского Собора и на требовании над- писания имени святого на иконе. Об этом требовании о. Павел упоминает далее в «Иконостасе».
О. Павел неоднократно обращается в данной работе к философии Платона; см. ниже прим. 103. — 434.
1784
На полях рукописи дата: 1922. VII. 13. — 434.
1785
Нарвы‚ по верованиям древних римлян, — злые духи или призраки, которые преследуют людей на земле или, отчасти отождествленные с богами подземного мира, мучают грешников после их смерти. Затем ларвы стали почти синонимичными лемурам — злобным призракам, душам умерших, блуждающим по земле. В данном случае, исходя из значения слова «ларва» — «личина», «маска», о. Павел подразумевает под ларвами ламий или эмпуз. См., напр.: Флавий Филост- рат. Жизнь Аполлония Тианского V 25, ср. II 4 (М., 1985. С. 84—85, 30). — 434.
1786
«Этот мир, однако, содержит в себе зло, неразлучное с материей. Зло это происходит от последовательного ослабления небесного света, который своей лучезарностью или эманацией сотворил миры; оно есть отрицание или недостаток света, или остаток миров предыдущих, найденных негодными. Такие остатки суть скорлупы; зло всегда представлялось корой. Есть даже мир зла, населенный падшими ангелами, составляющими также скорлупу (Келипот)» (ПапюсІАнкос Ж.]. Каббала, или наука о Боге, Вселенной и Человеке ⁄ Пер. с франц. А. В. Трояновского под ред. ориенталиста и переводчика Талмуда Н. А. Переферковича. Спб., 1910. С. 35). Как видно из прим. 462 к «Столпу…» на с. 731, о. Павел пользовался книгой Папюса. — 435.
1787
Скорлупы — астральные тела в конечных фазах разложения, которые, однако, еще могут быть гальванизированы на несколько минут от соприкосновения с аурой медиума либо даже временно оживлены при помощи черной магии. Такие «оживленные скорлупы» представляют собой внешнюю бесчувственную оболочку, принадлежавшую некогда человеку, и все остальное, относящееся к жизни, разуму и желаниям, принадлежащее искусственному элементалу, который их «одухотворяет». Такие существа — настоящие демоны–искусители — часто служат целям чародеев. См.: Лидбитер. Астральный план ⁄ Пер. с франц. А. В. Трояновского. Спб., 1909. С. 57—61. Лите- ратуру по оккультизму см.: Столп.., прим. 252 на с. 693–695; 268 на с. 697–699; 376 на с. 721; 469 на с. 781–782; 981 на с. 801. О скорлупах см. также: Столп… С. 219. — 435.
1788
О символе djed см., напр.: Hani /. La religion egyptienne dans la pensee de Plutarque. Paris, 1976. P. 69 (там же указана и литература); об изображениях джед см.: Матье М. Э. Искусство Древнего Египта. JL- M., 1961. С. 52–56. — 435.
1789
См. об этих повествованиях: Столп.., прим. 296 на с. 707. Це- зарий Гейстербахский упоминается также и в прим. 252 на с. 693. — 436.
1790
Simia Dei (лат.) — выражение, восходящее к бл. Августину. Ср.: Столп… С. 168, где о. Павел цитирует латинский фрагмент Энния (239–169 до P. X.). В пер. М. Л. Гаспарова:
«Как похожа на нас мерзейшая тварь — обезьяна!» (Фрагмент известен по трактату Цицерона «О природе богов» I 35, 97. См.: Warmington Е. Н. Remains of old Latin. London, 1979. V 1, fr. 23). — 436.
1791
Быт. 3, 5. Ср.: Столп… С. 245. — 436.
1792
2 Петр. 1, 13–14. Ср.: Столп… С. 329–330. — 436.
1793
Ср.: Из богословского наследия… С. 125. — 436.
1794
См.: Достоевский Ф. М. Бесы. Ч. 1. Гл. 2, I; гл. 5, V // Поли, собр. соч.: В 30 т. Т. 10. Л., 1974. С. 37, 145. Ср.: «Одержимость, — какая-то странная медиумичность, — действительно, есть главная черта героев «Бесов». Все они в мучительном параличе личности. Она словно отсутствует, кем-то выедена, а вместо лица — личина, маска. Лицо Ставрогина, центрального героя «Бесов», не только напоминало маску, но, в сущности, оно и было маской. Загадочной и почти непреодолимой трудностью для инсценировки «Бесов» является это отсутствие живого Ставрогина, его личинность» (Булгаков С. Тихие думы. Из статей 1911—15 гг. M., 1918. С. 6. В книге имеется посвящение: «Дорогому Другу, о. Павлу Александровичу Флоренскому посвящается»). — 437.
1795
1 Тим. 4, 2. — 437.
1796
См. Столп… С. 214–217. — 437.
1797
Здесь о. Павел имеет в виду в первую очередь Д. С. Мережковского, написавшего о преп. Серафиме эссе «Последний святой» (см.: Мережковский Д. С. Полн. собр. соч. Т. 13. M., 1914. С. 98157). — 437.
1798
На полях рукописи дата: 1922. VII. 14. — 438.
1799
После этих слов (как и в двух других случаях) в оригинале оставлено место, по–видимому, для греческого текста. Мы приводим здесь соответствующие места греческого текста «Послания к Римлянам» (12, 2). — 438.
1800
См. прим. 47. Ср.: Из богословского наследия… С. 195. — 438.
1801
См. прим. 47. — 438.
1802
Евр. И, 1 («Есть же вера уповаемых извещение, вещей обличение невидимых»). — 439.
1803
Не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно (грен.). Букв.: «быть [о себе] мнения не более высокого, чем следует думать, но думать благоразумно». — 439.
1804
υπερφρονεΐν — быть высокомерным, гордиться, смотреть свысока, презирать, σωφρονεΐν — быть благоразумным (букв.: целомудренным). См.: Столп… С. 180 и прим. 286 на с. 703. Ср.: Платон. Кратил. 41 Ie (Т. 1. С. 453); Аристотель. Никомахова этика. VI 5, 1140b 11 (см. также: Аристотель. Соч. Т. 4, прим. 25 на с. 726); Климент Александрийский. Строматы ⁄ Пер. Н. Корсунского. Ярославль, 1892. И, cap. XVIII 79, 5 (Ѕ. 154, 18 ff. Stahlin). — 439.
1805
Лк. 18, 30; Еф. 2, 7. — 439.
1806
Быт. 28, 10–12. — 439.
1807
Из молитвы пятой Утрени, читаемой священником тайно перед Царскими вратами (см.: Всенощное бдение. Литургия. M., изд. Моск. Патр., 19912. С. 21. Ср. с. 48). В Литургии многократно повторяется прошение: «да восприяты будут Господом наши приношения в пренебесный жертвенник». Это выражение взято из Апок. 8, 3. См. о значении этого выражения: Ириней Лионский. Против ересей. Кн. 4. Гл. 34. — 439.
1808
См.: Migne J. P. Op. cit. Т. 155, col. 704. Рус. пер.: Сочинения блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского. О Святом храме и освящении его. Гл. 99 // Писания Св. Отцов и учителей церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. Т. 2. Спб., 1856. С. 183. Этим изданием пользовался о. Павел (Столп.., прим.^327 на с. 711). — 440.
1809
Из молитвы утренней седьмой, ко Пресвятой Богородице. — 440.
1810
1 Петр. 2, 5. — 441.
1811
Евр. 12, I. — 441.
1812
На полях рукописи дата: 1922. VII. 15. — 443.
1813
Мк. 8, 24. — 443.
1814
Ср.: «Надо сказать, что икона не есть картина, где с творчеством врывается дольнее; икона есть творчески запечатленная тайна бытия: «видимые изображения тайных и сверхъестественных зрелищ», по выражению Дионисия Ареопагита» (Олсуфьев Ю. Иконопись // Троице–Сергиева Лавра. Сергиев Посад, 1919. С. 66). В этом же сборнике опубликована статья о. Павла Флоренского «Троице–Сергиева Лавра и Россия» (переизд.: Журнал Московской Патриархии. 1988. № 2, 3; «Русская литература». 1989. № 2). См.: De coel. һіег. II 2. — PG, t. 3, col. 140а; SC, t. 58 (19702), р. 76, 12–14 (έφικτάς μορφώσεις τών άμορφώτων και ϋπερφυων Θεαμάτων). Рус. пер. о. Моисея Гумилевского (Μ., 1786 и переизд.; 1898, с. 8): «…в понятных для нас изображениях представляли неизобразимое и сверхчувственное». — 444.
1815
Ср.: Флоренский П. А. Пристань и бульвар // Детям моим… С. 49–50. — 444.
1816
В архиве о. Павла сохранилось письмо Ю. А. Олсуфьева с выпиской из «Просветителя или обличения ереси жидовствующих. Творение преподобного отца нашего Иосифа игумена Волоцкого», приведенной о. Павлом в «Иконостасе».
Здесь и в тексте «Иконостаса» неточности, допущенные Ю. А. Олсуфьевым и С. И. Огневой, исправлены нами по казанскому изд. «Просветителя» (1855. С. 249). — 445.
1817
«Диакон Епифаний прочитал:
Иконописание совсем не живописцами выдумано, а напротив, оно есть одобренное законоположение и предание кафолической церкви и, по словам божественного Василия, согласно с древностию и достойно уважения. Эта древность вещей и учение исполненных Духа отцев наших свидетельствует, что, созерцая иконы в честных храмах, они с любовию принимали их и сами, сооружая честные храмы, ставили в них иконы; затем в этих храмах они приносили Владыке всех Богу свои богоприятные моления и бескровные жертвы. Значит, иконописание есть изображение и предание их, а не живописца. Живописцу принадлежит только техническая сторона дела, а самое учреждение очевидно зависело от святых отцев…* (выделено мной. — А. Д.). — Деяния вселенских соборов. Т. 7. Казань, 1873. С. 469—470 (Деяние 6, том 3). Греч. текст: Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio. Ed. J. D. Мапѕі. Т. 13. P., 1905, col. 232c. — 446.
1818
Евр. 12, 1. — 446.
1819
Ин. 4, 42. — 446.
1820
На этом кончается черновой набросок «Иконостаса», помеченный: «1921. VI. 17. Москва, Серг. Пос. VII. 26». — 447.
1821
См. прим. 70. — 447.
1822
Ср.: «… при помощи живописных изображений их [святых] можно приходить к воспоминанию и к памятованию о первообразе и соделаться причастными какого-либо освящения» (Соборное определение, провозглашенное Евфимием, епископом Сардийским // Деяния вселенских соборов. Т. 7. С. 358). О первообразах см. также: с. 557, 577, 593 и др. Ср.: Флоренский П. А. Моленные иконы преподобного Сергия // Журнал Московской Патриархии. 1969, Ns 9. С. 80. — 448.
1823
Об истории иконоборческих споров см.: Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. [Париж,] Изд. Зап. — Евр. Экзархата — Московский Патриархат, 1989. См. также ниже, прим. 148. — 448.
1824
В последней части формулы имеется в виду английский философ, представитель опытной психологии Александр Бэн (1818—1903). — 448.
1825
На полях рукописи дата: 1922. VII. 18. — 449.
1826
Ср.: «… эту ничему в мире не равную лазурь — более небесную, чем само земное небо, да, эту воистине пренебесную лазурь, несказанную мечту протосковавшего о ней Лермонтова… мы считаем творческим содержанием Троицы Рублева» (Троице–Сергиева Лавра и Россия. С. 20). — 450.
1827
Кастильоне Бальдассаре (1478—1529) — итальянский писатель, Браманте Донато (1444—1514) — итальянский архитектор эпохи Возрождения. — 452.
1828
[Вакенродер В. Г., Тик Л.] Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного, изданные Л. Тиком ⁄ Пер. с нем. M., 1826. С. 4 (Μ., 19142). При цитировании о. Павлом допущены некоторые неточности, исправленные нами по источнику. Об обстоятельствах появления этого рассказа см.: Михайлов А. В. Вильгельм Генрих Вакенродер и романтический культ Рафаэля // Советское искусствознание. Вып. 2. M., 1980. С. 207–237. — 452.
1829
Вакенродер В. Г., Тик Л. Указ. соч. С. 5–9 (изд. 2–е, с. 5–8). — 454.
1830
На полях рукописи дата: 1922. VII. 19. — 454.
1831
См. прим. 65; на это место часто ссылались исследователи русской иконописи. — 454.
1832
1 Тим. 3, 15. См.: Столп… С. 12. — 456.
1833
Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский писатель, историк и филолог. «Жизнь Иисуса» — первая книга его многотомной «Истории происхождения христианства». О философских взглядах Ренана см.: Трубецкой С. Н. Ренан и его философия // Русская мысль. 1898. Кн. 3. С. 86–121 (о «Жизни Иисуса» — с. 111–113). — 458
1834
Исх. 14, 21–29. — 458.
1835
Исх. 3, 2. Образ «Купины» — символ будущего рождения Спасителя и символ Девы Марии. — 458.
1836
Быт. 18, 1. — 459.
1837
Клинцовский подлинник, л. 152 об. См.: Ровинский Д. А. История русских школ иконописания до конца XVII века // Записки Императорского Археологического общества. Т. 8. Спб., 1856. С. 29. См. также житие Сергия Радонежского, написанное Епифанием Премудрым (список изданий этого жития: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV-XVI в.). Ч. 1. A-K. Л., 1988. С. 217–218). — 459.
1838
О Софийной иконе и об иконе Св. Троицы, о равноап. Кирилле и о Сергии Радонежском, о композиции трех Странников- Ангелов («уже в 314–м году у дуба Мамврийского, по известию Юлия Африкана, была картина, изображавшая явление трех Странников Аврааму»), о роли Сергия Радонежского в создании иконы Андреем Рублевым говорится в работе о. Павла «Троице–Сергиева Лавра и Россия». — 459.
1839
Далее в рукописи пробел и несколько неразборчивых слов, написанных карандашом. — 459.
1840
На полях рукописи дата: 1922. VII. 20. — 459.
1841
«Вероятно, здесь содержится намек на русский оккультно- спиршический журнал «Ребус» (основан в 1881 г.). Указано госпожой Б. Глетцер Розентал (Нью–Йорк)» (Wemery прим. к с. 94 на с. 189). Журнал «Ребус» упоминается в «Столпе…». С. 695. — 460.
1842
Ср.: Столп… С. 161. — 460.
1843
Мф. 11, 19; Лк. 7, 35. — 461.
1844
«В тексте упоминается икона Божией Матери «Спорительница хлебов», которая ныне находится, по устному сообщению епископа [Уфимского] Анатолия в январе 1988 г. в Бергамо, — в литовской деревне Михново под Вильнюсом. На ней изображена Божия Матерь, благословляющая хлебное поле, местами уже сжатое и убранное в снопы» (Werner‚ прим. к с. 97 на с. 189). Ср.: «Эта редкая икона написана по указанию оптинского старца иеросхимонаха Амвросия, который горячо пред нею молился. Об этой иконе и чудесах от нее см.: Вечное. [Париж]. № 126, 1958. С. 23–25» (Земная жизнь Пресвятой Богородицы. На основании Священного Писания и Церковных преданий. Париж, 1968. С. 137).
Приезжавшие в Оптину Пустынь могли получить копии с этой иконы. Одна из таких копий, вероятно, была привезена домой о. Павлом. — 461.
1845
В рукописи далее пропуск. Хотя найти в бумагах о. Павла этого списка не удалось, перечень иконописцев с большой уверенностью восстанавливается по работе Ф. И. Буслаева «Исторические очерки русской народной словесности и искусства» (Буслаев Φ. И. Сочинения по археологии и истории искусства. Т. 2. Спб., 19102. С. 395 сл. (Спб., 18611. С. 378 сл.).
Этот список приводится также в кн.: Сахаров И. П. Исследования о русском иконописании. Кн. 2. Спб., 1849. Прилож., с. 12—14; Мастера искусства об искусстве. В 7 т. Т. 6. M., 1969. С. 14—16 (сведения об иконописцах — с. 23–24).
Подробный и полный алфавитный список русских иконописцев см. в кн.: Ровинский Д. А. Обозрение иконописания в России до конца XVII в. Спб., 1903, с. 120—174 (гл. «Исчисление русских иконописцев всех школ, с Краткими известиями о них, заимствованными из летописей, актов, житий русских святых, надписей и старых описей церковных имуществ»). — 462.
1846
См. выше, прим. 31. — 466.
1847
Далее в рукописи пробел. Сохранились листки с выписками о. Пашіа из «Истории Русской Церкви» Е. Голубинского. — 466.
1848
На полях рукописи дата: 1922. VII. 21. Из сравнения восьми существующих изданий «Стоглава» видно, что далее текст цитируется по первому или второму казанскому изданию (1862, 1887), при этом С. И. Огнева допустила незначительные описки и опечатки (исправленные нами) и выправила текст («Пречистая» вместо «пречистые», «всякаго» вместо «всякого» и т. п.). Последнее издание: Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т. 2. M., 1985. С. 315. — 467.
1849
О византийском подлиннике Дионисия (ок. 1670—1746) из монастыря Фурны близ Аграфы см. также: Буслаев Ф. И. Указ. соч. Т. 2. Гл. И. С. 357. Греч. текст издан был Симонидисом в 1853 г. в Афинах (указ. в «Письмах о пресловутом живописце Панселине» Порфирия Успенского: Труды Киевской Духовной Академии. 1867, окт., с. 140), а также А. Пападопуло–Керамевсом: Denys de Fourna. Manuel d'icono- graphie chr&ienne accompagne de ѕеѕ sources principals in&lites et риЬІіё avec preface, pour la premiere fois entier d'apr£s son texte original par A. Paradopoulo–Кбгатеиѕ aux frais de la Society Ітрёгіаіе Russe Агсһёоіо- gique. St. — P6tersbouig, 1909.
Русский перевод опубликован в «Трудах…»: Ерминия или наставление в живописном искусстве, составленное иеромонахом и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом. 1701—1733 гг. Пер. с греч. Архимандрита] Щорфирия]. — 1868, февр., с. 269–315; март, с. 526–570; июнь, с. 494–563; дек., с. 353–445. О. Павел, как видно, напр., из прим. 631 к «Столпу…» на с. 765, пользовался отдельным оттиском («Ерминия…» Порфирия, епископа Чигиринского. Киев, в типографии Киевопечер- ской Лавры, 1868). Отрывки из «Ерминии» опубликованы также в кн.: Мастера искусства об искусстве. Т. 1. С. 211—224. — 469.
1850
Здесь о. Павлом допущена неточность. Молитва, которой завершается книга, принадлежит не составителю «Наставления…», а монаху, который переписал рукопись для Дидрона. В русском переводе Порфирия Успенского это не оговорено (Труды… 1868, дек. С. 445 и отдельный оттиск. С. 250). В издании Пападопуло–Керамевса эта молитва отсутствует, но имеются другие аналогичные под заглавием «Позднейшие добавления в рукописи» (с. 232—233). — 470.
1851
См.: Труды… 1868, февр. С. 272–273. Отдельный оттиск — с. Ѵ–ѴІ. — 471.
1852
Далее в рукописи пробел. — 472.
1853
На полях рукописи дата: 1922. VII. 21. — 472.
1854
Лев. 10, 1–2. — 472.
1855
Здесь начинается текст, существующий также отдельно под названием «Платонизм и иконопись», — он был тем зерном, из которого вырос впоследствии «Иконостас». — 472.
1856
На полях рукописи дата: 1922. VII. 22. — 473.
1857
Ңдея синтеза искусств ярко выражена в философии Η. Ф. Федорова, а также в творчестве А. Н. Скрябина. О связи идей Скрябина с оккультными учениями см.: Сабанеев Л. Л. Скрябин. M.: Пг., 19232. С. 31, 37, 42, особенно с. 54–63. Заметим, что в «Иконостасе» о. Павел полемизирует с оккультными учениями. Это не случайно — в работе «У водоразделов мысли» должна была быть глава «Об ориентировке в философии (философия и жизнечувствие). (Механистическое миропонимание. Каббала. Оккультизм. Христианство)». На страницах многих работ о. Павел прямо пишет о своем отрицательном отношении к оккультизму. См. выше, прим. 23 и 35. См. также: Темпест Р. П. А. Флоренский и оккультизм. — Символ. 1988, дек. С. 237 сл.; Флоренский П. А. Отзыв о кандидатском сочинении студента LXVI курса МДА Михаила Семенова на тему «Типы современных оккультических движений в России (Анализ и критическая оценка)» /⁄ Богословский вестник. 1912. Т. 2. Ne 3. С. 326; Иг. Андроник (Трубачев). [Термин «магия» в понимании о. Павла Флоренского] — Флоренский П. А. У водоразделов мысли // [Соч.] Т. 2. M., 1990. С. 413418. Идее Скрябина о синтезе искусств о. Павел противопоставляет понимание «храмового действа как синтеза искусств». Об отношении о. Павла к Скрябину см.: Вестник Русского христианского движения. Ne 152 (I — 1988). С. 179–181 (письмо Флоренского от 23 марта 1937 г.); Трубачев С Музыкальный мир П. А. Флоренского // Советская музыка. 1988. № 9. С 100.
О Федорове и Флоренском см. ниже, прим. 114. — 473.
1858
От греч. слова ούσία. См.: Из богословского наследия… С. 139, 141; Столп… С. 53 сл. и др. — 474.
1859
На полях рукописи дата: 1922. VIII. 1. — 478.
1860
На полях рукописи дата: 1922. VIII. 5. — 481.
1861
См.: Crcomm В. Собр. соч.: В 20 т. Т. 7. M.; Л., 1962. С. 219 (гл. 20); ср. с. 343–344 (гл. 33). — 482.
1862
Имеется в виду работа американского философа и психолога У. Джемса «On Some of Hegelism» (1882). Рус. пер. см. в кн.: Джемс У. Зависимость веры от воли и другие опыты популярной философии ⁄
Пер. с англ. С. И. Церетели. Спб., 1904. С. 338–342. Флоренский ссылается на Джемса в «Столпе…», напр. прим. 28 на с. 622, 76 на с. 641 и др. — 484.
1863
Далее в рукописи пробел. Последняя фраза — скрытая цитата из «Зимней сказки» Гейне. Ср.: Флоренский П. А. Обратная перспектива. — У водоразделов мысли. С. 68 и прим. 5 на с. 377. — 484.
1864
На полях рукописи дата: 1922. VIII. 7. — 484.
1865
См.: Платон. Парменид 130с. Ср.: Булгаков С. Философия имени. С. 74. — 485.
1866
Здесь о. Павел, скорее всего, имеет в виду Η. Ф. Федорова (см.: Федоров Η. Ф. Сочинения. M., 1982. С. 403 сл., 441). Возражения о. Павла Флоренского Федорову находятся в полном согласии со святоотеческой традицией, согласно которой в новых условиях бытия изменятся и сами функции органов человеческого тела.
О Федорове и Флоренском см.: Никитин В. А. Храмовое действо как синтез искусств (Священник Павел Флоренский и Николай Федоров). — Символ. 1988, дек. С. 219—236 (эта статья была напечатана также в «Вестнике Русского христианского движения»). — 486.
1867
Вернер видит в этих словах возможную аллюзию с 1 Кор. 13, 12: «…видим убо ныне якоже зерцалом в гадании, тогда же лицем к лицу: ныне разумею от части, тогда же познаю, якоже и познан бых». (В славянском переводе словом «гад–ание» передается греч. αίνιγμα и имеет здесь исконное значение «предположение», «за–гад-ка». Несмотря на то что фраза цитируется — если здесь вообще имеется в виду это место из Нового Завета — о. Павлом далеко не точно, контекст «Иконостаса» позволяет принять предположение Вернера.
Ср., однако: «И не без причины это ожидание, что личина фи- зичности в любой момент может быть, вот, скинута: ведь в гаданиях с зеркалом (курсив мой. — А. Д.) так и получается — вместо отражения появляются другие образы, и мистический трепет переходит в подлинный ужас. Не есть ли и всегда боязнь зеркал, чувство таинственности зеркал, полусознательная мысль о явной мистичности зеркала в гадании?» (Флоренский П. Детям моим. С. 175). Ср.: Флоренский. О суеверии и чуде. С. 255. Гадание с зеркалом было традиционным на Руси (ср.: Пушкин А. С. Евгений Онегин. Гл. V, строфа 9; Жуковский В. А. Светлана). Не исключено, что о. Павел намекает здесь и на оккультные гадания (см., напр.: Седир. Магические зеркала. Теория развития ясновидения, и гадание, как практическое его применение ⁄ Пер. А. В. Трояновского. Вязьма, 1907. О. Павел был знаком с книгами Седира: Столп… прим. 28 на с. 624). — 486.
1868
См. выше, прим. 113. — 487.
1869
2 Кор. 1, 12. — 487.
1870
В. В. Розанов; источник скрытой цитаты не выявлен. — 487.
1871
Ср.: Столп… С. 230, 243. — 488.
1872
1 Кор. 15, 50. Эти слова Священного Писания часто привлекались для обоснования и оправдания многих ересей. Поэтому в богословской литературе толкованию этого трудного места уделялось исключительное внимание. Укажем: Тертуллиан. Творения. Т. 2 // Библиотека творений святых отцов и учителей церкви западных. Т. 31. Ч. 2 ⁄ Пер. Н. Щеглова. Киев, 1912. С. 284–290. Ориген. О началах. Казань, 1899. С. 164. Ириней Лионский. Против ересей. M., 1900. С. 462. Ср.: Из богословского наследия… С. 236. — 488.
1873
Об одежде см. также: Из богословского наследия… С. 217 сл.; Столп… С. 243 и др. — 488.
1874
Некрасов Н. А. Сеятелям. — 490.
1875
Надпись «Малышев» относится, вероятно, к Ивану Матвеевичу Малышеву, работавшему в Лавре в середине 19–го века. — 490.
1876
На полях рукописи дата: 1922. VIII. 12. — 490.
1877
Место, характерное для поэтическо–символического, многозначного, образного стиля Флоренского. Ср.: «…мир невидимый — Божественная благодать, как расплавленный металл, струящийся в обожествленной реальности» (Иконостас). «Сквозь всю жизнь мою пронизывается невидимая нить искр, огненная струя золотого дождя [= «расплавленный металл» разбираемого места), осеменяющая ум, как Юпитер Данаю: Unda fluens palmis Danaen eludere possit» (Воспоминания. Ч. 1. Раннее детство. Гл. «Впечатления таинственного» // Детям моим. С. 43 (курсив мой. — А. Д.)). Приведена строка из поэмы Овидия «Метаморфозы» (XI 117):
Влага, с ладоней струясь, обмануть могла бы Данаю!
(Пер. С. В. Шервинского)
Ср.: IV 611; VI 113.
Эта параллель делает очевидным интимно–личный характер метафоры в «Иконостасе». Подчеркнем и другой, завуалированный в контексте, план метафоры: образ, относимый Овидием к Богу (Юпитеру), явившемуся в виде золотого дождя, переносится Флоренским на золото (в иконописи), символизирующее Божественную реальность (ср. далее в «Иконостасе»: «Все изображения иконы возникают в море золотой благодати, омываемые потоками Божественного света»). — 494.
1878
На полях рукописи дата: 1922. VIII. 13. — 494.
1879
На полях рукописи дата: 1922. VIII. 19. — 497.
1880
O слове αλήθεια см.: Столп… С. 17 сл. — 498.
1881
Пропуск в рукописи занимает более двух страниц. По–видимому, о. Павел предполагал продолжить прерванную цитату. Перевод сделан о. Павлом с греческого текста. Далее приводится текст (он заключен в квадратные скобки) по русскому переводу в «Полном собрании творений святого отца нашего Иоанна Златоуста» (Т. 3. Кн. 1–2. Спб., 1897. Кн. 1. Беседа на слова апостола: «Не хощу вас не ведети, братие, яко отцы наши вси под облаком быша, и вси сквозь море проидоша» (1 Кор. 10, 1). С. 249–250). Греч, текст см.: Migne J. P. Op. cit. Т. 51, col. 247–248. — 498.
1882
См. также: Объяснение технического производства, существовавшего в старых русских школах иконописания // Ровинский Д. А. Указ. соч. С. 56—80. Выписки из подлинников см. там же. С. 81—108. — 500.
1883
На полях рукописи дата: 1922. VIII. 20. — 501.
1884
Деян. 17, 28. — 504.
1885
Слова «до нового Иерусалима» в конце абзаца соответствуют ирмосу 9–й песни пасхального канона «Светися, светися, новый Иерусалиме»; см. также: Столп… С. 333 сл., особенно с. 356. — 504.
1886
Ср. с названием работы кн. Ε. Н. Трубецкого «Умозрение в красках». — 505.
1887
Ср.: Столп… С. 122. — 505.
1888
Можно перевести как: «Не–существующее стало не–сущим». Ср.: «Здесь нам необходимо еще раз остановиться на анализе не в применении к тварности. Может быть два значения этого не по смыслу тварного ничто, которым соответствуют два вида греческого отрицания: оѵ и μή (ά privativnm к этому случаю совсем не относится): первое соответствует полному отрицанию бытия — ничто, второе же — лишь его невыявленности и неопределенности — нечто. Этот второй вид небытия, μή оѵ, собственно говоря, скорее, относится к области бытия…» (Булгаков С. Свет невечерний. С. 183; см. также с. 146 и прим. 2). Ср.: Из богословского наследия… С. 133, 135; Столп… С. 29 и прим. 310 на с. 709.
О различении укона и мэона у Шеллинга и Булгакова и соответствии этого разграничения богословской традиции см.: иг. Геннадий (Эйкалович). О тварности // Вестник Русского христианского движения. № 149 (1–1987). С. 55–59,
В машинописном тексте фраза читается так: «Λόγος стало σαρξ*. Ср.: Ин. 1, 14 «И Слово плоть бысть» (Kai ό Λόγος σαρξ έγένετό) — ср.: Из богословского наследия… С. 104. — 505.
1889
См. выше, прим. 97. — 507.
1890
На полях рукописи дата: 1922. VIII. 22. — 507.
1891
Всякое определение (заключение, доел, ограничение) есть отрицание (лат.). Выражение determinatio negatio est встречается в письме Б. Спинозы к Я. Иеллесу от 2 июня 1674 г. в значении «ограничение есть отрицание». Это выражение в значении «всякое определение есть отрицание» часто приводится Гегелем. — 510.
1892
Нужно было бы ее выдумать (франц.). Ср. известную фразу Вольтера: «Если бы Бога не было, то следовало бы Его выдумать» (Послания CXL Автору новой книги о трех самозванцах (1769)). — 510.
1893
0 свете см.: Из богословского наследия… С. 151—152. — 511.
1894
Скорее всего, имеется в виду В. А. Фаворский. Ср.: Мнимости в геометрии. С. 61—64. — 511.
1895
На полях рукописи дата: 1922. VIII. 23. — 511.
1896
Ср.: Флоренский П. А. Обратная перспектива // У водоразделов мысли. С. 46–47, 68. В этой же работе о. Павел анализирует иконописные приемы. — 512.
1897
Cp.: Там же. С. 69. — 572
1898
Точнее, Ungrund — «пропасть», одно из основных понятий бемевской мистико–пантеистической системы. Генетически восходит к гностическому βυθός (Iren. Adv. һаег. I, 1; Tert. Adv. Vol. 7). — 513.
1899
На полях рукописи дата: 1922. VlIL 26. — 516.
1900
Св. отцы сравнивали иконы с книгами и проповедями и даже считали, что зрение имеет преимущества перед слухом. См., напр.: Io. Dam. De imag. I, 17 (Migne /. P. Op. cit. Т. 94, col. 1248с, 1268ab и др.). Рус. пер.: Полное собрание творений св. Иоанна Дамаскина. Т. 1. Спб., 1913; Мапѕі. Op. cit. Т. 13, со!. 232b, 361а; Niceph. Const. Antir. III 3 (Migne J. P. Op. cit. Т. 100, col. 380d), 5 (ib. 38 led, 384ab). Apol. 62 (ib. 748d) (рус. пер.: Творения св. отца нашего Никифора, архиеп. Константинопольского. Ч. 1 // Творения святых отцов… Т. 65. M., 1904. С. 311). См. также сочинения преп. Феодора Студита, рус. пер.: Феодор Студит. Творения. Т. 1–2. Спб., 1907–1908. Ср.: Флоренский /7; А. У водоразделов мысли. С. 34—37, особенно 38. — 516.
1901
См.: Маковельский А. Досократики. Ч. 1. Казань, 1914. С. 164, фр. 107 (греч. текст: Diels Н. Die Fragmente der Vorsokratiker. Bd 1. Berlin, 1912. Ѕ. 98). Флоренский мог пользоваться и изданием, указанным в «Столпе…», прим. 227 на с. 689. Новейшие издания: Diels- Kranz6i fr. 107; Marcovich9 fr. 13; Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. M., 1989. С. 193. — 516.
1902
HeracLi fr. 101а Diels-Kranz; Marcovich9 fr. 6 (Фрагменты… С. 191). Эту же мысль находим у Геродота (I 8), Лукиана (De salt. 78) и мн. др. См.: Schmid W. Geschichte der griechischen Literatur. Bd I 2 (1934). Ѕ. 652; Otto A. Sprichworter der Romer. Leipzig, 1890. Ѕ. 251; Лосев А. Ф. История античной эстетики. [Т. 2.] Софисты. Сократ. Платон. M., 1969. С. 598; [Т. 3.] Высокая классика. M., 1973. С. 294. Ср. прим. 148. — 517.
1903
В греческом языке корень (F)oiS/(F)£iS/(F)tS означал и «видеть», и «ведать». См. выше рассуждения Флоренского о лике и идее. Особенно подробно пишет об этом о. Павел в статье «Смысл идеализма» (Сборник статей в память столетия (1814—1914) МДА С. 111— 122). О зрительном восприятии в греческой эстетике, гносеологии и этимологии терминов, связанных с глаголом «видеть», см., напр.: Bultmann R. Zur Geschichte der Lichtsymbolik im Altertum // PhHologus. 1948. Bd 97. Η. 1/2. Ѕ. 17–29. См. также: Лосев А. Ф. История античной эстетики. [Т. 2]. С. 417–430 (там же и библиография), 581–582; [т. 3]. С. 241—257, 294; [т. 4]. Аристотель и поздняя классика. M., 1975. С. 302–308; [т. 6]. Поздний эллинизм. M., 1980. С. 442–443, 449, 550552. О мистике света и зрительной интуиции см.: Лосев А. Ф. Античный космос.., прим. 24 на с. 269—272, ср. прим. 198 на с. 435. Прочая литература о метафизике света указана А. В. Михайловым, см.: Вопросы искусствознания. 1994. Νδ 4. С. 70, прим. 17. — 517.
1904
O венчике, как выражающем природу внутреннего света‚ см.: Столп.., прим. 147 на с. 672–674. — 577.
1905
Ср.: Столп… С. 98. — 517.
1906
См.: Столп.., прим. 369 на с. 720–721. — 518.
1907
См.: Столп… С. 178 и прим. 277 на с. 701. В этимологии слова «Аид» (происхождение которого не может считаться твердо установленным, см. этимологические словари Карнуа, Фриска, Гофмана, Шантрена) о. Павел прямо следует Платону, см.: Кратил 403а, Федон 80d-81d, Горгий 493Ь. — 518.
1908
Эту же фразу о. Павел приводит в работах, посвященных име- славию, — «Магичность слова» и «Имеславие как философская предпосылка» (Флоренский П. А. У водоразделов мысли. С. 265 и прим. 20 на с. 422; с. 285 и прим. 4; с. 302 и прим. 23 на с. 434). Фраза взята из Синодика в Неделю Православия, читаемого в первое Воскресение Великого Поста, дополненного патриархом Филофеем Коккиным параграфами, излагающими учение св. Григория Паламы, в следующем году после Собора 1351 г. («Против Варлаама и Акиндина», 2. В пер. А. Ф. Лосева: «…ибо учители Церкви дословно говорят, что только небытие лишено энергии»). Греч. текст и церковнослав. пер.: Синодик в неделю православия. Сводный текст с примечаниями Ф. Успенского. Одесса, 1893. С. 31 (новейшее изд. с франц. пер. и комментариями: Gouillard J'. Le Synodikon de IOrthodoxie («Тгаѵаих et тётоігеѕ», 2). Paris, 1967. Синодик печатался в Постной Триоди в России до 1766 г., когда чин Православия был заменен новым, более общим, а затем и вообще перестал включаться в службу (подробнее см.: Петухов Е. В. Очерки по литературной истории Синодика… Спб., 1895. С. 62). Перевод А. Ф. Лосева. Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. M., 1993. С. 895. — 518.
1909
Еф. 5, 8. — 518.
1910
На полях рукописи дата: 1922. VIII. 27. — 518.
1911
Деян. 19, 24. — 519.
1912
См. Послание к Римлянам 2—4, 7, и к Галатам 3—5. — 520.
1913
Полное собрание творений… Иоанна Златоуста. Т. 11. Кн. 1— 2. Спб., 1905. С. 5—6 (Беседы на «Послание к Ефесянам», предисл.). См.: Migne J. P. Op. cit. Т. 62, col. 10 sq. Эта цитата приведена епископом Феофаном. — 520.
1914
Далее в рукописи пробел. — 522.
1915
На полях рукописи дата: 1922. VIII. 29. — 522.
1916
Пример такой надписи см.: Тураев Б. А. История Древнего Востока. Т. 2. Л., 1935 2 С. 166. Ср. письмо о. Павла к М. В. Нестерову от 1.6.1922 о смерти В. В. Розанова (Литературная учеба. 1989. № 1. С. 115). — 523.
1917
Мф. 27, 52. — 524.
1918
Мф. 18, 3. — 535.
1919
Рим. 14, 17. — 536.
1920
Может быть: Impius, cum in profundum venerit, contemnit — Нечестивый, и приходя к тайному тайных, презирает (лат.). — 538.
1921
любое определение есть отрицание (лат.). — 539.
1922
война каждого против всех… против каждого (лат.). — 539.
1923
Из молитвы Последования исходного. — 548.
1924
Имеется в виду трактат Пьера Симона Лапласа «О небесной механике». — 548.
1925
Ин. 1, 3. — 548.
1926
Мф. 6, 21. — 549.
1927
Мф. 6, 24. — 550.
1928
1 Кор. 15, 14. — 551.
1929
Мф. 7, 29. — 552.
1930
Слова из возглашения на Божественной литургии свт. Иоанна Златоустого. — 552.
1931
Иак. 1, 17. — 555.
1932
Рим. 14, 4. — 557.
1933
«Культ его в дельте восходит к первобытному времени; его называли там «владыкой Бузириса» и изображали в форме безлиственного дерева (если только мы правильно объясняем значение иконографических знаков); позже это дерево рассматривалось теологией как изображение позвоночного столба Озириса…» // Шантепи де ля Соссей Д. П. Иллюстрированная история религий. M., 1992. Т. 1. С. 126. — 568.
1934
Эллис. Русские символисты. M.: Мусагет. 1910. С. 3. — 568.
1935
Там же. С. 21–23. — 569.
1936
Крупнейший в Европе комплекс мегалитических построек, созданный около 1900—1700 гг. до н. э. в Великобритании недалеко от г. Солсбери. На культовое назначение комплекса указывает находящийся в центре его «алтарный камень». — 573.
1937
«Пифагорейцы определяют точку как «единицу, имеющую положение», так как числа лишены фигур и не поддаются наглядному представлению, а точка в представлении обладает протяженностью». Схолии к Евклиду; Элементы, I, Определение I. Т. V. С. 77, 26 // Фрагменты ранних греческих философов ⁄ Пер. А. В. Лебедева. Ч. 1. M., 1989. С. 478. — 575.
1938
Филолай из Кротона (V в. до н. э.), древнегреческий философ и математик. Сохранившиеся фрагменты его произведений принадлежат к числу важнейших свидетельств об учении ранних пифагорейцев. — 576.
1939
Эта тема Флоренским была подробно развита в книге «Мнимости в геометрии» (М.: Поморье. 1922). «…На границе Земли и Неба длина всякого тела делается равной нулю, масса бесконечна, а время его, со стороны наблюдаемое — бесконечным. Иначе говоря, тело утрачивает протяженность, переходит в вечность и приобретает абсолютную устойчивость» (С. 52). — 576.
1940
См. работу Флоренского «О символах бесконечности» (Наст, изд. Т. 1. С. 79–128). — 577.
1941
начало различения (лат.). — 578.
1942
Изначальное (нем.). — 580.
1943
В русской философии попытку разработать тему Эн–соф мы встречаем у раннего Соловьева, который понимал Эн–соф в качестве Отца (см.: Соловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977. С. 136–145). — 582.
1944
путь отрицательный (лат.). — 583.
1945
См.: Meucmep Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения. M.: Мусагет. 1912. С. 38–39, 70–71. — 583.
1946
небытие становится бытием не иначе, как пройдя через отрицание бытия (греч.). — 583.
1947
Тема обратной перспективы является одной из центральных как для философии искусства Флоренского, так и для всего его бого- словско–философского учения. «Вся культура может быть истолкована как деятельность организации пространства» (Флоренский П. А. Анализ пространственности и времени в художественно–изобразительных произведениях. M., 1993. С. 55). Специально эта тема разрабатывалась Флоренским в ряде работ — «Обратная перспектива», «Иконостас» и др., а также лекциях, которые Флоренский читал во ВХУТЕМАСе. Значение этих уникальных исследований о. Павла было более или менее осмыслено в нашем искусствоведении относительно недавно. — 585.
1948
Старец Анатолий (Потапов), † 1922. Вошея в историю старчества как один из наиболее известных и почитаемых оптинских старцев. В юности был келейником в скиту у св. Амвросия Оптинского. Вот как описывает автор книги «Оптина Пустынь и ее время» кончину старца Анатолия, происшедшую в самый разгул большевистских погромов церквей и монастырей: «Пришла чреда и к о. Анатолию. Его красноармейцы обрили, мучали и издевались над ним. Он много страдал, но когда возможно было, принимал своих чад. К вечеру 29–го июля приехала комиссия, долго расспрашивали и должны были старца арестовать. Но старец, не противясь, скромно попросил себе отсрочки на сутки, чтобы приготовиться…. На другой день утром приезжает комиссия. Выходят из машины и спрашивают келейника о. Варнаву: «Старец готов?» —- «Да, — отвечает келейник, — готов», и, отворив дверь, вводит в покои старца. Каково же было удивление их, когда их взору предстала такая картина. Посреди келии в гробу лежал «приготовившийся» мертвый старец! Не попустил Господь надругаться над Своим верным рабом и в ту же ночь принял Своего готового раба, что было 30–го июля 1922 года, в память перенесения мощей преп. Германа Чудотворца Соловецкого».
Флоренский познакомился со сгарцем Анатолием 7 сентября 1905 года во время своей поездки в Опта ну пустынь на могилу недавно почившего о. Серапиона Машкина, также насельника Введенской Оптиной пустыни. — 593.
1949
Тождественность одного из фундаментальных понятий «Критики чистого разума» И. Канта (см.: Кант И. Соч. в 6 тг. Т. 3. С. 191 и сл.) и греховности демонстрирует резко критическое отношение Флоренского к Канту, которого он называл «Столпом злобы богопро- тивныя» и «великим лукавцем». — 597.
1950
Исх. 33, 20. — 597.
1951
Рим. 6, 2–14. — 598.
1952
Преподобный Иоанн Лествичник († ок. 606) — игумен Синайской обители, автор знаменитого руководства к иноческой жизни «Лествица», неоднократно издававшейся в России (несколько изданий было осуществлено Оптиной пустынью); святой Варсонофий (‡ конец VI в.) — отшельник, один из учителей аскетики. См.: «Краткое описание жития аввы Иоанна, игумена святой горы Синайской, прозванного схоластиком по истине святого отца» // Преподобного отца нашего Иоанна, Игумена Синайской горы, Лествица. Изд. 7–е Козельской Введенской Оптиной пустыни. Сергиев Посад, 1908; Преподобных отцев Варсонофия и Иоанна, руководство к духовной жизни, в ответах по воспрошании учеников. M., 1855 (в этом же издании — «Краткое сказание о жизни преподобных отцев Варсонофия и Иоанна, составленное Никодимом, монахом св. Афонской горы»). — 598.
1953
Апок. 20, 10. — 599.
1954
2 Кор. 12, 4. — 599.
1955
Имеется в виду стихотворение «Silentium». — 599.
1956
Пляска Смерти — род аллегорической драмы или процессии, мистерии, распространенный в Западной Европе (например, расцвет мистерий во Франции в XIV в.). Обыкновенно, «Пляска Смерти» представляла собой разговор Смерти с разными лицами (например, королем, судьей, священником, воином, землепашцем и т. д.), причем главной темой мистерии была непредсказуемость и неизбежность смерти для кого бы то ни было. Сохранилось множество скульптурных и гравюрных изображений Смерти, представляющих собой отдельные сцены из мистерии. — 600.
1957
Преподобная Феодора Царьградская, † 940. Цитируемый текст взят из Жития преподобного Василия Нового (Жития святых на русском языке по руководству Димитрия Ростовского. Кн. 7. M., 1906. С. 533). — 602.
1958
Имеется в виду повесть «Смерть Ивана Ильича». — 602.
1959
Наиболее популярные античные мистерии. Совершались ежегодно в Елевсине в честь богини Деметры и ее дочери Персефоны. Главное содержание мистерий — миф о похищении Персефоны Аидом и поиски ее Деметрой. Считается, что первоначально эти мистерии возникли в Египте. — 604.
1960
Сын о. Алексея о. Сергий был расстрелян НКВД в 1941 г. Сохранились тексты его проповедей и письма к духовным детям. — 607. «немудрое мира» (церковнослав. — 1 Кор. 1, 26). — 611.
1961
Св. Франциск Ассизский (1182–1226) — основатель ордена францисканцев. — 612.
1962
1 Кор. 2, 15. — 616.
1963
1964
Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский (1782— 1867). Выдающийся церковный деятель, ревнитель благочестия и церковного просвещения. Канонизирован Поместным Собором Русской Православной Церкви в 1988 г. — 622.
1965
Святой праведный Иоанн Кронштадтский (Сергиев) (1829— 1908) — великий православный пастырь и молитвенник XX в. Канонизирован в 1990 г. — 623.
1966
Священномученик митрополит Владимир (Богоявленский), † 25.1.1918. Глава Московской кафедры с 1898 по 1912 г. — 623.
1967
«Ближайшим учеником о. Варсонофия, назначенным на его место скитоначальником и старцем оптинской братии, был о. Феодо- сий, сведения о житии которого немногочисленны» — так начинается глава «Старец Феодосий» в знаменитой книге И. М. Концевича «Оптина Пустынь и ее время (Ν. Ү. 1970). Сведений Концевич приводит немного, но образ старца «с виду высокого роста, полного, тихого и сосредоточенного» «мудреца» ему удается передать читателю на минимальном пространстве в три страницы. — 626.
1968
Старец Нектарий († 1928) — последний старец Оптиной пустыни. После разгрома Оптиной пустыни в 1923 г. был заключен в Козельскую тюрьму, а по выходе из нее поселился сначала в селе Пло- хино под Козельском, а затем в селе Холмищи. Пред кончиной старец Нектарий исповедовался сыну о. Алексея Мечева о. Сергию, который и причастил старца. — 626.
1969
Никаких данных об упоминаемом здесь «Христианском студенческом союзе» автору примечаний выяснить не удалось. Однако следует заметить, что автор этих строк, и все, к кому он обращался за помощью, отвергают возможность отождествления разыскиваемого здесь Союза с основанным бароном Николаи и А. И. Пекер в Петербурге Всемирным христианским студенческим союзом, чьи представители наезжали в Москву. — 627.
1970
Основание этого приводится в других местах (см. Analytica posteriora, Г, 75а, 18–22, 39–41, 76Ь 11–16), Подобным же образом передается и Бонитцем в новом английском переводе сочинений Аристотеля под редакцией Росса (The Works of Aristotle, vol. 3, translated into English under the editorship of W. D. Ross, 2 ed., Oxford, 1928, p. 1025).
1971
Бугаев Николай Васильевич (1837—1903) — русский математик, создатель аритмологии. О. Павел Флоренский почитал его учителем как в математике, так и в философии. — 632.
1972
Лейбниц писал о «прекрасном законе непрерывности, который, может бьггь, впервые указан мною» (Теодицея // Лейбниц Г. В. Соч. Т. 4. M., 1989. С. 358). — 632.
1973
Гистерезис — термин, введенный Юингом (Ewing) дјїя явления «опаздывания» магнитных явлений от причин их производящих. Гистерезис аналогичен явлению упругости в механике твердых тел. — 634.
1974
«Первичным по природе является государство по сравнению с семьей и каждым из нас; ведь необходимо, чтобы целое предшествовало части» (Аристотель. Соч. Т. 4. M., 1984. С. 379). — 634.
1975
Монада — понятие центральное в философских построениях Лейбница и Бугаева. — 634.
1976
Осборн Рейнольд полагал эфир прерывистым, зернистым по аналогии с морской пеной. Клиффорд Уильям Кингдон (1845—1879), английский математик и философ, в 1876 г. предположил, что материя является видом кривизны пространства (см.: Альберт Эйнштейн и теория гравитации. M., 1979. С. 36–47). Дж. Дж. Томсон (1856— 1940) — английский физик, президент Лондонского Королевского общества, член–корреспондент СПб. АН (с 1913 г.), почетный член АН СССР (с 1925 г.), лауреат Нобелевской премии (1906, 1937). Дж. Дж. Томсон утверждал, что волновой фронт должен быть более похож на яркие пятна на темном фоне, чем на равномерно освещенную поверхность, основывая этот вывод на волокнистом строении эфира; при этом волны бегут вдоль линий электрической силы. — 635.
1977
Архимандрит Серапион Машкин (1854—1905) — богослов. В 1900 г. закончил сочинение «Опыт системы Христианской философии» (не опубликовано). Последние годы жил на покое в Оптиной пустыни. В это время с ним переписывался Флоренский.
В статье «О неизбежности атомистики в естественных науках» (Ann. d. Phys., 1897, 60) Больцман писал: «И производные по времени требуют, чтобы время в природе было мыслимо разложенным на очень маленькие конечные части (атомы времени)» (Людвиг Больцман. Статьи и речи. M., 1970. С. 121).
«Согласно теории мгновенности, смена в составе содержания сознания происходит настолько быстро, что самый процесс перехода к новому содержанию не поддается наблюдению. Момент («ҟшд/ш»), не будучи нулем, является столь малою частицею времени, что он непосредственному впечатлению недоступен… Теория мгновенности заключается, таким образом, в условном сведении потока сознания и его содержания на уровень одинаковых, бесконечно малых частиц времени» (Розенберг О. О. Проблемы будцийской философии. Введение в изучение буддизма по японским и китайским источникам. Пг., 1918. С. 103). — 635.
1978
Сэр Оливер Лодж. Непрерывность ⁄ Пер. С. Н. Покровского. СПб.^ «Естествоиспытатель», 1914. С. 21–22. — 635.
1979
Это стихотворение помещено в письме приблизительно 1847 г. математика К. Г. Якоби (1804—1851) к Александру фон Гумбольдту, найдено в бумагах Лежен–Дирикле и является «остроумной пародией» (Л. Кронекер) на стихотворение Шиллера «Архимед и ученик». Стихотворение впервые опубликовано в книге: Philosophische Aufsatze Eduard Zeller zu seinem funfzigjahrigen Doktor-Jubilaum gewidmet. Leipzig, 1887. На русском языке опубликовано в кн.: Г. фон–Гельмгольц. Счет и измерение. Л. Кронекер. Понятие о числе ⁄ Пер. А. Васильева. Казань, 1893. С. 34. В 1902 г. Флоренский сделал стихотворный перевод (опубл.: Огонек. 1988. № 31. С. 17). — 635.
1980
Н. В. Бугаев придал термину особый смысл, согласно которому арифмология (или аритмология) — это в математике теория разрывных функций. Шире — теория разрывности, пронизавшая все миросозерцание. — 636.
1981
Мишель Бреаль (1832—1915) — французский лингвист. Какую из многочисленных работ Бреаля имел в виду Флоренский, неясно. — 636.
1982
«Под числом мы понимаем не столько множество единиц, сколько отвлеченное отношение какой-нибудь величины к другой величине того же рода, принятой нами за единицу». В этом определении числа как отношения Ньютон порывает с классической традицией определения числа как совокупности единиц (Исаак Ньютон. Всеобщая арифметика или книга об арифметических синтезе и анализе ⁄ Пер., статья и комментарии А. П. Юшкевича. M., 1948. С. 8). О понимании числа Евклидом см.: Начала Евклида. Кн. VII-X ⁄ Пер. с греч. и комм. Д. Д. Мордухай–Болтовского при ред. участии И. Н. Веселое- ского. M.; Л., 1949. С. 9. — 636.
1983
Ср.: «Фалес определил [число] как «совокупность единиц», следуя египетскому воззрению, а именно в Египте он и занимался науками» (Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. M., 1989. С. 113). Ямвлих же приводил определение Евдокса: «Число есть определенное множество» (цит. по кн.: Новые идеи в математике. Сб. № 4. Учение о числе. СПб.: «Образование», 1913. С. 84. Во «Введении в арифметику» [В 117] Никомах из Геразы определяет число так: «Число есть определенное множество, или система единиц, или сплав из единиц» (цит. по кн.: Георг Кантор. Труды по теории множеств. M., 1985. С. 411). — 636.
1984
Ср.: «Всякое отношение есть либо соединение‚ либо соответствие. В соединении вещи, между которыми имеется отношение, называются частями, а взятые вместе с соединением, они образуют целое. Такое (отношение) имеет место всякий раз, когда множество мыслится как нечто одно. Под одним же понимается то, что постигается единым актом мышления‚ т. е. сразу, как, например, какое-нибудь сколь угодно большое число мы часто охватываем мгновенно какой-то слепой мыслью, хотя для того, чтобы представить себе это же самое число в развернутом виде, не хватило бы и мафусаиловой жизни. Это абстрагирование одного есть единица, а само целое, состоящее из таких абстрактных единиц‚ или целостность, называется числом» (цит. по кн.: Георг Кантор. Труды по теории множеств. M., 1985. С. 411). — 637.
1985
См.: «Письмо к Томазиусу о возможности примирить Аристотеля с новой философией» (1669). — В кн.: Лейбниц Г. В. Избр. соч. M., 1908. С. 32. Лейбниц же числа определял так: «Единица+единица+единица и т. д., т. е. как совокупность единиц» (Лейбниц Г. В. Соч. Ҭ. 1. M., 1982. С. 97). — 637.
1986
Гельмгольц выступал против априоризма Канта в понимании аксиом и геометрии и арифметики. См.: Г. фон–Гельмгольц. Счет и измерение; Л. Кронекер. Понятие о числе ⁄ Пер. А. Васильева. Казань, 1893. С. 3. Арифметика у Гельмгольца основана на «чисто психологических фактах». Гельмгольцу вторит и Кронекер: «Естественный исходный пункт для развития понятия о числе находится, по моему мнению, в порядковых числах». —637.
1987
См. прим. 9T — 637.
1988
Здесь цитируется несколько мест из работы Кантора «К учению о трансфинитном». См.: Новые идеи в математике. Сб. № 6: Учение о множествах Георга Кантора. 1. СПб.: «Образование», 1914. С. 92–95. — 638.
1989
Соединение (лат.). — 639.
1990
См.: Новые идеи в математике. Сб. № 6. С. 150. — 639.
1991
Джордж Буль (1815—1864), английский математик и логик, основоположник математической логики, полагает логику как символическое исчисление. — 643.
1992
еория алгебраических форм — теория однородных многочленов /і–ой степени от т переменных. Простейшей является квадрантная форма от двух переменных. — 645.
1993
В марте 1912 г. Нильс Бор покинул лабораторию Дж. Дж. Том- сона в Кембридже и начал работал» в лаборатории Эрнеста Резерфорда в Манчестере. Бор привнес в планетарную модель атома Резерфорда, где отрицательно заряженные электроны вращаются вокруг положительно заряженного ядра, идею квантования Макса Планка: существует дискретный набор допустимых орбит и пока электрон остается на одной из этих орбит, энергия не излучается; при переходе же элек- тзррна с одной орбиты на другую излучение не непрерывно, но происходит квантами.
Роберт Уильяме Byd (1868—1955), американский физик–экспериментатор, иностранный почетный член АН СССР (с 1930 г.), открыл и исследовал оптический резонанс, заложил основы теории атомных и молекулярных спектров.
Деларив Август (De La Rive, 1801–1873), французский физик.
Бархгаузен Генрих (Barkhausen, 1881—1956), немецкий физик.
Томас Хант Морган (1866—1945), американский биолог, один из основоположников генетики, иностранный член–корреспондент Российской АН (с 1923 г.), иностранный член АН СССР (с 1932 г.), экспериментально обосновал хромосомную теорию наследственности, установил закономерности расположения генов в хромосомах, от которых зависит существование вида. — 645.
1994
Источник цитаты найти не удалось. — 646.
1995
Так в рукописи. Вероятно, следует считать, что Флоренский случайно пропустил сказуемое (например, ведет), что и приводит к некоторой несогласованности частей одного предложения. — 650.
1996
Не много, но хорошо (лат.). — 660.
1997
Так в рукописи. — 674.
1998
Потебня Александр Афанасьевич (1835–1891) — филолог–славист, работал в области общего языкознания, фонетики, грамматики, фольклора, этнографии. — 683.
1999
В данном случае мы сталкиваемся с непонятой Флоренским опечаткой в книге Ветухова. Следует читать: «Концы слов отпадают». — 683.
2000
или (лат.). — 686.
2001
Tannery J. Introduction a Ia theorie des fonctions d'une variable. Paris, Hermann, 1886; 2 ed., 1910. Есть русский пер.: Жюль Таннери. Введение в теорию функций с одной переменной. 2–е совершенно переработанное издание. Пер. с фр. А. Безруков. Тт. 1—2. — M., Типолитография Т–ва И. Н. Кушнерев и K0, 1912. — 689.
2002
Поль Таннери (1843—1904) — французский историк науки. Есть русские переводы его трудов: Первые шаги древнегреческой науки. СПб., 1902; Исторический очерк развития естествознания в Европе (с 1300 по 1900 гг.) — M.; Л., 1934. — 689.
2003
Гоюэль Жюлв (Нӧиеі, 1823–1886) — французский математик. Дарбу Жан Гастон (1842—1917) — французский математик, член Парижской АН (с 1884 г.), член СПб. АН (с 1895 г.). Пикар Эмиль (18561941) — французский математик, член Парижской АН (с 1889 г.). — 690.
2004
Дедекинд Юлиус Вильгельм Рихард (1831—1916) — немецкий математик. Построил строго обоснованную теорию действительных чисел в книге «Непрерывность и иррациональные числа» (1872). Здесь он определяет иррациональные числа как «сечения» в области рациональных чисел (дедекиндовы сечения). См.: Р. Дедекинд. Непрерывность и иррациональные числа ⁄ Пер. С. Шаіуновский. 3–е изд. Одесса, 1914. — 692.
2005
Пекок Георг (1791—1858) — английский математик. Ганкель Герман (1839—1873) — немецкий математик. — 692.
2006
Кантор Георг (1845—1918) — немецкий математик, создатель теории множеств. П. А. Флоренскому принадлежит первая в России статья, пропагандирующая ее идеи: П. А. Флоренский. О символах бесконечности. (Очерк идеи Г. Кантора) // Новый путь. 1904. № 9. — 693.
2007
боязнь бесконечности (лат.). — 693.
2008
Система измерения расстояний, весов и временных отрезков «сантиметр–грамм–секунда». — 693.
2009
еще в большей мере (лат.). — 700.
2010
Представляет ли данный абзац цитату из работы Н. П. Гиля- рова–Платонова установить не удалось. — 700.
2011
Книга Эрнста Геккеля (1834–1919) «Мировые загадки» (1899) вызвала множество критик. Среди них выделялась книга О. Д\ Хвольсона (1852—1934) «Гегель, Геккель, коссут и Двенадцатая заповедь. Критический этюд» (СПб., Книгоиздательство «Physice», 1911. 38 е.). Первоначально книга была издана в Германии на немецком языке в 1906 г. Хвольсон обвиняет Геккеля в нарушении Двенадцатой заповеди: «Никогда не пиши о том, чего ты не понимаешь». Геккеля он обличил в отсутствии элементарных физических познаний. — 703.
2012
Учение о множествах Георга Кантора. — «Новые идеи в математике». Вып. 6. СПб., Изд. «Образование», 1914. С. 32: «Ведь сущность математики заключается именно в ее свободе». То же: Георг Кантор. Труды по теории множеств. М., 1985. С. 80. — 703.
2013
Анри Пуанкаре. Наука и гипотеза. Пер. с фр. А. И. Бачинского, Η. М. Соловьева и Р. М. Соловьева. Пред. проф. Н. Умова. М., 1904. Гарольд Гёфдинг. Философские проблемы. Пер. с нем. Р. Соловьева. М., 1905. Анри Лиштенберже. Рихард Вагнер как поэт и мыслитель. Пер. со 2–го фр. изд. Сергея Соловьева. М., 1905. Сборник по философии естествознания. Статьи А. Бачинского, проф. В. Вернадского, проф. И. Огнева, Н. Соловьева, проф. Н. Умова, А. Шукарева. М., 1906. Анри Пуанкаре. Ценность науки. Пер. с фр. под ред. А. Бачинского и Н. Соловьева. М., 1906. Рафаил Соловьев. Философия смерти. М., 1906. Н. Соловьев. Религиозный элемент мысли. М., 1907. Гарольд Гёфдинг. Понятие воли. Пер. с фр. под ред. Η. М. Соловьева. М., 1908. Г. Беллоб А. Дарлю, А. Лиштенберже и др. Этюды моральной философии XIX века. Пер. под ред. Н. Соловьева и И. Линдмана. М., 1908. Оливер Лодж. Жизнь и материя. Критика «Мировых загадок» профессора Геккеля. Пер. с англ. С. С. Розанова, под ред. и с пред. '807 ный опыт. Пер. с фр. под ред. Η. М. Соловьева. М., 1908. Эмиль Бутру. Наука и религия в современной философии. Пер. с фр. под ред. Η. М. Соловьева. М., 1910. К. Леонтьев о Владимире Соловьеве и эстетике жизни. (По двум письмам.) М., 1912. А. Г. Табрум. Религиозные верования современных ученых. Пер. с англ. под ред. В. А. Кожевникова и Η. М. Соловьева. Второе издание. М., 1912. Книгоиздательство «Творческая мысль» выпустило еще и следующие книги: М. Складовская–Кюри. Радий и радиоактивность. Пер. с 2–го фр. изд. А. И. Бачинского. М., 1905. Леонард Олстон. Общий очерк современных конституций. (Введение науки о государстве.) Пер. с англ. под ред. Η. Н. Шамонина. М., 1905. Н. А. Умов Эволюция живого и задача пролетариата мысли и воли. М., 1906. — 704.
2014
См. ее собственное указание: «Из дневника», с. 267 наст, тома.
2015
В данной публикации мы сохраняем отсылки из издания 1017 г. Однако заметим, что на указанной странице ничего относящегося к рождению А. Н. Шмидт нет. — 708.
2016
Так определен этот год в «Кратком словаре писателей- нижегородцев», изд. Нижегор. Ученой Архивной Комиссии. 1915. В некоторых воспоминаниях указывается 1853 год. По документам год этот нами не установлен. Если последняя дата верна, то год рождения А. Н. совпадает с годом рождения В. С. Соловьева.
2017
Адресатов, скрытых за инициалами, выявить не удалось. — 708.
2018
По данным того же очерка в «Словаре». Однако по воспоминаниям А. П. M., сама А. Н. однажды сказала ему: «я родилась в городе святой Софии» (т. е. Новгороде).
2019
Согласно метрической выписи, 27 сент. 1850 г. повенчан первым законным браком в С. — Петербурге прикомандированный к Комиссариатскому департаменту коллежский секретарь Николай Шмидт с дочерью отставного титулярного советника Федора Романова, девицей Анной Федоровной, в церкви лейб–гвардии Московского полка.
2020
Одно из писем А. Н. Шмидт к автору настоящих воспоминаний приведено и в настоящем томе, с. 277–279.
2021
Noia bene. B рукописи «Третьего Завета» имеются карандашные пометки, очевидно, позднейшего происхождения, — подчеркнуты отдельные слова и фразы; в настоящем издании подчеркнутые слова всюду набраны курсивом, хотя очевидно, что далеко не всегда эти отметки имеют в виду усилить значение подчеркнутого слова.
2022
B письме к В. А. Т. 1903 г. она, напр., отдает решительное предпочтение Православию (275 е.), между тем в «Дневнике» (с. 263) «новоизраильская вера» есть уже не дальнейшее развитие Православия, как в «Третьем Завете», но «преображенное католичество». Есть и другие свидетельства о колебаниях А. Н. в вероисповедном вопросе после знакомства с Вл. Соловьевым и его сочинениями. Так, одна из ее приятельниц (уже умершая) передавала, что последние годы А. Н. причащалась у католического священника, хотя до конца жизни оставалась в православной церкви. B письме одного католического духовного лица, относящемся к 1901 году, ей дается такая рекомендация: «вы можете вполне доверять ей, так как она по духу вполне католичка, и очень ревностная, хотя по семейным обстоятельствам не сделала еще формального присоединения». Судя по ее заметкам, она рассчитывала, что «Третий Завет» и «новоизраильская вера» получат санкцию папы.
2023
Собрание мистических трудов. — 720.
2024
Слова из молитвы к Богородице. — 724.
2025
Книга «Зогар» представляет собой каббалистическое толкование Пятикнижия Моисеева. В архиве о. Павла Флоренского сохранились отрывки, планы и другие разрозненные материалы, относящиеся к его лекциям по истории Каббалы в Московской Духовной Академии. — 727.
2026
Здесь в тексте о. Павла — пропуск. — 727.
2027
Распоряжением заведующей отделом по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Н. И. Троцкой. (Прим. — М. Г.)
2028
Священник Павел Флоренский. Соч.: В 4 т. М., 1966. Т. 2. С. 647—68
2029
Флоренский П. Л. Избр. произв.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 27.
2030
Там же. С. 30—31.
2031
Священник Павел Флоренский. Столп и утверждение Истины: Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. М., 1914. Репринт в кн.: Флоренский П. А. Избр. произв.: В 2 т. Т. I.
2032
Флоренский П. А. Избр. произв.: В 2 т. Т. 2. С. 370.
2033
Священник Павел Флоренский. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание. М., 1992. C 157—-159.
2034
Здесь упоминается и далее цитируется поэма П. А. Флоренского «Оро» (1934—1937 гг.). Первый вариант поэмы опубликован в сб. «Средь других имен» (М., 1990).
2035
Предсказание задним числом (лат.). — Примеч. П. А. Флоренского.
2036
Флоренский П. А. Избр. произв.: В 2 т. Т. 2. С. 28.
2037
Цитата из предисловия к первой редакции поэмы «Оро», см. примеч. I к письму от 7—9 марта 1935 г.
2038
Cm. там же.
2039
Священник Павел Флоренский. Детям моим. С. 45, 50.
2040
Флоренская Анна Михайловна (ЗІ.І(. З.ІІ) 1889—18.111.1973), урожденная Гиацинтова, жена П. А. Флоренского. Родшась в крестьянской семье в Сапож–ковском уезде Рязанской губернии. У П. А и А. М. Флоренских было пятеро детей: Василий, Кирилл, Ольга, Михаил и Мария–Тинатин. См. о ней: Игумен Андроник (Трубачев). Голубка моя бедная/, Литературный Иркутск. 1989. Окт. С. 14—15. —27.
2041
Адрес места предварительного заключения. —27.
2042
Флоренская Ольга Павловна (25ЛЩ7.ІѴ) 1859—30. Х.1951), урожденная Са- парова—мать П. А. Флоренского, с 1915 г. жила в Москве на углу Долгого и Новоконюшенного переулков. — 27.
2043
1 Каптерев Павел Николаевич (1889—1955), один из организаторов Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице–Сергиевой Лавры. Арестован вместе с П. А. Флоренским в 1935 г. (Архив ФСБ РФ, дело № 212727, т. 2, л. 461: «…Каптерев Павел Николаевич, сын действительного статского советника, члена Гос. Думы—кадета, профессора духовной академии, домовладельца, близкого родственника лидера к/д партии Милюкова. В 1920 г. был арестован и осужден как член к/p «Тактического центра». По убеждениям кадет. Преподаватель естествознания, научный работник. Активный член националистической организации, в прошлом являлся членом «Платоновской» организации»). Сослан на Дальний Восток, где работал с П. А. Флоренским на Сковородинской Опытной Мерзлотной станции. Соавтор работы, где не могло быть имени П. А. Флоренского: Быков Н. И., Каптерев П. Н. Вечная мерзлота и строительство на ней. М., 1940. Изучением мерзлоты занимался и в последующие годы. Сохранилась переписка П. Н. Каптерева с В. И. Вернадским (Архив РАН, ф. 518, № 719а, л. 1—7). — 28.
2044
Флоренский Кирилл Павлович (14. ХЩ27. ХІІ) 1915—9. IV.1982)—второй сын П. А. Флоренского, ученик В. И. Вернадского, один из основателей сравнительной планетологии. Его именем назван кратер на обратной стороне Луны. Именно усилиями К. П. Флоренского в 60–е годы была начата систематическая публикация трудов П. А. Флоренского. Cm. о К. П. Флоренском: In memoriam Cyril Pavlovich Florensky // Icarus, 1985. Vol. 61. N 3. P. 351—354, а также подборку статей в сб.: «Историко–астрономические исследования». Вып. 20. М., 1988. С. 227—309, и Бюллетень Комиссии по разработке научного наследия академика Вернадского. № 14. М., 1995. — 28.
2045
Зильберминц Вениамин Аркадьевич (1887—1937) — минералог, руководитель лаборатории Института прикладной минералогии и металлургии, руководитель кафедры кристаллографии и минералогии Московского нефтяного института. Репрессирован и расстрелян в 1937 г. —28
2046
Трубачева (урожд. Флоренская) Ольга Павловна (р. 21.11.1918)—старшая дочь. Ботаник. —28.
2047
Флоренская Мария–Тинатин Павловна (р. 11. XI.1924) — младшая дочь. Химик. —28.
2048
Гиацинтова Надежда Петровна (16.ѴІІІ. 1862—19.Ѵ.1940)—теща П. А. Флоренского, жила в его семье в Загорске Отец Анны Михайловны — Гиацинтов Михаил Федорович (XI. 1850—31. VII. 1893). —2
2049
Гиацинтова Анна Васильевна (2. ХІ.1922—4.ІѴ.1987) — племянница кены П. А. Флоренского. —28.
2050
Флоренская Раиса Александровна (6.ІѴ.1894—5.ІХ.1932)—младшая с<стра П. А Флоренского. Художник, училась во ВХУТЕМАСе, участник литерат^рно- художественюго объединения «Маковец». Скончалась от туберкулезного менингита в Загорке, похоронена в Сергиевом Посаде. Могила на заброшеіном Кокуевском кіадбище. О ней см.: Раиса Александровна Флоренская, Павел Александрович Флоренский во ВХУТЕМАСе и «Маковце»: Каталог выставки. М., 1989. 32 с. — 28.
2051
Кониеа (урожд. Флоренская) Елизавета Александровна (7.Ѵ.1856— 16.11.1959)—естра П. А. Флоренского. Художник, педагог. —28.
2052
Флоренский Александр Александрович (7.ІІІ.1888—24.ІХ.1938)—средний брат П. А. Фюренского. Геолог, археолог, этнограф. Скончался в концлагере в пос. Сусуман Магаданской обл. Cm.: Восток горит пожаром. Письмо А. А. Флоренского к В. И. Вернадскому / Публ. Т. А. Шутовой // Литературная Россия. 10.ѴІГ.1990. № 32. —28.
2053
Флоренский Андрей Александрович (I. XII. 1899—14.ѴІІ.1961) — младиий брат П. А. Флоренского, специалист по корабельным и береговым орудіям. лауреат Сталшской премии. Cm.: Оружие победы. 2–е изд. М., 1987 (гл. И). —28.
2054
Флоренская Юлия Александровна (1.ѴІІ.1884—27.ІХ.1947) — старшая сестра П. А. Флоренского. Врач, психиатр–логопед. —29.
2055
Карамян (Сапарова) София Павловна (1866—1939 (?)) — тетя П. А. Флоренского по Мстери, жила в Москве. —29.
2056
Некоторые письма пронумерованы, и, вероятно, часть их утеряна. —29. 23.ІХ.1933 г.
2057
Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, экономическом, бытовом значении: Ежемесячное приложение к журналу «Новь»/ Под ред. П. П. Семенова–Тяншанского. Т. I —12. СПб., 1881 —1901; Россия. Полное географическое описание нашего отечества: Настольная и дорожная книга для русских людей/Под ред. В. П. Семенова–Тяншанского и под общим руководством П. П. Семенова–Тяншанского и В. И. Ломако. СПб., 1899—1914. —30.
2058
Флоренский Василий Павлович (21.Ѵ(З.ѴІ) 1911—5.ІѴ.1956)—старший сын П. А. Флоренского. Доцент Московского нефтяного института им. И. М. Іубкина, геолог–петрограф, исследователь глубинного строения нефтегазоносных областей. После ареста отца стал основным кормильцем семьи. Cm. о нем: Лапинская Т. А., Флоренский П. В. Василий Павлович Флоренский (1911 —1956). Сер. «Выдающиеся ученые ГАНГ им. И. М. Іубкина». М., 1996. 44 с. —30.
2059
Речь идет о геологической практике Василия (тогда еще студента), которая проходила летом 1930 г. в Забайкалье, в Колбинском хребте, на вольфрамитовом месторождении Хосмунский Голец. —30.
2060
Карамян Хамаяк Николаевич (1891 —1937 (?))—двоюродный брат П. А. Флоренского, сын Н. Р. Карамяна и С. П. Карамян (Сапаровой). Репрессирован, погиб в лагере. —30.
2061
Кониев (Кониашвили) Іеоргий Іеоргиевич С4.ІѴ.1883—11. III.1967)—муж сестры П. А. Флоренского—Елизаветы Александровны. —30.
2062
Кониашвили Ольга Іеоргиевна (2. ХІ.1913—7. ХІІ.1994)—племянница П. А. Флоренского. —30.
2063
Сразу по приезде з/к Флоренского П. А. «по месту отбытия наказания» на него было заведено ДОР—Дело оперативной разработки, и первым документом в нем была учетная карточка, в которой фиксировались все перемещения и события, связанные с з/к: 3–е отделение (24.ІХ.35—25. ХІІ. ЗЗ), 7–е отделение (25. ХІІ. ЗЗ— 16.11.34), 5–е отделение (16.11.34—1.ѴІІ.30· Убыл в Соловецкий лагерь 2.ІХ.34. Cm.: Белый Н. Черные люди на красном іетру//Российская газета. 1991. 10 сент. и Русский Леонардо из колонны № 5//Российские вести. 1995. 22 дек. —31.
2064
Василий и Кирилл работали в Тахжикско–Памирской экспедиции (ТПЭ), Василий—в районе реки Варзоб, а Кирилл—в Фергане. —31.
2065
Возможно, речь идет о Справочниіе физических, химических и технологических величин. Т. I, 3—5. М., 1927—193·. —31.
2066
Q каких статьях конкретно идет речь, неясно, но ни Василий, ни Кирилл формально не продолжали работ П. А. Флоренского, хотя в действительности их научные биографии тесно связаны с идеями, заложенными в них в юности отцом, в том числе и с упомянутыми в данном письме. —31.
2067
Флоренский Михаил Павлович (26. Х.1921 — 15.ѴІІ.1961)—младший сын П. А. Флоренского. Специалист в области бурения скважин, погиб в экспедиции на Камчатке. Cm. о нем: Е. И. Флоренсіая в кн.: Флоренский П. А. «Ορο». М., 1998. —31.
2068
Михаил ездил в Пестово, на Валдай. —31.
2069
Отвечая на вопросы мужа, А. М. Флоренская в письме от 23/Х пишет: «…много всяких вопросов, которые без тебя решить трудно. Квартиру ВЭИ просят освободить… Вася приехал 26–гэ сентября, получил месячный отпуск и живет у нас. Кира совсем не пользовалсі отпуском и начал работать, как только приехал. Поездкой своей оба довольны, но Самарканд значительно интереснее Сталинабада… Оля, бедная, все ни при тем, т. к. в приеме 8 груп. ей отказали. Подала она заявление в высшие инстанции, но ответа до сих пор нет». — 31.
2070
Всесоюзный электротехнический институт, где П. А. Флоренский работал с 24 марта 1925 г. старшим инженером лаборатории испытания материалов (позже материаловедения), которую сам создал. 5 января 1930 г. назначен помощником директора ВЭИ К. А. Круга по научной части. —31.
2071
Конверт письма не сохранился. — 31.
2072
Статьи изданы не были, так же как и другие перечисленные в письме. — 32.
2073
Андрианов Кузьма Андрианович (1904—1978)—сотрудник ВЭИ с 1928 г. Основатель химии кремнийорганических соединений. Лауреат Сталинских (1943, 1946, 1950) и Ленинской (1963) премий. Академик СССР с 1964 г., Герой Социалистического Труда (1968). —33.
2074
Кремневский Павел Васильевич—сотрудник ВЭИ, химик. —33.
2075
Волькенштейн Федор Федорович (1908—1985)—сотрудник ВЭИ и Института кристаллографии АН СССР. Сотрудничал с П. А. Флоренским по книге «Пробой жидких диэлектриков» (под ред. и с предисл. проф. А. К. Вальтера). М.; Л., 1934. 92 с. —33.
2076
Stager Н. Elektrotechnische Isoliermaterialen. Stuttgart, 1931. 354 s. —33.
2077
Одна из доверенностей сохранилась в Архиве ФСБ РФ, дело № 212727, л. 539.
Копия
Доверенность
Настоящим доверяю жене моей Анне Михайловне Флоренской получить из комендатуры ОГПУ (Москва, Лубянка, 14) отобранные у меня при моем аресте сумму в сорок три рубля (43 рб) с мелочью и вещи, а именно:
1) 2 пары очков в картонных футлярах.
2) Мужские золотые часы с крышками, фирма Павел Буре;
если не изменяет мне память, № часов 354054.
Часы в футляре.
3) Золотая цепочка при часах.
4) Спинной мешок с ремнями, мешок коричневый.
5) 3 пояса, два ременных, один от кожаного пальто.
6) Металлическая мыльница.
Вещи и деньги были отобраны у меня 26 февраля 1933 г. На вещи были даны три квитанции, каковые были у меня взяты 9 августа 1933 г. при моем переводе в пересылочный корпус Бутырского изолятора. Однако, к времени моего отправления по этапу, 13 августа, означенные вещи еще не были доставлены в Бутырский изолятор, и потому ни денег, ни вещей я не получил. I случае, если комендатурою ОГПУ, Лубянка, 14, означенные деньги г вещи пересланы в Буырский изолятор, прошу, чтобы комендатура пересыльного корпуса Бутырской тюрьмы передача их жене моей Анне Михайловне Флоренской.
П. Флор«ский 1933. Х. И Печать
Государственное политическое Управление при Совнаркоме СССР. Управление Байкало- Амурского исправительного лагеря Подпись Флоренскогосвидетелствую:
Врид На 5 л/н (подпись)
Флоренский Павел Александрович. — 33.
2078
DoelterC. Allgemeine chemische Mineralogie. Leipzig, 1890. — 33.
2079
Биографии композиторов с IV по XX век. М., 1904. — 34.
2080
Brauns R. Chemische mineralogie. Leipzig, 1896; Брунс Р. Царство минер-/Пер. Ф. О. Левинсона–Лессинга. СПб., [903. — 34.
2081
Рустагели Шота. Носящий барсову шкуру /Пер. К. Д. Бальмонта. Изд. М. и С. Сабаиниковых. М., 1917. —34.
2082
Статья, где содержится попытка топологически доказать теорему о «четырех красках», не была опубликована. Ее рукопись сохранилась в семье Н. И. Быкова и была возвращена в семью Флоренских в начале 60–х годов. — 34.
2083
Ответ А. М. Флоренская написала 25. XI: «…живем мы на то, что зарабатывают мальчики и что продаем… Тикулька… поболела острым малокроіием, я думаю, от тіжелой обстановки при свидании с тобой. Она была поражена, что так близко вщела своего папу и дали поцеловать… Мика поездкой в Пестово значительно огошел ог меня и весь полон пестовскими впечатлениями… Олі все еще не в школе. Ей отказали в приеме из-за тебя. Она подала заявление в Нарком- гірос и в ГПУ 3 месяца тянется, никак не получает ответа на заявление — измучилась и уже начинает говорить: «Я больше не могу…»…Вася имеет две службы. Очень заботлив, ласков, все целует руки у меня и говорит «ничего, мамочка». За лето он не поправился, очень худой—зеленый и плохо ест и балует малышей, особенно Тику. Живут мальчики пока в комнате в ВЭИ, другие две комнаты еще не открывали, т. е. твоих рукописей нет… Кира знаешь что ухитрился сделать, взял меня на руки и выплясывал. Он старается внести бодрость в наш> жизнь… Обязательно сделай так, чтобы я могла к тебе приехать…»—34.
2084
Хлебникова Анастасия Федоровна — зубной врач, жила в доме Флоренских до 1940 г. —34.
2085
Положение семьи описала сестра П. А. Флоренского—Юлия Александровна: «…много мы пережили, и среди всего горя этих лет твой отъезд был, как мне кажется, наиболее чувствительным ударом. Мама пережила это событие очень болезненно и перенесла свою любовь к тебе на детей, особенно на Васю, о котором старается заботиться по мере своих сил. Мама, конечно, постарела и сделалась меньше, но гораздо приветливее, чем была раньше. В противоположность своей прежней малоподвижности, теперь она все время что-то делает, то готовит изобретенные новые блюда, то убирает, штопает, шьет, вяжет—одним словом, ни одной минуты не остается без дела, говорит, что так ей легче и тоскливость делается меньше. Ее посещают знакомые, главным же образом Вася; если он не бывает раза 2 в неделю, то мама начинает волноваться; готовит особо кушанья и не хочет кушать без Васи. К сожалению, Васюшка никак не может понять, что его посещения поддерживают в бабушке бодрость, он явно стесняется приходить часто, т. е. каждый день, и питаться у бабушки. Между тем Аня говорит, что. кроме бабушки, он почти нигде и ничего не ест, т. к. столовых избегает. Наши уговоры помогают не всегда, и на днях, например, вышла целая драма. Вася хотел отлить из тарелки суп, бабушка нарочно убрала кастрюлю; тогда Вася рассердился, отказался куішать и убежал. После этого инцидента оба были в депрессии и, по–видимому, о(ба считали свои отношения непоправимо испорченными. Шуре пришлось взять ма себя успокоение Васи, а мне — мамы. Через день Вася все-таки заглянул к нам, и инцидент был исчерпан. He удивляйся, что пишу тебе эти строки мелочи, — они позволят тебе подойти бліже к нашей жизни. Олечка созрела не по возрасту—все это время она поражает hlc своей выдержкой и энергией, помогала матери и была ей настоящим другом, усжокаивала братьев, таскала на себе вещи, продукты; период тяжелой тоски разрешился у нее деятельностью, она очень стойка, но боюсь, что иногда слишком прямолинейна—может быть, по–детски, и это может произвести впечатление вызывающего поведения для тех, кто не задумывается над ее душевным состоящем…. Кира бодр, он поражает всех своим большим умом, своей неожиданной одаренностью; работает очень много, но успевает и забежать к нам, и погулять с -оварищами, и съездить домой. Конечно, как и прежде, на него как на более устойчивого стараются свалить все ответственные и неприятные дела, и он безропотно несет их. И Васю и Киру, как тебе известно должно быть из писем Ани, пропечатали за отличия в стенгазету, а Киру даже с портретом. На службе с ними, видимо, считаются и уважают. Работают они, правда, слишком много, иногда даже кажется, что Васе это не под силу, — он старается возможно больше денег принести в семью и набирает всякие добавочные работы. Аня борется с этим, но ведь Вася упрям и упорен в своих решениях.
Тика первое время была очень бледна и растерянна, но последнее время ее щечки порозовели; она упорно учит счет, решает задачи и старается с честью нести свое звание школьницы… Мика очень нежен со всеми, он поражает своей добротой, отзывчивостью и благородством. Даже когда мы играем в блошки, он старается защитить свою старую тетку и поддавать свои блошки. Все дети держатся за семью и полны любви друг к другу, все поддерживают мать, кто как умеет…. Сейчас в Москве Лиля и Шура. Лиля приехала уже около 2 месяцев тому назад, возможно, что останется здесь еще, она все так же полна, розова, но внутренне ранима, несмотря на то, что она удовлетворена теперь своей семейной жизнью—и дочерью, и внучкой… Шура очень нервничает, больше со своими питомцами; очень хочет помочь семье, но внимания на всех не хватает; между прочим, он думал о твоем переезде в Армению, но без твоего разрешения ничего не предпринимал…. Аня стала нам особенно дорога. Между прочим, она похудела и так похорошела и помолодела, что какется сестрой своих сыновей. Ее кротость и любовь к окр. кажется безграничней—на всех хватает сердца. Она очень энергична и не опускает рук в борьбе за своих детей. Домик твой стоит так же, и вообще Аня старается все поддерживать в полном порядке. Целую тебя, дорогой мой Павля. Если бы ты знал, как мы все любим тебя и готовы испить общее горе, т. Люся. О материальном положении моем и семьи не беспокойся. Все есть». —34.
2086
COPEHA — журнал «Социалистическая Реконструкция и Наука», ром публиковался П. А. Флоренский. —35.
2087
Сочинения А. С. Пушкина с объяснением их и сводом критики. Изд. Л. Поливанова для семьи и школы. Т. I—5. М., 1887 (переизданы в 1898 и 1905 гг.). Cm. также: Из высказываний П. А. Флоренского о А. С. Пушкине// Вестник РХД (Paris: YMCA-Press). 1987. № 149. С. 116; Флоренский П. А. О литературе / Публ. П. В. Флоренского, А. С. Трубачева, С. 3. Трубачева, А. А. Санчеса//Вопросы литературы. 1988. № I. С. 146—176. —35.
2088
Подлинник письма находится в Архиве РАН (ф. 518, оп. 3, № 1730, л. 9— 10). Письмо опубликовано: Флоренский П. В. В. И. Вернадский и семья Флоренских. 1930—1941 //Бюллетень Комиссии по изучению научного наследия академика В. И. Вернадского. № 11. М.. 1993. С. 66—193.
Вернадский Владимир Иванович (1863—1945), академик. Переписывался с П. А. Флоренским в 20–е годы, писал ему на Дальний Восток и в Соловецкий лагерь. Cm.: Письма П. А. Флоренского и В. И. Вернадского//Былое. Париж, 1985. Т. I. С. 272—293; То же. Собр. соч. в 4 т. Т. I. М., 1990. С. 275—294; Переписка В. И. Вернадского с семьей Флоренских // Вопросы истории естествознания и техники. 1988. № I. С. 80—98, № 2. С. 54—69; Переписка В. И. Вернадского и П. А. Флоренского // ьГовый мир. 1989. № 2. С. 194—203; Флоренский
П. В. В. И. Вернадский и семья Флоренских: Письма П. А. Флоренского и: ссылки//Новыйжурнал. Нью–Йорк, 1992. С. 226—261.
С 1935 г. до мобилизации на фронт в 1942 г. у В. И. Вернадского работал сын Флоренского Кирилл, которому Вернадский писал на фронт (Архив РАН, [). 518, оп. 3, № Г29). Cm.: Шутова Т. А. Свое вы сделали: Из военной перяшски В. И. Вернадского и К. П. Флоренского//Природа и человек. 1986. № 5. (. 36— 39. —35.
12—17. ХІ. РЗЗ г.
2089
Керно фон Марилаун А. Жизнь растений: В 2 т. СПб., 1899—1900. — 39.
2090
21. Х Кирилл писал: «…съездил я хорошо, поездкой доволен—интересный народ узбек*… Привез мамочке луковицы горных растений и семян. Приобрел кое–какие псзнания в геологии россыпей, точнее, обращении со шлихами—тяжелыми минеральными остатками. Зимой буду работать в 2 местах—по пиіеон- тологии и минералогии в Таджикской экспедиции… В институте учусь…. За маму ты не беспокэйся, мы уладимся, только вот без тебя скучно и пусто очень… Целую тебя крепко, дорогой папочка, не беспокойся о нас, пожалуйста, и устраивайся как можно лучив. Пиши почаще. Еще раз целую. Кира». —39.
2091
СамоІАое Я. В. Биолиты. Л., 1929. 140 с. —40.
2092
Вернадский В. И. Биосфера. Л.: Науч. хим. — техн. изд–во, 1926. 146 с.; Btpnad- ский В. И. История минералов земной коры. Т. 2: История природных вод. Л.: Госхимтехиздат, 1933. Ч. I. Вып. I. 202 с.; Вернадский В. И. История минералов земной корьь Т. 2: История природных вод. Л.: ОНТИ, Химтеоретиздат, 1934. Ч. I. Вып. 2. С. 201—402. —40.
2093
Статья «Измерение формы», написанная в соавторстве с Я. Я. Ханом, напечатана нг была. Рукопись сохранилась без одного листка. Методику уділось реконструировать и использовать. Cm.: Флоренский И В., Беленький В. Я., Орел А. В., Петренко А. С., Салина Л. С., Караченцева И. М., Панкратова Л. Ф. Морфометрическая характеристика частиц реголита, доставленных автоматической станцией «Луна-16»//Сб.: «Лунный грунт из «Моря Изобилия»». М., 1974. С. 52—53. —40.
2094
Флоренский П. А. Скважность//Техническая энциклопедия. Т. 21. М., 1933. Стб. 73—113. —40.
2095
Описка, надо «раньше». —42.
2096
А. М. Флоренская 10. XII.1933 г., по получении писем из Ксениевской: «Зачем ты на конверте так ярко припечатываешь свой адрес, разве это необходимо? Пиши только в письме. Ведь и на нас все время отражается твое состояние, т. ч. не хочется лишнего напоминания им (детям. —Ред.) об этом. Так хочется пожить спокойно без всяких объяснений и не думать…»—43.
2097
Надпись на клапане—статья осуждения и срок ставились для цензуры, так как письмо з/к сдавалось незапечатанным для проверки. —43.
2098
Гёте И. В. Борьба за реалистическое мировоззрение: Искания и достижения в области изучения природы и теории познания/Сост. и пер. В. О. Лихтенш- тадта. Пг., 1920. Книга составлена В. О. Лихтенштадтом во время его заключения в Шлиссельбургской крепости в 1913—1914 гг. —44.
2099
Метнер Э. К. Размышления о Гёте. Кн. I: Разбор взглядов Р. Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма. М., 1914. —44.
2100
Бушлат—обычная одежда з/к, дубовый бушлат—гроб (С. Н. Юренев). —45.
2101
Быть может, это В. Утц—автор приводимого ниже рекомендательного письма: «…направляю к тебе, дорогой Николай Андреевич, Флоренского Павла Александровича с просьбой передать тебе от меня и BB привет… Прошу, Андреич, принять П. А. под свою опеку. О его знаниях и талантах тебе уже не напоминаю. Думаю, что он сможет быть и тебе полезным по вопросам исследования разных местных трав для лекарственных целей. Он и в этом деле подкован достаточно хорошо… Последнее время было целое паломничество из всех частей в КПЧ к П. А. по самым разнообразным вопросам нашей техники. Если будет твоя ласка, посодействуй П. А. также в некотором личном благоустройстве. В. Утц». —45.
2102
Флоренский Леонид Андреевич p. 18.ѴІІІ.1933)—племянник П. А. Флоренского, второй сын Андрея Александровича Флоренского. —47.
2103
На всех письмах, приходивших і Ксениевскую, 7–е отделение БАМЛАГ ОГПУ, стоит цензурный штемпель «проверено № I». — 48.
2104
Флоренский Александр Иванович (30.ІХ.1850—22.1.1908) — отец П. А. Флоренского, инженер–путеец, строил железную дорогу Баку—Тифлис, где в Евлахе и родился Павел Александрова Флоренский. —48.
2105
Максим Іорький только что побивал на Соловках и опубликовал восторженное описание этого концлагеря {Іор*кий А. М. Правда социализма, Первый опыт//Беломорско–Балтийский канал иѵіени Сталина: История строительства. М., 1934. —49.
2106
Родзянко Ксения Андреевна—крестная Марии–Тинатин Флоренской. Сестра милосердия Красного Креста в Оргиевом Посаде. Эмигрировала в Чехословакию в 1934 г. —50.
2107
2 декабря 1933 г. П. А. Флоренского перевели в г. Свободный. По–видимому, с этим связан приводимый документ.
Аттеста- № 1155
Дан н/п Ксениевского 3–го отд. БАМЛАГ ОГПУ
з/к Флоренскому П. А. в том, что он удовлетворен продовольствием.
Приварочн. по 28/ХІ вк.
Хлебом и рисом но 2/ХІІ дек.
Сахарным и ларьковым по I/XI наст.
28/ХІ Зав. [подпись]. —50.
2108
Каптерева Елена Сергеевна—жена П. Н. Каптерева. —54.
2109
На обороте неизвестной рукой написано: «58—10—11, 10 л.». —56.
2110
Архангельский Алексей Иванович—ученик отца Павла Флоренского по Московской Духовной Академии. Cm.: Отзыв священника Павла Флоренского о кандидатском сочинении студента VIlI курса Московской Духовной Академии Алексея Архангельского на тему: «Типы диссолюционных воззрений в церковной письменности и в светской науке» 10 июля 1913 г.//Богословский вестник. 1914 Т. I. № I. С. 196—198. —58.
2111
Флоренский П. А. Вычисление электрического градиента на витках обмотки трансформатора (об одном способе решения интегральных уравнений и о применении к интегральным уравнениям электростатики) // Журнал технической физики. 1933 Т. 3. Вып. I. С. 54—90. —58.
2112
А. М. Флоренская пишет 10. ХІІ.1933 г.: «Дорогой папа, пишу тебе уже с новой квартиры. Из ВЭИ мы выехали, уж очень нервничали мальчики… Комната у Дорогомиловской заставы, но это близко от службы Киры на Калужской ул., от Васиной подальше, он на Полянке… Вещи твои в закрытых комнатах описали… Я подала ходатайство о возвращении, но результатов пока что нет. Оля все не учится и, кажется, оставила всякую надежду…»—61.
2113
Так как вскрытие квартиры и опись были сделаны в отсутствие хозяев, то А. М. Флоренская пишет протест (Архив ФСБ РФ, дело № 212727, л. 542—548):
Гражданки Флоренской Анны Михайловны
ЗАЯВЛЕНИЕ
В квартиру (Лефортово, Проломный пр., д. 43, кв. 44 [квартира в разное время имела нумерацию «12» и «44». — Ред.]) мужа моего проф. Павла Александровича Флоренского 28/ХІ 1933 года явились агенты ОГПУ Найдя квартиру запертой, они вырезали английский замок из входной двери и в квартиру.
Кроме комнат мужа, которые были опечатаны, открыли замкнутую комнату моего сына, из которой взяли следующие вещи, принадлежащие моему сыну: будильник, четыре серебряных чайных ложки, стереоскоп (взятый сыном временно у знакомых), восточный халат, привезенный сыном из экспедиции в Среднюю Азию (Ходжент)… По словам управдома, который при этом нрисутствоал, агенты ОГПУ произвели в двух опечатанных комнатах опись вещей < целью их конфискации Акт этой описи управдом показать мне отказался, ссылаясь на распоряжеіие ОГПУ.
Прим мая во внимание научные труды моего мужа, прошу снять конфискаіию с его имущества] возвратить взятые вещи.
Добалю, что распечатанье комнат было назначено агентом ОГПУ на 13, Х 1933 г. Я и мой сін, книги которого, необходимые для его работы, находились в огочатанных комнатах, вдали три дня, но никто не пришел. 25 ноября агенты ОГПУ пришли без п>едупреж- дения в служебное время, когда мы отсутствовали. —62.
2114
Ефимов Иван Семенович (1878—1959)—скульптор, народный художник РСФСР. Один из близких друзей П. А. Флоренского. Их переписка хранится в ЦГАЛИ ф. 2724, оп. I, ед. хр. 274). — 62.
2115
Алексеев М. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и писателеі: В 2 т. Иркутск, 1932—1936. —62.
2116
Lehnann О. Molekularphysik mit besonderer Beriicksichtigung mikroskopischer Untersuchuigen. Bd I, 2. Leipzig, 1888—1889; Wilhelm Wien (1864—1928), лауреат Нобелевсксй премии. Handbuch der Experimentalphysik; Woldemar Voigt (1850— 1919). Lehrbuch der Kristallphysik. Leipzig; Berlin, 1910; Duparc L. Re^herches geologiques et petrographiques sur Ie Massif du Mont-Blanc. Geneva; Bab, 1898; DuparcL., Pience F. Traite de tecnique mineralogie. V. I-II. Liege, 1907—1912; Groth P. Chemische Krystallographie. Bd I-V. Leipzig, 1906—1919; Хвольст О. Д. Курс физики. Вышло более 10 изданий. Речь идет о пятом издании. Т. I-V. Берлин, 193; Вернадский В. И. Основы кристаллографии. Ч. I. Вып. 11/Уч. зап. Московского университета. Отдел естественно–исторических наук. М., 1904. Авг. Вып. 12; Fedorow Е. Under mitwirkung van der D. Artemiev, Т. Η. Pa r k е г, В. Orelkin und W. Sokolov. Das Kristallreizh. Tabellin zur-kristallohemischen Analyse mit Atlas//Записки Российской Академии наук, 1920. Т. 36. 1050 с., 214 с. ил.; Шпилърейн Я. Н. Векторное исчисление. Руководство для инженеров–физиков. М.; Л., 1925. 324 с. —64.
2117
Milthaler J. Das Ratsel des Schonen. Eine Studie uber die Prinzip en der Asthetik. Leipzig, 1896; Ipocc К. Введение в эстетику / Пер. с нем. А. Іуревича. Киев; Харьков, 1899. — 66.
2118
Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев, 1880—1934) — поэт–символист, дружил с П. А. Флоренским в студенческие годы. Cm. Т. I наст, изд., с. 8, 129— 145, 695—699 и др.; Письма П. А. Флоренского Б. Н. Бугаеву (А. Белому) Ц Вестник РСХД. Париж, 1974. № 114. С. 159—161; Сцилард Л. Андрей Белый и П. Флоренский (Мнимая встреча новых концепций пространства с искусством)//Studia Slavica Hung. Akademiai. Kiado. Budapest, 1987. № 33 (I—4). P. 227—238; Из наследия П. А. Флоренского / Подготовка и публик. игумена Андроника (А. С. Трубачева), О. С. Никитиной, С. 3. Трубачева, П. В. Флоренского, Е. В. Ивановой, Л. А. Олюниной//Контекст—1991: Литературно–теоретические исследования. М., 1991. С. 3—99. — 66.
2119
Эмма Александровна—учительница немецкого языка. — 70.
2120
Огнева (Киреевская) Софья Ивановна (1846—1940), жена профессора Московского ун–та, гистолога Ивана Флоровича Огнева (1855—1928). С. И. записывала под диктовку Павла Александровича ряд его работ, в том числе «Иконостас», «Детям моим». Сын С. И. и И. Ф. Огневых Сергей Иванович Огнев (1886— 1951), зоолог; его жена Огнева (Шульц) Инна Евграфовна (1905—1993). — 72.
2121
Ко дню рождения 22 января П. А. Флоренский получил поздравление от А.И. Архангельского: «Вы всегда чужды были распространению тревожных слухов, и от Вас исходило умиротворяющее лоялизирующее, т. ск., влияние. И в 1918 г. Вы говорили о прочности революции, и теперь пишете, что в конц. лагере хорошо кормят и т. д. Наверное, есть в б–ке «Большевик», журнал за 1933 г., № 12„ возьмите конец… Желаю всего хорошего, вспоминаю, как сидели у Вас в славный день 22 января 1933. Было холодно, и Вася грел руки у электрической печи. Ваш А.». Речь идет о статье Э. Кольмана «Против новейших откровений буржуазного мракобесия» // Большевик. 1933. № 12. С. 88—96. — 72.
2122
Шауфус–Раппопорт Татьяна Алексеевна—сестра милосердия Красного Креста в Сергиевом Посаде. Эмигрировала в Чехословакию в 1934 г вместе с К. А. Родзянко. Ее вспоминали в свяьи с Днем ангела—25 января. — 72.
2123
Брэгг В. Л. Структура силикато*. Jl., 1934. 127 с. — 73.
2124
Ферсман А. Е. Пегматиты, их изучение и практическое значение. Т. I: Іранитные пегматиты. Jl., 1932. 662 с. — 74.
2125
Об этом сохранил воспоминания их участник—К. В. Боголепов (19. ХІІ.1913—I. V. 1983). В связке писем, привезенных А. М. Флоренской из Сковородино, была вырезка из газеты «Известия» (1934. 9 янв. № 8) с некрологом «Андрей Белый», подписанным Б. Пильняком, Пастернаком, Г Санниковым. — 75.
2126
Голованенко Сергей Алексеевич·—ученик П. А. Флоренского по Московской Духовной Академии В «Богословском вестнике», редактировавшемся П. А. Флоренским, печатались его статьи о христианстве Н. Ф. Федорова (1915.111, 1916.1). Преподавал русский ізык и литературу в Вологодском, а затем Ярославском педагогических институтах. До своего ареста навещал семью П. А. Флоренского в Загорске. — 79.
2127
Быков Николай Иванович (1855—1939) — заведующий Сковородинской Опытной Мерзлотной станцией на БАМЛАІе, где П. А. Флоренский работал 10 февраля—17 августа 1934 г. Н. И. Быков был внуком любимой сестры Н. В. Гоголя — Елизаветы и племянником Николая Николаевича Быкова, мужа внучки А. С. Пушкина—Марии Александровны. Их генеалогическую схему П. А. Флоренский привел в письме из Соловков № 16 от 22—23.ІѴ. 1935. —83.
2128
Быкова Ольга Христофоровна — жена Н. И. Быкова. —84.
2129
Сузин Александр Владимирович—преподаватель палеонтологии в МГРИ. Имяславец, репрессирован по делу «Истинно православной церкви» вместе с Д. Ф. Егоровым, А. Ф. Лосевым, В. Н. Щелкачевым и др. Cm. о нем: Taxo-Iodu А. А. Лосев. ЖЗЛ. М., 1997. — 84.
2130
Юдина Мария Вениаминовна (1899—1970) — пианистка, профессор Московской консерватории, никогда не прерывала дружбы с семьей П. А. Флоренского. Cm.: Мария Вениаминовна Юдина. Статьи, воспоминания, материалы. М., 1978; Трубачев С. 3. «Только в Моцарте защита от бурь»: П. А. Флоренский и М. В. Юдина//Музыкальная жизнь. 1989. № 13. С. 23—26; № 14. С. 19—21; Трубачев С. 3. Музыкальный мир П. А. Флоренского//Советская музыка. 1988. № 8. С. 81—99; № 9. С. 99—102. —SR
2131
4.ІІІ.1934 г. А. М. Флоренская в письме к мужу: «Я тебе писала, что твои книги из московской квартиры взяты. Вчера приехали и взяли книги из Загорска. Взяли все книги мальчиков, Олины. Одним словом, все. Может быть, ты будешь хлопотать. Пока что увезли 2684 книги без описи по счету, а за другими приедут 7-го. Я очень огорчена. Нехорошо это подействовало на Васю и Киру, но все же мы бодры и думаем, бывает хуже».
Второе письмо тоже от 4.ІІІ.1934 г.: «…ведь все-таки всю жизнь мы стремились искусственно ограничивать себя, а теперь это делается по необходимости… Поехать к тебе мы очень хотим. Книги у нас отняли твои и наши любимые. Очень тяжело смотреть, как чужие люди возятся в любимых вещах, но что делать, приходится претерпеть все. Мика сегодня целый день, бедняга, проплакал о книгах. Все время получаем ранения в самые больные места… Я теперь так все время и жду, что еще будет…»—91.
2132
Гиацинтов Василий Михайлович (15.1.1885—13.ІѴ.1951), брат А. М. Флоренской, с 1925 г. работал в ВЭИ, занимался испытанием смол и трансформаторных масел. — 94.
2133
Фаворская (Дервиз) Мария Владимировна (1890—1959)—жена В. А. Фаворского. — 96.
2134
Павлинов Павел Яковлевич (1881 —1966)—художник, друг и юллега П. А. Флорнского по ВХУТЕМАСу. Иллюстрировал его работу «Диэлжтрики и их TexHH1CCKoe применение» (М., 1924. 388 с.). —96.
2135
Коржин Леонид Иванович—кристаллограф, живший в Ярославле, *дин из немногих, посещавших Флоренских после 1933 г. Погиб во время Великой Отечественной всйны. —97.
2136
Иловайский Давыд Иванович (1878—1935)—профессор палеонтологии в Московсгом нефтяном институте им. И. M Губкина. Совместно з ним К. П. Флорнский написал книгу «Верхнеюрские аммониты бассейнов рек Урала и Илека» (NL, 1941). — 98.
2137
В письме Анны Михайловны от 4.ІІІ есть такие строки: «Ты жілеешь Андрея Белого? А по–моему, так очень хорошо. Да просто как-то делается неприятно зі его грубые выходки по отношению к знакомым…»—103.
2138
Флоренский П. А. Мнимости в геометрии: Расширение в области двухмер ных образов геометрии (опыт истолкования мнимостей). М., 1922. 72 с. — 103.
2139
В письме от 17.111.1934 г. Анна Михайловна писала: «Да, еще вог тебе радость. Вася привез свою институтскую газету, где его хвалят как педагога. А когда я была в Москве у Васи, так их двух очень восхваляли квартирные жильцы, и они говорили: «Все в папу…»
Из ответа Василия отцу: «…твои зарисовки очень интересны и своеобразны, мне раньше не приходилось встречать аналогичных. Твои кристаллы похожи на те пирамидки, которые образуются на поверхности озер, пересыщенных солью, хотя соль и лед относятся к разным кристаллографическим системам, но вероятно, что условия кристаллизации, несмотря на разную обстановку, имеют какие-то обшие моменты; в результате чего получаются схожие скелетные формы». —103.
2140
Тукалевский Игорь Иванович (р. 1916)—юношей был в ссылке в Сковоро- дино. На Опытной Мерзлотной станции работал вместе с П. А. Флоренским. Позже—директор этой станции, полярник, ныне пенсионер, живет в Киеве. —109.
2141
Павел Александрович получил большое письмо от дочери Ольги от 31. III: «…много было пережито за это время и хорошего и плохого. Расскажу про школу: меня там встретили очень радостно, родственно. Много ухаживали за мной, особенно в первое время… Учителя тоже почти все старые и знакомые (по русскому языку С. А. Волков, по химии Я. И. Пономаренко). Я очень отстала… Я надеюсь, всеми силами, в мечтах и во сне, заниматься этими предметами с тобой летом… С М. В. Ю. вижусь довольно редко, и ей нужен ты, а не мы. Она очень ласкова, беспокоится о тебе… Целую тебя, как целовала всегда на ночь. Оля». —111.
2142
Бобылева Мария Афанасьевна—преподаватель музыки в Загорске. Училась в Москве в частной гимназии Н. Ф. Ржевской вместе с Мариэттой Сергеевной Шагинян и Елизаветой Ивановной Зарубиной, сестрой О. И. Гиацинтовой (Зарубиной). Учила младших детей П. А. Флоренского. —112.
2143
Из ответа Тики на это письмо: «Дорогой папа. Я не поняла, что пищал комар. Я забыла все стихи. Ко мне не прилетал комар, и я не знаю, что пропищал комар… Я начну заниматься 19 апреля немецким и постараюсь выучить стихи. Приеду, научу тебя. Собираю вещи, чтобы ехать к тебе… Жаворонки у нас поют звонко, и мы вспоминаем, как ты их любил. Целую тебя, дорогой папа. Приходи встречать свою дочку Тику. Будь здоров и весел». —114.
2144
8.ІѴ.1934 г.
В это же время Василий отвечает отцу: «Дорогой папа, получил твое письмо из Свободного». Совсем напрасно ты послал деньги, посылку, пожалуй, не делай этого в следующий раз. У нас денег вполне достаточно и хватает для всего, даже мы имеем возможность покупать книга, которых сейчас выходит много интересных. Ты напиши, пожалуйста, какие жиги тебя особенно интересуют, я постараюсь их купить… Комната, в которой мы теперь живем, хорошая, на первом этаже… теплая, близко от трамвая и усобная… Целую тебя, береги себя и о нас не беспокойся».
П. А. Флоренский пишет (архив А. А. Салтыкова):
«Александру Владимировичу Сузіну.
Дорогой Александр Владимирович, в погоне за Вами доехал до перевала, но оказалось, что быстроногий Ахилл действительно не может догнать черепахи. Был бы очень рад повидаться с Вами, тем более что надо Вас порасспросить о геологии местного края. Если будет возможность, заезжайте к нам на OMC в Сковородино. В частности, надо переговорить об организации тут Музея. Буду и я временами наезжать в Головной участок, постараось найти Вас. Всего хорошего.
С уважением к Вам П. Флоренский
1934. IV.16. Красная Заря». —114.
2145
«Оро»—поэма об орочонском Нальчике, своего рода Дерсу Узала, влюбленном в природу и пытающемся познать ее тайны. В форме этой поэмы П. А. Флоренский пытался передать детям «генографический опыт рода» и посвятил ее младшему сыну Мику. Над подмой П. А. Флоренский работал с 1934 по 1937 г. Первый, неполный вариант поэмы, снабженный обширным предисловием, был создан в Сковородино, машинописный текст затем Флоренский передал семье во время приезда жены с детьми к нему на Дальний Восток. Этот текст с посвящением, написанным уже на Соловках, опубликован в сб.: «Средь других имен» (М., 1989. С. 183—200). Приводим полностью предисловие к поэме, представляющее большой интерес для понимания характера творчества Флоренского в целом и в период пребывания в Сковородино в частности:
«Предисловие
Содержание. Одно из древнейших племен ДВК—орочоны (оленеводы), принадлежащие к группе тунгусов, вымирают, но предания о былом величии продолжают храниться в памяти стариков. Потомство одного когда-то знатного рода уже почти исчезло, и последний представитель этого рода женился по любви на простой орочонке, так что оказался из-за этого оторванным от своих родичей. Детей у него нет. В последней надежде, уже пожилой, этот орочон–охотник обращается к шаману с просьбой о помощи, и тот во время камлания предсказывает ему, что родится сын, который будет отличаться глубоким проникновением в природу и прославит племя орочон, но что родители должны посвятить его духам мерзлоты.
Мальчика, когда он родился, называют Оро, т. е. Олень, именем священного животного орочон. Он растет, интересуясь лишь природой, особенно мерзлотой, накопляет громадный опыт, своим умом доходит до понимания явлений природы. Ho ему хочется и от других получить какую-нибудь помощь. Он расспрашивает окружающих о древних преданиях и весь охвачен жаром познания.
В лесу с ним встречается ссыльный грузин, потомок когда-то сосланных польских грандов, озлобленный на жизнь и судьбу, благородный, но глубоко подозрительный и изнервничавшийся человек. Грузин странствует по тайге, изучая мерзлоту. В доме Opo он находит себе приют. Грузин рассказывает о судьбе своего рода, о своей родине—Аджаристане, а старик орочон—о судьбе своего рода. Все это больше раздувает желание Opo учиться Грузин зовет его с собой на Сковородинскую Опытную Мерзлотную станцию, действие же происходит в районе головного участка БАМа, в ущелье реки Ольдоя. Отец не отпускает Оро. Ho после ухода грузина Opo открывает месторождение интересного редкоземельного минерала и с отцом едет на OMC показать образцы его. Жизнь станции. Отец, видя хорошее обращение к Opo на ОМС, решается оставить его для обучения. Opo быстро крепнет, делает разные интересные находки (мамонт), предупреждает граги*еское столкновение грузина с дирекцией станции, выдвигается. Его направляют іосле предварительного обучения в высшую школу. Он делается большим ученык и вместе с тем работает по просвещению родного народа, в творческие возмохности которого глубоко верит.
Зсдача. Мерзлота, как тройной символ—природы, народа и личнссти, —таит в себе силы разрушительные и творческие. Выходя наружу, они мэгут стать губитеіьными. Золото, таящееся в мерзлоте, обращается в золотой п>жар, губящий дсстояние орочонов—тайгу и мох, разгоняющий дичь—источнис их жизни. Пожар>і производят золотопромышленники — их погоня за золотом—источник бедствій, а потому и вырождения орочонов, постепенно оттесняемьх со своей территории. Вечная мерзлота разрушается, когда ее начинают «эбживать» и «освфять». Отсюда—«не трогай мерзлоты» орочонов. Ho то же—о душе. Прикрптые мерзлотой, таятся в ней горечи, обиды и печальные іаблюдения прошлого. Ho не надо копаться в ее недрах. Мерзлотная бодрость дает силу справиться с разрушающими силами хаоса. Мерзлота—это эллинствс.
Автор избрал для своей поэмы четырехстопный ямб, как наибоісе бодрый и быстрый темп. Чтобы исключить женственность, мечтательность, неопределенность, штор запретил себе женские рифмы. Этим были внесены больные трудности при писании, и большой вопрос—оправдываются ли они результагами.
Псэма моя написана для моего сына Мика и приспособлена к ею пониманию, —сотя, быть может, сейчас он и не поймет всех многочисленньх намеков этих стихов. Ho по многим личным причинам мне необходимо посвятить поэму именно Мику, пусть она будет ему хотя бы впоследствии памятью об отце. Я.». —716.
2146
Возможно, по получении письма П. А. Флоренского В. И. Вернадский решил послать оттиски своих статей, а перед этим написал в Загорск. Об этом А. М. Флоренская писала 12.ІѴ. 1934 г.: «Вчера получила письмо от Верн. Он спрашивает, куда послать его статьи, тебе или мне. Я хочу написать, чтобы он послал нх прямо тебе, это будет гораздо приятнее для тебя».
В Архиве РАН (ф. 518, оп. 3, № 1727, л. I—2) сохранился ответ А. М. Флоренской
«Загорск. 17 апреля 1934 г.
Глубокоуважаемый Владимир Иванович, примите мою искреннюю благодарность за внимание к П. А. Статьи Ваши я бы просила переслать непосредственно П. А., т. к. в Загорске и в Москве он лишился своей библиотеки и части рукописей. От П. А. имею письма приблизительно раз в месяц. Потерей библиотеки он очень огорчен, а раньше писал бодрые письма. Много работает в области мерзлоты. Адрес его: Сковородино Уссурийской ж. д. Опытная Мерзлотная станция (ОМС). П. А. Ф. К сожалению, сын мой не собирается быть в Ленинграде.
Уважающая Вас А. Флоренская». —119.
2147
П. А. Флоренскому пишет А. В. Сузин 5.Ѵ.1934 г.: «…страшно жалел, что не застал Вас на Красной Заре, приехав туда через 3 часа после Вашего отъезда… Для проектируемого Вами музея (так я понял из Вашего письма) я с удовольствием готов собирать материалы…. Пишу Вам, так как мне передали, что в OMC интересуются «ископаемыми льдами»». —119.
2148
Реакция А. М. Флоренской на фразу об условиях переезда в письме от 25. V. 1934 г.: «…получила твое письмо от 9 мая. Все это очень интересно, но меня страшно беспокоит мысль, что ты ездишь на буферах. Ведь у тебя очень плохое зрение—малейшая ошибка… я так устала от всех дум и забот…»—121.
2149
Гудзовский А. В. (о нем же в письмах—полугрузин). Послужил прототипом одного из героев поэмы П. А. Флоренского «Оро». —121.
2150
чагда—сосна по орочонски
2151
палом называют на ДВ пожар
2152
Ваісилевич Т. М. Эвенкийско–русский словарь. М., 1934. —122.
2153
А. И. Архангельский послал открытку П. А. Флоренскому 28.111.1934 г. с зашифрованным пасхальным поздравлением: «Если и опоздает это письмо к известному дню, все же примите мои лучшие, хотя и запоздалые пожелан Хороших Воспоминаний» (прописное «X» и «В»—Христос Воскресе). —122.
2154
Григорова Елена Митрофановна (26.ІІІ.І879—1970), духовная дочь епископа Антония (Флоренсова), а после ею кончины—священника Павла Флоренского. Она действительно жила в доме Флоренских, но в 50–х годах. —123.
2155
Ю. А. Флоренская 24.ІѴ. 1934 г. писала: «…по поводу Васи. Дело в том, что у него малярия дает в настоящее время значительное обострение и плохо поддается лечению, которое проводится несистематично. Он собирается ехать снова на Памир, несмотря на то что специалисты склоняются против возвращения в малярийную местность. Вася настаивает, мотивируя денежным положением, хотя может ехать в более здоровый клімат, на Урал. Материальной необходимости в этом нет. Хорошо было бы, если бы ты написал ему свое мнение…»—123.
2156
Письмо не закончено. —128.
2157
Письмо К. П. Флоренского от 9.ІѴЛ934, на которое отвечает П. А. Флоренский: «Дорогой папочка! Сей*ас я еду в Среднюю Азию, в два района: под Самарканд, на найденное на&и месторождение тюямунита (уранованадата кальция), попутно загляну на месторождение оловянного камня, о котором я писал тебе; это в первую половину лета. Во вторую же поеду в Ферганскую долину, с тем чтобы, посетив Тюямуюнский Радиевый рудник, произвести осмотр и сравнительное изучение всех ванадиевых (U-V и Ni-V—Cu) точек по северному склону Алайского и Туркестанского хребтов. Основная тема — геохимия ванадия и миграция его в осадочных породах… Ты все пишешь, что беспокоишься о нас, о нашем питании и т. д. Уверяю тебя, что беспокоиться нечего и мы живем вполне хорошо. Сейчас у нас уже весна. Под Москвой снег стаял вовсе, а в Сергиеве осталось немножко в лесу. Поля чистые. Прилетели жаворонки, зяблики—поют, заливаются! Мало только времени их слушать. Занимаюсь сейчас количественным анализом; качественный кончил на «отлично». Гостит у бабушки сейчас тетя Лиля, ты, наверное, знаешь об этом. Позавчера, 7 апреля, в субботу, должен был я идти заниматься химией своей, но очень не хотелось. С полпути я повернулся и пошел к бабушке. Около Зубовской площади встретил тетю Лилю, которая шла с телеграммой в руке, с тем чтобы отправить ее к нам для вызова мамы к О. X. Кроме того, оказалось, что в этот день рождения бабушки там была баба Соня, и все очень веселые от получения известий о тебе… Мама расцветает при мысли о встрече с тобой… Вчера был на субботнике Метростроя, работал. Сегодня от этого хочется спать. Целую тебя крепко, дорогой папочка, милый. Твой Кира. —132.
2158
На Опытной Мерзлотной станции в Сковородино идет интенсивная научная работа, постоянно поддерживается научное общение с В. И. Вернадским (см.: В. И. Вернадский и семья Флоренских. М., 1993). Н. И. Быков—В. И. Вернадскому 21 июня 1934 г.: «Глубокоуважаемый Владимир Иванович! Препровождаю Вам перепечатанную рукопись о замерзании воды с чертежами, о которой говорил при нашем свидании. Авторы—профессора Флоренский Павел Александрович и Каптерев Павел Николаевич. Ваш отзыв и замечания, которые будут, конечно, учтены в постановке всей исследовательской работы станции по изучению вечной мерзлоты, не откажите направить на ст. Сковородино Уссурийской ж. д. Мерзлотная станция БАМ ОГПУ. Директору станции Быкову Николаю Ивановичу. С совершенным уважением Н. Быков. За ответ заранее приношу глубокую благодарность» (Архив РАН, ф. 518, оп. 3, № 217, л. 3—5). Известны еще письма Н. И. Быкова к В. И. Вернадскому, последнее от 5.ІІІ.1939 (ф. 518, оп. 3, № 217, л. 4—5). Переписка с В. И. Вернадским П. Н. Каптерева, начавшаяся еще в 1927 г., продолжалась до последнего года жизни Владимира Ивановича. Последнее письмо П. Н. Каптерева помечено осенью 1944 г. (Архив РАН, ф. 518, оп. 3, № 217, j. 4—5; ф. 518, on. 2, № 719a, л. 1—7). 27. X.1935 П. H. Каптерев пишет В.И. Вернадскому об оживлении водорослей и бактерий из торфа и рунта из вечной мерзлоты, впервые достигнутом весной 1934 г., т. е. во время пребывания в Сковородино П. А. Флоренского. —133.
2159
Фюренский Александр Андреевич (II. XI.1926—I. V. 1957) — племянник П. А. Флоренского, старший сын Андрея Александровича Флоренского. —133.
2160
Флоренская (Григорьева) Антонина Александровна (1903—197*)—жена Андрея Александровича Флоренского. —133.
2161
Фаворский Владимир Андреевич (1886—1964)—народный художник СССР, акідемик AX СССР. В 1920—1939 гг. жил в Сергиевом Посаде (Загорске), дружил с П. А. Флоренским и сотрудничал с ним во время преподавания во ВХУТЕМАСе в 20–х годах. —134.
2162
Отъезд П. А. Флоренского на полевые работы был использован для написания пис5м обеим мамам. Первое—в Москву, О. П. Флоренской: «…жівем мы, мама, хотя и в очень печальной обстановке, но хорошо. У нас на горе воздух хороший, ароматный, а там, где станция, низина и всегда сыро. Папа гриходит к нам обедать и ночевать, а утром, часов в 7—71 [г, уходит на службу. Работает он очень много, целый день занят. В час приходит обедать, а после обеда сейчас же занимается с Игорем и Олей до 4—4 */2, а потом опять на службу до 10 ч. С нами оа разговаривает за ужином и ночью. Много курит, худой, но всегда бодрый и решительно всем доволен. Обед готовлю дома из продуктов, которые выдали ему взамен общего обеда, и из того, что привезла из дома.. О. X. снабжает лас мукой, и я часто делаю лепешки или оладьи. Детям здесь очень хорошо, лес около дома… Ходили раза три купаться на Большой Невер, эн здесь такой, что я переходила на другую сторону, не раздеваясь. Дети плещутся С большой радостью, мне хорошо на них смотреть и стирать белье. Оля занимается каждый день… Она никуда не ходит, разве только тогда, когда идет папа. Тиночка исправно делает свои уроки по арифметике и русскому, а Мик все время проводит с Колей Быковым. Бывает у нас П. Н. и еще кое-кто из сослуживцев папы. Говорят, что очень довольны побыть в семейной обстановке. Семья приехала только к папе… Я, конечно, очень рада, что приехала сюда. Увидала много хороших людей и научилась многому, а главное, конечно, что папа хоть немного отдыхает и балуется вкусным. Он совершенно не ест сахара с чаем, поэтому я стараюсь подбавлять в кушанья. Часто делаю компот. Жаль только, что взяла его мало. Купить здесь ничего невозможно, все дорого. Беру простоквашу и изредка молоко. Набрали грибы и ели жареные. Надеюсь, будем набирать ягоды для киселя. Сегодня папа уехал от нас в командировку дней на 5. Мы хотим воспользоваться этим временем, перестирать белье и перемыть полы. Привожу в порядок папино белье. Также занимаюсь бельем и чулками П. Н…. Васе я ничего не писала, напишите Вы сами что хотите о нас. Целую Вас, дорогая мама, будьте здоровы. Спасибо за ласку. А. Ф. 23 июня». —134.
2163
Ольга Флоренская попросила отца написать ей, что читать, и он составил список по памяти. Большинство сочинений издавали много раз, и мы приводим библиографию лишь некоторых—преимущественно первых изданий: Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе. СПб., 1894; Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских писателей. Вып. I—3. 1–е изд. М., 1906—1910; Вяч. Иванов. Кормчие звезды. Книга лирики. СПб., 1901; Мережковский Д. С. Вечные спутники. 1–е изд. СПб., 1897; Зелинский Ф. Ф. Античный мир. Т. I—3. Пг., 1922; Петров А. А. Книга для чтения по древней истории. М., 1915 и другие издания; Баунгарден Ф., Поланд Ф., Вагнер Р. Эллинская культура /Под ред. Ф. Ф. Зелинского//Общая история европейской культуры. Т. I. Изд. Брокгауза и Ефрона. СПб., 1908 и другие издания: Фюстель де Куланж И. Д. Гражданская община древнего мира: Исследования о богослужении, праве, учреждениях Греции и Рима /Пер. Евгения Корша. М., 1867 (первое русское издание); Буасье Г. Археологические прогулки по Риму. М., 1915; Он же. Падение язычеггва. М., 1892; Он же. Римская религия от Августа до Антонинов. М., 1878; Карелин М. С. Падение античного миросозерцания (культурный кризис в Римской иміерии). СПб., 1895 (I изд.); 1900 (И изд.); Геронд (Герд). Мини–ямбы/Пер. Г. Ф. Церетели. Тифлис, 1929; Эбере Георг–Мари (1837—1898)—автор исторических романов о Древнем Египте. Собр. соч. СПб., 1896—1899; Брюсов В. Я. Алтарь победы. Повесть IV века. СПб., 1911—1912; Мережковский Д. С. Трилогия. Христсс и Антихрист: I—Смерть богов (Юлиан Отступник)—1895; II — Воскресшие бо^и (Леонардо да Винчи)—1898; III—Антихрист. Петр и Алексей —1904—1905. Отдельные издания. Т. I—3. СПб., 1905— 1907; Прус Б. Фараон: Исторический эоман в трех частях. СПб., 1898; Скабал- ланович М. И. Православные праздники. Киев, 1911. —135.
2164
После того как 10 августа 1934 г. з/к Флоренского П. А. зывезли спецкон- іоем из Сковородино, о нем ничего не было известно более двух месяцев. Сразу по получении этой открытки Ю. А. Флоренская послала в Загорск телеграмму: ЗАГОРСК ПИОНЕРСКАЯ ФЛОРЕНСКОЙ — ИЗВЕСТИЯ НЕОБХОДИМА ПОСЫЛКА ПРИЕЗЖАЙ НЕМЕДЛЕННО—ЛЮСЯ. —139.
2165
Аналогичная карточка хранится в деле 212727, и последняя запись в ней сделана в январе 1937 г. —139.
2166
По Белому морю з/к перевозили в трюмах (см. п. № 41 от 19. ХІІ.1935 г.). На окраине Кеми, на мысе Выгеракша (Пристанище Ведьм), находился поселок Попова Іора, Попов Остров, позже переименованный в Рабочий Остров, где размещалась пересыльная тюрьма. —140.
2167
8–е отделение ББК — Беломорско–Балтийского канала — это и есть Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), его 1–й лагпункт. Сразу по получении первой открытки А. М. Флоренская 22 октября 1934 г. послала посылку (Nb 1511 /г) по достаточно неопределенному адресу: Кемь, Флоренскому. Ho вскоре стал известен более точный адрес, и 11 ноября А. М. Флоренская отправила заявление с просьбой переправить посылку по адресу: ст. Кемь, п/о Попов Остров, 8–е, Соловецкое, отделение ББК, Флоренскому Павлу Александровичу. —140.
2168
В это время Василий писал матери и детям в Загорск: «…вышлю вам немного изюму, думаю, что дети будут рады… Сейчас я только что приехал из Ташкента с конференции. Я был туда вызван и там делал доклад перед большим залом с большим количеством публики… Видел еще предварительный отчет его (Кирилла. — Ред.) отряда, они, видимо, нашли много интересного, я очень рад за него… Сейчас я собираюсь на короткое время проехать в горы, посмотреть одну интересную точку, в горах много снега, начались сильные морозы, наверное, ездить будет очень холодно, но ничего, как-нибудь справлюсь» —141.
2169
Работа лагерной почты Соловков описана: Флоренские В. П. и П. В. Ваши письма—-единственное утешение: Анализ почты Соловецкого концлагеря. 1928— 1937 гг. // Филателия. 1993. № 11. С. 46—49; № 12. С. 14—17; Флоренский В. П. и Флоренский Tl. В Лагерная почта (1928—1937 гг.) // Труды Морской арктической экспедиции / Под общей ред. П. В. Боярского. Вып. 9. Соловецкие острова. Т. 2. Остров Большая Муксалма. М., 1996. С. 216—237.
Там же приводится перечень писем, посланных П. А. Флоренскому разными лицами. —142.
2170
Радиожаргон от англ. fading tones—изменение звука. —143.
2171
Вещи П. А. Флоренского, оставшиеся в Сковородино, в том числе рукописи и письма, были возвращены и сохранились. —144.
2172
Кукла. —144.
2173
В. П. Флоренский работал в составе Таджикско–Памирской экспедиции в Нуратинских горах, в Узбекистане. —150.
2174
P-H. Литвинов в письме от 18. ХІІ пишет: «Тут организована группа высшей математики, и ведет ее очень крупный ученый, и его лекции доставляют мне громадное чисто эстетическое удовольствие и, пожалуй, пользу. Я, в сущности, слышал очень мало хороших лекций, и хотя вряд ли придется мне когда- нибудь еще заниматься этим делом, но я понял некоторые свои недостатки при чтении лекций и, пожалуй, сумел бы их устранить». —152.
2175
Р. А. Флоренская умерла 5 сентября 1932 г. —157.
2176
Надо — «опередил». —158.
2177
Диссертация Н. Г Чернышевского, изданная в 1855 г., называлась «Эстетические отношения искусства к действительности» Ему принадлежит фраза: «Сапоги выше Шекспира». —159.
2178
Первоявление (нем.). —159.
2179
Тучкова Софья Сергеевна—сестра милосердия Красного Креста в Сергиевом Посаде. Эмигрировала в Чехословакию в 1934 г. —160.
2180
Определением содержания ванадия К. П Флоренский занимался под руководством В. А. Зильберминца; результаты работы опубликованы: Zilber- mintz V А., Florensky Κ. P. Ober die Bestimmung von Vanadium im Felde/'Mik- rochemie. 1935. Bd 18. S. 154—158; Зилъберминц В. А., Флоренский Κ. 77. Поле вое определение ванадия // Tp. Ломоносовского института геохимии, кристаллографии и минералогии АН СССР. 1^36. Вып. 7. С. 355—361. —161.
2181
Оствальд Вольфганг. Наука о коллоидах, электротехнике, гетерогенный катализ. Ч. II. Фотоэлектрические яіления / Пер. Н. Т. Бизова. М.; Л., 1932. —162.
2182
Арьякас Iyro Янович—школьный учитель физики в Сергиевом Посаде, в 1927 г. приглашен П. А. Флоренским в ВЭИ, заведовал фотолабораторией, занимался спектральным анализом. Находился вместе с П. А. Флоренским в Лефортово. —162.
2183
Парафраз последней строки первой части поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон». —165.
2184
1 Первая колонна находилась в Кремле. Списки тех, кому разрешено дополнительное письмо, вывешивали в арке, в переходе из северного двора в главный. —167.
2185
Лисев Василий Иванович—сотрудник П. А. Флоренского по ВЭИ, один из создателей карболита. В 1920 г. Б. И. Лисев пригласил П. А. Флоренского на работу на московский завод «Кар5олит», деятельность которого была связана с планом ГОЭЛРО. П. А. Флоренский жил у В. И. Лисева в Москве в годы работы там. —173.
2186
Лисева Екатерина Ивановна, мать В. И. Лисева. —173.
2187
Обрыв фразы при переходе на другую страницу. —173.
2188
Центральная лаборатория — бывшая Филиппова пустынь—расположена в 2 км к востоку от Кремля. В южном, нависающем над склоном помещении сохранились люки — в потолке и в полу.
Работники находятся иод постоянным наблюдением с/с—секретных сотрудников, или, по–лагерному, сексотов. Приводим отрывок из доноса:
С/с «Карелин» Пр. уп. Алдошин 7/ІІ-35 г. Р/с№ 19, 8–е отд. ББК: «…административные лица по у грам встают очень поздно, и, когда рабочие приходят на работу, они еще спят. На последнем производственном совещании рабочие задали техноруку з/к ЛИТВИНОВУ Роману Николаевичу (ст. 58—8—10—11, ср 10 л.) вопрос, что он может сказаіь по лому поводу, и получили отвеі, что ему говорить на этот счет нечего, а з/к Флоренский Павел Александрович (ст. 58—10—11, ср. Юл.) совершенно не посещает производственных совещаний. Оба они относятся к работе весьма пассивно. Раньше потери не превышали 5%, а теперь они достигли 32%». Вырезку в группу ЭКО. ЗАМ. НАЧ. HI ЧАСТИ 8–е СОЛ. ОТД. ББК. Верно Уполн. гр. Cno…
(ЮНАХОВ)
H Трилин (подпись).
Литвинов — з/к, сотрудник П. А. Флоренского, последний действительно близкий ему человек, соавтор патентов. С ним П. А. Флоренский разрабатывал технологию получения йода и агар–агара из водорослей в «Йодпроме»: «Литвинов Роман Николаевич, 1890 г. р.. русский, гр. СССР, ур. г. Варшава (Польша), из дворян, служащий, обр. высшее, химик–технолог. Работал Зав. кафедрой в г. Горьком. Осужден КОГПУ 01.06.34 по ст. 58—8—10 и 11 УК на IO лет ИТЛ». Приговорен к BMH 10. ХІ и расстрелян в одну ночь с П. А. Флоренским — ХІІ.1934 г. Сохранился его портрет, сделанный маслом художником з/к Решетниковым Юрием. —176.
2189
Гиацинтова (Зарубина) Ольга Ивановна (20.ѴІІ1.1883—28.1 V. 1946) — жена В. М. Гиацинтова, мать А. В. Іиацинтовой и тегя Н. И. Флоренской (Зарубиной). —178.
2190
Намек на го, что письма просматриваются цензурой. —178.
2191
П. А. Флоренский переехал 16 февраля 1935 г. в жилой дом для грудников. —179
2192
Из стихотворения Ф. И. Тютчева «День и ночь» (не позднее начала 1839). а также из стихотворения «Святая ночь на небосклон взошла…» (1848— 1850). —181.
2193
Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Ч. 2. Кн. 5. Iji. 3. —182.
2194
Пушктн А. С. Поэту (1830).—182.
2195
«Деревянный»—зачеркнуто. —184.
2196
Из воспоминаний Ю. И. Чиркова (неопубликованный отрывок рукописи, предоставлеіный его вдовой Валентиной Максимовной: «Йодпром и проегтное бюро находились за Кремлем на значительном расстоянии, и в непогоду псходы туда были юлегкими. Котляревский рассказывал, что однажды в бурный день начала зимы когда густо валил крупными хлопьями мокрый снег, он встретил Флоренского и Литвинова по дороге в Кремль. Ученые мужи тяжело брели навстречу вегру, опираясь на длинные палки. Шапки, бороды, лица у них эыли залеплены сіегом. Они останавливались, протирали очки и шли дальше, при этом еще беседуя. Несколько раз под напором бури они падали на гололеде, скрлтом снегом. Котляревский помогал им подняться, а Павел Александрович ігутил и говорил о перспективах использования энергии ветра». Это не было только шуткой, см.: Флоренский П. А. Запасы мировой энергии // Электрификация. 1925. № I. С. 10—16. В статье он писал о том, что энергия будущего—это энергия Солнца, тепловая и ветровая. После 1933 г. эти идеи пропагандировал А. И. Иоффе
Юрий Иванович Чирков (1919—1988)—з/к, в Соловках находился в 1S35— 1937 гг. Публикации Ю. И. Чиркова о Соловках: Большой Соловецкий тургир // Шахматы. 1988. № 9. С. 28—30; Соловки // Советская культура. 1989. 4 мірта; А было все так… М., 1991. 302 с. О П. А. Флоренском в книге на с. 5, 69, 85. 107, 131, 132, 170 н 173. Некролог Ю. И. Чиркова см.: Метеорология и гидрогеология. 1989. № I. С. 126—128. —190.
2197
Так в оригинале, следует читать «ширина». —192.
2198
М. Фаэадей. Его жизнь и научные деяния: Биографический очерк Я. В. Абрамова. СПб., 1892 (ЖЗЛ. Биографии библиотеки Ф. Павленкова). —195.
2199
Иловайская София Владимировна. —196.
2200
К. П. Флоренский в 1933—1934 гг работал в Таджикско–Памирской экспедиции, а б апреля 1935 г. был зачислен в Биогеохимическую лабораторию (Биогел АН СССР), возглавлявшуюся академиком В. И. Вернадским, и стал работать под непосредственным руководством А. М. Симорина. О нем см.: Коробова Е. М. Я был, есть и буду его учеником/'/Природа. 1990. № 6. С. 124—128. — 196.
2201
Письмо № 11 отсутствует. —196.
2202
Книга вышла под названием «Руководство по палеозоологии беспозвоночных». Ч. 1—2. М., 1934. — 200.
2203
Так как отсутствуют письма П. А. Флоренского за вторую половину апреля (№ 13 и 14), приведем отрывок из письма Р. Н. Литвинова от 23.111.1935 г.: «…в нашей лаборатории мы взяли большую проблемную тему о комплексном использовании водорослей и занимаемся ею с утра до поздней ночи. Я занимаюсь в основном конструированием и постройкой лабораторной аппаратуры и электрохимическими процессами. Приходится все делать из ничего, что неприятно, но зато когда это удается, то становится хорошо. Общество. Я уже тебе писал, что очень подружился с одним московским ученым… Живем мы с ним в одной комнате, но это делает разговоры более частыми и интересными. Действительно, это хорошая компенсация многих неприятностей. Он очень близко знал гсх литературных светил, которыми мы в свое время увлекались, и рассказывает про них очень интересные подробнбети. Кроме того, он часто говорит со мной на темы научные, из области точной науки, в которой он глубоко разбирается, а иногда касается и не точной науки. В общем, эго дает мне в отношении научного общения во много раз больше, чем я получил за все время работы в университете от своих товарищей… В отношении поэзии наши вкусы совпадают абсолютно, хотя в отношении Фета мы не сторгсвались. Он чувствует в нем струи, родственные по крови Гейне, чего я никогда не ощущал. Он крупный математик, и это я использую, посещая его лекции в кружке ИТР». —202.
2204
У Озеровых на Штатной улице (ныне ул. Академика Фаворского) в Сергиевом Посаде Флоренский жил в 1910—1915 гг. до приобретения дома на Дворянской (Пионерской). —206.
2205
Аламбаний, экайод—галоген 85. Его открытие тогда не было признано, его впервые искусственно получил в 940 г. Э. Ферми и назвал «астат». —207.
2206
Скульптор А. С. Голубкина (1864—1927) была знакома с П. А. Флоренским по ВХУТЕМАСу-—209.
2207
Штегер Г. Технология электроизолирующих материалов. М.; Jl., 1934. 328 с. —209.
2208
Задержка писем понятна: в начале мая почту переставали возить аэропланы, а из-за льдов навигация открывалась в начале июня. —210.
2209
Из письма Р. Н. Литвинова, жаписанного в этот же дерь (23.ІѴ): «Мой сожитель, о котором я с тобой говорил в Нижнем, очень милый человек и относится к людям первого порядка. Образован чрезвычайно — от ассирийской клинописи до физикохимии, от метрики и ритмики до сверхвысшей математики. Крайне беспомощен в делах хозяйственных. До предел* деликатен. Суждения и вкусы литературного порядка совпадают с моими на 100%. — К сожалению, абсолютно мало времени для разговоров, которые не представляют интереса для других обитателей нашего скита. Нужно сказать, что по случаю отсутствия реальных помех этому делу балуемся мы стихосложением. Возобновил я это занятие в подвальчике на М. Покровке (от нечего делать), а он на БАМе. Таким образом, он ночью читает мне отрывки из своей поэмы (о вечной мерзлоте), а я ему более сжатые вещи, и хвалим друг друга».
Работая над поэмой на Соловках, П. А. Флоренский не имел с собой текста, созданного на Дальнем Востоке. Второй вариант поэмы создавался в значительной степени заново. Он отличается от первого не только большим объемом, несколько иной композицией, но и переносом внимания с природы края вечной мерзлоты на образ мальчика. Фрагменты поэмы Флоренский высылал в письмах с 9. ГѴ.1936 по 22.11.1937 г. Последовательность присылаемых глав не соответствует их очередности в самой поэме. Возможно, она отражает этапы работы над текстом на Соловках. Отсутствуют два фрагмента поэмы: начало X главы и главы XV—ХѴГГ. Возможно, в них рисовалась история рода Opo и события, предшествовавшие его рождению (см. цитированные ранее фрагменты вступительной статьи, примеч к п. от 24—25. ГѴ.1934 г.). — 211.
2210
Правильно—Лихтенштадт. Cm. примеч. 3 к п. от 23. XI.1933 і. — 212.
2211
Флоренский Иван Андреевич (9 (?).ІХ. 1815—11. ХІ.1866), дед П. А. Флоренского, врач, главный лекарь лазарета в Ірозном во время Кавказской войны, погиб от холеры, погребен в Моздоке. —213.
2212
Анфиса Уаровна Соловьева (ЗО.ІІІ. 18 (?)—7. ХІ.1850) — первая жена Ивана Андреевича Флоренского, бабушка П. А. Флоренского. — 213.
2213
Флоренская (урожд. Ушакова) Елизавета Владимировна (1830—ѴІ.1911) — вторая жена И. А. Флоренского. — 213.
2214
Флоренские Екатерина Ивановна (1845—1860(?)) и Юлия Ивановна (1848— 1894). —213.
2215
Сапаровы: Елизавета Павловна (см. Мелик–Беглярова) (1854—1919), Варвара Павловна (1861 —1891), Репсимия Павловна (1865—1930(?)), София Павловна (см. Карамян) (1866—1939), Аркадий Павлович (1859—до 1921). —213.
2216
Оганесян (Мелик–Беглярова) Маргарита Сергеевна (1872—1920(?)). — 213.
2217
Арманд Тамара Аркадьевна (1880—1960(?)). —213.
2218
Флоренская Ольга Александровна (19.11.1892—2. IX.1914) — третья сестра П. А. Флоренского, художник–миниатюрист, состояла в переписке с Д. И. Мережковским и 3. Ійппиус. —214.
2219
Родххповные росписи Флоренских см.: Священник Павел Флоренции. Детям моим. И., 1992. С. 445—479. — 214.
2220
Автсэ портретов П. А. Флоренского для Ольги и для Василия: — Иванов Дмитрий Иосифович, 1880 г. р., ур. г. Ленинграда, высшее художественное обр., художник–сіульптор. До ареста работал в г. Ленинграде в разных учебньи заведениях преподавателем графических искусств. Засед. КОГПУ 10.01.32 пост. 58–8 и 11 УК РО>СР приговорен к расстрелу с заменой 10 лет л/св». Осужден к BMH 14.11, расстрелян 20.11.1938 г. —217.
2221
Стендаль. Автобиографические заметки//Пер. В. Комарова // Coip. соч. Т. 6. М.; Л., 1933. —217.
2222
Мелис–Бегляров Давид Сергеевич (1875—1913)—двоюродныі брат П. А. Флоренского по матери. —220.
2223
Іурилів А. Л. (1803—1858)—композитор, пианист, скрипач, авюр популярных рсмансов и песен. Сохранилось собрание романсов Гурилева, бережно переплетениях в одну книгу: Романсы и песни. Музыка А. Гурилева. Г, ГГ. Москва, издание А. Гутхейль, с автографом: «+ Из книг священника Павла Флоренского. 1915. ХГГ—1916. Г». Оглавление написано Павлом Александровичем. О дружественных связях с Гурилевым семей Ушаковых и Соловьевѵіх см.: Священник Павел Флоренский. Детям моим. М., 1992. С. 332—347, 356—357—221.
2224
Флоршский Василий Маркович. Домашняя медицина. 9–е ид. СПб., 1908—221.
2225
Соловецкая чайка—серебристая чайка (Larus argentatus). Ее изучал і конце 20–х годов 3/К орнитолог Григорий Иванович Поляков, освободившийся около 1932 г.: Поляков Г И. К познанию орнитологической фауны Соловецких островов: Мгтериалы Соловецкого общества краеведения (СОК). 1929. В>іп. 20. Типография УСЛОН ОГПУ, Соловки. Тираж 250 экз. Он же. Окольцовывание птиц и опыт его на Соловках // Соловецкие острова. 1929 [?]. № 2—3. С. 67—70. Изд. ОГПУ, Кемь. Первое издание рассылалось по библиотекам, а второе сохранилось в единичных экземплярах. —221.
2226
Гиацингова Екатерина Александровна (9. ХІІ. 1910—30.1.1991) — племянница А. М. Флоренской. —222.
2227
Флоренский А. А. Нахичеванский пет рографо–геохимический отряд; Ганджинская геохимическая экспедиция//Сб. экспедиции Академии наук СССР 1993 г. Л., 1934 (Тр. Совета по изучению производительных сил (СОПС)). Науч. — популяр. сер. АН СССР. С. 194—200, 215—219. —223.
2228
Выгодский М. Я. Шіилей и инквизиция. Ч. I. М.; Л., 1934. —223.
2229
В 1935 г. Академия наук, а также ряд институтов и работавшие в них ученые были переведены в Москву, о чем, по–видимому, не знал П. А. Флоренский. — 224.
2230
Мережковский Д. С. Будет радость. Пі., 1916. —227.
2231
Тананаен Н. А. Капельный метод качественного химического анализа. Ч. I. Л., 1926. — 228.
2232
Флоренский К. П. Незабываемые десять лет: Воспоминания о В. И. Вернадском//Очерки по истории геологических знаний. М., 1963. Вып. 11. с.90—98: «Уровская (Кашин–Бека, эндемичный остеоартроз) болезнь в Забайкалье уродовала кости людей в юности, превращала в инвалидов на всю жизнь…» Было установлено, что одной из причин распространения уровской болезни может служить недостаток кальция и избыток стронция и бария в почвах, водах и кормовых растениях. Cm.: Виноградов А. П. Геохимические исследования в области распространения уровской эпидемии//Доклады АН СССР. 1939. Т. 23. С. 64—67; Виноградов А. 11. О причинах происхождения уровской болезни//Тр. Биогел. АН СССР. 1949. Т. 9. С. 5—29. — 230.
2233
Возможно, тго справедливо: малые дозы радиации усиливают существующие болезни и провоцируют новые. Cm.: Моисеев И. А., Бурлакова Е. Б., Нашров А. Г Флоренский П. В. и др., всего 80 человек. Заключение экспертов Государственной экспертной комиссии Госплана СССР по государственным программам РСФСР, УССР, БССР ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЗС на 1990—1995 гг.//Москва. 1990. № 11. С. 14L — 149. — 230.
2234
Зинаида Яковлевна и Петр Константинович—фотографы в Загорскс. — 232.
2235
Марк Матвеевич Аітокольский, его жизнь, творчество и статьи. 185) — 1883/Под ред. В. В. Стасова. СПб.; М., 1905. —233.
2236
Гиацинтов Михаил Михайлович (? —29.ѴІ.1915)—брат А. М. Флоренской, священник. —236.
2237
Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann. Herausgegeben von GeorgEl- linger. Halle, 1895. S. 23.
Die Rose
Die Rose, welche hier dcin auBres Auge siht Die hat von Ewigkeit in Gott also gebluht. —237.
2238
Епископ Антоний (Олоренсов) (1847—1918) был духовником П. А. Флоренского в 1904—1918 гг., благословил его на семейную жизнь. Их духовная близость усугублялась дальним родством. Cm.: Иеродиакон Андроник (Трубачев). Епископ Антоний Флоренсов—духовник священника Павла Флоренского // Журнал Московской Патриархии. 1982. № 9. С. 75; № 10. С. 65. —238.
2239
Морозов Г. Ф. Учениг о лесе. Л., 1928; Сукачев В. Н. Болота и их образование, развитие и свойства. Пг., 1923; Тимирязев К. А. Жизнь растений. М., 1914; Бородин И. П. Курс анатомии растения. СПб., 1889; СПб., 1910. — 239.
2240
«Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?..» (Лк. 12, 25). —245.
2241
К. П. Флоренский вспоминал: «Когда я рекомендовал в состав экспедиции своего товарища Никиту Владимировича Фаворского, Владимир Иванович с теплой улыбкой, обращаясь к Наталье Егоровне, заметил: «А это сын Володи» (Флоренский К. П. Незабываемые десять лет. М., 1963. С. 90). — 248.
2242
Василий писал письма отцу через Загорск. Из его письма к матери от
VII. 1935 г.: «…сейчас я нахожусь в Муроме, доехал вполне благополучно… и вот сейчас мы ждем парохода для выезда на работу… Как живет бабушка, целуй ее, дорогая мамочка, целуй и детей, старайся делать им чаще приятное, пусть им будет весело и хорошо. Это в жизни главное. В этом же письме я посылаю письмо к папе, не задерживай его, пожалуйста, отошли скорее. Мамочка, пошли папе больше всяких вещей и продуктов скорее… сделай это для меня». А затем 11.VII. 1935 г.: «…в это письмо я тоже вложу письмо для папочки и так буду делать каждый раз, ты их перешли». —250.
2243
В. П. Флоренский в 1935 и с 1947 по 1953 г. проводил практику студентов 1–го курса Московского нефтяного института им. И. М. Іубкина по Военно–Іру- зинской дороге. —250.
2244
Вернадский В. И- О некоторых очередных проблемах радиогеологии // Изв. АН СССР. Сер. 7. ОМЕН. 1935. № I. — 250.
2245
Сохранилось множество великолепных фотографий, сделанных М. П. Флоренским сначала на стеклянных пластинках, а потом на пленках. — 253.
2246
Потсбпя А. А. Мысль и язык. III изд. Харьков, 1913. Парафраз цитаты: «Слово есть искусство, именно поэзия». Iji. X «Римская поэзия, сіушенис мысли». — 256.
2247
Липцбах Я. Принципы философского языка: Опыт Пг., 1916. — 257.
2248
Флоренская (Зарубина) Наталия Ивановна (5(18)ІХ.1909— 5. VII. 1996)— жена В. П Флоренского. —258.
2249
Зарубина (Брэмзен) Генриэтта Іуставовна (21.11.1861 — I. II.19^1)—бабушка А. В. Іиащнтовой и Н. И. Флоренской, бывших двоюродными сестрами. Сохранился рисунок Г Г. Зарубиной (Брэмзен) на смертном одре, сделаніый Н. В. Фаворским. — 261.
2250
Обе доверенности на имя А. М. Флоренской сохранились. Первая—на получение зарплаты за вторую половину февраля 1933 г. от ВЗИ — 177 руб. 40 коп. Вт*рая—на получение от БРИЗа Союзхимпластмасс вознаграждения за работу по аккумуляторным бачкам. Они написаны зелеными черниіами, подписаны П. А. Флоренским и заверены начальником общеадминистративной части 8го отделения ББК НКВД Байником 11 июля 1935 г. —266.
2251
Пейзаж неизвестен. —268.?
2252
Гиащнтов Николай Михайлович, брат А. М. Флоренской; его кена Гиацинтова Пелаг; я Егоровна. —269.
2253
П. А Флоренский обвенчался с Анной Михайловной Гиацинтовой 25.ѴІІІ.191С г. в селе Кутловы Борки Рязанской губернии. Обвенчал иі брат Анны Михайловны—отец Александр Гиацинтов (21. IX.1882—1938(?)). —271.
2254
Василий писал домой (7. VIII.1935 г.): «…те деньги, которые я получил из Нефтяного института, ты раздели на две равные части и половину предложи Наташе… Ти дай ей, если нужно, сколько ей нужно… Папочке напишу в след, раз, от него еще не пришло ответа, как только придет, напишу». Решению отдавать матери половину заработанного Василий следовал до своей кончины. — 271.
2255
Из письма Р. Н. Литвинова от 17. VIII. 1935 г.: «…мы с приятелем взяли корзины и пошли бродить в окрестностях дома. За полтора часа набрали 11 кг грибов… Таг как у нас на 4 человека 5 брюк, то двое сушат промокшие над плитой, а сами ходят без оных. Свои суконные штаны я сдал в чинку приятелю, о котором я уже писал, и он их чинит, одновременно рассуждая о разности миро [вое]приятия у Тютчева и Гёте…»—276.
2256
Исполнилось 25 лет—серебряная свадьба. Об ошибке написала А. М. Флоренская в письме, полученном П. А. Флоренским 8 сентября. Эта ошибка в сроках важнейшего события в жизни — одно из немногих свидетельств реального состояния П. А. Флоренского в концлагере и общей там обстановки. — 276.
2257
Cm. фронтиспис. — 276.
2258
Пакшин Петр Нилович—з/к, художник, «1893 г. р., ур. г. Красноярска, председатель кооператива художников в Новосибирске, б/п, поручик белой армии Колчака». Приговорен к BMH 9. Х. Расстрелян 27. Х или I—4. ХІ.1937 г. —276.
2259
Повторение слова при переходе на другую страницу. —288.
2260
Возможно, речь идет о книге: Лобко И. А. Стандартизация физико–математических единиц и величин: Термины, обозначения и определения. М.; Л., 1935. 74 с. —288.
2261
Летом 1935 г. Василий работал в нефтегазоносных районах Башкирии; собранные материалы легли в основу его кандидатской диссертации «Очерки литологии кунгурских отложений Туймазинского нефтяного месторождения в Башкирской АССР», которую он защитил 15 января 1940 г. — 289.
2262
Указанный способ так и не был внедрен. Несколько напоминают его современные способы сепарации минералов в делительной колонке в дифференцированном магнитном поле или отяжелой жидкостью. — 289.
2263
Василин Павлович Флоренский женился на Наталии Ивановне Зарубиной в августе 1935 г. —289.
2264
Холодковский Н. А. Гербарий моей дочери. Пг., 1922. 72 с. —291.
2265
Смердов Н. И. Іеохимическая поэма//Сибирские огни. 1934. № 9—10. —292.
2266
А вот как описывгет обстановку в середине сентября 1935 г. секретный сотрудник, который носил кличку Хапанели—так называлась модель финских лыж (архивный номер 212727. Т. 2. Jl. 681, 686):
1935 г. 10. ХІ в комнате кулечного корпуса, где живут профессор Флоренский П. А., Литвинов и Брянцев, велся разгсаор на следующую тему: Флоренский говорит, что меня следователь допрашивал все о тоѵ, чтобы я назвал целый ряд фамилий, с которыми я якобы вел не существующие в действительности контрреволюционные разговоры. Ho после моего упорного отрицания мне следователь сказал, что «де, мол, нам известно, что вы не состоите ни в каких организациях и не ведете нисакой антисоветской агитации, но на вас в случае чего могут ориентироваться враждебные Сов. *ласти люди, что вы не устоите, если вам будет предложено выступить против Сов. власти. Вот почему, говорит далее Флоренский, дают такие большие срока (так. — Ред.) заключения, т. е. ведется политика профилактического характера заранее. Предотвращают преступления, которые и не могут даже быть. Следователь мне и далее говорил (говорит Флоренский), ч~о мы не можем так поступать, как поступило царское правительство, которое показывал* на совершившиеся преступления, нет, мы предотвращать должны, а то как же так, ждать, пога кто-либо совершит преступление, тогда его и наказывать, нет, так далеко не пойдет, надо в зіродыше пресекать преступление, тогда будет прочнее дело.
Флоренский. «Да, очень много сейчас сидят в изоляторах видных старых большевиков». Литвинов соглашается с Флоренский. По международному положению говорили больше всего
об Итало–Абиссинском конфликте. Флоренский говорит, что вряд ли Италии удастся подчинить под свое влияние Абиссинию, т. с. Англия очень здорово заинтересована в Абиссинии и, очевидно, не даст в обиду Абиссиняю.
Флоренский и Брянцев говорят о Германии, о политике Гитлера, что политика Гитлера очень схожа с политикой СССР (Брінцев). Правда она, эта политика, очень грубая, но довольно меткая (Флоренский).
Копанин. 11/ХІ-35
В ларек зашел прибывший с іовым этапом некий Трегер, после покупки товаров я у него спросил, откуда прибыл, он ответил, что из Москвы, прибыл недавно, помещается в пернункте, да все хочется повидаться с профессором Флоренским, да не знаю, где он живет, а я ему сказал, что Флоренский живет в кузнечноіѵ корпусе, ю он спрашивает, «а разве Вы знакомы с ним», получив утвердительный ответ. он назвал свою фамилию «Трегер» и сказал, что хорошо знаком с Флоренским…
С/с Хапанели
13 сентября с/i в помещении кузнечного корпуса з/к Флоренский Павел Александрович разговаривал с з/к Литвиновым Романом Николаевичем на тему о лагерной жизни, и оба рассказывали друг другу, за что высланы в Соловки. З/к Флоренский высказывался: «Наша жизнь после лагерей будет вся измята, и если после нашего освобождения возникнет в стране какое-либо явление ненормального характера, то нас сейчас же опять в первую очередь посадят.
Фигуранты состоят под аіентурным наблюдением.
На донесении имеется резолюция: «Т. Акимову. На этих зз. обратить особое внимание. Они работают Вмиилоболотории»
Доносы опубликованы. Cm.: Шенталинский В. Рабы свободы: В литературных архивах КГБ. М., 1995. С. 162—165; Shentalinsky W. Dokument NKWD о zozstrze Ianiu о. Pawla Florenskiego // Wiadomosci polskiego autokefalieznego ko- sciolo prawoslawnego (Kwartalink) 21.1991 (79). С 24 Warsavawska Metropolia Prawoslawna.
Брянцев Николай Яковлевич—з/к, соавтор П. А. Флоренского по заявке на изобретения, жил с ним в одной комнате осенью 1935 г.: «1889 г. р., ур. г. Варшава, обр. высшее, работал в Новосибирске в Крайплане инженером». Приговорен к BMH 9. Х.1937 г. Расстрелян 27. Х. или I—4. ХІ.1937 г. под Медвежьегорском.
Трегер—з/к., вероятно, это бельгийский инженер А. Н. Трейгер. Cm.: Чирков Ю. И. А было вде так… М., 1991. С. 73. — 294.
2267
Качииский Н. А. Замерзание, размерзание, влажность почвы в зимний сезон в лесу и на ѣолевых участках //Тр. НИИ почвоведения при физико–математическом факультете МГУ. М., 1927. 168 с. — 295.
2268
В конверт вложены две пластинки альгината. — 296.
2269
По мнению В. П. Петрова, ученика А. А. Флоренского, речь идет об открытии месторождения мраморов в Осетии: —296.
2270
Сербский эпос/ГІер. Н. В. Беріа, Н. М. Гальковского, Н. И. Кравцова. М.: Л., 1933. 652 с. — 299
2271
Оъредной переезд произошел в конце сентября 1935 г. Все работники ПСБ стали жігь в камерах, в Кремле. Новое ужесточение режима. О ton, что за заключениями осуществлялось постоянное наблюдение, свидетельствуе" очередной донск с/с Хапанели. Он опубликован: Шенталинский В. Удел величія//Огонек. 1990 № 45 (3303). С. 26—27; Флоренский Павел. Письма из конілагеря// Знамя. 19>1. № 7. С. 194—195. — 300.
2272
Омар Хайям (ок. 1048—1123) обрел популярность в России лиііъ после 1950–х годэв, когда были изданы переводы его рубаи. —302.
2273
Веточки были вложены в конверт. —303.
2274
Здесь отсутствует четверть письма, скорее всего к Василию или Кириллу. — 304.
2275
Размеры комнаты отсутствуют. —305.
2276
Поэма Андрея Белого «Первое свидание» впервые опубликована в газете «Знамя» (эерлин. 1921. № 2). Отдельные части поэмы под разными названиями выходили в 20–е годы. —305.
2277
Рисунок белочки сделан черной тушью на листочке (13x9 см) и зафиксирован буроватым фиксатором. —305.
2278
Плипников Н. М. Янгал–Маа. М.; Jl., 1933. 616 с. «Янгал–Маа» — вогульская поэма со статьей автора «О вогульском эпосе». Там же опубликована и вольная обработка поэмы «Янгал–Маа» Сергея Клычкова. Он был арестован 31. VII и приговорен к расстрелу 8. Х.1937 г. —306.
2279
По мнению соловчанина Н. Н. Рацена, это художник–прикладник Пятых. В семье потомков з/к соловчанина В. Ф. Тверетинова хранятся шкатулки и рамки для фотографий работы Пятых. — 307.
2280
Письма № 33, 34 отсутствуют. —308.
2281
Потапов Иван Федорович — учитель физики Оли. — 309.
2282
Аристотель. Метафизика. Кн. 5. Гл. 11. С. 1019 а 8. —312.
2283
Смочить. — 313.
2284
Письмо № 36 отсутствует. — 314.
2285
Быть может, еще предстоит найти опубликованные или в рукописи статьи о водорослях с участием П. А. Флоренского. Р. Н. Литвинов З. ХІ пишет: «…та работа, которую мы вели в прошлом году и не могли закончить в этом году, переходит уже в полузаводскую установку… Мы разработали целый ряд применений водорослевых продуктов и для бумажной промышленности, и для текстильной, и т. д. Взяли, вернее, сдали в БРИЗ штук 8 заявок на изобретения…» Известны пять авторских свидетельств, выданных П. А. Флоренскому и соавторам в 1936—1937 гг.: I) П. А. Флоренский, Н. Я. Брянцев, Ю. Е. Станилевич. «Способ изготовления краски». Заявлено 21 февраля 1936 г. 2) П. А. Флоренский. Ю. Е. Станилевич. «Способ художественного оформления тканей». Заявлено 21 февраля 1936 г. 3) П. А. Флоренский, Р. Н. Литвинов, Н. Я. Брянцев. «Способ комплексной переработки водорослей». Заявлено 27 марта 1936 г., № 190281, опубликовано 31 мая 1937 г.. № 51091. 4) П. А. Флоренский, P Н. Литвинов, Н. Я. Брянцев. «Способ изготовления термоизоляционного материала». Заявлен 11 мая 1936 I., № 193795, опубликован 31 августа 1936 г.. № 49229. 5) Р. Н. Литвинов, П. А. Флоренский. «Экстрационный аппарат». Заявлено 11 мая 1936 г. № 193796, опубликовано 30 ноября 1937 г., — Nb 51929. — 315.
2286
Ahnfeltia plicata. —317.
2287
Аналогичные идеи — о бинокулярном зрении как одной из причин обратной перспективы— развивает Б. В. Раушенбах в книге «Пространственные построения в живописи. Очерки основных методов» (М., 1980). Cm. также: Жегил Jl. (Шехтель JF. Ф.). Воспоминания о Павле Флоренском//Надежда: Христианское чтение. Вып. 7. 1980. С. 275—297; То же. Вестник РХД. № 135. Ill-IV. 1981. С. 60—70; Жегин Л. Ф. Язык живописного произведения (Условность древнего искусства) / Вступ. ст. Б. А. Успенского: К исследованию языка древней живописи. М., 1970. —319
2288
Дервиз Елена Владимировна (1890—1973)—пианистка, родная сестра М. В. Фаворской, племянница Н. Л. Симонович–Ефимовой. —319.
2289
Адрес на сопроводительное талоне к почтовому переводу заполнен рукой П. А. Флоренского. Для письма—другой рукой: «По поручению Флоренского Павла Александровича посылаем Вам р. 60». —321.
2290
Отрывок из поэмы «Оро», гл. XXXI. Полностью глава прислана в п. № 71 от 13. VIII.1936 г. —331.
2291
Возможно, это з/к Кази–Заде Керим–Водул–оглы (1900—1966), арест. 25. Х. 1927 г., в Соловецком лагере заведовал опытной сельскохозяйственной станцией. —340.
2292
Из письма Р. Н. Литвинова (16. ХІІ.1935 г.): «Вчера мы получили так называемый агар–агар из водоросли, готорая носит имя «анфельция пликата» и в полузасохшем виде напоминает твои волосы. Из нее мы выварили вещество, которое прибавляется в мармелад для его застудевания… Ставим производство, сначала небольшое, с тем, что если пойдет удачно, то развернуть его до грандиозных масштабов. Если удастся-то будет создана совершенно новая промышленность, не удастся—будет ценный опыт, которым полезно будет поделиться. За прошлый год мы написали несколько статей, которые должны быть напечатаны». Таким образом, первый агар–агар получен 15 или 16. ХІІ.1935 г. —349.
2293
Джонсон Бен. Драматические произведения. Т. I-II. М.; Л., 1931 —1933. — 356.
2294
Пушкин А. С. Переписка: В 3 т./Под ред. и с прилож. В. И. Сайтова. Т. I (1815—1826). СПб., 1906; Т. II (1827—1832). СПб., 1908; Т. III (1833—1837). СПб., 1911. —357.
2295
Речь идет об ожидании ребенка в семье Василия. — 358.
2296
Ферсман А. Е. Іеохимия: В 3 т. Т. I. Л., 1933. 328 с. Л., 1934. 324 с.; Т. II. Л., 1934. 354 с.; Т. III. Л., 1937. Вероятно, третий том назван ошибочно — 358.
2297
Из письма Р. Н. Литвинова от 21.1.1936 г.: «…тут, конечно, всякие разговоры о скидках и о том. что. просидев полсрока, можно рассчитывать на условное освобождение. Это пока что меня никак не устраивает и поэтому не волнует. Через пару месяцев картина станет яснее… Могу только сказать, что начальство намекнуло моему приятелю и мне, что если наши работы увенчаются успехом, то можно ждать изменений в положении. Ho работы не то чтобы очень подвинулись. Так что рассчитывать на что-нибудь в этом направлении затруднительно…»
Действительно, рассчитывать было не на что. Приводим очередную рабочую сводку (дело № 212727, с. 689):
Сов. екретно
Рабочя сводка
3–й чгти 8–го Соловецкого отделения ББК НКВД
По состоянию на 31/1–36 г.
Политнастроения:
З/к Флоренский Павел Александрович (ст. 58—10—11, ср. 10 л.) 15 января, бесдуя с з/к Гёндлиным ю вопросу о возможностях досрочного освобождения из лагеря, говориі последнему: «Я лігно от такого рода освобождения хорошего ничего не жду. Сидеть в лаг^эе сейчас спокойнее, т к. не нужно ждать, что тебя каждую ночь могут арестовать. А ведь на воіе только так и посгуіают, как только прцдет ночь, так и жди гостей, которые пригласят тебя на Лубянку».
Кндлш Евгений Исаакович (1890—?)—з/к, по мнению солоачанина И. А. Викеітьева, это собеседник П. А. Флоренского, путешественник, рассказывавший о Северной Америке, Австралии. Член РСДРП с 1904 г., окончил Іарвардсюй университет в США, после революции работал там в посольстве СССР, поже вернулся и работал в Госиздате. В 1931 г. арестован пс статье 58–7 УК РСФСР (вредительство), отбыв срок, освобожден в 1941 г. и работал в Карелии. —365.
2298
Горшчная С. И. Огневой. —366.
2299
Об успехах Мика в фотокружке в Доме пионеров говорится в статье Евгения Лопатина «Изобретательная юность» (Вперед (Загорск). 1936. 10 янв.). —166.
2300
Арьжас Г Я. Введение в фотографию: Пособие для учащихся любительской фотографии. М.; Л., 1927. 251 с.; 1931. 151 с. —366.
2301
Meyer’s Konversations-Lexicon: В 15 т. Голыптиния; Тюбинген, IS67. Вероятно, это раннее издание разговорного словаря было в семье Флоренских в Тифлисе. — 368.
2302
Густав–Адольф Іирн (1815—1890)—член Петербургской Академии наук (с 1866 г.). Авгор книги «Механическая теория теплоты». —369.
2303
Cm.: Шеллинг Ф. О мировой душе. Гипотеза высшей физики для объяснения всеобщего организма, или Разработка первых основоположений натурфилософии на основе начал тяжести и света И Шеллинг Ф. В. И. Соч.: В 2 т. Т. I. М., 1987. С 89—181 Гнапр., с. 96). — 369.
2304
Hermann Staydinger (1881 —1965), лауреат Нобелевской премии, автор книги: Anleitung zur organischen qualitativen Analyse. Berlin, 1923, 2 Aufl. —1929; Mark И. Die Verwendung der Rontgenstrahlen in Chemie und Technik. Leipzig, 1926. —369.
2305
Флоренский П. А. Слюда //Техническая энциклопедия. Т. 21. М., 1933. С. 259—304. —369.
2306
Это получилось в результате исправления «то» на «одно». —369.
2307
В эти же дни А. М. Флоренская предпринимает с помощью Екатерины Павловны Пешковой новые хлопоты. На очередной ее памятной записке в НКВД появились новые сведения: «Флоренский Пав. Ал. — др., была просьба Масарика, переданная мне чешским послом Славеком, о замене Флоренскому, как крупному ученому, лагеря высылкой за границу, в Чехию, где он предоставит ему возможность научной работы.
После моих переговоров с женой Флоренского, которая заявила, что за границу уехать ее муж не захочет, я просила лишь об освобождении Флоренского «здесь»». И пометка на полях рукой Е. П. Пешковой черными чернилами: «ар. 25/П–ЗЗ г. М. О. ст. 58—10 и 58—11. Запр.: прошло ли?» Карандашом: «36 г. осень, обещали пересмотр.» (л. 2), а на дубликате—л. 3: «не пересмотрели. Е. П. 36 г.» (Архив А. М. Горького в ИМЛИ РАН, фонд Е. П. Пешковой. ФЕП — био, 20–2-55, кн. п. 1892. Сведения в НКВД о Флоренском П. А., л. 2). —371.
2308
Трубачев Сергей Зосимович (26. ГІІ.1926—25. Х.1995)—одноклассник старшей дочери П А. Флоренского* Ольги, а позже ее муж. Музыкант, дирижер, церковный композитор. — 374.
2309
Іиацимтова Нина Александровна (14. ХІІ.1915—1991)—племянница А. М. Флоренской, крестная дочь П. А. Флоренского. — 375.
2310
Конобеевский С. rL—сотрудник ВЭИ в 1922—1927 гг. Физик, член–кор. АН СССР. —385.
2311
Сергеев–Ценский С Н. Невеста Пушкина. М., 1934. —386.
2312
Гончарова Екатеріна Николаевна жила в Сергиевом Посаде, содельшша П. А. Флоренского по аресту в 1928 г. —386.
2313
Три содельника: «Вурдюков Иван Иванович, 1905, ур. Ляли Удмуртской а. о., русский, преподаватель химии. Прот. Засед. КОГПУ от 04.11.33 приговорен к расстрелу с заменой О лет лагерей», 1937 г. Вероятно, о нем и говорится «молодой помощник хшдек».
Кузебай Іерд—з/к— литературный псевдоним Кузьмы Павловича Чайнико- ва, «1898 г. р., гр. СССР, /р. д. Б. Донвя Іорьковского края, преподаватель, вотяк. Осужден КОГПУ 04.11.33 к ВМН, с заменой 10 лет в ИТЛ».
Сестра писателя опубликовала предоставленные архивом семьи Флоренских отрывки из писем П. А. Флоренского: Кувшинова Р. Кузебай Іерд: годы в неволе // Удмуртская правда. 1990. 16 июня. С. 3.
«Яковлев Константиі Сергеевич, 1891 г. р., ур. Удмуртской а. о., Алможского р–на, удмурт, гр. СССР, работал Зав. Плановым сектором Ижевского техно–эл. центра. Осужден КОГПУ 09.07.33 по ст. 58—8, 11 УК к заключению в ИТЛ сроком на 10 лет». Все трое приговорены к BMH 9—10. Х, расстреляны 25. Х или I—4/ХІ-1937 г. под Медвежьегорском. —388.
2314
Зарубин Иван Иванович (З. ХІ.1887—27.ІѴ.1945)—отец Н. И. Флоренской, брат О. И. Іиацинтовой, агроном. Зарубина (урожд. Николаева) Анна Лаврентьевна (30.ІѴ.1887—9. ХІІ 1959) — мать Н. И. Флоренской, учитель русского языка и литературы. —392.
2315
Ефимов Адриан Иванович (р. 29.111.1907)—сын И. С. Ефимова и Н. Я. Си- монович–Ефимовой, его жена Екатерина Александровна (p. 7. Х.1914). Друг К. П. Флоренского, гидрогеолог. — 393.
2316
Бизе Альфред. Истерическое развитие чувства природы / Под ред. Д. Карба- чевского. СПб., 1890. —396.
2317
Из книги Ю. И. Чиркова «А было все так…» (М., 1991): «…все ученые отдавали пальму первенства Павлу Александровичу Флоренскому, выдающемуся математику, химику, инженеру, философу, богослову и протоиерею… В Соловках он работал в проектно–сметном бюро, где разрабатывались проекты на далекую перспективу. Он был очень скромен, даже застенчив, здороваясь, снимал шапку и низко кланялся, носил довольно длинную бороду и такие же узенькие очки в железной оправе, как и Петр Иванович Вайгель—мой учитель немецкого языка». — 401.
2318
Соколов П. П. Воспоминания/Ред., вступ. ст. и примеч. Э. Іоллербаха. Л., 1930. — 402.
2319
Голлербах Э. В. В. Розанов. Жизнь и творчество. В первом издании (Пг., 1918), просмотренном В. В. Розановым, писем не было, они появились во втором (Пг., 1923) и в третьем (М., 1991. С. 68—74). Раздражен П. А. Флоренский, видно, еще и тем, что в своих похвалах В. В. Розанов часто ссылается и на якобы высказанное П. А. Флоренским высокое мнение о Іоллербахе. —402.
2320
Переплетенные годовые комплекты «Nature» хранились в Тифлисе и перевезены в Москву. —403.
2321
Berard V. Les Pheniciens et FOdyssee. Т. 1,2. Paris, 1902—1903. —405.
2322
Хлебников В. Око: Ороченская повесть / Публ. и предисл. П. Іирн//30 дней. 1936. № 2. С. 95—96. В. Хлебников обращался к ороченской теме в 1913 г. —406.
2323
13.111.936 г. Н. И. Флоренская писала А. М. Флоренской. Быть м*жет, примерно та: же она писала и П. А. Флоренскому: «Мы только что приехаш из Нары, Вася ірямо проехал на службу, а я пришла домой и сразу же пишу Вам ответ… Видго, они оба с Кирой испортили себе желудки беспорядочным писанием. Сегодня I из Нары доехала с большими мучениями и сейчас чувствую себя совсем разбитой. Васе опять предлагают ту же группу, что и в прошлом голу по Кавказу, вези по Уралу, ехать на первую половину июня, с 1–го по 15–е, и οι еще не дал ответ из-за моих родов… Внук Ваш чувствует себя, видимо, хорошо, устраивает т«кие танцы, что даже иногда больно. Вообще озорник, видимо, ^удеі ужасный. Прислал ли Павел Александрович имена? Мы с Васей пока остаюви- лись на Елеіе и Сергее, а там не знаю… Крепко целую Вас, бабушку и всех детишек». —‘15.
2324
Лучше—враг хорошего (фр.). —415.
2325
Письмэ это было передано В. И. Вернадскому, как и копия с него, переписаннаі А. М. Флоренской. В. И. Вернадский вернул подлинник в конверте К. П. Флоренскому с собственноручной надписью. Копия хранится в Архиве В. И Вернадского (Архив РАН, ф. 518, оп. 3, д. 210 ЗА, л. I—7). — 424.
2326
Cm.: Флоренский П. А. Физическое значение кривизны пространства Из курса лекций 1923/24 г. во ВХУТЕМАСе по анализу пространственности в ізоб- разительно–х^дожественных произведениях//Математическое образование. 1928. № 8. С. 331—336. О кривизне и описании формы см. последнее письмо П. А. Флоренского (№ 103 от 18—19. VI. 1937 г.) старшему сыну В. П. Флоренскому. —428.
2327
Vernadiky V. I. La probleme de radiogeologie. Paris, 1935. —430.
2328
В ВЭИ работал Федор Федорович Волькенштейн. —430.
2329
Cm.: Священник Павел Флоренский. Имена. Вып. I. М., 1993. Подготовка текста игумена Андроника (Трубачева) и С. Л. Кравца. После издания этой ениги начались публикации отрывков из нее в разных изданиях, напр.: Имя—судьба: Книга для родителей и крестных. М., 1993. С. 8—100. —432.
2330
Симонович–Ефимова Н. Я. Записки петрушечника. М., 1925. Предисловие к книге о кукольном театре Ефимовых написал П. А. Флоренский, но оно полностью было опубликовано лишь в 1996 г.: Священник Павел Флоренский. Соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1996. С. 532—536, 788. Симонович–Ефимова Нина Яковлевна (1877— 1948)—жена И. С. Ефимова, художник. Н. Я. Симонович—автор портретов П. А. Флоренского, неоднократно публиковавшихся. —434.
2331
Фаворский Никита Владимирович (1915—1941) и Фаворский Иван Владимирович (1924—1945) погибли на фронте; Фаворская Мария Владимировна (р. 1930)—художница. — 434.
2332
Гёте И. В. Собр. соч.: В 13 т. Т. I: Лирика/Под ред. А. Г. Гкбричев- ского и С. В. Ширвинского; Ст. и примеч. А. Г. Габричевского. М.; Л., 1932. — 437.
2333
Талон к почтовому переводу: «По поручению Флоренского Павла Александровича пересылаю Вам 45 руб. Начальник финчасти (подпись). Ст. бухг–р (подпись). 16.ІѴ.36. От финчасти Соловецкого отд. ББК НКВД о. Соловки AK ССР». —440.
2334
Портрет Кире см. на с. 367, Анне Михайловне—на фронтисписе наст, изд. — 441.
2335
Сюлли–Прюдом (Рене Франсуа Арман Прюдом), французский поэт, лауреат Нобелевской премии (1901). —442.
2336
Письм о адресовано М. В. Юдиной. —442.
2337
В Радиевом институте К. П. Флоренский не работал.—443.
2338
Я. Я. Хан—соавтор П. А. Флоренского по статье о форме обломков. — 449.
2339
Флоренский П. А. Пористость июляторного фарфора: Работы лаборатории испытания материалов//Тр. Государственного экспериментального электротехнического института. Вып. 19. М., 1927.55 с. —449.
2340
Зарисовки отсутствуют. —450.
2341
Вегенер А. Термодинамика атм>сфер. М.; Л., 1935. 264 с. —450.
2342
Павлинов П. Я. Ірафическая ірамота. М., 1933; 2–е изд. М., 1935; 3–е изд. М., 1935. С измененным назваіием: Каждый может научиться рисовать. М., 1966. —455.
2343
Іреческие стихи Вяч. Иванова есть в двух сборниках, в т. ч. «Снежная тайна» (Пг., 1914). О взаимоотношениях Вяч. Иванова и о. Павла Флоренского//Вестник РХД (Париж: YMCAPress). 1990. № 160. С. 118—140. — 455.
2344
Цифра не проставлена. —464.
2345
О моренных отложениях Соловецкого архипелага см.: Флоренский П. В. В поисках осколков времени: Записки экспедиции с о. Анзер//Бежин луг. 1996. № 4. С. 152—172. —472.
2346
Последние работы В. П. Флоренского и его незавершенная докторская диссертация посвящены метаморфическим докембрийским породам Русской платформы, т. е. развитию идей этого письма. —481.
2347
Вегенер А. Происхождение континентов и океанов. 2–е изд. на рус. яз. М.; Л., 1924; 3–е изд. Л., 1934. Теорию Вегенера пропагандировали тогда академик А. А. Борисяк и друг и ученик В. И. Вернадского Б. Л. Личков. Сейчас теория А. Вегенера, трансформированная в тектонику плит, считается общепринятой. —481.
2348
Рисуни зари размером 120 х 105 и 162 х 112 см. —483.
2349
Глинково —село в окрестностях Сергиева Посада между Іефсимакким скитом и Ви(^некой обителью, возле небольшой речки Глинки. Дорога в Ілинсово шла через Іифанские пруды и рощу—места прогулок П. А. Флоренского с детьми. В Гпинкове стоял храм, построенный в начале XIX в. В 30–е оды в летнее вреш Оля иногда ходила в этот храм за 3—4 км. Из Ілинкова в Госад приезжала на подводе знакомая Анне Михайловне крестьянка, ставила во, шоре дома Флоренских лошадь и уходила па рынок. —485.
2350
Примаительно к геологическим образованиям эта мысль развита в представлеши о геологических формациях–фантомах — размывах и перры- вах, т. е. формациях, которых нет. На меньшем уровне наблюдения это горы, как «некристіллы» в породах хемогенных или «необломки» в породах обломочных. Cm.: Флоренский П. В. Комплекс геолого–геофизических и дистанционных методов для изучения нефтегазоносных областей. М., 1982. С. 5—11, 73—83. — 486
2351
Энантюморфные, т. е. противоположные, «зеркальные» формы. Cjobo «энантиомороные» встречается в первой фразе дневниковых записей В. И. Вернадского о К. А. Флоренском 27 февраля 1921 г. на ст. Лозовая, когдг он ехал из взятою большевиками Крыма в Москву и читал труд священника Півла Флоренского «Столп и утверждение Истины» (М., 1914. С. 53): «54. Любопытен перенос ггич. энантиоморфн. симметрии в область логических представлений…» (В. И. Вернадский и семья Флоренских. М., 1993. С. 47—4·). — 486.
2352
О Заячыіх островах П. А. Флоренскому рассказывал Р. Н. Литвинов, который только что побывал на них. — 491.
2353
Пушкин А. С. Евгений Онегин. Глава пятая, строфа XXVII. —493.
2354
Возможно, Христина Сергеевна, жена священника Николая Васильевича Арсеньева. Они оба также были близки к владыке Антонию, вместе с ним приезжали в Московскую Духовную Академию на защиту магистерской диссертации о. Павла 19 мая 1914 г. —501.
2355
Русские художники. Собрание иллюстрированных монографий / Под ред. И. Э. Грабаря. М., 1911 —1913. —506.
2356
Мастера искусств об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников и трактатов: В 4 т./Под ред. Д. Аркина и Б. Чернова. М.; Л., 1933—1939. — 507.
2357
Беседы (фр.). —507.
2358
Пион Млокасевича (Paeonia mlocosewitschii Lomakin). Существует эндемичный вид тюльпана, названный в честь Александра Александровича, — тюльпан Флоренского (Tulipa florensky Woronow). Так назвал его известный исследователь Кавказа, ботаник Юрий Николаевич Воронов, дед археолога, премьер–министра Республики Абхазия Ю. Н. Воронова. —507.
2359
Richardson С. L. Modem asphalt pavements. N. Y., 1908; Асфальтены//Техническая энциклопедия. Т. I. М., 1927. Стб. 722. —509.
2360
По старому стилю. —511.
2361
Наливкиы Д. В. Учение о фациях. Условия образования осадков. Л., 1932. 208 с. —511.
2362
В эти, дни премировали работников Йодпрома, т. е. сотрудников П. А. Флоренского. Приказ разыскал в Государственном архиве Республики Карелия Ю. А. Бродский.
ПРЖАЗ
по БЕЛОМОРО–БАЛТИЙСКОМУ KONBHHATY НКВД ст. Мед–Іора № 00370 » » 1936 года
Содержание: О премировании за осущетвленные на строительстве и на производстве ББК рационализаторские предложения.
За полезную для строительства и произюдства ББК рационализаторскую работу ПРИКАЗЫВАЮ
премировать заявивших себя ценными рационализаторскими предложениями работников
ББК.
Премированию подлежат нижепоименоваіные лица:
ПО № 1–му ОТДЕЛЕНИЮ. Медногореніый
37. Коллектив работников Йодпрома: з/к Зубченок П. И., —
з/к Илясов Л. С., з/к Казазарян А. А., з/к Осипов А. H., з/к Павловский В. К., з/к Попов А. И., з/к Петрик И. E., з/к Тарайковский В. В., з/к Уралов М. И., з/к Флоренский П. А., з/к Эннок Ac. А., з/к Ярошев Г. П.
Зам. начальника ББКОМБИНАТА НКВД и начальника Упр. лагеря 18. VII
людях, премированных вместе с П. А. Флоренским, почти ничего не известно. В списках расстрелянных найдено трое премированных:
«Павловский Вячеслав Константинович, 1910 г. р., ур. с. Рудня, Камышинского у., б. Саратовской губ., КОГПУ от 02.12.31 по ст. 58—б, 8, 9, 19—58—10 УК осужден в к/лаг. сроком на 10 лет». Осужден к BMH 14. Х, а расстрелян 25. X или I—4. ХІ.1937 г. под Медвежьегорском; «Попов Анатолий Иванович, 1894 г. р., ур. Томска. Служил техником в механической мастерской в г. Томске, б/п, б. белый офицер, в чине капитана, участник Омской офицерской к–p. повстанческой организации в 1918 году. КОГПУ от 05.08.33 пост. 58—2—11 УК осужден в ИТЛ сроком на 10 лет». Осужден к BMH 9. Х, расстрелян 27. Х или I—4. ХІ.1937 г. под Медвежьегорском; «Ярошев Іеоргий Павлович, 1908 г. р., ур. г. Ростов–на–Дону, рабочий». Приговорен к BMH 25. ХІ и расстрелян 8. ХІІ.1937 г. в Ленинграде. —513.
2363
Этот студент есть в списках расстрелянных: Кароньян Корсон Акопович, 1903 г. р. Приговорен к BMH 9. Х, а расстрелян 25. Х или I—4. XI. 1937 г. под Медвежьегорском. —516.
2364
В собрании П. А. Флоренского имелось фортепианное переложение симфонии. На вечере выпускников Загорской школы–десятилетки 30 июня 1936 г. исполнялась Детская симфония І&йдна, подготовленная по предложению Оли Флоренской. В исполнении участвовали ученики Марии Афанасьевны Бобылевой: Сережа Трубачев (дирижировал оркестром), Оля Флоренская и Лида Ершова (партия фортепиано в четыре руки), на детских инструментах (труба, барабан, треугольник, трещотка, кукушка, соловей, перепел) играли Ваня и Маша Фаворские, Наташа и Женя Масалины, Тика Флоренская и др…. Через день симфонию повторили на концерте учеников М. А. Бобылевой, устроенном в связи с приездом Марии Вениаминовны Юдиной (по воспоминаниям С. 3. и О. П. Трубачевых). —517.
2365
А. А. Флоренский летом 1936 г. работал на Камчатке. —518.
2366
Ог Г. Э. Іеология. Т. I. 2–е изд. М., 1922. 296 с. —520.
2367
Ьегипча—дерево, пораженное молнией
2368
сосна, сосновая поросль.
2369
Зачеркнуто «без нее». —525.
2370
Талон к почтовому переводу: «По поручению Флоренского Павла Александровича тревожу вам (А. М. Флоренской. — Ред.) 40 руб. Начальник фииасти (подпись); ст бух. (подпись) 23.07.36» от «Финчасти 8 Солов. Отд. ББК НКЩ о. Соловки АКСГСР». —528.
2371
Правиьно — Rhodophyceae. —529.
2372
«Желаье поэта» (Козьма Прутков. Полн. собр. соч. М.; Jl., 1933. С. 109). —530
2373
Предчъствие оправдалось: после какой-то прививки у внука начался сепсис, который действительно переместился в брюшину. Спасло то, что лать кормила· его олько грудью и Ю. А. Флоренская мазала ему животик маслсѵі от лампады Серафима Саровского. —531.
2374
Связи солнечной активности с процессами в биосфере и социалыыми явлениями пссвящены исследования А. Л. Чижевского. Сохранилась его кшга «Физические факторы исторического процесса» (Калуга, 1924) с дарствеіной надписью П. V. Флоренскому. — 531.
2375
Флоренский В. П. Геология и полезные ископаемые Нуратинских гор Ta- джикско–Памірская экспедиция 1934 г. (Материалы экспедиции. Вып. XXX). М.; JT., 1936. (Соіместно с Б. Л. Баскиным, В. С. Мясниковым.); Флоренский I. П. К минералогш и геологии Варзоба. Таджикско–Памирская экспедиция 19)3 г. (Материалы э: спедиции. Вып. XXIV). Л., 1936. (Совместно с Н. А. Смольяніно- вым, Б. Л. Баскиным, К. Я. Михайловым, В. С. Мясниковым.)—532.
2376
hegipca—дерево, разбитое молнией
2377
сосны
2378
Правильно: лук–скорода—Allium schoenoprasum. —542.
2379
Рисунок с натуры размером 190 х 140 см на фильтровальной бумаге, гро- питанной альгином. Справа: «Верхняя часть волокна из слоевища Ahnfeltia plicata (V, естеств. вел.)». —546.
2380
Рисунок (на с. 556 — верхний) размером 175 x 129 см. Текст на рисунке: «Нити, соединяющие ракушки и стебли—это т. н. морской шелк, —шелкообразное, чрезвычайно прочное вещество, производимое моллюсками (Виссос) и применявшееся ранее в хирургической практике». Рисунок (на с. 556—нижний) размером 180 X 135 см. «Влажность свежей водоросли 71,75%, влажность воздушносухой 16,28%. При выпаривании дает гель агаровой природы, с выходом сухого остатка 42,27%». Слева на рисунке: «Одна из листовых пластинок в распластанном виде. Изображение точное, по размерам. Целое слоевище было высотою 12 см, шириною 16 см, массою 56 г, тогда как одна пластинка обладала массою 1,78 I в средн.». —555.
2381
Фотография портрета Л. В. Бетховена хранится в семье. —562.
2382
Голубок висел под лампой в Загорске, в центральной комнате, где росли дети Василия. Теперь он висит в комнате праправнука П. А. Флоренского—Ивана (р. 8. ХГ. 1993). —563.
2383
Малиновская Екатерина Антоновна—учительница английского языка детей П. А. Флоренского, а также Н. И. Флоренской. —563.
2384
Арманд Мрина Львовна (5.1.1916—29.Х.1988)—дочь двоюродной сестры П. А. Флоренского Т. А. Арманд (Сапаровой) и Льва Эмильевича Арманда. Пре-подаватель МГУ, репрессирована в 1947 г.—573
2385
Василий Шиоевич...— сын Варварь Павловны Сапаровой и Шио Дави-довича.—573.
2386
Ошибка: письмо написано 29—30 октября. —582.
2387
Водоросли занимают много места I в письмах Р. Н. Литвинова, например от 23. ХІ.1936 г.: «Если ты будешь смаиваться йодом, то, может быть, ты смажешься йодом моей работы. Ho есть и более приятные комбинации, а именно, ты можешь попасть на мармелад, свареннлй на агар–агаре, который приготовлен тоже при моем участии. Это очень занятнее производство. Водоросль, из которой получают агар–агар, раньше считалась чем-то вроде сорной травы и выбрасывалась. Она похожа на мох, но нежно–лыювого или красноватого цвета. Мы собираем ее на берегу, высушиваем, варім и отвар застуживаем в студень. Его режут на пластинки и трое суток моют £ проточной воде. Тогда он становится совсем бесцветным. В таком виде его вьсушивают на медленно вращающемся барабане и снимают в виде тонкой пол/прозрачной пленки. Я из нее сделал великолепный абажур. Этого вещества процента два–три прибавляют в мармелад для студневого состояния…»—583.
2388
Детский врач семьи Флоренских в Тифлисе. — 585.
2389
Письмо № 80 отсутствует в нем были главы «Оро» (см. письмо № 84). — 598.
2390
Из письміа Р. Н. Литвинова 23. ХІ.1936 г.: «…что хорошего и утешительного в том, что сегодіня такой ветер?.. Это, во–первых, очень красиво, а во–вторых, нам накидает водорослей. А в этом году погод была немилостива; бурь и штормов почти не было, и поэтому водоросли мирнслежали на морском берегу… Поэтому программа по сбору водорослей выполнен, неполностью». —599.
2391
Рисунок размером 140 x212 см. На обороте: «Ок. 1000:1 нат. вел. Длина ячейки 650μ, ширина ячейки в широком месте 300μ, а в узком 110—120μ. Толщина стенок ячейки у основания 15μ». —602.
2392
He исключено, что здесь говорится о Моисее Парамоновиче Шаше «1897 г. р., гр. СССР, украинец, ур. Киевской обх., Іороднянского р–на, крестьянин, б/п. Осужден КОГПУ 23.04.32 по ст. 58—2, 11, >9—3 УК к расстрелу, с заменой 10 лет ИТЛ». Приговорен к BMH 14.11, а расстрелян 20.11.1938 г. —605.
2393
Рисунок размером 135x 182 см. На обороте: «Подвид intermedia nova, установленный Е. С. Зиновой (Е. С. Зинова, Водоросли Мурмана, ч. I, СПБ. 1912, «Труды С. Петербургск. О–ва Естествоисі.». Т. 43, 1912, Отд. Ботаники, № 3, стр. 268) для вида Rhodophyllis dichotoma относится к роду Rhodophyllis Kutz., семейства Rhodymeniaceae (Нагѵ.) J. G. Ag. класса Rliodophyceae. Слоевище 10 см длины, I—5 см ширины с частыми длинными краевыми усиками различной ширины; стебелек заметен, но короткий. Произростает по большей части эпифитно на ламинариях, птилоте, делессерии и др. водорослях, в сублиторальной и элиторальной зонах на глубине от 3,0 до 60 м». —605.
2394
Упомянутые в тексте копии представлены в виде книжечки, сшитой белой ниткой. Размеры книжечки 19,5 х 11,5 см, число страниц 20, считая «обложку». На «обложке»:
«ВОДОРОСЛЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЯПОНИИ.
Hugh М. Smith. The Seaweed Industries of Japan. (Bulletin of the Bureau of Fisheries. Vol. XXIV. 1904. —Washington, 1905, pp. 135—165).
[C. 2. 3 рисунка водорослей.] Аманори, или салат (Porphyra laciniata); Фунори, водоросль, идущая на клей (Gloioreltis coliformis); Тенгуза, водоросль, идущая на кантен (Gelidium comeum).
[С. 3. 2 рисунка водорослей.] Водоросль, идущая на добычу иода. Кайиме— Ecklonia саѵа; Водоросль, идущая на добычу иода. Араме—Ecklonia bicyclis.
[С. 4. 4 рисунка водорослей.] Laminaria longipedalis; Laminaria japonica; Alaria crassifolia; Arthrothamnus bifidus.
МОРСКАЯ КАПУСТА—водоросли, идущие на комбу.
[С. 5.] Изготовление пучков бамбука или хвороста для культивирования морского салата.
В Японии морской салат составляет предмет особой, подводной, сельскохозяйственной культуры. В 1901 г. возделывалось 380 га, дававших доход 148 862 доллара, а в 1903 г. доход от подводных полей был 300000 долларов. Сухого продукта получается с I га 2,37 тонны.
[С. б. 2 рисунка.] Втыкание связок хвороста, на которых растет салат
Связка хвороста и конический таран (зачеркнуто «с тремя». — Ред.), применяемый для втыкания связки в мягкое дно. На этих пучках задерживаются приносимые тчениями споры морского салата и прорастают, образуя подводгые поля в желатаьном месте.
[С. 7.] Иготовление слоев салата (laver sheets).
[С. 8. 2 μογηκα.] Промывка салата, предшествующая сортировке и нарзке его. Сортирока и нарезка салата.
[С. 9.] Преработка Porphyra.
[С. 10. 2]исунка.] Печь для варки Gelidium при производстве кантена.
Пресс дл: отжимки сырца водорослевого геля.
[С. //.] Різливка жидкого кантена в форме для застывания.
[С. 12.] Інструмент для разрезания водорослевого геля на куски и броски (sticks and Ьав). Японцы получают кантен из Gelidium corneum, тенгузы; саѵіое название тенгза, сокращенное из кантенгуза, означает «водоросль для кантеіа». Стоимость box водорослей для кантена в Японии (в 1903 г.) за год составила 113 140 долларов.
Кантен вырабатывали 500 предприятий, обслуживавшихся каждое 70—80 рабочими, прі средней годовой производительности 3000 кин (ок. 4000 фунтов). Способ производства кантена вымораживанием был открыт в 1760 г. В 19(2 г. было выпущею около 3000000 фунтов кантена на сумму 750000 долларов.
[С. 13.] Бэусковый или «квадратный» кантен (Bar or «square» kanten).
[С. 14.] Связка кантена в полосках («slender» kanten).
[С. /5.] Ролл фунори (ок. Vio нат· вел.).
Клей фуюри стали выделывать японцы с 1763 г. На фунори идет гл. обр. водоросль Cloopeltis coliformis (правильно в написании родового названия: первая буква должна быть Gloiopeltis. — Ред.), но наилучший продукт получается из водоросли Cloiopeltis intricata, по–японски фукаро–фунори. В 1903 г. фунори производился более, чем 100 предприятиями, каждое с 15—20 рабочими. I фунт стоил
24 цента—наилучшего сорта, и 3—3,6 цента—нисшего сорта. Годовая продукция была 2—3 миілиона фунтов на сумму ок. 130000 долларов.
[С. 16.] Ловцы водорослей из Хоккайдо.
[С. 17.] Виды кана (hooks) применяемых для драгировки ламинарий в Хоккайдо.
[С. 18.] Просушка ламинарий на берегу в Хоккайдо.
[С. 19.] Ловля ламинарий. Ламинарии и др. водоросли родственных видов («морская капуста») идут в Японии, с 1730 г., на производство пищевого продукта комбу. Комбу выпускали в 1903 г. 45 предприятий, каждое с 10—30 рабочими. Комбу производится в различных видах (более 10) со специальными названиями. В 1901 г. выпущено 76000000 фунтов на сумму 464 тысячи долларов.
[С. 20.] Ловля ламинарий». —605.
2395
П. А. Флоренский мог общаться со многими тифлисцами. Среди них: «Андроников Яссе Николаевич, 1893 г. р., грузин, ур. г. Тифлиса, из дворян, б. князь, обр. высшее, экономист и режиссер, в царской армии штаб–ротмистр, в Деникинской армии—ст. офицером. Пост. ΚΟΓΠΥ от 28. Х.32 заключен в к/лаг. на 10 лет». Осужден к BMH 9. Х, а расстрелян 25. Х или I—4. ХГ.1937 г. Его сын, Константин Яссевич, богослов, профессор Сергиевского института в Париже, перевел на французский язык «Столп и утверждение Истины» П. А. Флоренского (Lossanno, Suisse, 1975). Умер 12. IХ.1997 г. вскоре после получения материалов о гибели своего* отца. — 608.
2396
Афоний, монах из Троице–Сергиевой Лавры, расписывавший коробочки, брошки и т. д. в духе федоскинской миниатюры. —609.
2397
Библиотека, вероятно, играла большую роль, чем это следует из писем. Она была, по–вмдимому, и местом общения. Вот как описывает Ю. И. Чирков (А было все так… М., 1991. С. 132) встречу своего учителя—немецкого католического прелата П. И. Вайгеля и П. А. Ф. оренского, происходившую в декабре г.: «Древние рукописи очаровали Учігеля… В это время в хранилище вошел профессор П. А. Флоренский, сопровождсмый горбуном Ванагом. Я ранее несколько раз рассказывал своему Учители про Флоренского, о котором он был наслышан в Риме в Григорианском универитете. Учитель высоко пенил знаменитый труд Павла Александровича «Сто: п и утверждение Истины», который римский папа Бенедикт XV оценил как рупнейший вклад в теологию и философию.
Я представил Учителя и профессора jpyr другу и с интересом наблюдал, как два знаменитых человека преодолевают свою застенчивость. Петр Иванович нашелся первый и обратился к Павлу Александровичу по–латыни, упомянув о какой-то пословице. Флоренский ответіл по–латыни и перешел на немецкий. Вайгель ответил по–русски и упомянул > прекрасном иконостасе и некоторых иконах, затем разговор перешел на рукопіси…»—613.
2398
В письме так. —616.
2399
Посылка дошла, и некоторые из ірисланных в ней предметов сохранились. —617.
2400
Письмо № 80 со стихами отсутствует. —619.
2401
«Книжечка» копий 20,2 х 12,2 см, сиита белой ниткой, 8 страниц. На «обг ложке»:
«Некоторые растения, характерные для Приполярья и представляющие особый интерес с фенологической точки зрения
[С. 2. 5 рисунков.] I. Можжевеловый сланец. Juniperus папа L.; 2. Ива пушистая. Salix lanata L.; 3. Ива миртовая. Salix myristinites L.; 4. Березовый сланец. Betula папа L.; 5. Силена безстебепьная. Silene acaulis L.
[С. 3. 5 рисунков.] 6. Поленика. Rubus arcticus L.; 7. Морошка. Rubus Chamaemorus L.; 8. Куропаточья трава. Dryas octopetala L.; 9. Линнея северная. Linnaea borealis Gronow; 11. (Так. — Ред.) Багульник. Ledum palustre L.
[С. 4. 4 рисунка.] 10. Жимолость голубая. Lonicera coerulea; 12. Вереск. Cal- Iuna vulgaris Salisb; 13. Филлодоце. Phyllodoce coerulea L.; 14. Подбел. Andromeda polifola L.
[С. 5. 2рисунка.] 15. Толокнянка альпийская. Arctous alpin L. Ndzu.; Вороника, или чернуха (Empetrum nigrum L.). (Последний рисунок не пронумерован. — Ред.)
[С. 6.] Куропаточья трава Dryas octopetala, характерное растение ледникового периода из сем. Розоцветных (В. Л. Комаров, Происхождение растений, 4е изд., М. —Л., 1935, стр. 124, рис. 22).
[С. 7.] Приложение. Схемы соцветий: I. кисть 2. метелка 3. колос 4. сложный колос 5. початок 6. зонтик 7. сложный зонтик 8. головка 9. корзинка 10. дихазий
извилина 12. завиток (Б. А. Келлер. Ботаника, изд 2е. М. —Л., 1935, стр. 231, рис. 143—144).
[С. 5.] CsMbI ветвления стебля (Келлер, id, стр. 178, рис. 102).
(4 рисунш, справа один под другим; слева—пояснения.) Одностопное ветвление— МОНОІОДИЙ. Имеется одна хорошо выраженная ось, которая ратет неограниченш своей верхушкой. От этой оси отходят боковые—в виде ве вей 1–го, 2–го и т. I. порядка.
Сложное ветвление—СИМПОДИЙ. Единой постоянной главной оси нет Ее роль берет на; ебя последовательно одна ветвь за другой. Каждая скоро закаічи- вает свой росі и на смену ей, ниже ее верхушки, из пазухи листа выростает швая ветвь, с котоюй повторяется то же самое. Различаются два вида симподия: МОНОХАЗИІ и ДИХАЗИЙ, или ложно–вильчатое ветвление.
Дихотоміческое ветвление, или настоящее вильчаіое—древний тип (ДИ*СО- ТОМИЯ)». —619.
2402
Рисуноі размером 133 x 190 см. На обороте: «Изображенная на обо|оте водоросль отюсится к классу багрянок (Rhodophyceae), к семейству СогаПіпасеае и к подсемейству Corallineae. Это—невзрачная с виду небольшая водорссль коричневато-срого, грязного цвета, которую можно принять за комочек запылетой паутины. Выссга ее до 2 см. Она состоит из многих, постепенно ветвящихся даіее, веточек, котор>іе однако не удается распластать на плоскости или обособить не разрушая водсоосли. Причина этой, на первый взгляд, зацепленности веточек мекду собою,— в соединяющих веточки и их ответвления перемычках, служащих контрфоэса-ми и аркбутаіами этого готического строения. Действительно, это строение— каменное, ибо водоросль известковая (карбонатная) и сильно шипит от соляной кислоты. Распт водоросль эпифитно — на ризоидах ламинарий, на камня: (в сообществе с известковыми же водорослями подсемейства Melobesieae) и на др. водорослях. Трехмерность этой водоросли делает весьма трудным ее микроскопяче-ское исследование, тем более, что слоевище ее чрезвычайно хрупко и ломаетсі от нежного прикосновения иглою. Но зато под микроскопом открывается удивительное зрелище. Вся водоросль построена словно из тончайшего стекла, из трубок и сосудов. В общем вид ее напоминает стеклянные дефлегматоры, сокслеты и другую химическую аппаратуру, спаянную в одно целое. Схематически строение водоросли может быть представлено как ряд конических колб (аллонжей), обращенных горлом шиз и входящих одна в другую. Внутри колб тянутся трубки, выходящие через дно ее и через боковые стенки наружу или же входящие в следующую колбу. Трубки суставчаты. Наружные трубки, если не обломаны, снова входят в колбы, пройдя значительный гуть по воздуху (в природе—по воде), и крепят все строение слоевища. У горла и у днища колб наблюдаются винтообразные поверхности. На слоевище множество мелких (микроскопических) ракушек. Длина колб 840—995 μ; ширина 295—420 μ, у днища; ширина трубок 50—85 μ, чаще 50 μ. Толщина стенок трубок ок. 4,5 μ.
Повидимому, эта водоросль представляет колонию отдельных колбообраз-ных известковых водорослей с общей жизнью: присоски-трубки служат как для креплений, так и для циркуляции жидкостей и б. м. газов. Рисунок на обороте надо понимать пространственно, но не знаю, удалось ли передать эту просгран-ственность». [Изображенный организм—не водоросль, а кишечнополостное колониальное животное—гидроид, возможно Ohelia. Ошибки такого рода обычны: гидроиды весьма сходны с мелкими нитчатыми водорослями. Тем более поражает образ-ность и точность описания объекта: видно, что его делал инженер и химик, на-деленный удивительной способностью видеть детали.— О. В. Максимова.—619.]
2403
Из письма Р. Н. Литвинова 3—4 XII. 1936 г.: «Мы тут понемногу наладили производство аігар-агара из водорослей. Начали с граммов, перешли на тонны. Это самое рентабельное дело, и наш агар-агар по анализу лучший в мире, лучше японского и американского, но по виду пока еще хуже японского. Но мы догоняем и, пожалуй, перегоним».— 625.
2404
Буквально в дни написания этого письма был составлен и куда надлежит отослан следук»щий донос (Архив ФСБ РФ, дело № 212727, л 690).
Сов. секретно
АГЕНТУРНОЕ ДОНЕСЕНИЕ
группы СПО ІІІ–й части 8–го Соловецкого *тд. ББК НКВД ист. «Евгеньев»
Пр. Монахов 25 декабря 1936 г.
З/к ФЛОРЕНСКИЙ П. А. (быв. профессор)«Я Ипатьева и… и не осуждаю и не одобряю: каждый человек является хозяином своей судьбі. Человек все взвесил и решил, что остаться там для него правильней будет, и он остался. Bapoc об измене трудно к ним применить, т. к. они никому не изменяли, а просто решили жить іучше вне радиуса действий наших лагерей».
Ипатьев Владимир Николаевич (186'—1952), академик (с 1916 г.), с 1927 г. работал за рубежом, невозвращенец (с 19.6 г.). — 625.
2405
Новый год отмечали и на Соловках Cm. об этом: Чирков Ю. И. А было все так… М., 1991. С. 133—134. —628.
2406
«Зеликман Виктор Григорьевич, 1911 г. р., гр. СССР, ур. г. Ленинграда, из служащих, обр. высшее, служащий, еврей, математик». Осужден к BMH 9. Х, расстрелян 27. Х или I—4. ХГ.1937 г. под Медвежьегорском. —636.
2407
В начале 1937 г. Екатерина Павловна Пешкова снова направила запрос о П. А. Флоренском (Архив А. М. Горького в ИМЛИ РАН, фонд Е. П. Пешковой—био, 20—2—55, л. 4): «ФЛОРЕНСКИЙ Пав. Ал–др., 53 г., ар. 26/ГІ — 33 г., приг. 10 л. концлагеря. По окончании работ на Мерзлотной станции переброшен на Соловки, где организовал добычу «агарога» из водорослей. За время пребывания в к–лагере усовершенствовал и сделал ряд открытий. У него большая семья: жена и 5 человеке детей от 25 лет до 12». На запросе появилась успокаивающая резолюция: <«…Пр. 4. ГГ.37 г. будет переведен на работу в Ленинград. Е. П.». Как этот запрос преломили в НКВД, будет видно позднее. — 638.
2408
П. А. Флоренский успокаивает близких, но Р. Н. Литвинов замечает 23.1.1937 г.: «…дела с заводом стали так себе: его ликвидируют. Таким образом и благополучная полоса как будто кончается. Некоторое время будет ликвидационный период, а там наступит время неприятное, потому что работать будет негде…. В случае безработности количество писем в месяц уменьшается, даже до одного». —645.
2409
дикий олень
2410
дорогая мама
2411
икону
2412
уроки—сглаз
2413
мальчик
2414
Ошибка, должно быть № 88. —651.
2415
Письмо № 89, написанное между 18 января и 4 февраля, отсутствует. В нем был послан портрет П. А. Флоренского, который тоже неизвестен, как и начало X главы поэмы «Оро». —652.
2416
Пропуск I письме. —667.
2417
Пропуск I письме. —667.
2418
Йод теперь добывают из пластовых вод нефтяных месторождений. —669.
2419
Махарадзе Ирина Дидимовна (р. 27.1.1931). —670.
2420
Половина письма, адресованная, вероятно, Василию и Наташе, утрачена. —673.
2421
Чарлз Дикікенс (1812—1870), 125 лет со дня рождения. —677.
2422
1818 человек трех соловецких этапов по национальностям распределяются так: русскше—55%, украийцы—13%, евреи—9%, по I—3% белорусов, немцев, поляіков, эстонцев, армян, татар, грузин; по 0,5—1%, т. е. 9—18 че- ловек, латышей, финнов, тюрок (азербаджанцев), румын, узбеков; по 3—8 человек карелов, молдаван, мордвин, башир, коми, венгров, чехов, литовцев, туркмен, цыган, чеченцев, корейцев, черкеов; по I—2 человека карачаевцев, греков, осетинов, французов, лезГинов, казахов киргизов, таджиков, чувашей, абазинов, караимов, аджарцев, шведов, вотяков, эзя, удмуртов, ингушей, тувинцев, кабардинцев, болгар; молоканин выделен в >тдельную национальность (а не вероисповедание). —678.
2423
Из письма Р. Н. Литвинова: «…т/т пока все по–прежнему, но чувствуется, что это последние недели. Завод рабо'ает с большим напряжением. Ставится все, что можно, для того чтобы дать в месяц 2 тонны агар–агара. А оборудование на одну тонну. Нужно очень мноп делать всяких добавлений, все спешно, а три раза в сутки все Спрашивают: «А что снято с барабана и сушилки?» Радуются каждому килограмму. Еще месяца два напряженной работы, а там неизвестно что…»—678.
2424
Письмо № 94 отсутствует. —679.
2425
Одно из немногих мест в письмас, где проявляется состояние автора: старший сын родился в 1911, а не в 1912 г. —681.
2426
Производство закрывается. Р. Н. Литвинов пишет 14.ІѴ. 1937 г.: «Наше предприятие имеет срок жизни один месяц. К сожалению, за прошлый месяц мы не выполнили программы, а поэтому нам не заплатили премвознаграж- дения…»—690.
2427
Леонов Л. М. Скутаревский. М., 1932. —696.
2428
Утрачена полоска письма (около 8 строк). — 700.
2429
13 мая П. А. Флоренский был переведен в Кремль. Из письма сотрудницы Соловецкого музея А. В. Мельник: «…весной Йодпром был ликвидирован, а производство йода переведено на остров Жижгин, недалеко от Соловецкого архипелага. Соловецкие лагеря реорганизуются в Соловецкую тюрьму особого назначения (СТОН), в связи с чем ужесточается режим содержания заключенных». — 701.
2430
В 1937 г. в связи с юбилеем издана поэма Шота Руставели в переводе К. Д. Бальмонта {Шота Руставели. Витязь в тигровой шкуре. М., 1937). Книга подарена Оле Флоренской ее школьным! товарищем Сережей Трубачевым (впоследствии ее мужем). — 704.
2431
Письмо № 100 отсутствует, нет сишхронного письма и от Р. Н. Литвинова; возможно, в связи с ужесточением режиміа не все письма отсылались. — 705.
2432
Так как X А. Флоренский и Р. Н. Литвинов стали безработными, х> количество разріхіенных писем сократилось. — 705.
2433
Музеи располагался в Надвратной Благовещенской церкви, на участіе галереи от перки на север до Прядильной башни, а также в Спасо–Преображенском соборе. М зей был открыт 19. VII. 1925 г., а закрыт в связи с ликвидаций лагеря и тюрьмі. — 706.
2434
Из письмі Р. Н. Литвинова I8. V.1937 г.: «…объявили, что отправка посн- лок и денег докой запрещена. А я собирался отправить пару облигаций зайка гебе. По этому сіучаю создаются уже легенды, притом самые, конечно, радужнье, потому что лаг<рник по натуре неисправимый оптимист и создает поводы дуя надежды из саміх безнадежных вещей». — 706.
2435
«Тяжелая вода»—вода, содержащая тяжелые изотопы водорода—дейтерий и тритий, юобходима при проведении ядерных реакций и для получешя радиоактивных ізотопов урана. Изучение и получение самой воды в рамках этсй проблемы В. И. Вернадский поручил К. П. Флоренскому, который непосредствеі- но перед войной проводил исследования под руководством акад. А. Н. Фрумкині. Интерес к тяжелой воде, по–видимому, сохранялся в семье П. А. Флоренского. В архиве его сташіего сына Василия сохранилась вырезка из центральной газеты 40–х годов: «Тяжелая вода. Беседа с акад. А. Н. Фрумкиным». Позже А. Н. Фрум- кин будет упоминаться в переписке В. И. Вернадского с К. П. Флоренским. — 71).
2436
Среди з/к жителей Сергиева Посада, на Соловках находились и там же, по–видимому, погибли Истомин Петр Владимирович и Мещерский Иван Сергеевич. (О них см.: Комаровский В. А. Пролог //Новый журнал (Нью–Йорк). Кн. 185. 1991. С. 284.) Кроме них знакомым и по Посаду в Соловках находился крупнейший лингвист Н. H^ Дурново, осужденный по «Делу славистов» (Ашнин Ф. Jl., Алпатов В. М. «Дело славистов»—30–е годы. М., 1994): «Дурново Николай Никитович, 1876 г. р., гр. СССР, ур. г. Москвы, из дворян, русский, обр. высшее, научный работник. Осужден КОГПУ 20.03.34 на 10 лет т. зак.». Приговорен к BMH 9. Х и расстрелян 27. Х или I— 4. Х1.1937 т. —713.
2437
Чеченцы: «Санев Абуязит, 1904 г. р., ур. с. Москеты, Ножай–Юртовского района, б/п. КОГПУ от 16.10.33 по ст. 58—2,11 УК осужден к расстрелу с заменой заключением в ИТЛ на 10 лет». Приговорен к BMH 9. Х, а расстрелян 25. Х или —4. ХІ.1937 Г. под Медвежьегорском; «Абдулкадыров Хасан, 1892 г. р., ур. с. Аташ–Урус, б. прапорщик царской армии и переводчик у белых в Добровольческой армии. Пост, засед. КОГПУ от 16.10.33 г. приговорен к расстрелу с заменой 10 лет каторги». Осужден к BMH 25. Х, а расстрелян 8 декабря в одну ночь с П. А. Флоренским. — 715.
2438
В связи с работой Оли в Загорской оранжерее Павел Александрович рекомендовал ей книгу «The standart incyclopedia of horticulture by L. H. Bailey» (Vol. I-III. N. — Y., 1928). — 776
comments
Комментарии
1189
Этот курс в печати не появлялся.
1190
Доказательство этого положения проведено уже в упомянутом «Введении».
1191
Ю. Бел ох — История Греции. Пер. Гершензона. Изд. 2–е. M., 1905. Τ. II. Так же — и П. Ka у эр, вопреки новейшим доказательствам Фикка, О. Гоффмана и Мёррэя (см. ЖМНП, 1910, февраль. Нов. сер.‚Ч. XXV. Kp. и библ., с. 386).
1192
Библиографию по гомеровскому вопросу можно найти: в статье Ф. Мищенка «Гомер» (помещенной в «Энциклопедическом Словаре» Брокгауза и Эфрона. Τ. IX, с. 156–160; в книге С. С. Глаголева— «Греческая религия». Ч. I. Сергиев Посад, 1901 г., с. 78–79 (^«Богословский Вестник», 1908 г., апрель, с. 617–618) и в др. трудах.
В дополнение следует еще привести более новые книги:
M и г г а у — The rise of the Greek Epic. Oxford, 1907.
F i η s 1 e r — Homer. Lpz., 1908.
Christ-Schmidt — Geschichte d. Griechisch. Liter. Мӥпсһеп, 1908. 5–te Aufl.
P. Cauer- Grundfragen der Homerkritik. Lpz., 1909. 2–te (N. B.) Aufl.
Книга Kayepa (обзоры обоих изданий ее С. И. Шестакова см.: в «Филол. Обозр.». Τ. XI, 1896, 2, с. 3 след. и в ЖМНП, 1910 г., февраль [Нов. сер. Ч. XXVI) представляет собою сводку новейших взглядов и «наилучшее общее введение к изучению Гомера».
Специально русская библиография, с XVII ст. по 1895 год, находится в «Систематическом указателе книг и статей по греческой философии», СПб., 1898, составленном П. Прозоровым и изданном Академией Наук (с. 33—39). — Следует упомянуть отдельно:
Φ. Ф. Соколов — Гомеровский вопрос (ЖМНП, 1868, № 11–12).
Дӝеб — Введение к Илиаде и Одиссее, пер. Семенова. СПб., 1892.
С. Шестаков — О происхождении поэм Гомера. Т. I и II. Казань, 1892–1899.
А. и М. К ρ а у з е — Руководство по истории греческой литературы, пер. Радцига. Ч. I. M., 1907.
Отважную, но вопреки рецензенту (Е. Г. Кагаров — в «Христианском Чтении», 1910 г., март, с. 413–414) заслуживающую полного внимания попытку решительно стать выше крохоборства критиков- атомистов, со всеми их бесконечными разногласиями и пререканиями, и взглянуть на гомеровские поэмы деловитее представляет глава об «Эпохе Гомера» в уже упомянутой книге о греческой религии С. С. Глаголева (с. 74–128).
1198
Вильям Джемс — Многообразие Религиозного Опыта. Пер. под ред. С. В. Лурье. M., 1910.
1199
Кн. С. Н. Трубецкой — Этюды по истории греческой религии («Собрание сочинений». Т. II. M., 1908), с. 419.
1200
Id., с. 422.
1201
Ed. Meyer— Geschichte des Alterthums. Stuttgart, 1900 (выходит и более новое издание; Bd I, 2Ѵ 1909). Bd II, § 34. Для представления современных взглядов на историю Греции смотри еще: Robert Pohlmann — Grundriss der Griechische Geschichte nebst Queilenkunde. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Munchen, 1906.
Georg Busolt — Griechische Geschichte. Gotha, 1893. Bd I.
P. Виппер — Лекции по истории Греции. Ч. I. M., 1905.
Ad. Hоіш — Griechische Geschichte. Berlin, 1886. Bd I.
1202
Вячеслав И в а н о в — Спорады, VII (в сборнике его «По звездам. Статьи и афоризмы». СПб., 1909, с. 370. — «Факелы», И. СПб., 1907).
1203
В. П. Бузескул— Введение в историю Греции. Харьков, 1903, с. 471.
1204
Вячесл. Иванов — id., с. 370.
1205
Кн. С. Н. Трубецкой–id., с. 423.
1206
Вяч. И в а н о в — Эллинская религия страдающего бога, гл. II («Новый Путь», 1904 г., февраль, с. 68–69).
Особенно примечательна по безысходно–пессимистическому тону беседа Ахилла и Приама: Homeri Ilias, XXIV 469—670; рус. пер.: «Илиада Гомера». Пер. Н. М. Минского. M., 1896, с. 408–413.
1207
Homeri Ilias, I 494—611 (рус. пер. Н. М. Минского, с. 13–16); XIV 153–353 (рус. пер. id., с. 228–233); XV 4–46 и далее (рус. пер. id., с. 238—239 и далее).
1208
G. Murray — The Rise of the Greek Epic (Harvard lectures). Oxford, 1907 [«Происхождение греческой эпики»], p. 242 if. (ссылка — из отчета об этой книге С. П. Шестакова в ЖМНП, февраль, 1910 г. [Нов. сер. Ч. XXV]. Крит, и библ., с. 405).
1209
Анатоль Франс — Певец из Кимэ («Рассказы». Пер. А. и Е. Герцы к. M., 1906, с. 173–197).
1210
В. П. Бузескул — Характерные черты научного движения в области греческой истории («Русская Мысль», 1900 г., февраль, с. 76).
1211
А. Н. Гиляров — Греческие софисты, их мировоззрение и деятельность в связи с общей политической и культурной историей Греции. M., 1888.
П. И. Новгородцев — Учение софистов о естественном праве (Вопросы философии и психологии, 1910 г., кн. 101(1), янв. —февр.).
1212
Α. Η. Γ и л я ρ о в — id.
1213
В. П. Бузескул — Введение, с. 472.
1214
П. Таннери — Первые шаги древнегреческой науки. СПб., 1902.
1215
В. П. Бузескул — id., с. 512 (Харакгерн. черты. «Рус. М.» id., с. 76–77).
1216
Для ознакомления с историей общего хода археологических открытий в этой области см., например, в уже упоминавшихся книге и статье В. П. Бузескула; там же перечислена и литература. Из более специальных исследований пока укажем:
С. Schuchhardt — Schliemann's Ausgrabungen in Тгоја, Тігупѕ, Mykena, Orchomenos, Ithaka, 2–te Auflage. Leipzig, 1891 [специально об исследованиях Шлимана, в связи с его биографией; обзор всех его открытий; множество иллюстраций].
Bonald М. Burrows — The Discoveries in Crete and Their Bearing on the History of Ancient Civilisation. London, 1908. Third Impression.
Pere M. I. Lagrange — La Crete ancienne. Paris, 1909.
С. Глаголев — Греческая религия. Ч. 1. Верования. Сергиев Посад, 1909 (=ряду статей в «Богословском Вестнике» за: 1908 г., февраль, «Греческая религия»; id., март, «Век Миноса»; id., апрель, «Эпоха Гомера»; id., май, «Гезиод»; 1909 г., июнь и июль — август, «Богословие орфиков»).
Е Е. Кагаров — Новейшие исследования в области критско- микенской культуры («Гермес», 1909 г., JVfe 17–20 и отдельные оттиски: СПб., 1910).
Краткие указания на само–новейшие работы в этой области читатель может найти в отчете о «Втором международном конгрессе классической археологии в Каире» — напечатанном Б. Й. Фармаков- с к и м в ЖМНП, 1910 г., январь (Нов. сер. Ч. XXV).
Множество популярных статей на русском и иностранных языках рассеяно по разным журналам, не говоря уже о целой литературе специального характера, часть которой указана в книгах Бёрроу, Јіагранжа и у Кагарова (N. B.).
1217
Кн. С. Н. Трубецкой–id., с. 455.
1219
Л. Ф. Воеводский — Введение в мифологию Одиссеи. Одесса, 1882 (Зап. Имп. Новор. Ун. Т. 33) (докторская диссертация). — Вот и несколько примеров толкований проф. Воеводского: взяг тие Агамемноном Трои — это восход солнца над землею; Одиссей (солнце), побивающий женихов (звезды) Пенелопы (луна), с которой он соединяется, — это солнце в конъюнкции с луною и т. д.
Разбор этой теории сделан А. Н. Веселовским (Вестник Европы, 1882, № 4).
1220
Для более подробного ознакомления с недавним состоянием мифологии и ее различными школами см., например:
Э. Л а н г — Мифология. M., 1903.
Е. Е. Кагаров — Этюды по истории греческой религии. I. Современные направления в области сравнительной мифологии и мифологические сюжеты Эсхила (Филологич. Записки. Воронеж, год 45–й, 1905, вып. 5–6, с. 1—16 и отд. оттиски).
Кн. С. Н. Трубецкой — id., с. 418–455.
В. Клингер — Животное в античном и современном суеверии. Введение, гл. I, с. 1—27 («Университетские Известия». Киев, год XLIX, 1909, Ne 10 — октябрь).
1221
Гёте — «Фауст». Посвящение. Пер. П. Вейнберга. СПб., 1902, с. 7—8.
1222
Англичане пишут Tirynsy немцы — Tiryns и т. д.
1223
Максимилиан Волошин — Архаизм в русской живописи («Аполлон», 1910 г., Nii 1, октябрь, с. 44).
1224
По пер. Вяч. Иван. Иванова.
1225
Вяч. Иван. Иванов — «Эллинская религия страдающего бога» («Новый Путь», 1904 г., февраль, с. 53).
1227
Вяч. И. Иванов — id. («Новый Путь», id., с. 56).
1228
Вяч. И. Иванов — «Религия Диониса» («Вопросы Жизни», 1905 г., Ν» 6, июнь, с. 212).
1229
Таковое значение Крита, — доказанное ныне прямым образом, — еще до эвансовских раскопок было указываемо Группе (О. Gruppe — Griechische Mythologie und Religionsgeschichte, 1906. Bd I und II), на основании произведенного им анализа преданий, связанных с основанием греческих культов.
1230
Некоторые точки сближения см., например, у Лагранжа (La Crete ancienne), в последней главе, посвященной выяснению «des origines» критской культуры (особенно см. р. 87, 111). Эти вопросы обсуждаются, понятно, и в других трудах по критологии.
1231
Название несколько русифицировано; более точно это племя называется Майя (Maya), а во множественном числе — МаЙяб (Mayab). Это — население полуострова Юкатана и некоторых других областей Мексики, Гватемалы, Гондураса и С. Сальвадора.
1232
Вяч. Иван. Иванов — Древний Ужас, II («Золотое Руно», 1909 г., Ns 4; перепечатано в сборнике статей В. И. Иванова «По звездам», с. 396–397).
1233
Платон — Тимей 20D — 25D; Критий 108D — 121С. Рус. пер.: в «Сочинениях Платона, переведенных с греческого и объясненных проф. Карповым». Ч. VI. M., 1879, с. 377–385, 500–519.
Г. В. Малеванский — «Тимэй», диалог Платона «о природе вещей». Предисл. и пер. («Тр. Киев. Д. Ак.», 1882, № 1–5, 7, 9, 10 (в прил.) и отд. Киев, 1882).
Г. В. Малеванский — «Критий», диалог Платона. Пер. с прим. (Тр. Киев. Д. Ak., 1883, Ne 4 прим. с. 1–28).
1234
У Диодора Сицилийского (не ранее 21–го года до P. X.) (III 54 след.), у Плутарха (время жизни — с 46–го по 120–й г. после P. X.) (Sector, 8), уАммиана Марцеллина (390 г. после Р. X.) (XVII) и у др.
1235
А. Н. Карножицкий — К вопросу об Атлантиде («Научное Обозрение», 1897 г., Nfc 2, февраль; цитирую на память). — В том же журнале, за тот же год см. полемику с ним М. Ю. Гольдштейна.
1236
М. Neumayr — Erdgeschichte. Lpz., 1$95, 2–te Aufl. — Рус. пер.: М. Неймайр — История земли. Пер. со 2–го нем. издания В. В. Ламанского и А. П. Нечаева, под ред. А. А. Иностранцев а. СПб. Т. I, 1897 г., с. 453; Т. И, 1898 г., с. 55, 96, 132, 484.
На ту же тему интересные соображения и карты можно найти у 3 ю с с а, в его «Das Antlitz der Erde» (см. прим. 44).
1237
Оккультные предания свидетельствуют о катастрофической гибели даже двух обширных материков: Лемурии — от «вулканического огня» и Атлантиды — от «волн как бы громадного прилива, затопившего поверхность земли» (см. лекцию Эдит У о ρ д, — «Теософия и современная наука», — русский перевод которой помещен в «Вопросах Теософии». Выпуск 1–й. СПб., 1907. — Тут же, на с. 125— 128, указаны некоторые любопытные параллели между оккультными преданиями и данными геологии). — Насельники последнего из них, атланты, принадлежали, по воззрениям теософов, к четвертой человеческой расе (из 7–ми), непосредственно предшествовавшей пятой расе — носительнице западноевропейской культуры. — Мотив об Атлантиде — один из любимых, даже назойливых в оккультной литературе, так что я затрудняюсь сослаться на то или другое сочинение. Читатель может найти разработку этих преданий в сочинениях Е. П. Блаватской, Рудольфа Штейнера, Теофила Паскаля, Э. Ш ю ρ э и множества других более и менее видных представителей оккультизма; русский перевод некоторых из этих сочинений помещался в журналах «Теософическое Обозрение», «Вестник Теософии», «Теософская жизнь» и т. д. и в сборниках «Вопросы Теософии».
1238
Макс. Волошин — Архаизм в русской живописи («Аполлон», 1910 г., № 1, октябрь, с. 48).
1239
Giessmann — Neue WeIt und Menschengeschichte. Bd I. Ѕ. 173–186.
Rudbeck — Atlantica. UpsaIa, 1875–1878, 3 ТТ.
Bircherod — De огЬе novo поп novo. Altdorf, 1865.
A. Noroff — Die Atlantis пасһ griechischen und arabischen Quellen. СПб., 1854.
Карножицкий — id. (см. прим. 40).
Bailly- Lettres sur TAtIantide de PIaton. Paris, 1779.
Еще об Атлантиде:
Martin— fitudes sur Ie Timee de Platon. Т. I. Paris, 1841.
Clarke — Examination of the legend of A. London, 1886.
Ο. H ееr — UnveIt der Schweiz. Ziirich, 1879.
S u s e m i h 1 — работа в Jahrbucher f. PhiIoIogie, Bd 71.
Ed. S u e ss — Das Antlitz der Erde. Wien, 1883–1888.
1240
Уже в древности началась разноголосица по вопросу об Атлантиде — измышлена ли Атлантида Платоном или же была историческою реальностью. — По Проклу (Prokl., in Tim. 24А), первый толкователь платоновского Тимея К ρ а н τ о ρ (Κράντωρ) находил это сказание исторически достоверным, но другие отвергали и оспаривали его мнение. Но ни Страбон‚ни Посидоний не отказывались безусловно верить Платону (Strab. II 102).
1241
Aristo t. — Poetica, 9. — «Поэзия, — говорит Аристотель, — философичнее и содержательнее истории. Поэзия ведь имеет дело со всеобщим, история же входит в частности.» «Φιλοσοφώτερον каі σπουδαιότερον ποίησις Ιστορίας έστίν. Ή μέν γάρ ποίησις μάλλον τά καθόλου, ή Si ιστορία τά καθ' έκαστον λέγει*. Латинский перевод этого места (Aristotelis de Poetica Iiberex versione Theodori GouIsten i. Cantabrigiae, 1796, p. 26) гласит: «Роеѕіѕ, etiam magis Philosophica, magisque studiosa res est, quam Historia; Nam Poesis, potius, Universalia, Historia Singularia magis dicit».
1242
Макс. Волошин — id., с. 45.
Речь идет о знаменитой, «в первое время после раскопок удивительно яркой по живости красок стенописи кносского дворца, изображающей краснокожего, безбородого и безусого, богато изукрашенного драгоценным металлом (браслет, запястья и т. д.) мужчину, держащего в руках огромный конический сосуд. На голове этого мужчины — своеобразный венец, но сделан ли он из перьев — по рисункам названной стенописи нам не решить. Заметим, кстати, что одно такое изображение стенописной фигуры оттиснуто золотом на переплете книги Boland М. Burrows*a. The Discoveries in Crete. London, 1908; другое, в красках, приложено к книге Lagrange'a, La Crete ancienne; имеется и еще изображение, в журнале Monthly Review (1901, March, fig. 6, p. 124), приложенное к статье Мёррэя.
Но кто же этот «Cupbearer» — этот «Виночерпий», или «Кравчий», как называют его исследователи (Мёррэй, Бональд Бёрроу)? — Мнения расходятся. Однако, с уверенностью можно утверждать, что это — лицо высокого общественного положения и что, с другой стороны, «кубок» в его руках — не просто винная чаша, а сосуд священный, литургический. Принимая же во внимание весьма правдоподобное (об этом — в следующей лекции) предположение о теократическом устройстве критской державы, можно не без основания остановиться на мысли, что кносская фреска представляет именно такого царя- первосвященника, — быть может, самого M и носа или M и н о с а (о смысле этого имени — в следующей лекции), творящего какой-то священный обряд.
1243
Diod. Sic. III 56–57.
1244
Diod. Sic. V 56.
1301
шестьдесят и семьдесят (греч.). — 114.
1313
биноклеобразный сосуд (нем.). — 117.
1316
Данные вопросы подробно разобраны П. А. Флоренским во втором курсе лекций по истории античной философии, в сдвоенных лекциях 2—3, названных автором «Некоторые элементы греческой религии в микенский период», и 4—5, названных «Религиозная почва ионийской натурфилософии, в связи с вопросом о реальности богоявления». Лекции были прочитаны впервые в конце января — начале февраля 1909 г. — 128.
1318
множество святое, множество могущественное, множество достойное (лат.). — 117.
1321
чаша двухкубковая (греч.). — 118.
1322
кубок (греч.). — 118.
1323
чаша (греч.). — 118.
1325
двусторонний фиал, чаша для возлияний (греч.). — 119.
1609
По плодам их узнаете их (Мф. 7, 16). — 288.
1673
Листок иностранца (возможно, название газеты). — 326.
1711
Первоявление‚ прафеномен — одна из центральных идей Гёте, означающая конкретно существующее явление, в котором воплощено сущее, всеобщее. Именно первоявление помогает соприкоснуться с Богом. «Я не спрашиваю, — сказал Гёте, — имеет ли это высшее существо рассудок и разум, но я чувствую, что оно само есть рассудок, что оно само есть разум. Все творения им проникнуты, и человек в такой степени, что может отчасти познавать высшее». (Из «Разговоров с Гёте» И. — П. Эккермана. Запись от 23 февраля 1831 г. // Гёте И. В. Избранные философские произведения. M., 1964. С. 487). — 354.
1716
Ср.: Жития Святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих–Миней Св. Димитрия Ростовского. Кн. IX. Май. M., 1908. С. 326—327: «Будучи семи лет, Константин видел сон, который и рассказал своим родителям. «Снилось мне, — говорил Константин, — что воевода собрал всех девиц города и сказал мне: выбери себе одну из них в невесты. Я осмотрел и избрал красивейшую из них с светлым лицом и украшенную многими золотыми вещами и дорогими каменьями, по имени Софию». Поняли родители, что Господь дает отроку девицу Софию, т. е. премудрость Божию, возрадовались духом и со старанием стали учить Константина не только книжному чтению, но и богоугодному добронравию — премудрости духовной». — 358.
1717
Младенец, будучи еще во утробе матери, когда она молилась на Литургии в церкви, троекратно приветствовал Пресвятую Троицу криком перед чтением Евангелия, во время пения Херувимской песни и при возгласе иерея «Вонмем, святая святым!» (Никон архимандрит.
Жития и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. 5–е изд. Свято- Троицкая Сергиева Лавра. 1904. С. 3–4). — 359.
1719
Преподобный Сергий на Маковце поставил себе деревянную «церковицу» (малую церковь) во имя Святой Троицы. После того, как около келии Преподобного составился монастырь, он заменил эту малую церковь большой, которая сгорела в 1408 г. в Егидеево нашествие, когда татары сожгли весь монастырь. В 1411 г. преп. Никон — преемник преподобного Сергия — освятил вновь построенную деревянную церковь Святой Троицы на месте нынешнего храма в честь Сошествия Святого Духа. В 1422 г. при преподобном Никоне были обретены мощи преп. Сергия и над ними поставлена каменная церковь Святой Троицы, существующая и доныне (см.: Е. Голѵбинский. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Лавра. M., 1909. С. 178). — 359.
1726
В сохранившемся отрывке рукописного текста 1918 г. и в печатном тексте 1919 г. было: «…идущей на смену гомофонии Средневековья и полифонии Нового времени…» — вероятно, оговорка Флоренского. Исправлено на основании работы Флоренского «Пути и средоточия» (черновые наброски 8 декабря 1917 — 8 декабря 1918, окончательный текст, вероятно, 1922 г.), где аналогичное рассуждение опирается на статью: Ю. Энгель. Великорусская народная песня // Русские ведомости. 1910. 12 марта. № 58 (рец. на сб.: Е. Э. Линева. Великорусская песня в народной гармонизации). Адлер Гвидо (1855— 1941) — австрийский историк музыки, по мнению которого гетерофо- ния ранней эпохи соответствует народному русскому многоголосию (см.: Флоренский П. А. Сочинения. Т. 2. У водоразделов мысли. M., 1990. С. 30, 372–374). — 369.
1728
музейное бешенство (лат.). — 372.
1729
Светлая (роща), потому что темно в ней (лат.). Традиционный пример нелепой причинно–следственной связи. — 372.
1737
Голубинский Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Лавра. Жизнеописание преподобного Сергия и путеводитель по Лавре. 2–е изд. M., 1909. — 387.