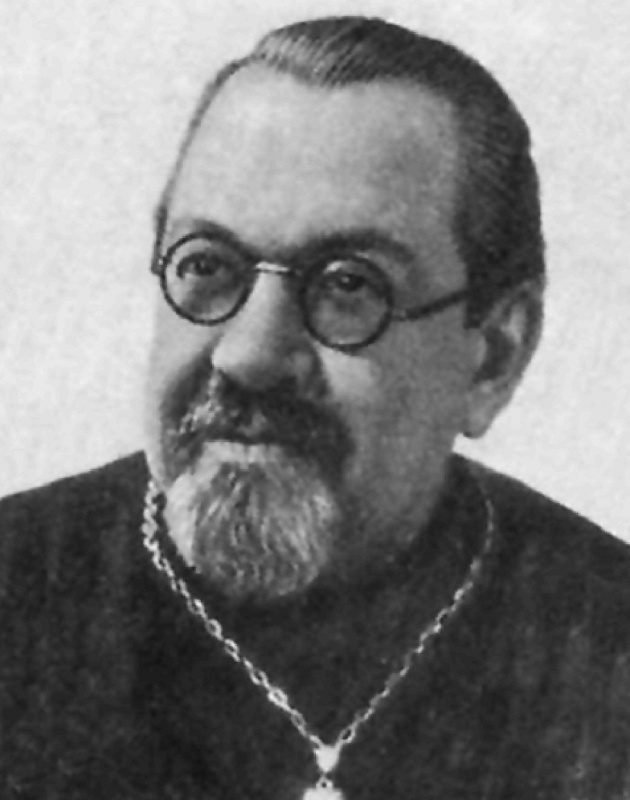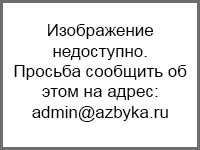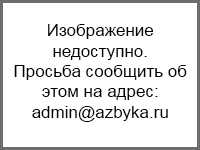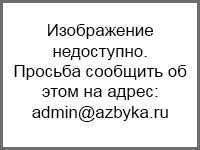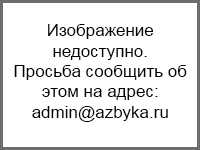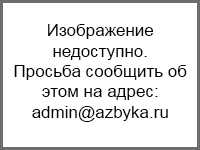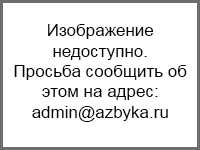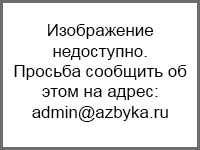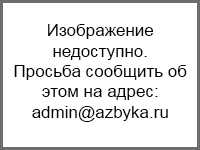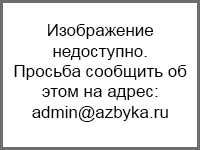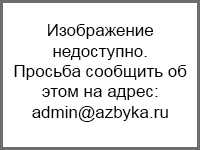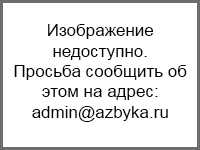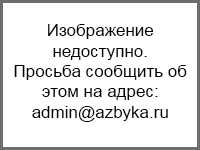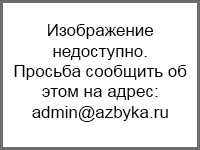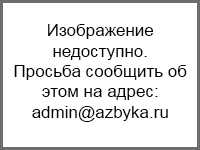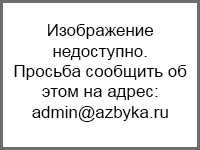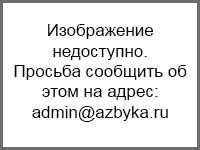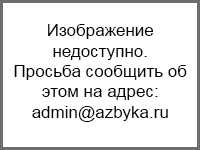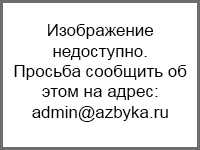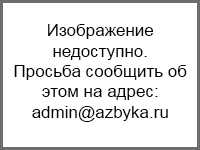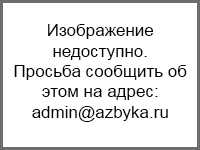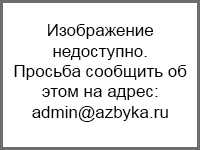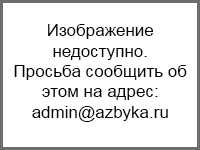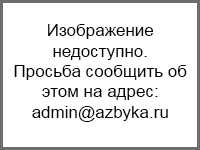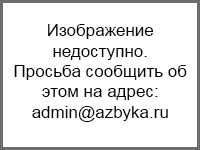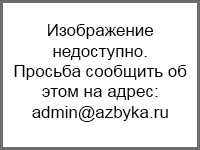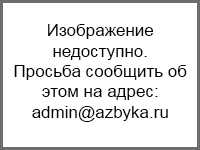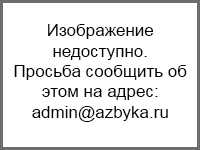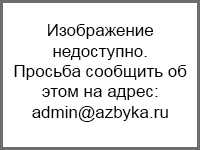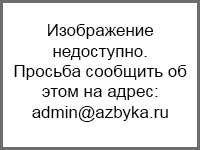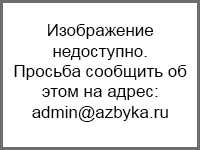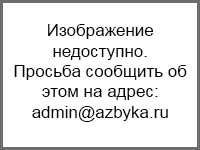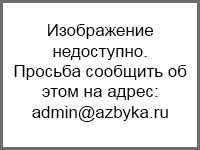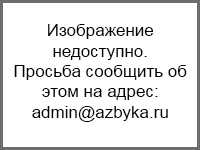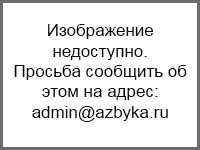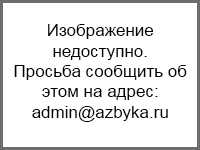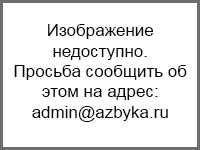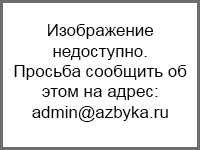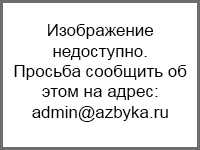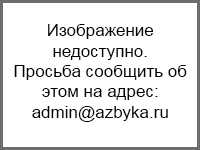Психология детства
Издательский центр «Академия»
129336, Москва, ул. Норильская, 36.
Тел. 475-28-10,474-94-54
Отпечатано с готовых диапозитивов
на ИПП «Уральский рабочий»
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
До последнего времени в истории отечественной психологии оставались страницы, которые по различным причинам открывать было не принято. Как результат этого, имена многих ученых оказались «забытыми» и тогда казалось, что навсегда… Но времена меняются, и сегодня мы вновь говорим о тех; чьи труды составляют золотой фонд психологической науки.
Среди «забытых» и возвращенных имен — светлое имя профессора В. В. Зеньковского, психолога и педагога, богослова и философа.
Василий Васильевич Зеньковский (1881—1962) родился и вырос на Украине, в семье, где сохранились лучшие традиции дворянской культуры и духовные традиции семьи деда-священника.
После окончания Киевского университета молодой ученый специализировался в области психологии. В 1915 году он защитил в московском Психологическом институте им. Л. С. Щукиной, созданном его учителем проф. Г. И. Неплановым, докторскую диссертацию и был избран экстраординарным профессором по кафедре философии Киевского университета.
Октябрьская революция и последовавшая за ней Гражданская война полностью изменили жизнь ученого. Он занял пост министра исповеданий в Украинском правительстве и в 1919 году был вынужден покинуть Россию.
Затем последовали годы преподавательской деятельности в Белграде, в Пражском педагогическом институте, а с 1962 года — в Парижском Богословском институте имени Сергия Радонежского, где Зеньковский возглавлял кафедру философии. В 1942 году митрополитом Евлочием (Георгиевским) ученый был рукоположен в иереи и причислен к русской введенской церкви в Париже.
Подробное рассмотрение научного наследия профессора В. В. Зеньковского предполагает самостоятельное издание, здесь же следует назвать только наиболее крупные и известные среди специалистов монографии: «Проблема психической причинности» (Киев, 1914), «Психология детства» (Лейпциг, 1924), «Проблема воспитания в свете христианской антропологии» (Париж, 1934), «История русской философии» (Париж, 1950), «Русская педагогика XX века» (Париж, 1960). Хотя список этот далеко не полный, но он показывает круг профессиональных интересов ученого.
В Зеньковском-психологе органично соединялась европейская наука XX века, во всем многообразии и сложности, и отечественные ду-
3
ховно-нравственные традиции. Православное мировоззрение ученого, его активная общественная позиция никогда не входили в противоречие с академическими штудиями, не мешали его диалогу по проблемам науки с психологами и педагогами разных стран. Следует, однако, отметить влияние именно нравственного мировоззрения Зеньковского на оригинальную интерпретацию им результатов научных исследований других ученых, а также влияние этого мировоззрения на подходы к психологии в целом.
Для современной российской науки знакомство с наследием В. В. Зеньковского полезно также и потому, что каждая его работа не «закрывает» тему, не предлагает окончательного ответа на поставленные в книге или статье вопросы. Это — всегда приглашение к диалогу, это — всегда «открытие» темы…
Для настоящего выпуска «Философско-психологической библиотеки» выбраны две ранние работы В. В. Зеньковского «Психология детства» (1924) и «Социальное воспитание, его задачи и пуги», изданное в 1918 году в Москве, сохраняющее свое значение и для России конца XX века.
Предваряют издания отрывки из воспоминаний профессора В. Ф. Асмуса, в которых с присущим автору мастерством воссоздан образ молодого В. В. Зеньковского.
Издатели благодарят протоиерея Бориса Бобринского, представившего в их распоряжение текст «Психологии детства», и Татьяну Ларэн, внучку профессора Г. И. Челпанова, принявшую сердечное участие в продолжении издания «Философско-психологической библиотеки».
Профессор В. В. Рубцов
В. Ф. Асмус В. В. Зеньковский в Киевском университете (Из воспоминаний студента 1914—1920-х гг.)
Я учился на историко-филологическом факультете Киевского университета. Поступил я в Университет в начале 1914—1915 учебного года, после того как сдал экзамен по латыни за восемь классов гимназии. Экзамен этот я должен был сдать, так как учился в Киеве не в гимназии, где латынь бьша одним из главных предметов, а в частном немецком реальном училище (Екатерининском). В Университете я занимался на отделении русской филологии. Философского отделения в то время в Киевском университете еще не существовало, специализация по философии была введена, да и то не сразу, лишь после революции 1917 года по инициативе и по настоянию В. В. Зеньковского, в то время профессора Киевского университета. Он читал обязательные для всех филологов курсы психологии и логики.
Я поступил в Университет в начале первой мировой войны, в сентябре 1914 года. В первые два года войны студентов не призывали на военную службу. До совершеннолетия было еще далеко, и занятия в Университете шли по программе мирного времени.
Среди курсов, читавшихся на филологическом факультете в первом году, философские предметы занимали скромное место. Это был — в осеннем семестре — общий курс психологии, во втором семестре — курс логики. Оба курса читал профессор Василий Васильевич Зеньковский. Кроме того, профессор Алексей Никитич Гиляров, сын известного в Москве славянофильского ученого и публициста Никиты Петровича Гилярова-Платонова, читал, начиная со второго семестра, вернее начинал читать, обширный курс истории зарубежной философии. История философии народов Востока в него не входила. Начинался курс с философии античной Греции, которая излагалась довольно подробно. История русской философии не читалась вовсе, так же, разумеется, как и история философии других народов России.
Первая философская лекция, прослушанная мною в Университете, была лекция В. В. Зеньковского по психологии. В тот год свои чтения Зеньковский начал с большим запозданием. Начало войны захватило его в Германии, где он — будучи в командировке — дописывал свою магистерскую диссертацию «Проблемы психической причинности». С трудом, после ряда приключений и злоключений, во время которых часть рукописи его диссертации была потеряна, Зеньковский пробрался — через Скандинавия — в Россию и вернулся в Киев. В это время ему исполнилось тридцать три года. Сразу по возвращении он начал чтения лекций. Читал он с
5
увлечением, местами вдохновенно. Специальная психологическая эрудиция его была огромна. Для подготовки к экзамену он рекомендовал нам «Очерки психологии, основанной на опыте» Гаральда Геффдинга, но сам читал курс по собственному плану, сообщая ему собственное содержание, далеко выходившее за рамки учебника Геффдинга. Особенность его чтений состояла в том, что он читал психологию как философскую науку. Психологические теории и понятия, разбиравшиеся им, он доводил до их философских принципов, основ и источников. Он широко, щедро и искусно пользовался философским материалом, освещал светом философских воззрений учения психологии, которые без такого привлечения философии могли бы показаться узкоспециальными психологическими. В результате все изложение становилось чрезвычайно живым и увлекающе интересным, а психология становилась наукой, все учения которой наполнялись философским содержанием. При таком методе изложения Зеньковский постоянно должен был вводить в ткань своей психологии не только исторический, но и современный, даже «сегодняшний» материал философских и специальных психологических учений. Материала этого мы, конечно, не знали и из общего курса психологии сколько-нибудь основательно усвоить его никак не могли. Поэтому слушать Зеньков-ского было хотя и очень интересно, но трудно. Некоторые увлекшиеся предметом и самим лектором студенты слушали курс психологии у того же Зеньковского повторно, в следующем году, и это приносило большую пользу. Такое повторное слушание было возможно, так как в Киевском университете действовала так называемая «предметная» система обучения, пришедшая здесь, как и в некоторых других дореволюционных университетах, на смену системе «курсовой». При «курсовой» системе последовательность слушавшихся и сдаваемых предметов и курсов была жестко определена учебным планом. «Перескакивать» во время прохождения учения с одного предмета на другой было невозможно — запрещено. Нельзя было, например, прослушать и сдать историю философии до того, как было сдано введение в философию, или сдать историю древнеримской литературы до сдачи истории литературы древнегреческой. Все студенты каждого года обучения одновременно слушали, а затем сдавали одни и те же предметы. Такой порядок прохождения университетского курса существовал, например, в Юрьевском (Де-рптском) университете. Иначе было в университетах (таких в мое время было в России большинство), где была введена «предметная» система. При предметной системе не было строго регламентированной последовательности в слушании и сдаче курсов учебного плана. Все, что полагалось по плану изучить, прослушать и сдать, студент должен был неукоснительно выполнить. Но при этом последовательность выполнения могла в известных пределах варьироваться по желанию и выбору самого студента. «Введение в философию» можно было сдать после сдачи «Истории философии», греческого автора после римского, Фукидида, например, после Тацита.
Конечно, эта свобода выбора была относительна. Она лимитировалась в известной мере случайными обстоятельствами — тем, какие курсы объявлялись и читались в каждом семестре. Например, в тот год, когда я запланировал для себя сдачу греческого автора, в осеннем семестре читался Еврипид («Ипполит Венценосец»), а в весеннем — Геродот. И только будучи уже на четвертом курсе, я слушал у Г. И. Якубаниса специальные философские курсы: по Платону («Пир») и по Аристотелю («Метафизика»). Оба эти произведения Якубанис читал в аудитории в греческом подлиннике, тут же переводил на русский и развивал историко-фило-
6
софский комментарий. То же мы обязаны были делать на экзамене: перевести из сдаваемого сочинения отрывок, указанный преподавателем, и прокомментировать его с историко-философской точки зрения. «Пир» Платона мы должны были приготовить целиком, «Метафизику» Аристотеля — в фрагментах, заранее указанных тем же Якубанисом.
Психология была не единственным философским предметом, читавшимся на первом курсе историко-филологического факультета. Параллельно с ней читался также курс «Введения в философию». Этот курс вел уже в течение многих лет А. Н. Гиляров, один из наиболее старых профессоров факультета. Если Зеньковский запоздал с началом своего курса по обстоятельствам военного времени, то Гиляров по другой причине не торопился с началом своего курса. Он не любил читать лекции при начале семестра, старался открыть свой курс как можно позже и первый из профессоров прекращал чтения в конце семестра. Факультетское начальство не препятствовало этому, так как Гиляров пользовался большим уважением на факультете и в ученом совете университета (заседания совета были общие для всех факультетов).<… >
Так как «Психология» и «Введение в философию» читались параллельно и одновременно, то мы, слушатели обоих, получали рельефное впечатление о философском направлении профессоров, читавших эти курсы. Зеньковский поразил нас уже с первых лекций. Он не скрывал ни религиозной направленности, ни идеалистического содержания своих философских идей. Более того. Он был темпераментным пропагандистом этих идей. Уже на первых лекциях он «властителем дум» современной философии назвал Эдмунда Гуссерля. То был ранний Гуссерль, автор «Логических исследований» («Logische Untersuchungen») и «Идей к чистой феноменологии» («Ideen zu einer reinen Phanomenologie»), опубликованных Гуссерлем в 1913 году в первом томе его «Ежегодников». Зеньковский был хорошо знаком с критикой логического психологизма, развитой Гуссерлем в «Логических исследованиях», особенно в первом томе, но, по-видимому, не знал (или почти не знал) феноменологии, как она была изложена Гуссерлем в «Ideen zu einer reinen Phanomenologie». На этот пробел в философской и логической осведомленности Зеньковского язвительно указал Г. Г. Шпет — на диспуте в Москве во время защиты Зеньковским диссертации в Московском университете — в январе 1915 года. Приблизительно в это же время Шпет пропагандировал и интерпретировал идеи феноменологии Гуссерля в своей книге «Явление и смысл», вышедшей в Москве в издательстве «Гермес» в 1914 году. С полемикой между Зеньковским и Шпетом мы могли познакомиться только позже, когда рецензия Шпета на книгу Зеньковского появилась в московском журнале «Вопросы философии и психологии». Общий тон рецензии Шпета был снисходительно-доброжелательный, диссертацию Зеньковский благополучно защитил и вскоре по возвращении в Киев был утвержден в должности профессора.
В специальных сферах психологии Зеньковский подробно останавливался на вопросе об отношении психических и соматических явлений. Это была знаменитая в то время так называемая психофизическая проблема. Вокруг этой проблемы шла борьба между сторонниками так называемой «теории психофизического параллелизма» и «теории взаимодействия души и тела». Теория параллелизма развивалась Вундтом, Эббингаузом и их многочисленными учениками. Теория взаимодействия была в России представлена Г. И. Челпановым и его последователями, в том числе самим В. В. Зеньковским, который был учеником Челпанова, начав-
7
шего свою философскую деятельность также в Киевском университете, но затем перешедшего в Москву, где он стал организатором и первым директором Института психологии.<…>
Зеньковский читал страстно и увлеченно. Чрезвычайно начитанный (Гиляров называл его в насмешку «книгоглот»), Зеньковский превращал курс психологии в курс философской психологии. Он не читал историко-философских курсов, но в курсе психологии искусно извлекал психологические идеи и психологическое содержание из философских учений великих мыслителей прошлого. Он умел расшифровать или вскрыть психологическую ценность, психологическое значение теоретико-познавательных построений и учений. В Локке, Лейбнице, Юме, Канте он открывал и демонстрировал не только великих философов, но и великих психологов, задавших психологии темы ее будущих исследований и внушавших или намечавших будущие решения поставленных ею перед наукою проблем. Не теряя специфичности этих проблем, психология в анализах Зеньковского наполнялась философским смыслом, приобретала философское содержание.
Все это придавало лекциям по психологии большую живость и связывало психологию с современными философскими тенденциями. Лекции Зеньковского вводили нас, его слушателей, в то, что происходило в современной зарубежной, а отчасти и русской психологии и философии. Называя Гуссерля «современным властителем дум», Зеньковский эти «думы» делал отражением «дум» самого Гуссерля. Он знакомил нас с последними течениями и увлечениями зарубежной психологии и философии. На лекциях по психологии в 1914 году, на семинарских занятиях в 1915 году Зеньковский вводил нас не только в идеи Гуссерля, Мейнонга, но также знакомил с психоанализом Фрейда, которого он рекомендовал нам изучать как выдающегося и оригинального психолога. Кажется, тогда же на этих лекциях мы впервые услышали имя Юнга. Зеньковский также рекомендовал нам изучать, как гениального русского логика, труды Михаила Ивановича Карийского и как выдающегося богослова и философа — Павла Флоренского. Это было время, когда издательство «Путь» выпускало, том за томом, свои прекрасные издания русских философов — Киреевского, Чаадаева, а из современных — Бердяева, Булгакова и других. Мы с живым интересом набрасывались на эти новинки.<…>
(Вопросы философии. 1990. №8. С. 90—93, 104—105).
Психология ДЕТСТВА
Текст публикуется по изданию: Зеньковский В. В., проф. Психология детства Лейпциг: Изд-во «Сотрудник», 1924, 348 с:
ГЛАВА I.
Задачи психологии детства, ее историческое развитие. Основные направления в психологии детства. Место ее в системе психологических дисциплин. Методы психологии детства.
Психология детства имеет своей задачей изучение душевной жизни ребенка, уяснение психического своеобразия детства. В системе наук о ребенке («педологии») психологии детства, конечно, должно принадлежать центральное место, и если в настоящее время психология детства не занимает такого места, если ее выводы, ее принципы пока не оказывают руководящего влияния на другие науки о ребенке, то это объясняется, с одной стороны, слабым развитием общей антропологии (общего учения о человеке), с другой стороны — медленным развитием самой психологии детства. Но принципиально ключ к детству, к теоретическим и практическим проблемам его — заключается в психическом своеобразии детства. Чем дальше подвигаемся мы в понимании душевной жизни ребенка, чем яснее выступают перед нами ее особенности, тем определеннее обрисовывается центральное положение психологии детства в системе наук о ребенке.
Для понимания современного положения психологии детства очень любопытно вспомнить ее историческое развитие. Несмотря на то, что всегда существовал непосредственный интерес к детской душе, предметом научного изучения детство стало"очень'поздноТ Впервые в конце XVIII века мы видим появление специального трактата о душе ребенка; в высшей степени характерным надо признать факт, что этот_научный интерес к детству исходил от врачей. Врачам впервые пришлось столкнуться с фактом своеобразия детства: учение о детских болезнях, учение об особенностях у детей в течении обычных болезней заставило впервые задуматься над особенностями детства. Детей нельзя лечить так, как лечат взрослых; самое развитие детского организма делает особенно сложным и тонким вопрос о вмешательстве в жизнь детского организма. Все это естественно выдвигало необходимость специального изучения ребенка.
Огромное влияние на развитие интереса к душе ребенка имел Руссо с своим знаменитым «Эмилем». Не так важны отдельные положения, выдвигаемые Руссо, как важна его подлинная любовь к детству, глубокое уважение к личности ребенка, к внутренней закономерности происходящего в нем процесса. В книге Руссо чувствуется желание войти во внутренний мир ребенка, желание прислушаться к таин-
11
ственному росту его личности, угадать пути его развития. Пусть вся картина, нарисованная Руссо в «Эмиле», носит на себе нередко печать сентиментальной фантастики, но и доныне книга Руссо действует своей любовью к детской душе, подлинным и глубоким интересом к ней. Недаром влияние Руссо сказалось на двух гениальных педагогах, открывших истинно новую страницу в истории педагогики — на Песталоцци и Фребел е. Педагогические воззрения Л. Толстого, носящие яркую печать его гения, сложились тоже не без влияния идей Руссо.
В конце XVIII века появилась первая книга, положившая начало научному изучению детской души — то была книга врача Тидеман-на, содержавшая в себе наблюдения над развитием психических способностей у ребенка._ (Tiedemann — Beobachtungen uber die Entwickelung der Seelenfahigkeiten bei Kindern. 1787). Несколько позднее некто Пассевиц (Р assevitz) выпустил в 1800 году книгу о жизни ребенка в течение первых 8 месяцев. История изучения детства в это время еще мало исследована — достаточно указать, что о книге Тидеманна впервые вспомнили лишь во второй половине XIX века и сначала знали ее лишь по французскому переводу. Во всяком случае научное изучение детства, начавшееся в конце XVIII века — быть может, как раз под влиянием Руссо, — снова затем падает. Педагогическая мысль работала в это время очень интенсивно, развивалось изучение детского организма, детских болезней — в том числе развивалась и детская психопатология, — но для психологии детства наступил перерыв до середины XIX века. Из книг, появившихся во время этого промежутка, отметим лишь одну — книгу г-жи Necker de Saussure — L'education progressive ou etude du cours de la vie (T. I—HI. 1828—1838). В 1851 г. появляется книга Лебиша (L d b i s с h) — История развития души ребенка. В 1856 г. появляется новая книга о детской душе, имевшая большой успех и принадлежавшая опять же врачу— Сигизмунду (S i g i s m u n d), под заглавием — Kind und Welt (Дитя и мир). В 1859 г. Кусмауль (К u s s m а и 1) издает свои — Untersuchungen uber das Seelenleben des neugeborenen Menschen, несколько позже (в 1867 г.) появилась книга Алтмиллера (А 11 m u 11 е г) — Ueber die Entwickelung der Seele des Kindes. В конце семидесятых годов появился этюд Чарльза Дарвина (Ch. D a r w in— A biografical Sketch of an Infant), поднявший интерес к детству среди естествоиспытателей. И доныне проблемы психической эволюции оказывают большое влияние на постановку и решение различных вопросов, связанных с детством, — и в этом отношении работа Дарвина имела свое значение. Тогда же, в конце семидесятых годов, русский психиатр И. А. Сикорский опубликовал свое исследование об утомлении у детей. В 1881 году появляется знаменитая книга Фирордта (V i е г о г d t — Physiologie des Kindesalters), создавшая эпоху в изучении организма ребенка, а в следующем, 1882 году появился труд другого физиолога Прейера (Р г е у е г — Die Seele des Kindes. Beobachtungen uber die geistige Entwickelung des Menschen in den ersten Lebensjahren), начавший новую эпоху в изучении души ребенка.
12
Книга Прейера, примыкавшая к упомянутым выше работам, имела действительно огромное влияние на развитие психологии детства, точ-, нее говоря — с нее^собственно и начинает свое существование психоло-гия детства, как особая наука. Причина этого лежит прежде всего в методе Прейера: здесь впервые были заложены основы научной методики в изучении детства, впервые был дан образец собирания научно пригодного материала. С другой стороны, книга Прейера имела высокую ценность и в том отношении, что она пыталась дать систематический обзор развития всех психических сил ребенка. В книге своей Прейер проявил большое психологическое чутье— и в этом смысле она не утратила и доныне своего значения. В связи с этим уместно упомянуть, что и в наше время психология детства имеет в своем распоряжении очень небольшой точный и научно пригодный материал. После классических наблюдений Прейера научную ценность представляют наблюдения г-жи Шинн (S h i n n — Notes on the Development of a Child. 1.1893—1899. II. Development of the Senses. 1907), супругов К. и В. Штерн (К. u. W. Stern— I. Die Kindersprache. II. Erinnerung, Aussage und Luge in der fr'uhen Kindheit, а также очень ценный материал в книге W. Stern'a— Psychologie der friihen Kindheit. 2 изд.). Упомянем также о наблюдениях Меджора (Major— First Steps in Mental Growth. New York. 1906), Скупина (E. u. G. Scupin— Bubis erste Kindheit. 1907. Bubi im 4—6 Lebensjahre. 1910), Крамосселя (С г а-maussel— Le premier eveil de Penfant. Paris. 1911), Дикса (Dix — Korperliche und geistige Entwickelung eines Kindes: I. Instinktbewegungen. 1911. II. Die Sinne. 1912. III. Vorstellen und Handeln. 1914). Вот собственно и все ценное, чем располагает психология детства в качестве точного и научно пригодного материала1. Известную ценность имеют, конечно, и всякого рода автобиографии и исповеди, в которых часто сообщается очень интересный материал; кое-чем психолог может воспользоваться и в художественных произведениях, посвященных детству. Но все это, к сожалению, страдает тем недостатком, что не дает точных хронологических указаний, а затем всегда внушает подозрение, что ради картинности изложения авторы могут допустить много неточностей и даже выдумок. Тем не менее, скудость материала заставляет психологов пользоваться даже и недостаточно проверенным материалом, что делает особенно сложным вопрос о методологии нашей науки.
Но вернемся к историческому развитию психологии детства.
После появления книги Прейера интерес к психологии детства заметно поднимается. В Америке начинается плодотворная деятельность известного организатора педологических исследований — Стенли Холла (Н а 1 1), появляются дневники г-жи Шинн, выступает один из творцов современной психологии детства— Болдвин (Baldwin). В Англии появилась чрезвычайно ценная книга Селли (Sully) — Этюды по
--
1 Недавно вышла четвертым изданием книга-хрестоматия, в которой собран материал по психологии ребенка (G. Baumer и Lili Droescher— Von der Kinderseele. 1921), — но книга эта не имеет никакого научного значения вследствие своей некритичности в подборе материала.
13
психологии детства. Но новую эру в развитии нашей науки составили труды Карла Гроса (К. G г о о s), занявшегося изучением игр. Сначала появилась его книга, посвященная играм животных (Die Spiele der Tiere), а затем вышла в свет вторая его замечательная книга, посвященная играм людей (Die Spiele der Menschen). Эти книги Гроса, равно как и его лекции о душевной жизни ребенка (Das Seelenleben des Kindes. Ausgewahlte Vorlesungen. Ныне вышло пятое издание) выдвинули биологическое понимание детства, которое очень прочно утвердилось в современной психологии детства. Книги Гроса имели основополагающее значение, так как в них впервые с полной ясностью и определенностью обрисовывалось своеобразие детства, впервые намечалось учение о детстве, как замкнутой и самостоятельной фазе в разви-тии человека. Если до Гроса психология детства представляла теоретический интерес лишь в связи с проблемами генетической психологии, проблемами психической эволюции (что и доныне еще сильно сказывается в нашей науке), то после трудов Гроса проблемы психологии детства приобрели самостоятельное теоретическое значение. Этим Грос больше всего способствовал тому, что психология детства стала особой и самостоятельной наукой.
Рядом с Гросом, как другой творец современной психологии детства, должен быть отмечен упомянутый выше Болдвин (James Mark Baldwin). Если Гросу принадлежит честь установления биологического понимания детства, то Болдвину принадлежит неоценимая заслуга выяснения социально-психических условий развития души ребенка. В трудах Болдвина окончательно преодолевается одностороннее связывание проблем детства с вопросами психической эволюции; психология детства у Болдвина входит в ближайшую связь с социальной психологией. Из трудов Болдвина необходимо помянуть: 1. Mental Development in the Child and the Race — Психическое развитие индивидуума и человеческого рода (есть русский перевод); 2. Social and Ethical Interpetation in Mental Development— Психическое развитие с социологической и этической точки зрения (есть русский перевод); 3. Thougths and Things — Мысли и вещи (V. I—III).
Если обратиться к современным трудам по психологии детства, то надо признать, что литература возрастает здесь чрезвычайно быстро. Среди французских авторов на первом месте должны мы поставить Бине (Bine t), который был основателем в Париже (в 1898 г.) общества изучения души ребенка (Societe libre pour l'etude psychologique de l'enfant). Бине был выдающимся психологом и выдающимся организатором научных исследований. Выходивший под его редакцией журнал Annee Psychologique (ныне выходит под редакцией Pieron) является богатейшим «архивом» по психологии детства. Особенно ценны различные этюды Бине и его сотрудников по изучению анормальных детей, — из этих именно работ и выросла у Бине идея «измерения интеллектуального уровня», сыгравшая такую огромную роль в изучении интеллектуальной жизни детей. Впервые Бине описал свой метод в статье — «Methodes nouvelles pour le diagnostic du niveau intellectuel des anormaux» (An. Psychol. V. 11.1905). Через три года в том же журнале он
14
напечатал новую редакцию вопросов, предлагавшихся при испытании; наконец, в 1911 г. (An. Psychol. V. 17,1911) Бине напечатал большой этюд, посвященный обзору литературы, возникшей в связи с предложенным им методом, а также указал новые модификации своего метода. В настоящее время существует отдельное издание этой работы Бине, приспособленное для производства исследований по его методу — А. В i n e t et T h. S i m о n — La mesure du developpement de I'intelligence chez les jeunes enfants. Paris. 19172.
Бине принадлежит еще целый ряд работ по психологии детства. Из них помянем прежде всего замечательную его книгу— L'etude experimentale de Pintelligence, которую можно назвать классическим трудом по «клинической психологии». В этой книге Бине излагает результаты своих исследований над двумя девочками в течение IV2 лет. Очень ценна и другая его книжка — Новые идеи о детях (есть русский перевод). О других, более специальных его работах придется нам не раз вспоминать в дальнейшем.
Из других французских авторов должно еще помянуть Клапареда (С 1 а р а г е d е), написавшего прекрасную книгу — Экспериментальная педагогика и психология детства (есть русский перевод). Ему же принадлежит много отдельных статей в издаваемом им (вместе с Flournoy) журнале — Archives de Psychologic Упомянем еще Компейре (С о т-р а у г е), главная книга которого появилась давно в русском переводе (Умственное и нравственное развитие ребенка), Кеира (Q е у г a t — La logique des enfants, а также L'imagination et ses variete's chez l'enfant). Книги Пере (Р e r e z — 1. Les trois premieres annees de l'enfant и 2. L'enfant de trois a sept ans — они переведены и на русский язык) не имеют большой ценности.
Из английской и американской литературы по психологии детства, кроме упомянутых выше работ Болдвина, Шинн, Селли и Холла, укажем еще на книги: Moore— The mental Development of a Child. New York. 1896; Chamberlain — The Child: a study in the Evolution of Man (есть русский перевод).
Немецкая литература по психологии детства очень богата. Не говоря о специальных журналах, в которых постоянно можно найти много работ по психологии ребенка, укажем на наиболее ценные книги. Упомянем прежде всего о вышедшей недавно вторым изданием книге Штерна (W. Stern— Psychologie der fruhen Kindheit. 1921), Книга эта ценна не только своими идеями, но и богатым фактическим материалом (на русском языке имеется перевод 1-го издания). Упомянутые мной лекции Гроса о душевной жизни ребенка вышли ныне пятым изданием (на русском языке было два перевода разных изданий этой книги; один из них вышел под моей редакцией). Достойны упоминания еще книги Дирофа (D у г о f f — Ueber das Seelenleben des Kindes. 2 изд. 1911), Гауппа (G a u p p — Psychologie des Kindes. 4 изд. 1918 — есть старый русский перевод), Бюлера (К. Buhler— Die geistige
---
2 Лучший обзор библиографии по этому вопросу и модификаций метода Бине можно найти в новой книге В. Штерна (Stern — Die Intelligenz der Kinder und Jugendlichen. 1920).
15
Enwickelung des Kindes. 2 изд. 1921), Клозе (К 1 о s e — Die Seele des Kindes, 1920), Коффка (Koffka— Die Grundlagen der seelischen Entwickelung. 1921). Из всех этих книг наибольшей ценностью обладают труды Штерна, Гроса и Бюлера. Не могу здесь не упомянуть о той литературе по психологии детской души, которая связана с известным направлением в современной психопатологии — именно со школой Фрейда (F r e u d). Известно, что школа Фрейда придает особое значение в психических заболеваниях тем «конфликтам» в детской душе, которые возникают в ней очень рано (по мысли этой школы — на сексуальной почве). Отсюда очень глубокий интерес всего этого течения к психологии детства. Мы будем иметь случай подробно коснуться «сексуального монизма» Фрейда в связи с тем анализом сексуальной психики у ребенка и там мы постараемся выделить правду и неправду в этом направлении, но сейчас укажем лишь на то, что этой школе психология детства обязана разработкой вопроса о сексуальной жизни ребенка. Кроме общей работы Фрейда о половом влечении, где Фрейд анализирует сексуальное развитие ребенка, укажем на его же этюд — Analyse d. Phobie eines 5-j3hrigen Kindes (Zeitschrift f. psycho-analyt. Forsch. I. 1909— был переведен на русский язык) и Hugo Н е 11 m u t h — Aus dem Seelenleben des Kindes. Eine psycho-analytische Studie. 19133.
Что касается России, то надо признать, что интерес к проблемам детства в ней всегда был велик, особенно возрос он в последнее время. В России переводились решительно все ценные книги по психологии детства, в Москве издавалась, под общей редакцией Виноградова и Гром-баха, целая серия книг по вопросам детства (в этой серии и были изда-ны, между прочим, труды Болдвина). Были попытки издавать особый журнал, посвященный психологии детства — Психология и дитя — сколько мне известно, прекратившийся на втором году издания. За последние годы, насколько мне известно, выходило несколько специальных журналов, посвященных проблемам детства. Из книг, посвященных детству, на первом месте надо поставить забытую, к сожалению, но выдающуюся книгу г-жи Конради— Исповедь матери, — где с чрезвычайным знанием дела, на основании непосредственного опыта описана история духовного созревания двоих детей. Хотя книга г-жи Конради имеет преимущественно педагогический характер, но и для психолога детства она имеет первостепенное значение. Очень высоко стоит известная книга проф. Лесгафта — Воспитание в семье и школе, — где находим знаменитую классификацию детских типов. В выходившей в Петербурге «Энциклопедии семейного воспитания» несколько выпусков было тоже посвящено психологии ребенка.
Изданный Педагогической Академией сборник статей под общим названием — Душевная жизнь ребенка — почти исключительно заключал в себе компилятивные статьи. Гораздо ценнее статьи, принадлежавшие перу г. Румянцева, печатавшиеся в «Вестнике Психоло-
--
3 По вопросу о применении психоаналитического метода к детям см. энергические возражения Штерна против этого в специальной статье, посвященной этому вопросу, в Ztschr. I. angew. Psychol. В. VIII.
16
гии». Уже во время великой войны вышла в Москве книга прив. -доц. Корнилова — Психология ребенка4.
Не имея возможности дать в настоящих условиях полный библиографический обзор появившейся в России литературы по психологии детства, я думаю, что и отмеченные мной издания свидетельствуют о высоком интересе русских педагогических кругов, русского общества к душевному миру ребенка. Начиная с книги проф. Сикорского (Душа ребенка), выдержавшей два издания на русском и немецком языках, самостоятельная русская литература по психологии детства все время развивалась. Педологический институт в Петрограде, Институт в Москве, находившийся под руководством проф. Россолимо, Врачеб-но-Педагогический Институт, созданный проф. Сикорским в Киеве, — таковы были научные учреждения, посвященные специально детству. Два института дошкольного воспитания (в Петрограде и Киеве) имели специальные кафедры по психологии детства. Все это свидетельствовало и раньше о нараставшем интересе к душевному миру ребенка, — и в полной связи с этим стоит то обстоятельство, что на русский язык было переведено все ценное из литературы по психологии детства5. Меньше всего повезло в России собранию точного и научно пригодного материала. Заслуживают быть отмеченными лишь дневник г-жи Гавриловой, изданный в Москве, да — Записки матери — г-жи Кричевской. В связи с великой войной появилось несколько статей и книг, посвященных вопросу о влиянии войны на детей. Отмечу сборник статей, изданный Киевским Фребелевским Обществом под моей редакцией, — Война и дети. Была подготовлена к печати книга А. В. Владимирского о пробуждении половой жизни у детей, а также моя книга — Роль семьи в жизни ребенка, — но появились ли они в печати, не имею точных сведений6.
Участие врачей и естествоиспытателей в разработке проблем детства оказало несомненное влияние на основные тенденции нашей науки, которая долгое время развивалась в связи с проблемами генетической психологии, проблемами психической эволюции. Недавно вышедшая книга Бюлера — Die geisige Entwickelung des Kindes стоит всецело на этой точке зрения и может служить лучшим образцом этого течения в психологии детства7. Кульминационным пунктом его следует считать деятельность Ст. Холла, стремившегося приложить к психи-
--
4 В целом ряде педагогических журналов (Вестник Воспитания, Русская Школа и др.), иногда в других журналах (Вестник Психологии, Вопросы Философии и Психологии) было помещено много статей по общим и специальным вопросам психологии детства. Напомним также о труде г-жи Манасеиной, о работах А. В. Владимирского.
s Остались непереведенными дневники г-жи Шинн, хотя они и были намечены к переводу в серии книг, издававшихся под ред. П. Н. Виноградова и Громбаха.
6 В книге моей — Введение в педагогику, — давно имеющей появиться на свет (в Киеве), несколько глав посвящено тоже проблемам детства.
7 Тщательный и глубокий анализ вопросов, возникающих для психологии детства при сближении ее с учением о психической эволюции, дает К о f f k а в своей интересной книге — Die Grundlagen der psychischen Entwickelung. Eine Einfuhrung in die Kinderpsychologie. 1921.
17
ческой эволюции биогенетический закон. И все же это течение потеряло свое руководящее значение — хотя проблемы, им выдвинутые, еще не нашли своего разрешения, хотя его влияние сказывается доныне в отдельных трудах. Книги Гроса, внешне столь примыкавшие к этому течению, развивавшие биологическое понимание детства, положили тем не менее начало новому плодотворному течению в психологии детства. Это новое течение изучает детство, как таковое; сосредоточивая свое внимание на внутреннем мире ребенка, оно ищет разгадки психического своеобразия детства в нем самом, и в этом смысле оно впервые обосновало самостоятельность психологии детства, как науки. Детство, по взгляду Гроса, есть особая фаза в развитии человека, имеющая свои особые задачи, свое место в созревании личности; биологическая неустранимость детства придает ему внутреннюю целесообразность и законченность. Развитие психологии детства в направлении, указанном Гросом, во многом перешло те границы, в каких намечалось Гросом изучение детства, но основная идея, одушевляющая построения Гроса — сознание внутренней закономерности, органичности в соотношении психических сил у ребенка, отчетливое сознание действительного психического своеобразия детства — это остается в современной психологии детства доминирующим фактором ее развития.
Меньший успех в нашей науке имело то направление, создателем и главным выразителем которого явился американский психолог Болд-вин. Слабое влияние его идей можно видеть хотя бы в том, что в новейших лучших трудах по психологии детства— Гроса, Штерна, Бюлера — нет никаких указаний на идеи Болдвина (если не считать нескольких замечаний Гроса, который, видимо, знает труды Болдвина, но ценит их совсем не в тех частях, в каких они относятся к душевной жизни ребенка). Конечно, это объясняется слабым развитием и некоторой непопулярностью социальной психологии вообще, — но все же слабое влияние идей Болдвина, который связывает проблемы психологии детства и социальной психологии, печально влияет на развитие нашей науки. При изложении учения Болдвина мы убедимся, что оно имеет фундаментальное значение для понимания развития душевной жизни ребенка8.
В связи с вопросом о различных течениях в психологии детства я хотел бы коснуться вопроса о ее месте в системе психологического знания. Психология разрослась в целый организм знания, представляя из себя систему наук, — но законченной классификации психологических дисциплин мы еще не имеем. Это связано прежде всего с тем, что вновь отделяющиеся психологические дисциплины не вполне еще ясны в их методологическом своеобразии, в их связи с другими психологическими науками. Чтобы привести яркий пример этого, позволю себе маленькое уклонение в сторону и укажу на неопределенность в характеристике педагогической психологии. Право на существование этой науки признается решительно всеми, но пред-
--
8 В своем этюде — О социальном воспитании, — вышедшем, насколько мне известно, в нескольких изданиях (в Москве и в Киеве), я имел уже случай изложить идеи Болдвина.
18
мет ее и доныне определяется различными авторами различно. Если отбросить те построения педагогической психологии, в которых она являлась ничем иным, как только сочетанием фактов общей психологии и педагогических выводов из них9 — в силу чего педагогическая психология не может быть названа особой наукой, — то надо отметить следующие толкования ее. Чаще всего встречается понимание педагогической психологии, как науки, примыкающей к психологии детства, но освещающей тот же материал с «педагогической точки зрения». В этом духе написана популярная в Германии книга Яна (Jahn— Psychologie als p'adagogische Grundwissenschaft. 6 изд.), очень распространенная в России книга прив. -доц. М. М. Рубинштейна (Педагогическая психология). Другие авторы ориентируют педагогическую психологию на дифференциальную психологии—к таким принадлежит новая книга по педагогической психологию, принадлежащая Грунвальду (Grunwald— Pa'dagogische Psychologie. 1921), — к этому же направлению примыкает отчасти Каптерев (Педагогическая психология). В своих лекциях по педагогической психологии и в этюдах, посвященных ее проблемам, я давно уже связываю педагогическую психологию с социальной психологией, видя задачу педагогической психологии в изучении психологии педагогического процесса, как особой формы социального взаимодействия. В соответствии с этим в систему педагогической психологии впервые вводится анализ «педагогической среды», как социально-психического предусловия педагогического процесса.
Уже из этих беглых замечаний о педагогической психологии ясно, как трудно в наше время построить систему психологического знания и указать в ней место психологии детства.'Для тех, кто связывает психологию детства с вопросами психической эволюции, она входит в состав более общей дисциплины — генетической психологии, или, как ныне иногда ее называют более узко, — «психологией развития» (Entwickelungspsychologie). Болдвин, как мы видели, сближает психологию детства с социальной психологией, так как основное условие развития детской души заключается в социально-психической среде, в которой она развивается. Наконец, в психологии детства давно уже было сближение с дифференциальной психологией, так как в детстве с самого начала видели некоторые вариации общего психического уклада. Последняя точка зрения представляется мне принципиально верной. Задача психологии детства заключается в изучении психического своеобразия детства, — и уже одно это определение приближает нашу науку к дифференциальной психологии, которая и имеет в виду уяснение типических вариаций, наблюдаемых в конкретных проявлениях душевной жизни. «Детство» образует некоторую «натуральную группу»10, рядом с которой можно было бы поставить такие натуральные группы, как «психическая зрелость»,
--
9 Примером таких построений может служить книга Селли (Sully) по психологии, названная в новом русском переводе — Педагогическая психология.
10 Учение о «натуральных группах» очень хорошо намечено Мюнстербергом в его книге о психотехнике (М unsterberg— Grundzuge der Psychotechnik. 1920).
19
«старость». То, что последние группы еще не выделились, как предмет особого изучения, связано с тем, что ими мало занимались и мало обращали внимания на черты их психического своеобразия. В группу дифференциальной психологии входят и такие, все более обособляющиеся области психологического знания, как сексуальная психология, как психология женщины, довольно недурно уже разработанная.
Не мотивируя во всех частях той классификации психологических дисциплин, которой я придерживаюсь, позволю себе ее привести, чтобы указать место психологии детства.
I. Теоретические науки о душе
А. человека
а. Психология отдельного человека
1) Общая психология (с подразделениями: физиологическая психология, экспериментальная психология)
2) Генетическая психология
3) Психопатология
4) Дифференциальная психология (куда входит как особая наука)
5)Психология детства
6) Индивидуальная психология (характерология)
Ь. Психология социально- 1) Общая
психических явлении
социальная пси хология
2) Педагогическая психология
3) Экономическая психология
4) Психология языковая (Sprachpsychologie)
5) Психология правовой жизни
6) Религиозная психология
7) Психология моральной жизни
В. Науки о психической жизни других живых существ
1) Зоопсихология 2)Фитопсихологи я(?)
П. Прикладные науки о душе
1)Психотехника (прикладная психология)
В настоящей вступительной главе мы должны еще коснуться вопроса о методах психологии детства.
Конечно, для психологии детства сохраняет свою силу то, что имеет значение для общей психологии, т. е. что главным методом должно быть самонаблюдение. Но в каком смысле это приложимо к психологии детства? Дети имеют так мало интереса к самим себе, к
20
своей внутренней жизни, способность различения и анализа — в отношении к миру внутренней жизни — еще настолько слабо развита у них, наконец, уменье точно формулировать и ясно выражать свои переживания тоже так еще слабо у них, — что пользоваться самонаблюдением детей совершенно невозможно. Конечно, мы, взрослые, сохраняем в своей памяти те или иные воспоминания из нашего детства, которые позволяют нам, с большим или меньшим успехом, проникать в душевный мир ребенка. Но, во-первых, наши воспоминания очень отрывочны и неполны: мы будем иметь случай подробно говорить об этом при изучении работы памяти у ребенка. Неполнота, отрывочность наших воспоминаний делают их очень ненадежными руководителями при анализе души ребенка. Но еще важнее этой количественной скудости воспоминаний их слабая качественная пригодность: воспоминания наши не только недостаточно полны, но в них очень часто встречаются существенные изменения. По известному выражению Пушкина:
Все мгновенно, все пройдет:
Что пройдет, то будет мило.
Наша память редко сохраняет тяжелые и неприятные переживания, точно стремится отодвинуть их в глубину души, — и наоборот, то, что сохраняет наша память обыкновенно носит черты несомненного смягчения и ослабления «острых углов». Вместе с тем на наши воспоминания оказывает большое влияние отдаленность тех событий, о которых мы вспоминаем: чем позже мы вспоминаем те или иные факты, чем больше мы отодвигаемся от них, тем больше меняется наше понимание их, меняется наша психическая «установка», имеющая столь большое влияние на содержание всплывающих у нас воспоминаний11. Подобно тому, как далеко отстоящие предметы кажутся нам во многом иными, чем при близком их восприятии, — и психическая «удаленность» значительно меняет то, что мы воспринимаем внутренним взором, т. е. наши воспоминания12. Из этого ясно, что те остатки самонаблюдения, которые в виде воспоминаний сохраняются в душе от нашего детства, не могут служить нам в качестве основного материала при построении психологии детства. Тем существеннее значение воспоминаний детства в другом отношении: они имеют очень глубокое влияние на наше понимание детства, развивая в нас непосредственное, интуитивное вживание в душевный мир ребенка. Не сообщая нам точного материала, будучи неполными и отрывочными, наши воспоминания из времени детства сохраняют в нас способность конгениальной отзывчивости на то, что переживают наблюдаемые нами дети. Благодаря именно им и развиваемому ими интуитивному пониманию детской души внешнее наблюдение и получает свою научную ценность в психологии детства. Надо, впрочем, отметить, что
--
11 О роли «установки» в содержании всплывающих образов см. книгу К о f f k a — Zur Analyse der Vorstellungen.
12 См. интересный этюд Бервальда — Gesetze der psychischen Distanz.
21
и в общей психологии роль «самонаблюдения» главным образом заключается тоже в том, что оно делает возможным и плодотворным внешнее наблюдение, открывая нам внутренний смысл наблюдаемых фактов и делая для нас возможным «вчувствование» (Einfiihlung) в чужую душевную жизнь.
Таким образом, основным методом психологии детства является внешнее наблюдение детей. Следить за развитием ребенка с первых дней его жизни, отмечать появление новых сторон в его реакциях, в его понимании окружающих, в его самостоятельных движениях — следить за развитием каждой психической функции и за их взаимоотношением — вот задача внешнего наблюдения. Эта задача еще так мало, так слабо разрешена! Дело в том, что систематические наблюдения возможны только за своими собственными детьми, когда наблюдатель естественно всегда близок к детям, знает их с первых дней жизни. Но именно это обстоятельство и ослабляет ценность наблюдений, так как они ограничены небольшим материалом. Индивидуальные особенности ребенка нередко принимаются за типичные, случайные явления возводятся в закон, — а тот естественный корректив, который мог бы быть дан сравнением данного ребенка с другими, отсутствует. Не следует забывать, что наше внимание к новым явлениям всегда регулируются нашим пониманием прежнего нашего опыта, — т. е. говоря психологическим языком, регулируется нашими ап-перцепциями. Перед нами проходят существеннейшие факты, мы их наблюдаем, — но если мы их апперцепируем «неправильно», т. е. не улавливаем их своеобразия, то наши наблюдения теряют свою ценность.
Выделять толкование наблюдений в особый метод, как это делает Бюлер13, конечно, решительно невозможно: «чистые» наблюдения, в которые не входил бы ни один гран наших толкований, неосуществимы — мы всегда апперцепируем, т. е. сознаем наши восприятия в свете тех или иных образов, идей, настроений, замыслов. Можно и должно стремиться к возможно более «точному» описанию фактов, но недаром современная экспериментальная психология, опирающаяся на так называемые «протоколы», т. е. записи (со стороны лиц, над которыми производится опыт) того, что было в сознании, требует, чтобы опыты производились над лицами, хорошо знающими психологию. Этим путем хотят избегнуть некритического употребления терминов при описании фактов, — и это верно в том смысле, что во всякое «описание» факта неизбежно входит его толкование. Вот почему лица, знакомые хорошо с психологией, могут с наибольшим успехом избежать грубых ошибок при описании фактов… Штерн14 требует, чтобы и при наблюдениях над детьми эти наблюдения производились людьми, психологически образованными. Это, конечно, хорошо, но все же не гарантирует полной достоверности материала. Позволю себе указать на то, что даже у таких первоклассных психологов, как Бине (в его работе— L'etude experimcntale de l'intelligence), как Штерн (в работе —
--
13 В ii h 1 е. г — Die geistige Entwickelung des Kindes. 2-е изд. S. 57.
14 S t e r n — Psychologie der fruhen Kindheit. 2-е изд. S. 8.
22
Erinnerung, Aussage und Luge in der fr'uhen Kindheit), мы встречаем ошибочные толкования сообщаемых ими фактов15.
При всем том внешнее наблюдение остается единственным методом изучения душевной жизни ребенка. Конечно, и в отношении к детям применим эксперимент; так, один английский ученый применял экспериментальный метод в отношении шестимесячного ребенка при изучении различения цветов у детей16. По движениям детей, по их реакции мы можем судить о тех или иных психических процессах. Среди вспомогательных приемов наблюдения особенно надо отметить изучение мимики детей. Физиогномический метод, как один из вариантов наблюдения имеет большое значение в психологии детства, — и в этом смысле очень жалко, что все дневники, которыми приходится пользоваться, не снабжены в обилии фотографическими снимками тех детей, над которыми производилось наблюдение17.
Мы познакомились с историческим развитием психологии детства, с ее местом в системе психологического знания, с ее методами. Прежде чем мы войдем in medias res — в изучение психической жизни ребенка, — мы должны остановиться на основных принципах современного понимания детства. Эти принципы слишком часто остаются без влияния на анализ отдельных процессов у ребенка, — к сожалению, это так. Мы делаем попытку в настоящей книге подвести итоги научного изучения детской души, связать их с общими принципами и приблизиться, таким образом, к синтетическому пониманию детства, — но, к сожалению, это еще слишком трудно, еще не настало для этого время. Не мало затруднений лежит и в том, что на каждом шагу приходится иметь дело с крупными разногласиями в общей психологии, обойти которые нет никакой возможности. Хотя основной замысел настоящей книги не мог быть выполнен до конца, но все же я надеюсь, что самые основы синтетического понимания детства намечены здесь с достаточной ясностью…
15 О Бине см. мой этюд — По поводу работы Бине о памяти; что касается Штерна, он ошибочно толкует факты, касающиеся лжи у его детей.
16 W о о 11 е у — Some experiments on the color perception of on enfant. Psychol. Rew. 1909. Этот метод впервые был указан Болдвином в его труде, посвященном психологии детства.
17 В своей прекрасно разработанной методике ведения дневников при наблюдении над детьми Штерн (Psychologie der fruhen Kindheit. S. 12—14), к сожалению, совершенно не упоминает об этом.
ГЛАВА II.
Обычное понимание детства, его ошибки. Проблема детских игр, обычное их понимание. Теория Шиллера, теория Спенсера. Теория «отдыха». Учение Гроса об игре и его новейшие модификации. Роль фантазии в игре. Сущность фантазии. Понятие «сферы игры». Внутренние корни игры.
Мы все были детьми, мы всегда окружены детьми. Воспоминания из собственного детства, непосредственное восприятие детей, нас окружающих, — все это, конечно, вводит нас в душевную жизнь ребенка, но не настолько, чтобы мы могли разобраться в особенностях детства. Мы почти всегда грешим упрощением загадки детства — как раз потому, что слишком много имеем дела с детьми: нам часто кажется, что мы вполне понимаем душу ребенка — в то время как в действительности мы очень плохо разбираемся в ней. Если Гамлет прав в своих иронических замечаниях, что играть на человеческой душе без подготовки можно еще с меньшим правом, чем это возможно в отношении игры на флейте, — то во сколько раз более прав он, если отнести его мысль к детству! Если по известному выражению «чужая душа — потемки», то во сколько раз темнее и загадочнее детская душа — с ее несложившимся характером, с отсутствием в ней внутреннего единства, с типичной для детства пестротой и разбросанностью во все стороны интересов и устремлений! А между тем нам почти всегда кажется, что мы хорошо понимаем детскую душу, что от нас не закрыто ни одно движение в ней… Как часто и горько мы обманываемся в этом, и как много от этого страдают наши дети!
Основная наша ошибка в отношении детей заключается в том, что мы считаем детскую душу решительно и во всем схожей с нашей, исходим из мысли, что в детской душе имеют место те же психические движения, что и у нас, — только еще неразвитые, слабые. Детская душа, с этой точки зрения — это душа взрослых в миниатюре, это ранняя стадия в ее развитии. Различие между душой ребенка и взрослого имеет, согласно этому популярному взгляду, количественный, а не качественный характер. Отдельные психические движения у них слабы, другие едва лишь намечены, соотношение психических сил благодаря этому несколько иное, чем у нас, — но общий психический склад у нас тот же, что у детей… Но неужели слабое и недостаточное развитие некоторых психических функций создает своеобразие детства? Достаточно сравнить с нормальными детьми тех психически отсталых взрослых, у которых недоразвиты или слабо развиты какие-
24
либо психические силы, чтобы убедиться в том, что своеобразие детства в очень малой степени создается психическим недоразвитием. Психический инфантилизм у взрослых сближает их с детьми, но совсем не превращает их в настоящих детей, у которых слабое развитие некоторых психических функций является не причиной, а следствием присущего им своеобразия.
Достаточно вдуматься в это своеобразие психического мира ребенка, чтобы почувствовать в нем проблему. В самом деле: все наши соседи в мире животных проходят очень быстро свое детство, которое у них всецело определяется чистой логикой развития, переходом от низших ступеней к высшим. Но у людей детство (беря его в широком смысле) занимает необычайно большое место. Каков же смысл детства, какова его функция в созревании человека? Очевидно, продолжительность детства может быть понята лишь в том случае, если детство, как таковое, имеет какую-то особую функцию. Не может быть случайным то, что человек должен прожить четверть своей жизни, чтобы стать вполне самостоятельным, — общие принципы нашего миропонимания не позволяют нам глядеть на эту чрезвычайную продолжительность детства, как на явление случайное. Если бы детство было лишь необходимой для созревания наших сил ступенью к самостоятельному существованию, мы должны были бы ожидать, что этот процесс во всяком случае будет столь же быстрым и кратким, как, например, у высших животных. Мы будем иметь случай убедиться, что целый ряд функций развивается у ребенка очень быстро. Что же задерживает общее развитие ребенка? Совершенно ясно a priori, что чисто биологическое понимание детства, видящее в нем раннюю стадию в развитии человека, не может объяснить продолжительности детства, а следовательно не может ввести нас в своеобразие детства.
Чем внутренне заполнено детство? Может быть, разгадка детства может быть найдена при анализе того, чем заняты дети? Но первые ступени детства почти исключительно заполнены игрой. Мы глядим на игры, как на пустое занятие, смысл которого заключается в том, чтобы «убить время». «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало», говорим мы, радуясь, что дети играют целый день, — ибо что бы делали дети, если бы их не увлекала так игра? Соответственно такому взгляду на игры, внутреннее содержание детства лишено какого бы то ни было смысла. Итак, — детство человека продолжительно, а в то же время ничем не заполнено. То созревание физических и психических сил, которое само по себе не требует большой продолжительности детства, еще менее может сделать нам понятным, почему детство заполнено играми, т. е. бесцельными и бессмысленными с первого взгляда действиями.
Проблема игры у детей сыграла в развитии нашего понимания детства особенно важную роль: на разрешении именно этой проблемы и добилась современная психология детства понимания душевной жизни ребенка. Анализ детской игры бросил неожиданный свет на самые существенные стороны детства и действительно ввел нас во внутренний мир ребенка, в своеобразие детства. Если не все в этой области
25
закончено и в наши дни, то все же главные трудности преодолены. Не входя в слишком большие подробности, остановимся, однако, на существенных моментах в понимании детской игры в современной психологии детства.
Обычный взгляд на игры детей может быть выражен так: дети играют все время потому, что у них нет никакого серьезного дела, играют для того, чтобы заполнить чем-нибудь время. Впервые немецкий поэт и философ Шиллер1 взглянул серьезнее на игры детей: в своих зна-I менитых «Письмах об эстетическом воспитании» (1795 г.). Шиллер связывает переживания игры с эстетической жизнью в человеке. Это сближение игры с эстетической сферой было у Шиллера философски очень углублено и было связано с его своеобразным учением о свободе. «Человек должен только играть с красотой, — говорит Шиллер, — но он должен только с красотой играть. Только тогда, когда человек играет, он является человеком в полном смысле слова, — и он может играть только тогда, когда он является вполне человеком». В этой формуле Шиллера впервые явление игры было связано с духовной сущностью человека, с высшей жизнью в нем: для Шиллера мир прекрасного открывается нам лишь тогда, когда мы поднимаемся над нашими потребностями, выходим из-под власти необходимости; но то же самое характерно и для явлений игры. «Животное работает, — говорит он в одном месте, касаясь вопроса о том, что и перед животными отчасти открыта перспектива свободы, — когда движущей силой его деятельности является неудовлетворенная потребность, и оно играет, если движущей силой является избыток сил».
Шиллер лишь мельком касался проблемы игры, но все, что он говорит о ней, очень глубоко. Его учение о Scheinbewusstsein, сближение игры и эстетических переживаний, как форм «незаинтересованного наслаждения», т. е. не приносящего никакой прямой выгоды, — были гениальными интуициями, блестящими идеями, которые предстояло развить будущему. Сближение игры и эстетических переживаний в их субъективной стороне, в их психо-физиологических условиях и, наконец, в их объекте — все это было связано у Шиллера с его антропологическими принципами, с его учением о природе человека, с его учением о свободе. У различных авторов все эти мотивы развивались затем независимо один от другого — и лишь в наши дни совершенно ясно, как философски глубока была основная идея Шиллера.
Уже во второй половине XIX века идеи Шиллера частично воспроизвел и развил известный английский философ Герберт Спенсер. Спенсер сохраняет сближение игры и эстетической сферы, но наибольшее развитие получил у него другой момент в теории Шиллера — именно учение о психо-физиологических условиях игры. Игра биологически совершенно бесполезна и бесцельна, согласно Спенсеру, — она возникает там, где серьезная жизненная деятельность не нужна или не может иметь места. Причина игры — как у животных, так и у людей —
--
1 Хороший обзор истории проблемы игры в психологической и педагогической литературе дает Колоцца в своей книге «Психология и педагогика детской игры».
26
лежит в том, что в организме скопляется энергия, оставшаяся непот-ребленной: эта энергия ищет своего выхода хотя бы в бесцельной деятельности. Как видим, по Спенсеру, игры всецело вмещаются в сферу импульсивной активности, т. е. являются рязрядом накопившейся энергии. Самая форма деятельности во время игры определяется подражанием или — как это говорит лучше Болдвин — самоподражанием: во время игры мы выполняем какие-либо движения, сходные с теми, какие мы выполняли при серьезной работе, при настоящей жизненной деятельности. Явления игры особенно ясны у высших животных и у человека, где удовлетворение потребностей происходит легче и скорее, чем у низших.
Нельзя отрицать тех фактов, на которые указывает Спенсер: весь вопрос заключается в том, помогает ли его теория проникнуть в «сущность» игры, или же она касается лишь поверхности изучаемого явления. Если мы долго сидим в одном и том же положении, мы чувствуем потребность движения: скопившаяся в нас энергия ищет своего выхода, мы совершаем движения без всякой цели — только ради самих движений. Таким образом, бесспорно то, что некоторые игры покоятся на том «разряде» скопившейся энергии, о котором говорит Спенсер. Но разве игры всегда возникают в таких условиях? Не только дети, но и взрослые часто играют не за счет неизрасходованной энергии, а за счет «основной» жизненной энергии, — и это лучше всего показывает, что движущей силой в играх является вовсе не потребность истратить лишнюю энергию (что имеет часто место лишь в начале игры), а какой-то иной фактор. Сколько случаев можно найти в жизни, когда у человека решительно нет никакой «лишней» энергии, ибо у него не хватает энергии на самую необходимую деятельность, — но игра его влечет к себе. Не должны ли мы вместе с тем сказать порой как раз обратное тому, что говорит Спенсер, что игра является источником сил, а не растратой их? Конечно, процесс игры связан с тратой энергии, но не является ли игра в то же время возбудителем и источником новой психофизической энергии? Мы увидим дальше, что этот момент лег в основу другой теории игры («теории отдыха»).
В теории Спенсера содержание игр не только не имеет никакого значения, но является просто «самоподражанием», воспроизведением каких-либо движений, связанных с серьезной деятельностью нашей. Этим совершенно отсекается интимная связь игры с нашим внутренним миром, игра лишается всякого психологического характера, оставаясь лишь психо-физиологическим явлением. Сближение игры с искусством не поднимает игру до высокой содержательности искусства, как это было у Шиллера, а наоборот понижает эстетические переживания до низкого уровня импульсивной активности, что мы и видим в современных психо-физиологических теориях эстетической жизни в нас. Вот почему теория Спенсера не только не приближает нас к пониманию явлений игры, но скорее отодвигает нас от этого, ибо зачеркивает совершенно всю психологическую сторону вопроса, в которой как раз и таятся самые существенные для нас моменты2.
--
Та модификация теории Спенсера, которую мы находим у Карра (С а г г — The
27
Совсем другую сторону в явлениях игры выдвигает теория «активного отдыха», созданная Шаллером, Лацарусом и Штейн-тале мГСогласно этой теории, кроме пассивного отдыха, который мы имеем во сне, мы имеем нужду еще в активном отдыхе, т. е. в такой деятельности, которая была бы свободна от всего того угрюмого и тягостного, что связано с работой. В нашей жизненной деятельности наша работа всегда связана с сознанием необходимости, с сознанием подневольности и подчиненности суровым законам действительности. Утомляясь от работы, мы нуждаемся не только в психо-физиологиче-ском, но и в чисто психическом отдыхе, т. е. в возможности действовать, будучи свободными от угрюмой жизненной необходимости, нас охватывающей со всех сторон. Психический отдых только и может быть реализован в активности (а не во сне), но эта активность должна развиваться на психическом просторе: это и дает нам игра — в противовес работе. В игре мы активны, но мы отдыхаем, т. е. совершенно не стеснены в нашей активности, и это именно и освежает нас. Вот отчего мы нуждаемся в игре и тогда, когда у нас никакого запаса энергии нет; для того чтобы психически «рассеяться», мы можем играть, даже утомляясь. Физическое утомление не устраняет глубокого психического отдыха, не устраняет подлинного освежения сил.
Эта теория игры, как «активного отдыха» подтверждается целым рядом фактов из жизни взрослых. Мы будем иметь дальше случай развить ту мысль, что у взрослых игра занимает не меньшее место, чем у детей, но в том-то и дело, что функция игры у взрослых совсем иная, чем у детей. Один американский автор считает возможным говорить о различии игры в различные периоды детства3, но если это даже и преувеличено, то несомненно, что общая функция игры во время детства глубоко отлична от функции игры взрослых. Изложенная выше теория (Шаллера, Лацаруса и Штейнталя) удачно, на мой взгляд, характеризует функцию игры у взрослых — но только у них. У детей игра, конечно, не является формой активного отдыха: если и дети знают свою серьезную жизненную работу, то как раз детской игре, как это указывают многие авторы4, присущ тот же характер серьезности, какой отмечен и труд. В этом смысле игра для детей не могла бы принести никакого психического отдыха, если бы они в нем нуждались, ибо дети играют с той же серьезностью, с какой они и работают. Неприложимость характеристики игры в разбираемой теории к детским играм хорошо показывает, что не следует сливать вопроса о функции игры с вопросом о сущности игры. Совершенно ясно, что понятие игры должно охватывать и игру детей и
--
survival values of play. 1902), очень приближается к теории Гроса, излагаемой нами далее. О теории Карра подробности см. у Гроса (К. Gross — Das Seelenleben des Kindes. 5-е изд. S. 62—65).
3 G u 1 i с k — Some psychological aspects of muscular exercise (Popular Science Monthly. 1898. X). В этой работе детство делится, в связи с развитием игр, на следующие периоды: 1) 1—3 лет, 2) 3—7 лет, 3) 7—12 лет, 4) 12—17 лет, 5) 17—23 лет.
4 «Детская игра, — писал, например, Фребель, — совсем чужда игривости — она полна для ребенка высокой серьезности и глубокого значения». Интересны также замечания об этом Гроса (op. cit. S. 57).
28
игру взрослых, хотя функция игры в обоих случаях может быть совершенно различной.
Если у Спенсера игры являются бесцельными, то в разбираемой теории игры как «активного отдыха», они не являются бесцельными, а имеют определенную психо-физиологическую функцию. То, что определение этой цели оказалось узким, что оно не может быть приложено к детским играм, не понижает методологической ценности теории. Перед нами возникает поэтому вопрос о функции игры у детей — или, как мы формулировали это раньше, — вопрос о «смысле» игры в детстве.
Впервые ответ на этот вопрос дает теория, развитая К. Гросом, который исходил из того факта, что игры служат средством для упраж-; нения различных физических и психических сил. Если наблюдать за играми молодых животных, за играми детей, то этот факт выступает с полной ясностью: игры всюду служат средством для упражнения и развития органов движения, органов чувств — особенно зрения, — а в то же время и для развития внимания, наблюдательности, часто и мышления. Для того чтобы мы могли пользоваться органами нашего тела, теми или иными психическими силами, нам присущими, необходимо, чтобы они были достаточно развитыми, необходимо, с другой стороны, чтобы мы научились владеть ими. То и другое предполагает поэтому какую-то подготовку, предполагает период, предшествующий настоящей и серьезной деятельности, во время которого органы тела, психические функции развиваются и созревают, и в то же время мы научается владеть и пользоваться ими. Этот период должен быть заполнен активностью, так как всякий орган, всякая функция развивается только в работе, в действии. Если игры служат как раз этой цели, если в играх достигается упражнение и развитие органов и функций и мы научаемся владеть ими, то, конечно, играм принадлежит чрезвычайно важное место в жизни ребенка. Детство длится до тех пор, пока мы не будем вполне готовы для того, чтобы самостоятельно вести борьбу за существование, — и если эта подготовка, это развитие всех физических и психических сил осуществяется с помощью игр, то играм принадлежит не только очень важное, но и центральное место в жизни ребенка.
Детальное изучение игр детей, которое предпринял Грос в своей! большой книге — Die Spiele der Menschen, — убеждает с полной опреде-; ленностью в том, что игры действительно служат развитию всех сил / ребенка. Бесцельные с внешней и поверхностной точки зрения, игры являются в высшей степени целесообразными в свете только что указанных фактов, так что Грос справедливо характеризует свою теорию игры, как телеологическую.
Но прежде чем мы пойдем далее, остановимся на одном вопросе, естественно возникающем здесь. Если для самостоятельной борьбы за существование необходим период подготовки к ней, период упражнения физических и психических сил — спрашивается, почему эта подготовка должна осуществляться именно в играх. Разве не могло ли бы дитя достигать той же цели, упражняя и развивая свои силы на настоящей жизненной работе — конечно, не во всем объеме реальных задач,
29
стоящих перед живым существом в его борьбе за существование, — к чему дитя, конечно, не готово, — но хотя бы в кругу ограниченной семейной обстановки? Никто ведь не станет отрицать, что в системе детской активности известное место должно быть отведено именно такой «реальной» деятельности, слагающейся из взаимодействия со всей реальной окружающей обстановкой. Почему же нужны в таком случае игры? Этот вопрос тем более уместен, что как раз у животных подготовка к борьбе за существование не исчерпывается той активностью, которая имеет форму игры, но действительно выражается и в «реальной» деятельности, в действиях над реальными предметами. У человека же игры не только занимают очень большое место в детстве, но и само детство длится очень долго.
Достаточно поставить вопрос о возможности для ребенка развивать свои силы на «реальной» деятельности, чтобы ясен стал и ответ на него. Что бы было с детьми, если бы они стали пробовать свои силы, развивать их на действительных, а не на сотканных их воображением предметах? Детское внимание привлекает к себе все, что окружает их; если бы они, с присущим им слабым пониманием действительности, могли следовать влечениям и желаниям, в них возникающим, только в плоскости действительности и не имели в своем распоряжении безграничного мира фантазии, — дети, конечно, неизбежно становились бы жертвами своего неведения и своей наивности. Природа слепа и безжалостна, она с одинаковой бесстрастностью казнит всех, кто нарушит ее законы — будь то дитя, будь то взрослый человек. Если бы дитя, видя, как ездит на лошади взрослый, могло удовлетворить свое желание ездить лишь на «настоящей» лошади, — сколько детей гибло бы даже не от неосторожности, а от простого непонимания опасности! Все, что проходит пред глазами ребенка, влечет его к себе, ему хочется повторить те движения, которые проделывают другие. Мы увидим дальше, в чем «смысл» этого стремления ребенка, но пока нам достаточно отметить психическую необозримость тех «замыслов», затей и желаний, которые волнуют ребенка и которые не могут не наполнять его, ибо дитя обладает восприимчивой и легковозбудимой душой.
Фактически мы находим следующую картину. Дитя, конечно, тянется к «живой» лошади, но с таким же удовольствием потянется и к игрушке, изображающей лошадь. Та психическая задача, которая определяет движение ребенка в этих случаях, одинаково хорошо решается в обоих случаях, а может быть на лошади — игрушке разрешается даже лучше, так как дитя может беспрепятственно крутить игрушкой, открывая полный простор для всех своих новых планов и затей. Между тем объективные условия активности ребенка в обоих случаях совершенно различны: в первом случае дитя всегда может сделать какой-либо неосторожный и роковой шаг, во втором же случае, что бы ни делало дитя, ему не грозит никакая опасность. Объективная же задача, стоявшая перед ребенком — развивать свои силы и упражнять их путем активности — разрешается в обоих случаях одинаково хорошо…
Если игра, как форма активности, занимает столь значительное ме-
30
сто в жизни ребенка, то для нас ясна теперь вся целесообразность этого. Дитя, играя, прекрасно решает стоявшую перед ним задачу развития и упражнения физических и психических сил, а вместе с тем оно стоит вне всякой опасности, какой могло бы грозить прямое взаимодействие с природой. Но загадка игры этим, конечно, еще не решается вполне: мы знаем уже роль игры в развитии ребенка, ценность игры, как формы активности, но для нас еще не вполне ясны внутренние корни игры, как таковой. Если природа «пользуется» играми, как формой детской активности, чтобы на безопасном материале развить физические и психические силы ребенка, то дитя играет, движимое к этому, конечно, какими-то своими внутренними импульсами. Явление игры стало понятно нам в своей объективной целесообразности, в своей функции, но оно должно быть понятно и в своих внутренних корнях, — тем более, что игра сохраняется у человека долго после того, как первоначальная функция игры завершилась. Мы играем и перестав быть детьми, — и это значит, что игра имеет какое-то глубокое основание в самой пси-хо-физиологической конституции нашей.
Чтобы выяснить этот вопрос, мало освещенный Гросом в силу некоторых причин, о которых скажем далее, обратим внимание на связь явлений игры с работой воображения. Коснемся сначала внешней стороны вопроса, давно и хорошо обрисованной различными психологами5: объект игры ребенка всегда частично создан работой воображения. В тех даже случаях, когда дитя играет с предметом, как таковым, оно все же привносит в свое отношение к предмету такие черты, которые ясно говорят об участии фантазии в психической «установке» ребенка. Но обычно дитя в процессе игры преображает реальный предмет, так что объект игры совершенно ясно представляет сочетание реальных и воображаемых свойств. Сила детской фантазии, ее могучая способность преображать действительность и увлекать детскую душу — известны всем: для того, чтобы работа воображения могла иметь место, достаточно самой ничтожной точки опоры в реальности. Кто не знает дивного места в «Отверженных» В. Гюго, где Козетта, забившись в угол, играет? В ее руках всего какой-то остаток сабли, да какая-то материя, — но силой ее фантазии это превращается в восхитительную куклу, с которой Козетта играет с непередаваемым восторгом… Всякое дитя, когда играет, полно одушевления, полно поэзии, — и эта психология в высшей степени характерна, в ней таится ключ к пониманию психических корней игры.
Если активность взрослых имеет своим объектом реальность в ее фактическом или хотя бы усвоенном нами составе, то активность детей, как она выражается в играх, направлена не на реальность. Объект игры непременно включает в себя реальность хотя бы в самой ничтожной доле (как у Козетты), но он не слагается только из реальности: дитя, с помощью фантазии, дополняет и преображает реальность, так что объект игры всегда представляет сочетание реального
--
5 Лучшее изложение этого вопроса можно найти у Селли — Очерки по психологии детства (в немецком переводе, который у меня под руками, S. 29—43), см. также Colozza.4.1. §12.
31
и воображаемого. Так как дитя очень легко может варьировать работу фантазии в отношении объекта игры, то это дает ребенку в высшей степени важное чувство власти над предметом игры, развивает желание пробовать на нем свои силы, развивает вкус к свободной и творческой активности. Благодаря именно этому игры оформляют перед душой ребенка новую и манящую к себе перспективу творчества, создают новые стимулы к активности, обусловливают приток энергии и благодаря этому являются очень существенным фактором развития. Пока еще нужно развитие физических и психических сил, пока еще детство не закончено, игры имеют это психическое действие, имеют эту функцию. Отсюда формула, которую в свое время выдвинул Грос: мы не потому играем, что мы дети, но для того и дано нам детство, чтобы мы играли. Функция детства, согласно этой формуле, заключается в том, чтобы дать развиться ребенку, не входя в прямое общение с действительностью, но в то же время не удаляя его вполне от действительности. Игры и являются той формой активности, в которой лучше всего разрешаются задачи детства, так как объект игр непременно связан с реальностью, хотя и не состоит всецело из нее. Участие фантазии в построении объекта игры обуславливает психическую действенность игры, ее стимулирующую силу.
Не входя пока в дальнейшее обсуждение поднятого вопроса о связи игры с работой фантазии, чем мы займемся подробнее несколько позже, укажем на общий характер теории, созданной Гросом. Эта теория, как мы могли убедиться, имеет биологический характер, так как она отводит игре в высшей степени важное место в психо-физиче-ском созревании ребенка, в его подготовке к самостоятельной борьбе за существование. После Гроса функция игр ребенка стала совершенно ясна, вполне уяснилось их центральное положение в психо-физиче-ском созревании нашем. Пока еще длятся игры, детство не кончилось; вся психология детства как бы определяется тем, чтобы сделать возможной игру. Соотношение психических сил, своеобразие детства имеют свой корень в том, что основной формой активности являются игры с тем своеобразным и неисследимым сплетением реального и воображаемого, которое характерно для предмета игры. Конечно, игра, будучи центральным фактом в жизни ребенка, имеет огромное влияние на все стороны психической жизни, в том числе и на детский интеллект. Но функция игры заключается совсем не в познании окружающей действительности — хотя она служит отчасти и этому6, — а в том, чтобы придать активности ребенка такую форму, чтобы не уводя от реальности, ослабить прямое с ней взаимодействие путем введения в нее работы фантазии. Биологические задачи игры разрешимы лишь благодаря детской фантазии, работа которой пересоздает объект, с другой стороны открывает свободный простор для всех дремлющих в ребенке сил. Но здесь возникает вопрос, — почему же детская фантазия так сильна, почему именно эта психиче-
--
6 Впервые этот вопрос осветил Сикорский в своей французской статье о психическом развитии ребенка (Revue philosoph. 1885), а потом в книге — Душа ребенка. См. также очень ценные мысли Болдвина в его книге — Thought and Things. I. Кар. VI.
32
екая сила преимущественно развивается у ребенка. Прежде чем мы перейдем к этому вопросу, разрешение которого совершенно необходимо для понимания явлений игры, скажем несколько слов о других теориях игры, чтобы закончить характеристику современного состояния этой проблемы в психологии детства.
Укажем прежде всего на теорию «ослабления», которая связывает толкование игры, предложенное Гросом, с биогенетическим законом. Согласно этой теории, созданной преимущественно американскими авторами (St. Н а 11, А11 i n, G u 1 i с к), функция игр заключается в том, чтобы дать возможность проявиться низшим инстинктам, которые имеются у человека, как ненужные остатки животного и первобытного прошлого, — и тем ослабить их. Наличность таких «низших» инстинктов определяется биогенетическим законом, т. е. повторением в индивидуальном развитии тех стадий, которые прошел в своем развитии род. Осужденные на исчезновение, эти низшие инстинкты должны все же проявиться, чтобы растратить таким образом присущую им силу, — и такое ослабление их путем активности и дается в играх. Против этой искусственной и очень мало обоснованной теории надо вместе с Гросом сказать, что упражнение инстинктов, конечно, никоим образом не может способствовать, как показывает опыт, ослаблению их. Разве детская борьба имеет своим последствием угасание инстинкта борьбы, когда дети становятся взрослыми? Разве девочки, играющие с куклами, теряют материнский инстинкт к тому возрасту, когда становятся матерями? Если ослабление тех или иных «атавистических» склонностей и замечается у взрослых, то это отнюдь не объясняется «ослаблением» их благодаря игре, а возникновением каких-либо задержек благодаря социальной жизни. Разбираемая теория связана с мнением, что у взрослого человека инстинкты очень слабо определяют его активность; но это мнение, столь удачно преодоленное еще Джемсом, не может быть удержано. В силу этого, дополнения к теории Гроса, предложенные Ст. Холлом и близкими к нему авторами, не могут быть приняты. Более состоятельна та модификация теории Ст. Холла, которую предложил К а р р, приписывающий играм функции «очищения», «катарсиса». Согласно этой теории, игры, давая простор инстинктам, которые и здесь являются главными источниками активности, принимающей форму игры, — облагораживают инстинкты. Нельзя отрицать того, что инстинкт борьбы благодаря играм становится значительно смягченным и свободным от грубых и резких моментов. В этом смысле игры так же смягчают душевные движения, как их смягчает художественное творчество и эстетическое восприятие7. Грос, конечно, прав, когда стремится психологически развить то сближение игры и эстетической жизни, которое, как мы знаем, наметил уже Шиллер8. Близко к разбираемой теории стоит теория «дополнения», разви-
--
7 В русской литературе эту точку зрения о функции эстетического восприятия и творчества особенно развивал Д. Н. Овсяников-Куликовский. См. особенно его книгу — Этюды о творчестве Тургенева, — статью о «Фаусте».
8 См. этюд Гроса — Das Spiel als Katharsis (Zeitschr. f. pa'dag. Psych. 1911), также книгу Клапареда (Психология детства и экспериментальная педагогика).
2 Психология детства
тая известным эстетиком Конрадом Ланге и сербским ученым Ракичем9. Наша реальная жизнь неизбежно делает нас односторонними, выдвигает какие-либо одни психические силы и способности, подавляя другие; игры же, с присущей им свободой, психическим простором, дают ребенку возможность развить все свойственные ему силы. В эту же сторону склоняется психопатолог Альфред Адлер, сначала последователь Фрейда, а потом значительно отошедший от него. Конструкция Адлера могла бы быть охарактеризована, как «теория компенсации»: игра дает возможность ребенку чувствовать себя сильным в противовес той естественной беспомощности и слабости, которую испытывает дитя.
Все эти теории, дополняя и модифицируя основную идею Гроса о громадной роли игр в развитии ребенка, не вносят особенно существенных поправок в нее. Основная идея Гроса остается общепринятой и бесспорной: именно игры определяют своеобразие детства, определяют содержание детства. В играх дети развивают свои силы — физические и психические, они как бы «начерно», в безопасной обстановке игры, но не теряя из виду реальности, решают те самые задачи, которые взрослым приходится решать «всерьез». Надо признать, что Гросу действительно удалось в этом своем построении объяснить не только загадку игры, но и ввести нас вообще в тайну детства. Роль игр в психо-физи-ческом созревании ребенка обрисована Гросом с такой ясностью и полнотой, что их центральное значение в жизни ребенка стоит вне всякого сомнения. Но нельзя отрицать и того, что построения Гроса, развитые им прекрасные анализы, хотя и разрешают главную загадку в явлении игры, но, конечно, они лишь открыли проблему, а не до конца ее осветили. Это относится как раз к психологии игр, а главное к вопросу о психических корнях игр. Если игры имеют столь большую биологическую функцию, как это выяснил Грос, то каковы же внутренние корни игры? Как может дитя так долго удовлетворяться такой формой активности, как игра, которая в своем объекте имеет дело главным образом с созданием фантазии? Конечно, биологическая необходимость и полезность игр, так сказать, «удерживает» тот психический строй, который имеется у ребенка, то соотношение психических сил, которое благоприятно для доминирования игры в деятельности ребенка. Но совершенно ясно, что биологическая полезность игр не может сама по себе выдвинуть психический уклад ребенка — она его освещает, дает нам возможность проникнуть в его глубины, но должно быть найдено чисто внутреннее основание психического своеобразия детства.
Уже из предыдущего анализа для нас ясна связь игры с работой фантазии10. Но то понимание фантазии, которое мы находим в современной психологии, нисколько не разрешает нашего вопроса о роли фантазии в психическом своеобразии детства. С полной ясностью вся недостаточность, вся непригодность для нас обычного учения о фаята-
--
yK-Lange — Das Wesen der Kunst; R a k i С — Gedanken uber Erziehung durch Spiel und Kunst (Arch. f. ges. Psych. XXI. 1911).
10 См. об этом книги Colozza, Sully и Сикорского.
34
зии выступает в книге Селли, посвященной психологии детства. Селли считает, что психическим корнем игры является «стремление воплотить идею»; образ является, по его мнению, «движущей силой». В этих словах осведомленный читатель легко узнает типические особенности господствующей в наше время интеллектуалистической теории фантазии, согласно которой работа фантазии заключается в создании образов. Если это так, то естественно, что связь фантазии с игрой превращает игру тоже в функцию интеллекта: этот шаг с чрезвычайной последовательностью и умением и сделан проф. И. А. Сикорским в его книге — О душе ребенка. А так как и теория Гроса говорит кое-что в пользу такого толкования игры, так как игры, несомненно, играют очень большую роль в развитии у ребенка познания действительности (как это после Сикорского очень оригинально и своеобразно развил Болдвин в своей книге — Thoughts and Things), — то, казалось бы, учение Селли, Сикорского, Болдвина правильно освещает вопрос о связи игры с фантазией. Остается только неясным одно — и как раз самое главное: почему у детей игра занимает столь большое место и почему интеллект детский, несмотря на это развитие игр, будто бы имеющих такое огромное значение в его созревании, остается мало развитым?
Вопрос этот очень важен как для понимания психологии игры, так особенно для понимания психического своеобразия детства. Нам необходимо ознакомиться, хотя бы бегло, с современным пониманием фантазии, так как здесь, несомненно, лежит ключ к пониманию детской души. Мытэставим на время проблемы детства и углубимся в характеристику того, как ставится ныне в психологии проблема фантазии. В построениях Гроса, Селли, Болдвина слабым местом как раз и является то, что они не сходят с пути традиционного понимания фантазии. Вот отчего в их построениях нет внутренней цельности и ясности.
Позволю себе прежде всего указать на сущность традиционного понимания фантазии11.
Согласно этому пониманию, мы должны видеть в фантазии способность создавать новые образы (а также воспроизводить образы, сохраняющиеся в памяти). Создание новых образов характеризует творческую или продуктивную фантазию, воспроизведение прежних — репродуктивную. Как много раз указывалось, между этими двумя формами фантазии нет принципиальной, качественной разницы, а есть лишь количественное различие, различие в силе и
--
11 Главные книги по психологии фантазии:
I. Традиционная точка зрения: Ebbinghau s-D u г г — Grundzuge der Psychologie; W u n d t — Vorlesungen uber Tier- und Menschenseele; W u n d t — Physiolo-gische Psychologie; T a i n e — De l'intelligence.
II. Начатки нового понимания фантазии: Wundt — Volker-psychologie. В. Ill; R i b о t — L'imagination creatrice; R i b о t — La logique des sentiments; D a u г i а с — De I'esprit musicale; M e i n о n g — Ueber Annahmen; Mayer — Ueber das emotionale Denken; M u II e r-F reienfels — Fantasie und Denken; Зеньков-c к и й — Проблема психической причинности.
35
степени разных процессов. Дело в том, что при всяком воспроизведении прежних образов (как это давно уже указывалось и как особенно убедительно показал Koffka в своей работе — Zur Analyse der Vorstellungen) привходят элементы творчества, — равным образом и в работе творческой фантазии никогда не отсутствуют элементы воспроизведения в качестве материала, которым располагает творческая фантазия. Таким образом, различие обеих форм сводится к тому, что, при психологической их однородности, в первой форме доминируют процессы воспроизведения, во второй — творчества. При таком понимании фантазии она не только является чисто интеллектуальной функцией, но, в сущности, теснейшим образом связана с памятью, т. е. не является самостоятельной психической функцией. Надо признать полную последовательность у Эббинггауз а-Дюрра, когда мы читаем в главе, посвященной анализу фантазии12, такие строки: «часто повторявшиеся попытки установить какое-либо различие между процессами памяти и фантазии надо признать совершенно неудавшимися, так как процессы фантазии являются ничем иным, как функцией памяти».
Однако, еще в романтической эстетике фантазия трактовалась,, как высшая духовная функция, в силу того, что она связана с искусством, которое для романтиков не только не было ниже науки (связанной с деятельностью интеллекта), но стояло выше его по глубине и непосредственности проникновения в тайны действительности. Уже Вундт (в своих — Чтениях о душе человека и животных) выдвигал такое понимание фантазии, согласно которому фантазия и мышление противостоят всем другим интеллектуальным процессам, как высшие (апперцептивные) процессы — низшим (ассоциативным). Но у Вундта это оставалось только программой, фактически же у него фантазия все-таки оставалась переходной ступенью к мышлению.
Неудовлетворительность этой точки зрения ясна стала и Вундту, который в новом своем труде — Volkerpsychologie — отказывается от прежнего понимания фантазии и видит ныне в ней общую творческую способность духа, как бы сосредоточивая в фантазии всю ту силу творческого синтеза, которая играет такую огромную роль во всех психологических построениях Вундта.
Новую точку зрения на природу фантазии впервые развил французский психолог Рибо в своих книгах — Творческое воображение и Логика чувств. Затем Мейнонг в своих — Annahmen, Mайер в своем большом труде — Psychologie des emotionalen Denkens — развили глубже новое понимание природы фантазии. Не входя в подробности, дадим лишь самое краткое изложение этого нового понимания работы фантазии, как оно нам рисуется в своих основах.
Первое положение, которое мы должны выдвинуть, это то, что образы составляют не цель, а лишь средство в работе фантазии. Этим мы решительно отходим от интеллектуа-листического понимания фантазии, так как ее интеллектуальную сторону мы рассматриваем как вторичную. Основная же функция во-
--
12 Grundzuge der Psychologie. Bd. II. S. 246. 36
обряжения заключается в обслуживании эмоциональной сферы: это второе положение новой теории фантазии непосредственно развивает первое. Чтобы понять самую функцию фантазии, ее роль в развитии эмоциональной жизни, необходимо иметь в виду основной закон эмоциональной сферы, который я формулировал (в своей книге — Введение в педагогику), как «закон двойного выражения чувства». Всякое чувство, согласно этому закону, ищет своего выражения — как в телесной, так и в психической сфере; оба эти выражения чувства взаимно незаменимы и неустранимы, так что подавление одного из них влечет за собой ослабление чувства вообще. Что касается телесного выражения чувства — оно всем хорошо известно; под психическим же выражением чувства следует разуметь ту психическую работу, которая непосредственно примыкает к переживанию чувства, и смысл которой заключается в том, чтобы сделать более ясным содержание чувства и тем закрепить его в системе душевной жизни. Это осуществляется благодаря образам, которые всплывают в сознании и которые служат средством психического выражения чувства. Чувства, которые не могут найти для себя «удачного» психического выражения в образе, остаются как бы не осознанными и не закрепленными — как бы проходя сквозь душу и не оставляя в ней никакого следа. Это особенно хорошо может быть показано на судьбе высших чувств, где такие случаи особенно часты: не осознанное, не «выраженное» чувство, в котором мы как бы стояли на пороге какого-то «откровения», уходить, пройдя в душе какой-то неразгаданной нами музыкой и не оплодотворив нашей душевной жизни. Но если чувство находит свое выражение в каком-либо образе, то этот образ становится столько же средством «уяснения», интеллектуализации чувства, сколько и средством психического влияния его на душу. В работе фантазии, таким образом, мы имеем настоящее «эмоциональное мышление», которое надо противопоставить «познавательному мышлению»: как в последнем материале восприятий перерабатывается в «мысли», в которых нами усвояется «истина», так в работе фантазии материал нашего эмоционального опыта перерабатывается в целях выражения и усвоения «идеалов».
Не входя глубже в психологический анализ воображения, как мы его понимаем, укажем, что для нас эта новая теория фантазии открывает возможность глубже проникнуть во внутренние корни игры у детей13. Игры бесспорно теснейшим образом связаны с фантазией, как это было и раньше хорошо показано Селли, Колоцца, — но так как мы видим в фантазии орган эмоциональной сферы, а не чисто интеллектуальную функцию, то психическим корнем игры детей' надо признать эмоциональную сферу. Мы убедимся дальше в исключительном развитии у детей именно эмоциональной жизни, убедимся в том, что отношение психических сил у ребенка определяется именно этим господством чувств в его душе. Игры — в их внутреннем течении, независимо от биологической функции, внешне
--
13 Не говорим здесь о внутренних корнях игры у взрослых, у которых есть некоторые особенности.
37
благоприятствующей их развитию — и служат задачам эмоциональной жизни ребенка: в них ищет своего выражения эта жизнь, в них она ищет разрешения своих запросов и задач. Фабула в игре составляет не случайный момент, а является душой игры, ее психическим средоточием, потому что в фабуле раскрывается и осознается то или иное чувство. Телесные процессы, служащие задаче телесного выражения чувства, подчинены его директивам, одушевлены его огнем. Игра означает и выявляет психическую установку, и кладет поэтому свою печать на всю психическую жизнь: только здесь и получает свой настоящий смысл то понятие «сферы игры», которое ввел Грос14 и которое не имеет у него вполне определенного значения. Да, игра есть особая сфера жизни в нас, в которой и объект деятельности является иным, чем обычно, и наше отношение к нему особое. Психологически игра может быть определена не как деятельность, цель которой в ней самой15, а как деятельность, служащая целям телесного и психического выражения чувства: то изменение реальности, которое непременно имеет место при игре и благодаря которому объект игры представляет неисследимое сплетение реального и воображаемого, создается ведь работой фантазии. Без такой работы фантазии, без такого изменения объекта нет игры. Только при развитом выше понимании фантазии становится понятным этот неустранимый момент в игре: в игре дитя вовсе не стремится познать действительность (как на этом особенно настаивал Сикорский, и как это действительно неизбежно при интеллектуалистическом понимании фантазии). Интеллект лишь разрушает всю прелесть, все очарование игры, делая невозможной ту психическую установку, которая связана с игрой. Один мой знакомый рассказывал очень характерную сцену из жизни его девочки 5 лет: однажды девочка, играя с деревянным барашком, изображала, как он заболел. Она плакала, звала доктора, озабоченно разговаривала с доктором о том, как спасти барашка — и представляла это с таким увлечением, что даже обеспокоила отца. Когда она стала снова убиваться, как бы не умер барашек, отец ей сказал в досаде: «чего ты плачешь? ведь это же не настоящий, а лишь деревянный барашек». Девочка страшно рассердилась на отца и горько разрыдалась: действительно, своими словами отец разрушил всю «иллюзию», все очарование игры. Дитя и само знало и помнило, что барашек «ненастоящий», но в процессе игры он был для нее настоящим барашком, по отношению к которому она испытывала «настоящее» беспокойство. Не мысли, а чувства были здесь важны: дитя глядит на куклы, на игрушки sub specie realitatis, хотя и знает, что это только «игрушки».
Если игра психологически определяется в своем объекте этим неразличением — в процессе игры — реального и воображаемого, то в своей субъективной стороне она тоже определяется ее связью с эмоциональной сферой. Игра служит прежде всего запросам чувства — вот
--
14 G го os — Das Seelenleben desKindes. S. 58, 111.
15 Таково, например, определение Штерна (Psychologibe der iruhen Kindheit. 2-е изд. S. 206), также Гроса.
38
отчего дети часто так легко и беззаботно разрушают то, что созидали во время игры: вещи, сами по себе, их здесь не интересуют. Психология детской игры (вернее всякой игры) отмечена всегда серьезностью; то, что мы называем лукавством, игривостью, шаловливостью, есть уже собственно выход из своеобразной психологии игры, которая всегда отмечена, если позволено так выразиться, наивной серьезностью. Не только взрослые, но и дети не выносят, когда кто-либо в процессе игры начинает «баловаться», шутливо и игриво, а не «серьезно» относиться к тому, что он делает. Установка на «серьезность» всецело определяется в игре интересами чувства—и этим она так глубоко, непосредственно ясно отличается от той серьезности, которая присуща нам во время «работы» и которая определяется чисто внешними соображениями, психологией приспособления к действительности. В работе важен и ценен результат, в игре же — самая активность, т. е. простор в выражении чувства. Дитя очень рано — как это впервые хорошо описал Болдвин — научается тому, что не со всем можно играть, рано научается различать между «установкой на игру» и «установкой на работу» (понимая под последней трезвое деловое отношение к действительности). Поскольку в душе ребенка, как показал тот же Болдвин, очень рано обрисовываются два пути активности (путь приспособления и путь творчества), постольку игра становится преимущественной (а очень долго и единственной) формой творчества ребенка. Приспособление к действительности не дает никакого места творчеству, оно здесь не нужно и непозволительно, и это дитя сознает очень рано на горьком опыте. Сфера игры все явнее ограничивается от сферы действительности, и дитя научается не переходить эту заповедную границу. В этом отношении игры несомненно имеют значение в развитии интеллекта, именно в понимании того, что такое «действительность» с ее строгими законами, с ее неизменным порядком. Игры, конечно, служат развитию интеллекта и как форма «экспериментального изучения» различных явлений, но все это побочные продукты игры, а не ее основное содержание.
Подводя итоги всему сказанному, мы можем повторить слова Гроса о том, что мы не потому играем, что мы дети, но самое детство дано нам для того, чтобы мы играли. Игра не исчезает с переходом нас к зрелости — так как ее корни лежат внутри, — но в детстве игра образует важнейшую форму активности и занимает центральное место в жизни ребенка. Психическая организация детства в высшей степени благоприятна такому развитию игры, так как взаимоотношение психических сил ребенка определяется преимущественным развитием эмоциональной жизни, а следовательно и фантазии. Служа интересам чувства, а не интеллекта, игры не только допускают, но делают совершенно неизбежным в объекте активности то дополнение, которое привносит фантазия и которое преображает реальность. Благодаря как раз последнему своему свойству игры становятся в высшей степени ценным подспорьем в деле подготовки ребенка к будущей жизненной борьбе: дитя проходит этот необходимый период подготовки на играх, чем обеспечивается и безопасность, столь необходимая в такой фазе жизни, и
39
психический простор, психическая свобода, необходимая для того, чтобы могли оформиться все силы, все дремлющие в глубине души функции. Личность ребенка развивается на психическом просторе, не зная неизбежных — при общении с неизменной и суровой действительностью — ограничений и односторонности. Конечно, занимая центральное место в жизни ребенка, игры не исключают «деловой» активности, реального взаимодействия с реальной действительностью, н о все это вбирается, втягивается в процесс игры, окрашивается ее переживаниями.
Загадка игры осталась неразрешенной лишь в двух своих моментах: в вопросе о содержании игр и в вопросе о продолжительности периода игр, т. е. детства. Мы говорили уже о значении фабулы в игре, но не выяснили, в чем основная фабула всякой игры; в разрешении этого вопроса мы найдем ключ и ко второй проблеме — к вопросу о том, отчего так долго длится детство. В следующей главе мы обратимся к изучению этих сторон в загадке детской игры.
ГЛАВА III.
О социальном содержании детских игр. Понятие социального унаследования. Социально-психическое созревание ребенка. Развитие самосознания по Болдвину. Роль игр в социальном созревании ребенка, в эйективации.
Мы знаем уже, какова основная форма активности у детей: это игры; мы знаем, на каком материале развивается эта активность: его мы определили как неисследимое сплетение реального и воображаемого. Но каково же содержание детской активности? Считать ее бессодержательной, видеть в детских играх только упражнение и развитие физических и психических сил, — решительно невозможно. Это означало бы, что важнейшие, творческие годы нашей жизни, когда мы подготовляемся к самостоятельной борьбе за существование, внутренне пусты. Если бы даже игры были бессодержательны по своим психическим корням (а мы уже знаем, что это не так), дети не могли бы не вносить туда какого-нибудь содержания: скорее мы, столь многое совершающие автоматически, можем не участвовать душой в своих действиях, чем дети — с их подвижной, пытливой душой. Можно, конечно, считать вместе с Сикорским, Селли, что детство заполнено чисто интеллектуальной работой — знакомством с окружающим миром; пусть это неправильно в смысле понимания психологии детских игр, но это все же лучше, чем считать детство — в его основной и центральной активности (в играх) — бессодержательным. Но мы же знаем, что игры лишь косвенно служат интеллектуальному развитию, что основной психический их двигатель лежит в другой совсем сфере — именно в области чувств. Поэтому мы не можем примкнуть ни к Гросу с его равнодушием к содержанию игр (что неизбежно переходит в учение об их бессодержательности), ни к Селли и Сикорскому в их одностороннем и узком понимании того, чем заполнено детство.
Общее разрешение поставленного нами вопроса отчасти преднаме-чено уже предыдущими анализами. Игры вырастают, как мы видели, как выражение чувств, они служат раскрытию их, а следовательно внутренне определяются директивами чувств. Однако, это еще слишком мало, чтобы понять содержание игр: мы имели случай убедиться, что для выражения чувств обязательно необходим психический материал — образы, необходима «фабула» в играх, но самое «содержание» образов, фабула, которая является сотканной из этих образов, довольно случайна. Фабула нужна, «содержание» для игры необходимо, — ибо без этого игра не будет психически «звучать», не будет слу-
41
жить той цели, ради которой она возникает изнутри, — но конкретные черты этой фабулы этим еще не определяются. Одно и то же чувство может найти удовлетворительное свое выражение в различных «фабулах», и это лучше всего показывает, что указанного нами момента в игре — связи ее со сферой чувств — еще недостаточно для понимания содержания игры. Как в искусстве — этом высшем и дифференцированном выражении чувств, владеющих душой художника, — как в творчестве художника обнаруживается внутренняя логика, своеобразная «эстетическая закономерность», — так и в играх детей не трудно открыть некоторую единую и доминирующую тему. Скажем сразу, в чем она заключается: все игры (за очень небольшими и случайными исключениями) заполнены социальным содержанием. Дети играют всегда в «человека», игры служат средством вживания во всю полноту человеческих отношений, во все необозримое богатство социальной жизни. Чтобы понять эту сторону в детских играх, понять соотношение социального содержания игр с теми моментами, о которых мы говорили выше, нам необходимо заглянуть в историю социально-психологического созревания детей. Гениальные построения Болдвина, оставшиеся пока без влияния даже в социальной психологии1, помогают нам ориентироваться в этой сложной и трудной проблеме. Следуя в существенном Болдвину, мы будем в отдельных местах отклоняться от него, не мотивируя подробно, чтобы не затруднять читателя2.
В социально-психическом развитии ребенка мы имеем дело с явлением, совершенно параллельным физической наследственности: существует действительно своеобразное социальное унаследование, которое имеет не меньшее, а может быть большее значение, чем физическая наследственность в развитии нашего организма. Но есть глубокое и чрезвычайно важное различие между двумя формами унаследования: физическое унаследование связано всего с одним моментом зачатия, в котором сосредоточена вся тайна передачи от родителей и через родителей наследуемых свойств. Биологическая наследственность, сильная и влиятельная, ограничивается одним актом, и все дальнейшее развитие организма связано лишь с этим актом. Социальное же унаследование, связывающее нашу личность с прошлым, не только не сосредото-
--
1 На русском языке идеи Болдвина пыталась использовать г-жа Звоницкая в своей интересной книге — О социальной связи.
2 Считаю необходимым указать на главные книги по социальной психологии:
Т а г d е — Limitation; Les lois sociales; La logique sociale; Matagrin — La psycho-logie sociale de Tarde; S i g h e 1 e — La foule criminelle; La psychologie des sectes; L e Bon — Psychologie des foules; Opinions et croyances; H. К. Михайловский— Герои и толпа и др. статьи (Сочинения. Т. II); Т о n n i e s — Gesellschaft und Gemeinschaft. S i m m e 1 — Soziale Differenzierung; Soziologie; M о ё d e — Experimentelle Sozialpsycho-logie (см. также статьи в Zeitschrift f. prakt. Psych. B. II. 1921); Freud— Ich. Analyse und Massenpsychologie; Stoltenbeig— Soziopsychologie; Baldwin— Social and Ethical Intcrpetation in Mentha! Development; Thoughts and Things; Ross— Social Psychology N. Y. 1912; M. Доуголл— Введение в социальную психологию. Рус. пер.; Е11 w о о d — An introduction to social psychology. N. Y. 1917; D u p r a t — La psychologie sociale. Paris. 1920.
Недурной обзор проблем социальной психологии см. в книге: F г о b e s — Lehrbuch der experimentellen Psychologie. В. II. 1920. S. 538—558.
42
чено в какой-либо один момент, но вообще покоится не на «передаче» свойств, а на творческом усвоении новой личностью того, что заключается в «наследуемом» материале. Как пример такого «социального унаследования» укажем на язык — здесь особенно ясна необходимость понятия «социального унаследования». В самом деле, возможно ли было бы наше психическое созревание без развития в нас речи? У нас, взрослых, наша психическая жизнь так интимно и глубоко связана с языком, что мы готовы считать его чем-то вроде «врожденной» нами функции. Между тем развитие в нас речи связано с длительным и сложным процессом, в котором дитя постепенно научается владеть формами того языка, в атмосфере которого оно созревает. Мы застаем, при нашем вступлении в жизнь, готовый и сложившийся язык, которым мы должны овладеть, чтобы стать психически зрелыми, чтобы войти в живое общение с людьми, нас окружающими. Нам дается в языке богатейшее «социальное наследство», но мы должны им овладеть, и лишь в той мере, в какой это удается нам, мы можем пользоваться социальным наследством. Процесс усвоения наследуемого материала не только не сосредоточен в один момент, не только растянут на продолжительное время, но он вообще не имеет пассивного характера (как в биологическом наследовании), а наоборот предполагает со стороны растущей личности творческую активность.
Вместе с языком мы, незаметно для себя, усваиваем формы мышления, как они запечатлелись в языке, усваиваем целую систему идей, верований — понимание мира и человека. Все, что хранится в сокровищнице народного духа, — все это струится в душу ребенка с помощью языка, который является в этом смысле главным проводником сокровищ народного духа в детскую душу. В языке отпечатлевается история народа, его характер; ничто поэтому не может так хорошо и непосредственно ввести в народную душу, как язык, который словно впитывает в себя музыку народной души. Дитя, овладевая языком народа, среди которого оно живет, входит постепенно в эту сокровенную музыку народной души; еще не сознавая, не расчленяя того, чем овладевает, дитя становится уже способным к музыкальному «вчувствованию» в народную душу, способно к непосредственному слиянию с тем, чем живет народ. Если мы назовем социальной традицией все то, что хранится в народной душе, то можно было бы сказать, что язык является самым важным хранителем этой традиции; усвояя язык, дитя в то же время усвояет и социальную традицию — конечно, в некотором ее среднем минимуме. Кто из нас не усвоит этого среднего минимума социальной традиции, тот не может войти в современную жизнь, понять все то, что в ней происходит, не может стать самостоятельным человеком и творцом новой жизни… Но не один язык должны усвоить мы, входя в социальную жизнь, — мы должны проникнуться теми идеями и стремлениями, которыми живет окружающая нас действительность. Мы можем не принимать для себя этих идей и стремлений, но мы должны научиться понимать их, чтобы уметь так же свободно двигаться в «социально-психическом пространстве», как благодаря зрению мы свободно движемся в физическом про-
43
странстве. То, что называют «нравами», что обнимает частную и публичную жизнь, должно быть для нас близко, понятно, чтобы мы могли ориентироваться и угадывать ход жизни, действия людей. Мы должны, одним словом, приобрести эмоциональную отзывчивость на все то, что есть вокруг нас, должны настолько к нему эмоционально приблизиться, чтобы уметь «непосредственно», без размышлений угадывать (в объеме, нужном для жизненной деятельности) внутренний мир других людей. Это эмоциональное «вростание» в сложной социально-психический мир современности, это эмоциональное сближение с ним, впервые создающее возможность его понимания и познания, и составляет тот порог, который нужно перейти для того, чтобы быть способным к настоящему творчеству в современной жизни, быть способным к самостоятельной «борьбе за существование».
Никто не может стать сыном своего народа, если он не проникнется теми основными чувствами, какими живет народная душа. Как ни сложна и ни темна для нас психология национальной связи, мы можем, однако, утверждать, что мы не можем созреть вне национальной стихии, которой мы должны проникнуться, чтобы присущие душе нашей силы могли получить свое развитие.
Все это должно пройти дитя, всем этим должно оно овладеть — и здесь, конечно, лежит ключ к продолжительности детства. Вступая в жизнь, мы должны стать самостоятельными не только биологически, но и социально-психически, — мы должны взойти на верхний этаж того здания, которое строит в своем развитии отдельный народ, все человечество. Если бы каждое поколение жило, не вбирая в себя итогов социального развития предыдущего поколения, исторический процесс был бы невозможен: история есть связное развитие, есть непрерывная работа ряда поколений, из которых каждое исходит оттуда, где остановилось предыдущее. Каждому поколению должно прежде всего усвоить — конечно, вкратце, в среднем минимуме, — то, что выработала жизнь до него, и, только взобравшись на верхний этаж созидаемого рядом поколений здания, новое поколение может продолжать работу предыдущих поколений или по крайней мере может передать другому поколению то, что оно само получило от предыдущих. A priori ясно, что по мере исторического развития народов молодым поколениям приходится проходить все большее и большее количество «этажей» в созидаемом народами здании: двести лет назад стать на уровне интеллектуальных, моральных, общественных достижений своего времени было, конечно, проще и легче, чем в наше время. Нечего удивляться, например, что Пирогов поступил в университет 13 лет: тогда это было возможно, ныне же не под силу самым даровитым детям. Объем того минимума, который нужно усвоить детям, чтобы созреть социально-психически, несомненно растет с движением истории. Вот отчего так продолжительно детство вообще, вот отчего оно становится постепенно все более продолжительным.
Но чтобы понять этот процесс вживания в социальную жизнь, сростания с ней, — необходимо заглянуть в то, как дитя сознает само себя, как научается оно отделять себя от окружающих людей. В уяснении
44
этого процесса и лежит главная заслуга Болдвина, который построил в высшей степени удачную гипотезу о развитии самосознания у детей. Конечно, это навсегда останется гипотезой, потому что дело идет о процессе чисто внутреннем, об «открытии» «самого себя». Мы, взрослые, владеем нашим самосознанием так, что для нас совершенно исчезает воспоминание о том раннем периоде жизни, когда только слагалось самосознание. Но если мы сами забываем это, никто другой не может этого восстановить. Вот почему идеи Болдвина — при всей своей глубине и силе — сохраняют гипотетический характер.
По Болдвину развитие самосознания у ребенка теснейшим образом связано с социальным сознанием, т. е. восприятием людей, как живых существ. Та предпосылка, которой дитя, конечно, не сознает, но которая определяет фактически развитие его понимания социальной среды и своей собственной личности, — иными словами, та установка, которая лежит в основе его самосознания и социального сознания, может быть формулирована, как непосредственное сознание существенной однородности своей личности и личности окружающих людей. Дитя об этом не думает, но таков именно характер его основной установки, из которой дитя исходит. Все развитие самосознания и социального сознания есть лишь дифференциация и развитие этого изначального и непосредственного сознания внутренней однородности своей личности и личности других людей. Как указал тот же Болдвин, различение «людей» и «вещей» является самым ранним из различений, в которых открывается для сознания дитята многообразие мира3.
Развитие самосознания и социального сознания не может быть отделено одно от другого — в ясном и психологически законченном выражении этого факта лежит главная заслуга Болдвина. Он видит три фразы в развитии самосознания и социального сознания: первую фазу он называет «проективной», вторую — «субъективной» и третью — «эйективной». Обратимся к Характеристике этих ступеней в развитии у ребенка самосознания и социального сознания.
Дитя «преднаходит» в мире (употребляя выражение Авенариуса) человеческую среду — оно в ней «застает» себя, в ней проходить начальные ступени в своем психическом развитии. Но что такое «люди» для ребенка в этой изначальной стадии? По терминологии Болдвина, люди рисуются ребенку «проективно», — это живые, активные существа, которых знает дитя лишь внешне. Тот внешний образ, в котором представляются нам люди, называет Болдвин «проектом», ибо он «предлежит» нам4; каждый человек для нас рисуется в своем внешнем облике, в котором, однако, есть жизнь, находящая свое выражение столько же в действиях, движениях, сколько и в блеске глаз, и звуках голоса, и в
--
3 Учение о изначальное и непосредственности восприятия людей как людей («Mitmenschen» по терминологии Авенариуса), особенно интересно у трех мыслителей: у Авенариуса (в его Kritik d. rein. Erfahrung), у Гиддингса(в его Sociology — есть русский перевод) иу Мюнстерборга(в его Grundzuge der Psycholigie).
4 Термины «проективный», «субъективный», «эйективный» образованы Болдвином от латинских слов projicere, subjicere, ejicere.
45
улыбке. Мы, взрослые, сложнее и глубже сознаем человеческую среду, но и у нас исходным пунктом является «проект» — внешний облик человека, внешние обнаружения и действия его, его речи и улыбки, выражение лица и глаз. Для ребенка характерно, что этим внешним материалом исчерпывается все, что он сознает о людях, однако не следует забывать, что с самого начала дитя сознает людей, как живые существа, как центры активности. То, что называют проблемой «одушевления», т. е. перехода от внешнего материала, который мы имеем от человека, к его внутренней жизни, — для ребенка не существует. В этом-то и состоит основное различие, которое делает дитя между «людьми» и «вещами»: «люди» — это «живые» существа, т. е. способные к движению, к реакции, к активности. В этом смысле дитя легко сближает людей и животных именно за то, что они не суть «вещи», что они суть активные существа. Конечно, дитя не думает о том, в чем состоит «внутренняя» жизнь, точнее говоря, проективные образы, будучи носителями жизни, ничего внутреннего в себе и не заключают. Но у ребенка никогда не бывает того только внешнего материала, с которым оперируют психологи, обсуждающие вопрос о том, как сознаем мы чужую душевную жизнь. Для ребенка живые люди с самого начала суть «одушевленные» существа, т. е. полные жизни и активности, творческой инициативы, — чисто внешними проективные образы никогда для ребенка не бывают. Даже фотографические снимки, свои отражения в зеркале дитя долго принимает за живые существа… Чужая, «одушевленность» трактуется, конечно, очень примитивно, как способность к реакциям, к активности, но никогда дитя не проходит той стадии, которую выдумали психологи, отрицающие непосредственное сознание жизни в других людях, — стадии, при которой сначала выступает лишь чисто внешний материал, а затем этот материал, с помощью тех или иных процессов5, одухотворяется и одушевляется.
Изначальное социальное сознание ребенка отличается только что указанными двумя чертами: дитя непосредственно сознает людей как живые существа, способные к реакции и к самостоятельной активности, с другой стороны, оно знает их лишь внешне, «проективно», не вкладывая ничего «внутрь», не думая ни о какой «душевной» жизни у других людей. Как соединяется начало чужой одушевленности с чисто проективной характеристикой людей— это мы можем с некоторым трудом понять, если будем анализировать наше представление о других людях.
Проективное социальное сознание очень рано ведет к появлению проективной самохарактеристики, которую мы можем с полным правом назвать «проективным самосознанием». Конечно, у ребенка всегда есть непосредственное чувство своей «одушевленности»; дитя непосредственно чувствует себя, как живое, активное существо, непосредственно чувствует в себе пульс жизни. Но такое непосредственное чувство не означает, что дитя «думает» о себе, — да оно и не имеет никакого мотива «думать» о себе, никакого интереса к себе. Пер-
--
5 Обзор различных построений в этом вопросе см. в книге проф. Лапшина — Проблема чужого я.
46
вые мотивы к тому, чтобы останавливаться на самом себе, чтобы выходить за пределы непосредственного чувства своей личности, даются социальной средой. Дитя очень рано привыкает к тому, что оно имеет свое особое имя, рано научается «откликаться» на него, — поворачивать головку, поднимать глазки, улыбаться. Еще дальше оно привыкает к определенным действиям в отношении к себе — со стороны матери, няни, окружающих людей. Болдвин справедливо указывает, что уже в первые месяцы жизни дитя приучается к тому, что с одними из окружающих можно «капризничать», а с другими «не стоит». К определенным реакциям со стороны матери, няни, других близких дитя привыкает очень рано, оно ждет к себе определенного «социального отношения» — ждет ласковых слов, внимания, игры. Все это накопляет материал для «проективной самохарактеристики». Дети приучаются к тому, что у них есть свое «место» в системе социальной жизни, что к ним определенно относятся окружающие люди, что у них есть свое имя, — все это ведет к тому, что дитя выделяет себя из окружающей обстановки. Не внутренние, а социальные мотивы побуждают дитя к этому: дитя только следует тому выделению его из среды, какое оно «пред-находит» в этой среде по отношению к себе. Не внутренний, а социальный материал образует основу первой самохарактеристики: дитя знает о себе только то, что у него есть свое имя, свое «место» среди других людей, что оно «хорошее», «умное», «любимое». Оно глядит на себя чужими глазами, так же, как само глядит на других людей: больше пока ничего ему и не нужно, для большего пока нет и материала. Для нас дитя от дня его рождения есть «особое» существо; для себя же оно долго не есть «особое» существо, оно не отделяет себя от среды. К этому выделению себя, от которого начинается развитие самосознания, дитя переходит под влиянием социальной среды. Конечно, в нем всегда есть непосредственное чувство жизни в себе, — но лишь с момента, когда дитя в сознании своем отделяет себя от среды, начинается формирование «эмпирического я», самосознания. Дитя еще долго не будет говорить в отношении к самому себе «я»: оно говорит о себе либо в третьем, либо во втором лице. Последний случай особенно любопытен: в нем особенно ясно выступает «проективная самохарактеристика». Один мой племянник, 3-х лет, говорил однажды самому себе, с укором покачивая головкой: «тебе говорят — встать, а ты все сидишь и сидишь!». В этих словах прелестно передано это «проективное» отношение к самому себе.
Проективная самохарактеристика, которую можем иначе назвать социальным самосознанием, никогда не исчезает в нас, но образует устойчивый и неустранимый полюс в нашем самосознании. И мы, взрослые, постоянно обращаемся к самим себе так, как к нам должны были бы обращаться другие люди. Кто не знает таких форм обращения к самому себе, когда человек говорит себе (как если бы говорил ему кто-либо чужой): «ну, Петр Петрович, пора тебе приниматься за работу». Когда мы проверяем самих себя, мы постоянно обращаемся к себе так, как должны были бы обратиться к нам другие люди, если бы они знали «все». Мы глядим на себя чужими глазами, словно смотримся
47
постоянно в «социальное зеркало», все время думаем о том, как другие посмотрят на тот или иной наш поступок. Как озабочены мы всегда тем, чтобы наш внешний физический вид был «приличным», чтобы все было «на своем месте», — точно так же мы глядимся и в «социальное зеркало», как бы примеряем заранее, «что скажет княгиня Марья Алексеевна». Мы очень редко делаем что-либо, не думая о том, как будет понято или воспринято другими людьми наше действие, каково будет «социально-психическое эхо» его. Проективный образ наш, мысль о том, как слагается этот проективный наш образ у других людей, никогда не оставляет нас и всегда играет очень существенную роль в нашем поведении. Стоит вспомнить о том, как сильно у нас действие именно социального, а не индивидуального стыда: мы не столько стыдимся наших пороков, сколько стыдимся того, что о них знают другие люди. Сознание, что то, что мы скрывали от других, стало им известно, — обжигает нас с такой силой, что это становится совершенно непереносимо. Все это только показывает неустранимость и внутреннюю логичность в возникновении социального полюса в самосознании — проективной самохарактеристики.
Ясно само собой, что, раз начавшись, процесс самосознания не может остановиться на этом проективном материале. То непосредственное чувство своей жизни, которое предшествует всякому самосознанию, формирует вокруг первого, проективного самосознания материал, который выдвигает нечто совершенно новое. Проективная самохарактеристика представляет некоторый устойчивый комплекс, некоторый центр, вокруг которого группируются не только новые проективные данные, — но и то, что является чисто «субъективным», т. е. то, что дитя сознает, как свое, только свое. Случаев, кргда то, что дитя переживает, не признается другими, когда оно убеждается, что его переживания являются лишь ему доступными, конечно, очень много в жизни ребенка. Иногда взрослые подсмеиваются над тем, что происходит в детях, считая, что они шалят и притворяются. Боли, страдания детей часто не обращают никакого внимания, в то время как другой раз пустяк вызывает усиленное внимание. Эти случаи расхождения данных внутреннего опыта и внешней его оценки все чаще имеют место (когда дети подрастают, взрослые становятся менее к ним внимательны), все чаще сознаются детьми, и, по мере их накопления, дитя приходит, наконец, к чисто субъективному самосознанию, к сознанию своих желаний, замыслов, чувств, мыслей. Здесь дитя осознает в себе свой внутренний, непосредственно недоступный другим людям мир, — сознает, конечно, лишь частично, но все же в подлинном смысле открывает самого себя для себя. Вначале субъективное самосознание слагается из сравнительно небольшого материала, который еще противоставляется другим переживаниям. Мы увидим, что настоящий интерес к самому себе созревает очень медленно и становится вполне определенным лишь в третьем периоде детства (отрочестве), но, конечно, как новый полюс в самосознании внутренний мир выступает очень рано. Однако, субъективное самосознание не только не устраняет проективного, но оба взгляда на себя, оба вида самопонимания, самохарактеристики
48
питают друг друга. Если вслед за Зиммелем назовем «внесоци-альной» стороной в себе то, что является чисто субъективным, то можно сказать, что наше внесоциальное и социальное самосознание образуют два полюса в нашем самосознании. Содержание и корни обеих форм самосознания, психическая судьба и развитие того и другого материала, внутренние условия их влияния на нашу личность — все это так различно, что о слиянии их не может быть и речи. Как две стороны одной и той же вещи, развиваются в нас неразрывной жизнью обе формы самосознания, не сливаясь, но и не отделяясь. Быть может, это есть важнейшая сторона той полярности в нашем душевном развитии, которая созидается нашей связью с социальным организмом. Во всяком случае мы никогда не сознаем себя только изнутри, но всегда нам одновременно рисуется наша личность (в ее внешней и внутренней жизни) и извне: иначе говоря, в нашем самосознании мы всегда связаны с социально-психической перспективой, всегда сознаем себя среди других людей. Можно было бы сказать даже решительнее: самосознание в нас есть социальн о-п с и х и-ческая функция, ибо и мотивы к той работе, которая ведет к самосознанию, и содержание самосознания (в его одном полюсе) даются социальной средой. Вся наша личность, поскольку мы ее сознаем, пронизана этими лучами социальности, органически связана с социальной средой. Проблема перехода от нашего «я» к другим «я» оказывается мнимой6.
Но работа, которая завершилась в самосознании сочетанием проективной и субъективной самохарактеристики, на этом не кончается и возвращается к своей изначальной стадии — к социальному сознанию. Социальное сознание является психическим лоном, в котором выделилось проективное самосознание, — и к нему возвращается психическая работа, когда основная двойственность самосознания определилась с полной ясностью. Открыв в себе внутренний мир рядом с проективным материалом, дитя неизбежно дешифрирует непосредственное сознание жизни в других людях в тех же терминах, т. е. приходит к сознанию, что и в других людях есть свой внутренний, закрытый для других, внесоциальный мир. Дело происходит не так, что к внешним проективным образам присоединяется мысль о чужой душевной жизни, — такая «интроекция» была бы недоступна неразвитому детскому интеллекту. Нет, дитя и ранее, в своем проективном социальном сознании, видело в людях живые существа, полные энергии и инициативы, теперь же эта темная перспектива «чужой жизни» освещается, наполняется материалом. Не логические процессы заставляют дитя признать за внешней стороной в человеке его внутренний мир, но то непосредственное чувство жизни в другом человеке, которое было и раньше, ныне освещается открывшимся собственным внутренним миром. Перемена происходит, скажем, языком психологии, не в сфере перцепции, а в сфере апперцепции. Внутренний мир в
--
6 В русской литературе развивал эти идеи (правда, в гносеологическом их аспекте) кн. С. Н. Трубецкой в своей замечательной работе — О природе человеческого сознания (см. Сочинения).
49
человеке и ранее был открыт, как некая темная глубина, как неясная перспектива, — а ныне, в этой стадии «эйективации», как говорит Болдвин, раскрывается «смысл» этой внутренней жизни, чувствовавшейся и ранее. Эйективация не есть поэтому «открытие» в других людях душевной жизни, а есть лишь ясное сознание, в терминах субъективного самосознания, того, что раньше сознавалось неясно. Если проективная самохарактеристика оформляет непосредственное чувство своей жизни в терминах социального (проективного) сознания, то ныне социальное сознание оформляется в терминах субъективного самосознания. Психическая работа как бы замыкается в любопытный круг: в непосредственном сознании своей и чужой жизни исходной точкой является социальное сознание (проективные образы) — но оно же является и конечной точкой работы. Если сначала наш внутренний мир освещается извне, то затем внешний для нас мир чужой жизни освещается тем, что мы нашли в себе. Если в первой фазе социальные лучи освещают душу ребенка, то в последней фазе социальная действительность освещается тем, что открыло дитя в себе.
Так должны мы, следуя в основном Болдвину, понимать развитие у ребенка самосознания и социального сознания. Внутренняя и глубокая связь их говорит ясно о том, что дитя для своего развития непременно нуждается в социальной обстановке. Если бы дитя созревало совершенно вне общения с другими людьми, было бы совершенно предоставлено самому себе, оно не могло бы созреть психически, так как в развитии самосознания ребенка первостепенную роль играет социальное сознание. В высшей степени любопытен факт, что, чем дальше развиваются общественные отношения, чем дальше идет социальная дифференциация, тем значительнее роль общества в развитии индивидуума. Индивидуум находит в социальной обстановке такую полноту оформленных отношений, такое многообразие путей активности, что его собственное творчество становится нужным все меньше и меньше. Дети нашего времени незаметно и легко овладевают такими формами деятельности, которые в былое время требовали напряженного творчества и подлинного вдохновения. По мере усложнения социальной традиции и накопления в ней дифференцированных форм жизни на долю юного поколения выпадает все большая задача усвоения, все меньше остается места для творчества. В наше, например, время жизнь стала такой сложной, богатой и многообразной, что нужно долгое время усваивать даже средний минимум традиции, чтобы «стать с веком наравне». Но нельзя не отметить и того любопытного факта, который впервые отметил Зиммель в своей книге — «Социальная дифференция»7: чем значительнее и многообразнее влияние социальной среды на личность, тем свободнее и независимее от нее становится личность. Сложность социальных отношений ведет к тому, что в отношении отдельной сферы социальной жизни личность чувствует себя более независимой, чем это было возможно при простоте социальных отношений. Поэтому вживание в современную социальную жизнь, предполагая длительный
--
7 См. также его книгу — Philosophic des Geldes.
50
процесс приспособления и усвоения, открывает в то же время в современном ребенке больший простор, дает больше места для свободного выбора и в этом смысле повышает и заостряет чувство свободы. Современное дитя, вырастая во все более усложняющихся и запутанных социально-психологических отношениях, должно уже не только социально созреть, но должно быть и более морально сильным, чтобы уметь распорядиться свободой, перед ним открытой.
Но как происходит самый процесс усвоения социальной традиции, процесс вживания детской души в современную ей социально-психическую обстановку? В полной аналогии с тем, что мы уже знаем о психо-физическом созревании ребенка, мы должны сказать: социальное созревание, развитие и упражнение социальных сил, усвоение социального материала лишь частично осуществляется в серьезном и деловом взаимодействии с социальной средой, в самом же главном и существенном оно происходит в играх. Прямое соприкосновение с социальной средой не таит в себе особых опасностей, — поэтому не безопасность игр (как это мы видели в психо-физическом созревании ребенка) делает здесь игры незаменимой формой активности. В отношении к социальному созреванию целесообразность игр определяется другим — именно трудностью вживания в социальную среду, трудностью ее понимания. Игры являются, как мы это сейчас увидим, незаменимым средством проникновения в социальную жизнь; с помощью игр дитя знакомится с различными социальными позициями, вживается в закрытый («внесоциальный») мир других людей. В самом деле, ориентироваться в социальной жизни возможно, лишь учитывая именно закрытую, внесоциальную сторону в людях — без этого нельзя понять социальные отношения. Но как дитя может проникнуть в чуждый и незнакомый мир переживаний взрослых, как оно может проникнуть в то, как живут люди в иной социальной обстановке? Как дети, живущие в комфорте, могут понять тех, кто живет в нужде; как детям, растущим в культурной обстановке, понять тех, кто вырастает иначе, кто не знает никакого воспитания? Как детям, вырастающим в полной свободе, понять тех, кто даже не смеет выразить своих желаний? Конечно, дело идет лишь о непосредственном понимании, о том интуитивном, можно сказать, музыкальном вживании в чужую душу, которое должно быть в нас, чтобы мы хоть кое как могли ориентироваться в социальной обстановке. То непосредственное восприятие человека, как человека, о котором мы уже говорили и которое лежит в основе всего социально-психического общения, — имеет слишком общий характер и нисколько не вводит в внутренний мир педагога или врача, инженера или купца, военного или священника. А между тем в какой-то, хотя бы самой минимальной дозе, нужно понимать внутренний мир людей, чтобы вступать с ними в общение… Получается круг: дитя должно кое-как разбираться в чужой душе, чтобы было возможно социальное взаимодействие, но проникнуть в чужую душу можно лишь при живом взаимодействии с ней. Дети, очевидно, должны до настоящего социального взаимодействия развить в себе способность непосредственного вживания в социальный мир, интуитивного его по-
51
стижения, — чтобы приобрести возможность двигаться между людьми, чтобы приобрести способность «социально-психического зрения». В социально-психическом пространстве проходят перед детской душой различные люди, но дитя словно остается социально слепым — оно не улавливает различий между людьми, потому что не может проникнуть в чужую душу, в закрытую ее сторону. Конечно, процесс «эйектива-ции», т. е. открытие в других людях внутренней жизни, мог бы осуществляться в прямом взаимодействии с ними, но сколько бы понадобилось времени, чтобы путем опыта дойти до проникновения в внутренний мир различных людей? Сколько нужно было бы пережить непоправимых, досадных ошибок, чтобы на этих ошибках корригировать неудачную эйективацию?
Конечно, ошибки с нами происходят до конца жизни, — ибо, в конце концов, психическое бытие до такой степени индивидуально, что, чем более узнаешь людей, тем более это мешает разглядеть новую индивидуальность. Но есть известная ступень социального ориентирования, есть известная сила социально-психического зрения, без которой невозможно самостоятельно действовать в социальной среде и достигать поставленных себе целей. Это-то предварительное ориентирование («на черно») в социальной обстановке в закрытой внесоциальной стороне других людей дается играми — и только играми.
Чтобы понять этот тонкий и своеобразный процесс, нужно обратить внимание на следующее. Когда, например, дети «играют в родителей», — они совершают те движения, которые они замечали у родителей. Внешнее повторение этих движений, сопровождаемое речами, воспроизводящими то, что слышали дети у родителей, как бы ставит детей внешне в позицию родителей. Но входя в свою «роль»8, совершая ряд движений, дитя невольно следует полету своей фантазии, которая принимает самое живое участие в этой игре. Работа фантазии определена внешне темным эмоциональным вживанием в душу родителей, проективными образами их, но тем свободнее она во внутреннем вживании в «позиции» родителей. Внешние движения неизбежно вызывают игру чувств, дитя переживает новые эмоции,, которые определяются игрой фантазии, а не наоборот. Как это возможно, если фантазия, по данному выше толкованию, служит лишь средством выражения чувств? Вопрос этот очень труден, но с ним связана вся тайна расширения наших эмоций, вся тайна «вчуствования» и эмоционального приближения к новым явлениям жизни. Интеллект не только не помогает этому эмоциональному проникновению в новую сферу жизни, но скорее мешает, заполняя сознание своим материалом. Как у взрослых, так и у детей эмоциональное ясновидение лишь затрудняется и затемняется работой интеллекта.
Чтобы понять тайну эмоционального проникновения в новую область, таящую в себе ключ ко всему социально-психическому созреванию ребенка, укажем, что и у взрослых аналогичный процесс, осущест-
--
8 Уже Неккер де Сосюр в своей книге «L'education progressive» дала верную и интересную характеристику того, как дитя «входит в роль». Лучший доныне, хотя и недостаточный анализ этого «вхождения в роль» см. у С е л л и (гл. 2. § 3).
52
вляется через внешнее воспроизведение тех движении, эмоциональный аккомпанемент, к которым составляет предмет исканий. «Подражание Христу», занимавшее и занимающее столь существенное место в аскетике, является одним из видов такого вживания в новые формы жизни. Через внешнее — к внутреннему, через движения — к чувствам, через работу фантазии — к новым переживаниям… Сущность этого процесса не в том, что внешние движения, сами по себе, вызывают чувства — не в том, что, так как движения новые, необычные, то и пробуждаемые этими движениями чувства имеют в себе много нового, по незаметным ступеням вводя душу в новые переживания. Такое чисто ассоциативное понимание этого процесса негодно уже потому, что повторение чужих движений не только не способствует расширению эмоций, но, наоборот, оно психически обедняет чувство. Новая комбинация прежних чувств, новые оттенки прежних переживаний никак не могут объяснить того, что фактически мы переживаем, «входя в роль». Известно, что если мы действительно входим в роль, то развивающееся у нас при этом чувство до такой степени овладевает нами, что мы следуем его движению гораздо дальше, чем это определяется «ролью». Это значит, что возникающее в этом случае чувство обладает такой свежестью и силой эмоциональной энергии, что оно никак не может быть объяснено из комбинации прежних чувств и их новых оттенков. Не внешние движения определяют эмоциональный процесс, а именно работа фантазии. Не входя в подробности, которым здесь не место, скажу лишь несколько слов, чтобы несколько осветить поднятый нами вопрос.
Я исхожу из предположения, что описанный нами процесс рождения новых чувств из повторения чужих движений и вживания путем фантазии в свою «роль» покоится на предварительном уже эмоциональном проникновении в «роль». В живом и непосредственном интересе к позиции «родителей», к каким-либо другим социальным позициям дитя находит стимулы к эмоциональному проникновению в чужую пока область, как бы заостряет свое духовное зрение и приглядывается к новым явлениям. Не следует забывать, что и в фазу чисто проективного социального сознания у ребенка всегда есть неопределенное чувство «жизни» в людях. Это чувство темно и не-формулировано, но музыкой его обвеяно проективное социальное сознание. Если бы не было этого предварительного эмоционального сближения с жизнью других людей, никакая эйективация не была бы возможна. Эйективация лишь заканчивает, оформляет, уясняет эту работу чувстпа: психологически эйективация есть лишь интерпретация в работе фантазии того, что в форме непосредственного чувства, было уже в проективном социальном сознании. Эйективация никак не может быть понята интеллектуалистически, ибо она вырастает на основе интуитивного материала.
Расширение эмоционального ясновидения решительно не может быть создано ничем внешним, оно является первичным и основным. И дети, и взрослые уже эмоционально вмещают в себя новую жизнь, уже эмоционально проникают в
53
нее, когда ищут внешних движений, чтобы прояснить и оформить это чувство. Само по себе совершение каких-либо движений соответственно известной роли не вводит в внутренний мир изображаемого лица — сколько неудачных артистов могут быть прекрасной иллюстрацией этого. Наоборот, когда уже новые формы жизни эмоционально усвоены, тогда именно и возникает потребность движений и психического осмысливания чувства, чтобы придать ему ясность, внутреннюю законченность. Особенно в отношении детей важно понять это: необычайно развитая склонность к драматизации в играх имеет свой корень в том, что дитя уже обладает эмоциональным прозрением в новые социальные позиции, но в такой «глухой» и неясной форме, что оно ищет именно в игре — с ее коренной двойственностью движений и фабулы (т. е. телесной и психической активности) — путей к оформлению и уяснению чувств. Внешние движения и подбираемые в работе фантазии проективные образы с теми или иными вариациями и служат этой спецификации и оформлению чувства. В этом вторичном уже смысле поток чувства следует за фантазией, так что весь процесс слагается из трех фаз: первая фаза — первичное, но неясное эмоциональное проникновение в новую сферу жизни, вторая фаза — телесное и психическое выражение этого чувства в игре и, наконец, третья фаза — развитие и психическое оформление изначального чувства— через игру—в определенное эмоциональное вживание в чужую душу. Роль фантазии в развитии этих чувств, относящихся не к собственному, а чужому душевному миру, действительно очень велика, ибо в работе фантазии неопределенное первичное чувство получает эмпирическую определенность и законченное содержание9. Но ничто не убеждает так в реальности исходного эмоционального материала, как то, что последней фазе предшествует не одна работа фантазии, но и движения. Этот двойной ряд может быть только двойным выражением какого-то изначального чувства. Игры, в которых дитя непременно играет какую-либо роль (большею частью не одну, а много), являются средством эйективации. Этим и определяется преимущественное, а часто и исключительное социальное содержание игр: через игры дитя вживается в разнообразные социальные позиции, знакомится с бесконечным многообразием социальных отношений. Таким именно образом дитя и совершает важнейшую и труднейшую работу усвоения социальной традиции: задача ведь состоит не в том, чтобы дитя овладело интеллектуальным материалом традиций. Эта задача и не под силу слабому детскому интеллекту и совсем не отвечает цели детства, в течение которого нужно лишь развить социально-психическое зрение. Для самостоятельного социального творчества нужно и интеллектуальное усвоение традиции — и этим психологически обосновываются Lehrjahre, неизбежность «учения», — но главное лежит в том, чтобы научиться понимать социальную жизнь, научиться ее эмоционально вбирать в себя и непосредственно в ней ориен-
--
9 Только в свете этих размышлений и может быть принято, с целым рядом оговорок, учение Мейнонга и его школы о «Fantasiegefuhle», т. е. о чувствах, вырастающих из фантазии.
54
тироваться. Входя в самые разнообразные роли, дитя через посредство игр эмоционально проникает в закрытый мир тех, кто занимает разнообразные социальные позиции, и весь сложный мир социально-психологических отношений, его движущие силы и определяющая умонастроения, задачи и запросы, — все это становится как бы прозрачным, дитя эмоционально вживается во все это. Такое вхождение в социальную традицию есть единственно плодотворное и единственно нужное: овладевая постепенно и медленно идейным содержанием социальной традиции, дитя начинает с того, что эмоционально проникает во все формы жизни, как они существуют в данный момент, проникается теми чувствами и настроениями, которые действуют в данное время. Идеологический процесс в ребенке и подростке часто ведет к необычайно путанному пониманию современной жизни, тогда как эмоциональное вживание в различные формы социальной жизни (конечно, в некоем среднем минимуме) есть conditio sine qua поп социальной зрелости.
Теперь для нас ясно значение того факта, что дети, если не исключительно, то преимущественно, играют в человека. Игры нужны не только для психо-физического созревания — они не менее (если не более!) нужны для социально-психического созревания. Психология игры, говорили мы выше, определяется своим объектом, в котором, как мы видели, имеет место неисследимое сплетение реального и воображаемого; в своей же чисто субъективной стороне игра, как сочетание движений с «фабулой», есть выражение каких-либо чувств. Теперь нам понятно, что игра служит преимущественно выражению первичных социально-психических прозрений ребенка, — вот почему игра может быть определена как драматизация какой-либо фабулы: в игре дитя преимущественно изображает человека или живое (хотя бы оживающее во время игры) существо. Необъятность того социального содержания, которое дитя должно усвоить в играх, объясняет нам продолжительность детства, и мы увидим дальше, что различные периоды детства между прочим характеризуются различной социально-психической установкой. Процесс вживания в чужую жизнь (как показывает психология чтения литературных произведений) имеет место и у взрослых, но детство длится до тех пор, пока не охватит в основных чертах всего содержания социальной традиции и пока не почувствует потребности социального творчества (чем, как мы увидим дальше, заполнен последний период детства — юность).
Все наши силы— физическая, психическая, социальная— прежде чем они войдут в реальную жизнь, должны пройти фазу свободного своего проявления, чтобы оформиться и окрепнуть. Только игры с своеобразием их объекта (в котором мы отметили неисследимое сплетение реального и воображаемого) могут служить этой цели. Игры не уводят нас от реальности, они, наоборот, вводят нас в нее, но только смягчают реальность, как бы снимают с нее мертвящую необходимость, в ней царящую. Пластичность объекта игр обладает чрезвычайной, стимулирующей творчество силой: именно она вводит дитя в мир
55
свободы, в мир творчества, она навсегда поселяет в душе сознание своей мощи, своей власти над реальностью. Дитя преображает реальность в игре — и отсюда игра становится психическим лоном, в котором оформляются и развиваются все наши творческие движения (эстетические, этические, религиозные). Но все обаяние игры, все ее очарование покоится на том, что творческая работа все время имеет дело с реальностью. Мы говорили, что для игры обязательна хотя бы самая минимальная доза реальности.
Дитя рано научается различать между сферой игры и сферой реальности, между установкой на игру и установкой на деловое отношение. Игра влечет к себе именно тем, что в процессе игры реальное и воображаемое сближаются и сочетаются; этим игра дорога нам и в зрелые годы. Но уже у детей установка на игру настолько сближается с «деловой» установкой, что переход от одного к другому совершается незаметно; у взрослых уже установка на игру (в форме «творческой» установки) всегда осуществима при самом серьезном жизненном процессе. Таким образом, дитя и взрослый не очень далеки друг от друга в субъективном отношении к игре, — основное же различие заключается в функции игры. Детство определяется именно тем, что игре принадлежит здесь основное место в системе активности, тогда как у взрослых игра (даже в дифференцированной форме творчества) не имеет уже такого основного места. Только в итоге духовного созревания реальная жизнь вновь принимает подчиненное и вторичное место.
Новое понимание детства, столь многим обязанное Гросу и Болдвину, рисует его нам как законченную и образную фазу в развитии человека. В этой фазе доминирует эмоциональная жизнь, а следовательно и фантазия; дитя живет в живой связи с реальностью, хотя и не живет всецело в реальности. Оно дышит воздухом реальности, но свободно от ее неподвижности и ее суровых, неизменных законов. Психическая организация детства исключительно прекрасна, и этой красотой и грацией своей детство обязано той непосредственности, корень которой лежит в преимущественном развитии эмоциональной сферы. Интеллект ребенка развивается медленно, он имеет вторичное значение в детстве, хотя этапы его развития и знаменуют этапы детства. Но психическое своеобразие детства определяется господством эмоциональной сферы, «подготовительной» функцией детства и центральным значением игры в активности ребенка. Здесь ключ к тайне детской души, здесь разгадка ее неповторимой красоты и чарующей грации10.
10 Законченная характеристика детства может быть дана лишь в связи с тем, что я называю ниже «метафизикой детства». См. об этом в XV-й главе.
ГЛАВА IV.
Загадка продолжительности детства у человека. Деление детства на периоды, вопрос о критериях этого деления. Первый год жизни. Общая характеристика различных периодов детства (раннего детства, второго детства, отрочества, юности).
Мы должны теперь обратиться к последнему общему вопросу психологии детства — вопросу о продолжительности детства и о делении детства на периоды.
При том биологическом понимании детства, которое установилось в нашей науке после Гроса, детство (в широком смысле слова) обнимает все те годы, когда человек еще не подготовлен к самостоятельной жизни, к самостоятельной борьбе за существование. Нам приходилось уже говорить, что исторический процесс, предполагающий передачу одним поколением другому всего того, что было им получено от предыдущего поколения и что было вновь им создано, — неизбежно ведеис тому, что средний минимум социальной традиции, обязательный для усвоения, становится все значительнее и значительнее. Если в начале XIX века возможно было, что мальчик 13 лет поступал в университет, то в наше время это решительно невозможно. Если тогда в 15—16 лет нередко выходили на путь самостоятельного творчества и самостоятельной жизни, то в наше время только тяжелые социальные условия могут вынудить юношу перейти в это время к полной самостоятельности. Обыкновенно, в нормальных условиях культурной жизни, самостоятельная (в экономическом и социальном отношении) жизнь, самостоятельное творчество начинается около 25 лет. Конечно, биологически мы подготовлены к самостоятельной жизни значительно ранее (что и отмечается в законодательстве разрешением вступать в брак), — но мы живем не только биологически, но живем и социальной жизнью. Стать социально самостоятельным, это значит не только понимать то, что делается вокруг, но и двигать жизнь дальше, быть способным к социальному творчеству. Материал для усвоения становится с каждым поколением настолько значительнее, что детство с развитием культуры не сокращается, а растягивается. Детство есть особая фаза не только в психо-физическом и психическом, но и социальном созревании человека, — и этой фазе можно противопоставить только зрелость, понимая под этим вступление в период полного расцвета всех сил и самостоятельной жизни. Вся жизнь человека, с этой точки зрения, может быть разделена на три периода: детство, зрелость, старость. Различие
57
этих периодов определяется социально-биологически: детствотэхваты-вает период подготовки к самостоятельной жизни путем усвоения среднего минимума социальной традиции; зрелость характеризуется способностью к самостоятельной жизни и творчеству; наконец, старость отмечена постепенной утерей творческих сил и понижением способности к самостоятельной жизни.
Если детство в широком смысле слова охватывает большой период жизни, то оно в то же время может быть разделено внутри себя на несколько периодов. Язык знает собственно три периода — детство (в узком смысле слова), отрочество и юность, — но современная психология детства давно уже разделила детство (в узком смысле) на «раннее» и «второе» детство. Если войти ближе в обсуждение вопроса о делении детства (в широком смысле слова) на периоды, то надо отметить, что мы и ныне еще не имеем точного критерия при разграничении различных периодов детства. Вне всякого сомнения стоит факт, что существуют естественные грани в развитии ребенка, но в том-то и дело, что, следя за различными сторонами в жизни ребенка, мы получаем совершенно различную картину. Разнообразные физические и психические функции развиваются не параллельно и не равномерно, — и если в одном отношении мы находим грань в одно время, то в другом отношении она приходится совсем на другое время. Это-то и путает, не дает возможности делить детство с какой-либо одной точки зрения и заставляет считаться с комплексом признаков.
Если обратиться к психо- физическому развитию ребенка, то здесь прежде всего приходится выделить первый год жизни (точнее 9—12 месяцев). Следующая заметная грань связан с половым созреванием, которое у девочек должно быть отнесено к 10—13 годам, у мальчиков к 12—15 годам. Физическое развитие заканчивается собственно лишь к 20—23 годам у девушек и к 22—25 у юношей. Хотя государство и Церковь разрешают юноше вступать в брак уже в 18 лет, а девушке в 16 лет, но с физической точки зрения полная зрелость достигается позже. Впрочем, надо иметь в виду, что психо-физическое развитие обнимает целый рад процессов, которые протекают неравномерно. Если следить за развитием отдельных органов тела, за развитием пропорций частей тела в отношении друг к другу, — картина и здесь получается сложная. Однако, намеченные три грани (год жизни, половое созревание, физическая зрелость) довольно удачно отмечают переломы в психо-физическом созревании растущего организма.
Гораздо сложнее и запутаннее представляется нам развитие юного существа, если обратиться к чисто психической стороне в нем. Отсутствие единства в развитии отдельных психических функций, отдельных сторон в психической жизни не позволяет положить в основу деления детства на периоды развитие какой-либо одной (признаваемой за основную) функции. Здесь-то и лежат корни самых острых разногласий между психологами — именно но вопросу о том, каким процессам должно отвести основное значение в психическом созревании ребенка. Возьмем, например, такую чрезвычайно важную сторону в психическом развитии, как язык: казалось бы, что в развитии языка мы мо-
58
жем найти ясные грани при переходе из одного периода детства в другой. Некоторые психологи (в их числе известный выдающийся психолог Штумпф) считают возможным делить детство по ступеням в развитии языка1, но, не говоря о том, что самое развитие языка протекает неодинаково у детей, оно касается внешней и поверхностной стороны в ребенке. Может быть, ступени в развитии языка и характерны, но они формальны, не связаны глубоко с внутренней жизнью ребенка, с его отношением к миру. Роль языка, как средства выражения внутренних переживаний и общения с окружающими людьми, необычайно велика, но до настоящего времени не указаны какие-либо значительные грани в этом развитии. Что же касается значения языка в интеллектуальном созревании (с чем связано приведенное в примечании разделение детства у Штумпфа), то хотя оно и очень велико, но сам по себе процесс интеллектуального развития не связан глубоко с основным содержанием детства. Рост интеллекта по одному тому не может выражать различия в отдельных периодах детства, что интеллект не занимает основного места в детской душе. Укажем, наконец, и на то, что индивидуальные различия между детьми, несомненно находимые в опыте, хотя и получают яркое свое выражение в языке, но не язык является источником этих индивидуальных отличий: будучи прекрасным симптомом тех или иных индивидуальных особенностей ребенка, он является продуктом, а не источником своеобразия душевной жизни ребенка. В силу всех этих соображений мы не можем положить в основу разделения детства на периоды развитие языка.
Гораздо глубже и правильнее было бы делить детство по развитию активности (в частности игр) или эмоциональной жизни. Что касается первой формы деления детства, то те попытки, которые мы имеем в этом направлении2, очень слабы. Прежде чем положить в основу деления детства на периоды зависимость от развития игр, нужно было бы изучить самое это развитие игр, что еще не сделано в наше время. Совершенно понятно, что, кладя в основу деления детства игры, — как они изучены в настоящее время, — мы ничего не приобретаем для понимания различных ступеней в детстве. Принцип, может быть, и верен, но при современном состоянии изучения игр он не может помочь в установлении периодов детства. То же надо сказать и о делении детства в соответствии с развитием эмоциональной жизни (пробы чего находим у Монтегацца): развитие эмоциональной жизни изучено настолько слабо и недостаточно, что пользоваться этим критерием при разграничении периодов детства совершенно невозможно.
Нам придется воспользоваться обычным разделением детства, кладущим в основу совокупность различных признаков.
Прежде всего мы должны выделить как первый период — первый год жизни, когда дитя еще не владеет языком, еще не ходит, но в течение которого оно научается постепенно пользоваться органами чувств, ориентируется в социальной среде, постигает уже немного
--
1 Штумпф различает: 1) бессловесную стадию, 2) период понимания чужой речи и неумения самому пользоваться речью, 3) период дошкольный и 4) период школьный.
2 См. выше замечание о статье Gulick'a.
59
различие игры и действительности. Этот период жизни может быть назван также «грудным», потому что дитя еще кормится молоком матери. Обыкновенно грудной период длится 9 месяцев, иногда чуть-чуть затягивается, но бывают случаи, когда матери кормят грудью до 3 и 4 лет; недавно мне стал известен совершенно достоверный факт, что одно дитя кормилось молоком матери до 7 лет. Мать боролась с привычкой ребенка и ничего не могла добиться, пока дитя не поступило в школу, где учитель, осведомленный матерью, своими замечаниями и прямым приказанием добился от ребенка отказа от пользования молоком матери… Заметим тут же, что обыкновенно затягивание грудного периода сильно задерживает психическое развитие. Если известная теория Фрейда о сексуальных конфликтах в детской душе неверна, то по отношению к детям с затянувшимся грудным периодом она приобретает некоторую долю истины. Во всяком случае, грудной период (вместе с другими указанными выше признаками) образует особый период в жизни ребенка, который нужно отделить от следующего за ним периода.
Второй период, продолжительность которого уже менее определенна, называется «ранним» или «первым» детством. Раньше считали, следуя довольно типичной для всех времен мистике цифр, что периоды развития заключают в себе 7 лет, вследствие чего переход от раннего детства к следующему периоду относили к 7 годам. Но это не только не оправдывается в опыте, но и вообще грань, отделяющая один период от другого, является подвижной. Тот факт, который с полной точностью констатирован для интеллектуальной сферы (при измерении интеллектуального уровня по методу Бине) — именно, что только 50% детей развиваются «нормально», а из остальной половины детей 25% созревают раньше, а 25%, наоборот, запаздывают в своем развитии — этот факт может быть с полным правом обобщен. Мы можем утверждать, что лишь у половины детей их развитие имеет «нормальный» характер; 25% развиваются преждевременно, переходят в новый период раньше, другие же 25%, наоборот, запаздывают в этом. Таким образом, «нормальное» развитие может быть констатировано лишь у половины детей, причем, конечно, речь идет о развитии не отдельной функции, а всего существа детского3. С этими оговорками мы можем признать, что раннее детство заканчивается между 5 и 61/2 годами.
Мы должны прямо и открыто сказать, что психическое своеобразие раннего детства (вообще наиболее изученного из всех периодов детства) не выступает перед нами в настоящее время с полной отчетливостью в том смысле, чтобы мы могли уяснить себе отличие этого периода от следующего за ним. Вместе с тем даже в отношении к раннему детству мы должны признать, что, несмотря на то, что оно наиболее хорошо изучено, все же мы не можем дать цельной картины, в которой предстало бы перед нами органическое единство, внутренняя связность
--
3 При изучении отдельных «тестов» Бине исходил из того, что признавал его отвечающим нормальному уровню, если он удавался 75% детей. При применении же ряда полученных таким образом тестов «ненормальными» оказываются лишь 50%.
60
отдельных черт этого периода. В известном смысле именно раннее детство должно быть охарактеризовано, как самый темный перит од в нашей жизни. Ведь именно в течение раннего детства закладываются основы личности, формируются ее главные интуиции, ее первый, но и важнейший по своей психической влиятельности опыт. Именно в это время определяется основная «установка», впоследствии выражающая тип человека. Все это формируется под покровом внешних процессов в глубине детской души, и не только дитя не понимает того, что в нем происходит, но не понимаем и мы. Поистине, мы — слепые вожди слепых! Нередко мы чувствуем, что в душе ребенка происходит какой-то сложный и серьезный процесс, что дитя переживает какую-то внутреннюю «драму», — но никто — ни само дитя, ни мы, — никто не может понять, что именно совершается в глубине детской души. Нельзя здесь же не отметить, что детская душа именно в этот период особенно нежна и хрупка. Иной раз незначительные, казалось бы, события глубоко оседают в душе ребенка и дают себя знать всю жизнь. Нередко уже значительно позднее, когда из семени, попавшего в это время в душу ребенка, выросли уже плоды, мы начинаем понимать, что корни той или иной черты, нашедшей свое выражение ныне, уходят именно к раннему детству. В этом смысле нельзя не отнестись с самым глубоким вниманием ко всему тому, что говорит о детстве-Фрейд и его школа. По Фрейду — как это узнаем дальше подробнее — уже в период первого детства совершается очень важный процесс в сексуальной сфере. Самый метод психоанализа и его терапевтическое значение в том и заключается, чтобы помочь больному, путем воспоминаний, извлечь «занозу» из своей души, ибо из психических конфликтов, возникающих именно в раннем детстве, и развиваются впоследствии настоящие психические заболевания. Не разделяя «сексуального монизма» Фрейда4, мы не можем, однако, забыть о том, что действительно нежный и хрупкий период раннего детства имеет исключительное значение в формировании эмпирической личности человека. Закрытость процессов, происходящих в это время, так велика, что мы не можем проникнуть в них иначе, как с помощью гипотетических построений. Ведь наиболее существенные процессы, точнее — наиболее существенная сторона во всех процессах имеет свое место за пределами сферы сознания; дитя вбирет в себя огромный материал, которым, однако, не владеет. То, что можно и должно назвать метафизикой детства, слагается и формируется в своих основах именно в течение раннего детства. Тип человека и его основная установка, основной опыт, главные интуиции, цели и задачи, долженствующие определить будущие «искания» личности, быть может главные ценности — все это вырисовывается в темной еще глубине детской личности, в ее метафизическом слое. Личность ребенка, поскольку она ищет своего эмпирического раскрытия и выражения в это время, поскольку она вообще входит в эмпирический мир, занята тем, чтобы развить свои силы и способности.
--
4 Заметим лишь, что сексуальная сфера у Фрейда, получая основное место в душевной жизни, теряет свое своеобразие, становясь общим началом психо-физического и психического творчества.
61
Дитя не робко, наоборот, оно доверчиво и наивно, а все же активность ребенка по преимуществу сосредоточивается в играх, словно дитя не рискует входить всецело в реальность. Участие фантазии в играх открывает необозримый психический простор перед ребенком, создает пластичность в объекте и этим чрезвычайно возбуждает дремлющие в душе силы, стимулирует творческие порывы. Дитя живет в прекрасном мире, украшенном и одухотворенном его фантазией, и не подозревает о темной, грубой и суровой стороне жизни. Даже те раны, которые иногда жизнь наносит ребенку и которые там, в глубине души, определяют глубокие изломы, деформируют личность, часто не оставляют заметного следа в эмпирической личности. Дитя, психически уже искалеченное и больное, уже носящее в глубине души тяжелые конфликты, само не сознает этого, оставаясь в своей эмпирической личности еще долгое время таким же, каким было до печального в его жизни события. Яд, который отравляет душу, скопляется незаметно… Все, все мы носим этот яд в душе — одни больше, другие меньше; у всех нас есть, как в затихшем вулкане, свой подземный огонь. Пока мы «здоровы», мы не замечаем этого подземного огня в себе и не даем ему места, но, в случае психического потрясения, он может овладеть всей душой.
В силу этого раннее детство, его впечатления, его опыт имеют действительно огромное влияние в жизни человека. Фрейд отметил впервые, что мы имеем сравнительно очень мало воспоминаний из раннего детства; он не видит в этом ничего случайного и ставит в связь с тем, что именно в раннем детстве формируются те «комплексы», которые образуют в подсознательной сфере исходную точку будущих психических заболеваний. Детство как бы «связано» этими комплексами, мы не можем вспоминать детство в подробностях, потому что почти все в наших воспоминаниях окрашено чувствами, которые были в свое время «вытеснены» из души. Но, конечно, Фрейд совершенно не прав в данном случае: говорить серьезно о «вытеснении» в период раннего детства, когда не могла еще сформироваться «цензура», не приходится. Самые тяжкие обиды, самые трудные конфликты проходят через сознание ребенка быстро и почти не оставляют следов в эмпирической личности: они падают в глубину души (и там укрепляются в своем ядовитом содержании) потому, что над всей эмпирической личностью ребенка владычествует момент. Дитя изменчиво, подвижно, неустойчиво в своей эмпирической личности; тяжелые и горькие переживания, не теряя своего ядовитого и горького характера, скопляются в глубине души, не влияя долгое время на эмпирическую сторону в личности. Поэтому скудость наших воспоминаний, относящихся к тому, что происходило в сознании ребенка, не может быть объяснена так, как это делает Фрейд. Причина того, что у нас так мало остается воспоминаний из нашего детства, лежит, по моему мнению, совсем в другом — именно в том, что, созревая, мы совершенно теряем интерес к тому, что происходило в сознании ребенка. В самом деле, во время раннего детства дитя глядит на мир с чрезвычайной любознательностью: все для ребенка ново, чуждо, незнакомо, все занимает и влечет его к себе. Но после того, как дитя ознакомилось со всем окружающим
62
миром, привыкло к нему, он перестает занимать его дальше, так как находится перед ним всегда, каждый день. То, к чему устремлялось раньше дитя, становится ныне серым, неинтересным, бесцветным, — словно здесь повторяется тот закон «адаптации», который имеет место в нашем зрении. Согласно этому закону, если долго смотреть на окрашенные плоскости, цвета «сереют», точнее — приближаются к серому цвету, становятся бесцветными. Так и весь мир, благодаря психической адаптации, становится бесцветным, сливается в однообразно-сером тоне; он уже не восхищает нас, не пробуждает былого интереса и не влечет к себе. Образы раннего детства, когда все еще было так привлекательно и прекрасно, когда все цвело и влекло к себе, — эти образы тускнеют для нас постепенно и отодвигаются в глубь души, ненужные, бессильные, бесцветные. Мы уже перестаем «играть» по-прежнему, все больше привыкаем к серьезной и деловой установке, во всяком случае стремимся приспособляться к внешнему миру, особенно к социальной обстановке. Так психически завершается раннее детство, вырастает сначала незаметная, а затем все более отчетливая грань между ранним детством и следующим периодом жизни — и эта грань как бы психически закрывает от нас, глядящих уже в другую сторону, живущих уже другими интересами, первоначальные наши впечатления. Но когда вновь придет пора понижения интереса к внешнему миру, когда придет старость с ее ослабленным вниманием к «злобе дня», — тогда мы «впадаем в детство», т. е. в нас оживают надолго затихшие образы детства. Память стариков, столь слабая в отношении новых впечатлений, отличается особой ясностью и остротой в воспроизведении образов далекого детства. Старики уже не принимают горячего участия в жизни, их окружающей, становятся равнодушными к тому, что волнует других, — и та психическая преграда, которая мешала образам детства всплывать в нашем сознании, обрекала их на психическое потускнение и бессилие, исчезает. Когда говорят, что старики «впадают в детство», то верно в этой формуле то, что старики действительно приближаются к детству, что психические преграды, столь отделяющие переживания детства от всего душевного мира взрослых, теряют свое значение.
Таким образом, скудость у нас воспоминаний детства объясняется не «вытеснением» материала, не конфликтами, которые будто бы разыгрываются в детской душе, а перемещением интересов, создающим психические затруднения для всплывания воспоминаний из раннего детства. Не лишним будет указать то, что было известно и раньше, но что особенно хорошо подтвердил психоанализ: если сразу кажется, что в нашей душе сохранилось мало воспоминаний от детства, то стоит начать активно вспоминать, а еще лучше — писать воспоминания из жизни, чтобы постепенно круг воспоминаний стал расширяться, конечно, впрочем не очень сильно.
Грань между первым и вторым детством сначала очень незаметна, но если, сравнить эти два периода в целом, различие выступает с полной ясностью. Прежде всего должно сказать, что во всех сторонах детского существа наступает некоторый перелом — правда, нередко не столь значительный, чтобы провести резкую черту между двумя пе-
63
риодами детства. Но нам уже приходилось говорить о том, что деление на периоды опирается на комплекс известных данных; если взять первое и второе детство в целом, то, действительно — это разные периоды в развитии ребенка. Не касаясь подробно физического перелома, совершающегося около 7 лет (иногда чуть позже) и выражающегося в постепенной перемене пропорций частей тела, в росте, в большей силе, особенно в перемене лица, — сосредоточимся на чисто психической стороне.
Отметим прежде всего, что язык становится в это время настоящим орудием нашей мысли. Когда мы познакомимся в подробностях с развитием языка, мы увидим, что развитие чисто физиологической стороны речи обычно заканчивается, в основных чертах, около 4-х лет, но развитие грамматическое еще не достигает к этому времени такой стадии, при которой дитя может вполне владеть речью в интересах своей мысли. Речь первоначально обслуживает аффективную сферу души; подчинение речи интеллекту, способность речи быть проводником тонких различий, присущих нашей мысли, развивается медленно. Лишь к 5—6 годам развитие речи вступает в стадию, в которой она может служить новым целям, которые возникают в детской душе.
Вместе с развитием речи развитие таких психических сил, как внимание, память, особенно мышление, тоже достигает высоты, при которой они могут легко и без напряжения служить новым целям. Мы еще так мало знаем о развитии отдельных психических функций, с таким трудом можем выразить это развитие в каких-либо точных исчислениях, что в настоящее время было бы затруднительно детализировать приведенное указание. Но вот любопытный факт, впервые точно формулированный Вине в его исследовании интеллектуального развития детей. Он предлагал детям несколько картин, спрашивая у них: «что нарисовано на картине?». Ответы детей позволяют их распределить на три группы, которые образуют естественные ступени в понимании картин. В первой ступени дети просто «перечисляют» предметы, которые они замечают на картине; во второй стадии (которая как раз имеет место у 7-летнего ребенка) дитя уже «описывает», т. е. рисует словами картину, вносит в описание элемент действия, — наконец, в третьей стадии (имеющей место на 15 году жизни) дитя уже «толкует» картину, т. е. стремится раскрыть ее «смысл», ее «идею». Как видим, около 7 лет в восприятии картин — и это, конечно, стоит в связи со всей внутренней работой, происходящей в детской душе — замечается характерный перелом: дитя не только воспринимает предметы, но и замечает внутреннюю связь их, внутреннюю зависимость их. Тут находит своеобразное отражение та новая установка в отношении к внешнему миру, о которой будем говорить дальше.
Вопросы детские, в которых с такой ясностью отражается внутренняя работа, идущая в душе ребенка, принимают в это время новый характер, новый оборот. Вообще говоря, интеллектуальная сторона в ребенке приобретает во втором детстве столь уже заметное место, что может даже казаться, что именно здесь лежит главная причина всех тех отличий, которые отделяют второе детство от первого. Но такое заклю-
64
чение было бы ошибочным. Мы сейчас увидим, что основной перелом происходит в установке, в новом подходе к миру; дитя действительно вступает во втором детстве в фазу «учения» (с известным правом можно бы сказать, что второе детство есть по преимуществу время «учения» — Lehrjahre), — но все это есть явление вторичное.
Понятие «психической установки» выражает те субъективные условия, которые определяют наше отношение к миру — в восприятии и изучении его, в оценке и пробах активности в отношении к нему. Как особенно ясно развил Koffka в своей книге «Zur Analyse der Vorstellungen», психическая установка является фактором подбора. То, что отвечает установке, то не только проходит в сознание, но и освещается ярко в нем; то же, что не отвечает установке/задерживается или попадает в тень. Установка, выражая отношение всего нашего существа, сложна в своем составе — она охватывает и эмоциональную и интеллектуальную сферу и сферу активности. Но, конечно, центральное значение в установке принадлежит именно чувству, которое отличается всегда «монархической тенденцией», по выражению Гроса, т. е. стремится все окрасить собой. Кроме частичных установок существует и общая установка, определяемая основными процессами, в нас происходящими.
Если детство в широком смысле слова отличается некоей общей установкой, которая так заметно отделяет детство от зрелого периода (что хорошо мы чувствуем в себе), — то грани внутри детства, отдельные периоды его отличаются своебразием этой общей установки. Если мы скажем, что детство в широком смысле определяется «установкой на подготовку к самостоятельной жизни» или «установкой на игру», что в свете теории игры Гроса эквивалентно, то различие периодов детства и должно прежде всего выражаться в какой-то модификации этой установки. Если бы нам не удалось свести своеобразие какого-либо периода к модификации основной установки детства, это должно было бы означать, что этот период не должен быть отделяем от соседнего, что, очевидно, те психические и физические отличия, которые казались нам выражающими наступление нового периода, в действительности недостаточно глубоки и значительны.
В раннем детстве дитя обращено к внешнему миру, радостно вглядывается в него, с любопытством его изучает, но этот интерес к внешнему миру не только не ограничивает внутреннего психического простора, не ослабляет игру чувств и работу фантазии, но, наоборот, возбуждает эмоциональную сферу. Поистине, общее «миросозерцание» ребенка в это время может быть охарактеризовано как настоящая мифология: реальное и вымышленное так сплетаются одно с другим, что невозможно определить, где кончается одно и начинается другое. Можно было бы сказать, что детскую душу влечет к себе мир — не каков он есть «сам по себе», а каким он ему кажется. Дитя не погружается в действительность, оно скорее плывет по ее поверхности: мир интересен не сам по себе, а в своем стимулирующем действии, в психическом резонансе, который он вызывает. В этом смысле раннее детство может быть охарактеризовано как фаза эмоциональной свобо-
3 Психология детства
65
ды, свободы развития чувств, а следовательно и воображения. Иными словами мы можем это выразить, если скажем, что первое детство есть фаза наивного субъективизма или наивного эгоцентризма. Дитя всецело погружено в мир своих переживаний, но оно не только этого не замечает, но скорее, казалось бы, обращено своим взором к внешнему миру. Субъективизм, погруженность в свои переживания, натуральный эгоцентризм — все это имеет наивный, непосредственный характер. Именно в это время игры имеют наиболее «ясный» характер, вытекая из стремления к выражению чувств с помощью движений, одушевленных своим смыслом («фабулой»). Игры имеют первоначально именно это субъективное значение, входя в систему «выразительной активности». Но уже рано (к концу первого года) намечается перед детской душой сфера неизменной, независимой от ребенка, «самостоятельной» действительности. Распад мира, находящегося перед ребенком, на эти две сферы, совершается медленно, не сразу дитя разбирается в различии этих двух сфер. Переход от одной сферы к другой совершается незаметно, — а когда накоплением соответственных опытов, размышлений дитя подойдет к более строгому разделению двух сфер (игры и реальной действительности), — тогда-то оно психически и входит во второе детство. Новая установка в отношении к миру тем и определяется, что в сознании ребенка уже с полной ясностью выступает «насамделишный» мир, мир «сам по себе», независимый от фантазии, от творчества ребенка, часто суровый, требующий к себе приспособления. Отсюда рождается интерес к действительности, как она существует сама по себе, выступает позиция того намеренного и планомерного приспособления, которое мы зовем «познанием». Новая установка выводит дитя из прежнего наивного субъективизма — она открывает перед душой ребенка этот необозримый внешний мир — и дитя вступает в свои «годы учения». Оно хочет «знать», хочет проникнуть во все тайны действительности, игра принимает новый характер, нередко становится средством изучения мира, а еще чаще обособляется в особую сферу. Функция игры становится уже не только выразительной, но и построительной, игра нередко приобретает самостоятельное творческое значение. Дети становятся способны к настоящей «театральной» игре; и если основное значение игры, как средства эйек-тивации, сохраняется, то все же вырастает и их самостоятельная ценность. С особой силой притягивают детей построительные игры, в которых они как бы творят новую действительность. Отсюда особый интерес к таким «искусствам», как лепка, ручной труд, рисование. Это все игра, но игра, посредством которой созидается новое бытие, новые вещи. Дети уже интересуются-не только процессом творчества, но и его результатами: здесь своеобразно отражается новая установка, словно чувствуется дыхание объективного мира с его неизменным и устойчивым порядком. Дети начинают нередко коллекционировать; у них неожиданно проявляется страсть к порядку — словно они воспроизводят в сфере игры то, что ныне замечают в действительности. Подражание принимает у детей тоже новый характер. Если хотите, всякий период детства отмечен своим стилем подражания — ибо подража-
66
ние неизменно присуще всему детству. В раннем детстве подражание, играющее, например, такую существенную роль в развитии речи, является несознаваемым и невольным: дитя подражает тому, что воспринимает, может быть для того, чтобы еще раз пережить прежнее чувство, вызванное предметом (как это полагает Болдвин). Во всяком случае, подражание не сознается как таковое, оно не регулируется какой-либо целью. Но второе детство, с его ясным отделением действительного мира от мира желаний и фантазий, придает процессам подражания совершенно другой характер: подражание становится сознательным — и в том смысле, что оно сознается именно как подражание, и в том смысле, что оно регулируется чувством или замыслом, — оно становится нередко даже систематическим.
Второе детство может быть с полным правом названо «героическим периодом». Дитя живет уже не по одним директивам, исходящим изнутри, но его зреющее моральное сознание выдвигает перед ним «идеалы» — не в смысле идеалов-идей, а в смысле идеалов-образов. Сознание ребенка ищет вокруг себя или в сказках, в легендах, в истории — живых образцов, которым оно поклоняется, которым хочет следовать. В это время в детской душе нередко зарождаются «программы» будущей жизни, строятся планы. Все это так еще неустойчиво, так скоро проходит и забывается, но фантазия уходит очень сильно именно в такую игру «в будущее»: дитя нередко переходит от одной мечты к другой, словно и здесь оно через игру овладевает силами социального воображения, развивает способность социального творчества.
Основной предмет внимания ребенка лежит, таким образом уже не в его субъективном мире, а вне его: мир, люди, история, будущее — все это внесубъективно. Основная установка детства — подготовка к самостоятельной деятельности, принимает здесь форму «приспособления», «изучения», «сознательного подражания», «мечтательного» построения будущего. Необычайно любопытно в этом отношении влияние сиротства на внутренний мир ребенка в первом и втором детстве. Если дитя теряет отца в раннем детстве, это оставляет очень слабый след в душе ребенка, между тем если дитя теряет отца во втором детстве, это имеет глубокое влияние на дитя — именно старит дитя. Не следует думать, что это просто связано с ростом сознательности, ибо если дитя сиротеет в период отрочества или юности, — это тоже оставляет глубокий след, но иной: выбивает дитя из колеи, нередко сказывается некоторым понижением в духовной жизни, но никогда не старит. Дитя же, теряющее отца во втором детстве, ощущает свое сиротство в свете всего своего жизненного опыта в это время: внешняя действительность как бы давит на ребенка. Психология приспособления, стремление проникнуть в действительность, как она существует сама по себе, как бы преувеличивают в сознании сироты его беспомощность и заброшенность, ослабляют его творческие силы. Вообще говоря, второе детство отмечено некоторым сосредоточением сил на приспособлении к реальности, на изучении ее, и это значительно стесняет внутреннюю свободу, не дает простора игре фантазии.
Детские игры тоже начинают служить средством изучения действи-
67
тельности — в них уже больше подражания или творчества новых объектов, чем простой фантазии. В то же время дети, с их развитым уже пониманием различия между сферой игры и действительности, нередко переносят сознательно «установку на игру» в свои деловые и серьезные отношения к людям, к миру: так появляется психология «игривости». И в раннем детстве мы найдем в отношении детей к взрослым черты лукавства; детям нравится «шалить», играть там, где не должно играть. Но пока нет трезвого и ясного разделения сферы игры и объективной действительности, эти шалости не только имеют «невинный» характер, но дитя переживает глубокое удивление и моральный шок, если взрослые вдруг слишком серьезно отнесутся к его шалостям. Другими словами, плохо различая между игрой и действительностью, дитя в окружающих людях предполагает полное понимание того, где оно играет, а где «насамделе» делает что-либо. Но во втором детстве, при ясном сознании различия между игрой и действительностью, дитя понимает то, что оно может вводит в заблуждение взрослых, выдавая за реальность игру и — обратно. Здесь впервые вырастают такие «цветы зла», как настоящая ложь, — здесь же из невинного лукавства, шалостей первого детства вырастает двусмысленная «игривость». Она двусмысленна потому, что примыкает к типу тех действий, которые мы только что назвали «невинным лукавством»: игривость есть все же модификация игры. Даже ложь, сознательное введение в обман, носят характер игры. Это не есть серьезная жизненная ставка, не есть способ добиться тех или иных результатов, а все же игра — сознательное, намеренное сплетение вымышленного и реального, но не с целью добиться жизненных выгод, а с целью «пошалить», «посмеяться». Но все же психология игривости двусмысленна потому, что если субъективные мотивы ее «чисты», т. е. не связаны с какой-либо выгодой, каким-либо внешним результатом, а вытекают из чистого желания «пошалить», то все же дитя сознает, что те, с кем оно «шалит», н е замечают, что это игра. В этом весь эффект, вся увлекательность игривости — в этом и вся ее социальная опасность. Позиция «введения других в заблуждение» привлекает сначала, как игра; но ее объективные результаты очень скоро подсказывают детям, что этой позицией можно пользоваться и для жизненных целей. Дитя еще не сознает всего социального резонанса своих маленьких проступков, — и этого никогда не следует забывать при оценке процессов, происходящих в детской душе. Мы, взрослые, понимаем, в какую перспективу глядит дитя, знаем, куда заведет опасная дорога, на которую оно ступило, но дитя этого не знает, не понимает и тем легче становится жертвой своего незнания, тем легче поддается соблазнам, — тем менее понимает наши наставления и видит в них лишь «придирки». Вот отчего надо быть так осторожным с детьми в это время: своими поучениями мы можем лишь оттолкнуть их от себя, ибо дети не узнают себя в этой характеристике, которую мы им дадим — дна покажется им несправедливой. Дети понимают и сами, что идут неправильным путем, но опасные результаты их поведения рисуются перед ними в таких скромных чертах, что они не видят особой беды в своих шалостях. Отсюда та пси-
68
хология «легкомыслия», которую особенно часто не понимаем мы, взрослые, и которая, однако, чрезвычайно характерна и для второго детства, и для отрочества, и для юности.
Второе детство характеризуется своей установкой — своим устремлением к внешнему миру, своим приспособлением к нему. В истории духовного созревания ребенка — после изначального неразличения субъективного и объективного мира в раннем детстве — этот период как бы имеет своей задачей до конца выявить в сознании ребенка самостоятельное, независимое от человека и его творчества бытие, объективную действительность в ее внутренней жизни, в ее закономерности. Если бы применить сюда понятие диалектического развития, то можно было бы охарактеризовать второе детство, как тезис, отрочество, как антитезис, юность, как синтез. Во всяком случае, строгое разделение мира внутреннего и мира внешнего определяет психический мир ребенка во втором детстве. Отсюда проистекает психология приспособления, стремление познать мир, как он существует сам в себе, отсюда же своеобразная психология игривости, основанная на сознательном перенесении установки игры в деятельность иного характера. Мы упоминали и о том, что горький жизненный опыт особенно тяжело ложится в это время — он старит дитя. Еще не вырастают изнутри те могучие и глубокие переживания, которые в отрочестве одним своим развитием увлекают юное существо и до известной степени компенсируют жизненный горький опыт; еще нет подъема и расцвета творческих сил, который знает юность. Во втором детстве горький жизненный опыт не встречает этих внутренних противодействий — отсюда особая чувствительность ребенка в это время к жизненным ударам, внутренняя беззащитность. Психическая депрессия в это время легко может закончиться самоубийством — ибо ребенку нечего противоставить тяжелому жизненному опыту, нечем восстановить в себе психическое равновесие. Это делает дитя чрезвычайно хрупким в это время именно в его эмпирической личности. Мы говорили о хрупкости и в отношении к первому детству, но указывали, что не в эмпирической личности оседают тяжелые переживания, что яд, отравляющий детскую душу и нередко глубоко ее деформирующий, скопляется в глубине души. Во втором же детстве мы имеем дело с чисто эмпирической хрупкостью: сознание ребенка становится уже руководящей силой, но оно еще слишком слабо и хрупко, дитя уже не живет в узком кругу своих переживаний, но еще не владеет силами, чтобы бороться с той горечью, которая вливается извне. В этом смысле для второго детства из высшей степени характерен внутренний дуализм, раздвигающий субъективный и объективный мир в сознании ребенка. Этот дуализм намечается уже в раннем детстве, но он не имеет там глубокого значения, вообще не приобретает морального смысла. Между тем во втором детстве внутренний дуализм осознается в моральных терминах.
Не будем входить в дальнейшую характеристику второго детства, едва намеченную нами в ее основных чертах. Для нас было важно обрисовать существенное отличие раннего детства от второго детства в самой психической установке, в путях душевной работы. Для полноты
69
картины позволим себе совсем уже кратко охарактеризовать отрочество и юность, чтобы закончить этим вопрос о расчленении детства (в широком смысле) на различные периоды.
Отрочество связано с сексуальным созреванием — по крайней мере в его наиболее существенной части. Правда, есть основания говорить о некоторой «предфазе» в сексуальном развитии, как выражается Штерн, установивший, что до периода сексуального созревания есть переходная ступень, сказывающаяся в целом ряде психических деформаций (Штерн называет этот период «Prapubertat»5). Но пока изучение этой переходной ступени настолько еще недостаточно, что мы можем только упомянуть о ней.
В период отрочества развитие девочек и мальчиков идет уже совершенно различным темпом, обнаруживает целый ряд особенностей у каждого пола. Конечно, даже в раннем детстве уже может быть отмечено влияние пола на развитие различных психических функций — мы будем еще иметь случай подробнее говорить об этом. Но отрочество, определяемое как раз развитием сексуальной сферы, окончательно формирует половые различия. Девочки вступают в этот период раньше, около 12 лет (некоторые авторы считают даже возможным говорить о вступлении девочек в период отрочества в 13—14 лет, но это неверно и покоится на смешении физических и психических моментов). Мальчики вступают на год—два позже девочек. Нельзя тут же не отметить влияния социальных условий на наступление периода полового созревания — и, конечно, совершенно бесспорно, что сравнительно раннее в городах половое созревание связано с психическим влиянием города на детскую душу. У мальчиков выступает в это время ряд так называемых вторичных половых признаков — появление «пушка» на губах, изменение голоса и т. д. У девочек период отрочества длится около 4 лет — к 16 годам заканчивается процесс полового созрения, происходит постепенно изменение психической установки, характерной для отрочества. У мальчиков отрочество, начинается позднее, позднее и заканчивается (около 17—18 лет).
При характеристике периода отрочества обычно обращают внимание на чисто физиологические процессы в растущем организме, совершенно забывая о чрезвычайно важных изменениях именно в психике юных существ. Помимо того, что к этому времени относится необыкновенно важное для личности развитие сексуальной психики, общее изменение душевной жизни имеет настолько существенный характер, что Руссо назвал когда-то вступление в отрочество «вторым рождением». Для нас, при беглой характеристике отрочества, особенно существенно обратить внимание на ту новую психическую установку, которая определяет характер внутренней работы в подростке, придает особую печать личности его.
После второго детства с его преимущественным вниманием к внешнему миру, с его напряженным стремлением к познанию мира, отрочество дает резкий поворот внимания подростка к внутреннему
--
5 См. первую главу в книге Mendousse — L'ame de l'adolescent. 2-ое изд. (1911), где дана удачная сводка «des signes precursseurs de la puberte».
70
миру. Впервые в зреющей душе появляется настоящий интерес к своей собственной личности, подросток чрезвычайно занят самим собой, своими замыслами, своей внешностью, своими переживаниями, погружается в свои мечты. Именно к этому времени наблюдается чрезвычайное развитие фантастики, сознательного ухода из реальности. Отрок идет еще дальше, чем это наблюдается во втором детстве, в противоположении внутреннего и внешнего мира, — но в новом периоде его внимание всецело обращено к внутреннему миру. Крайний и ясно сознаваемый субъективизм кладет печать на всю активность подростка, которая нередко бывает отмечена некоторым вкусом к авантюре. Несбыточность мечтаний, нереальность планов, неблагоразумие избираемого пути вовсе не смущают подростка, а часто даже психически поднимают в нем вкус к движению в данном направлении. Подросток как бы обретает в самом себе, в своих порывах и устремлениях, единственное руководящее начало, всякие авторитеты теряют в это время свое влияние, подросток начинает верить только самому себе, своему личному опыту. Моральное развитие обыкновенно принимает характер критического отношения ко всему тому, что доныне освещало путь жизни, ко всей моральной традиции, к нравам и обычаям; подросток от гетерономной моральной психологии переходить к стадии морального аномизма и чистого субъективизма. В отношении к окружающим начинает часто сказываться какое-то нарочитое неуважение, запальчивая небрежность, заносчивость, нередко переходящая в форму навязчивого желания поучать других людей. Подросток преисполнен особой веры в то, что ему удастся то, что не удавалось другим.
Игра не выпадает из активности подростка, но принимает уже новый оборот. Игры в техническом смысле слова мало уже привлекают юное существо, быть может, в силу ясного сознания отличия сферы игры и сферы реальности, — но тем сильнее развивается игра в более скрытой и утонченной форме. Не следует забывать, что в это время просыпается сексуальное сознание, вносящее в душу такую неровность, беспокойство, внутреннее возбуждение. Душевный мир подростка, с его крайним субъективизмом, с его погруженностью в самого себя, требует преимущественно своего осознания — и игры, в новой утонченной и скрытой форме, служат средством этого осознания. Не чужая душа, не далекий социальный мир осознается ныне в играх, но дитя ищет в играх этого времени способа понять самого себя в свете сложившихся форм жизни. Подростки очень часто зачитываются романами, ища в их героях разгадки своих переживаний; они живут в мире мечты, уходя нередко всецело в нее. В это время затеваются опасные «авантюры» подростков, убегающих «по Майн Риду», «по Куперу» в неизведанные края. Это подлинная и притом опасная игра. Дети понимают, что это «не настоящее», но упорно хотят добиться своего. Вся их житейская мудрость, весь опыт поступает в услужение этим замыслам, разным приключениям, которые притягивают их к себе. Городская и деревенская жизнь открывают здесь разные перспективы, но психологическое родство приключений и авантюр в обоих случаях вне всяких
71
сомнений. В одной своей недавней статье6 В. Штерн заметил, что ложь подростков становится в это время «защитным средством», прикрываясь которым подросток может свободнее и лучше развивать свою личность. Эта удачная характеристика относится не к одной лжи, но и к целому ряду форм активности, и все это — игра, все это направлено на сознательное неразличение воображаемого и реального. Особенно сложна психология лукавства в это время — так много дающая случаев для перехода той грани, за которой начинается сфера «преступного». Я говорил уже выше об игривости во втором детстве — о переносе психологии игры туда, куда по сознанию ребенка не следует ее переносить. Игривость ребенка носит сравнительно невинный характер, хотя в некоторых случаях она обращается в очень неприятные «шалости» и «пакости». Но в отрочестве психология игры, неразличение реального и воображаемого соединяется с настоящим лукавством, сознательной хитростью и ложью — и в то же время это именно «защитная» игра. Ведь дать простор бурным, неровным, постоянно меняющимся чувствам подросток не смеет в отношении к тому реальному миру, который его окружает — этим психолргически заполнена юность, стоящая именно перед этой задачей. Работа фантазии ведет к фантастике, к созданию заведомо ирреального чуждого действительности мира, — но эта работа фантазии вырастает ведь из совершенно реальных и неустранимых чувств, уходящих своими корнями очень глубоко. В этих чувствах выступают новые силы, новые мотивы творчества, новые задачи и, прежде чем в зрелом человеке они станут реальным двигателем его жизни, они ищут своего предварительного выражения — находя его в «игре» — в авантюрах мелкого или крупного характера, в пробах под «защитной» формой лжи, лукавства или ухода в фантастику. Форма игры во всю жизнь нашу является почти неизбежной стадией в развитии чувств, но в период отрочества она особенно влечет к себе. Реальность сама по себе вовсе и не нужна подростку — она для него лишь материал, лишь средство для выражения его чувств, а в то же время полет фантазии чрезвычайно стеснен социально-психическими границами, в которые заключена отдельная личность и которые уже достаточно стали ясны подростку за предыдущие годы его жизни. Подросток незаметно для себя овладевает в это время как раз всеми теми путями социальной жизни, которые дают простор личной инициативе, фантазии. Позиции лукавства и лжи, «защитные» сточки зрения прикрытия внутренних движений в душе подростка, становятся доступны и понятны — и это необходимая стадия в социальном ориентировании. Как преступление Раскольникова было своеобразной и страшной «игрой», попыткой «экспериментально» решить проблему аморализма7, так мелкие проступки, приключения, настоящие авантюры, иные проявления пылкой и фантастической юной ^уши — все это (подчас очень опасная) игра. Несчастье, если вся эта игра с «подпольем» закрепится в силу тех или иных внешних условий — тогда душа искалечится навсег-
--
6 Zeitschrift fur padagogische Psychologie. 1922.
7 «Мне нужно было тогда узнать, — говорит Раскольников, — вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я преступить или нет?… Тварь ли я дрожащая или право имею…».
72
да, но если пройдут эти годы «бури и натиска», подросток вынесет полное понимание социальной действительности во всех ее силах и двигателях, в ее основных и побочных путях. Отрочество — это детство, ибо не готово еще юное существо к зрелой жизни, к самостоятельной и ответственной социальной активности, но это особый период детства, когда подросток осознает все свои внутренние движения, внутренно как бы выпрямляется во весь свой рост. Как в половодье широко разливается река и становится мутной, неся на своей поверхности бесконечно много разных вещей, обломков, — так отрочество, это подлинное психическое половодье, делает душу замутненной и выносит наружу все, что накопилось и оформилось в «подполье»…
Но проходят годы, сложные физиологические и психические процессы заканчиваются, наступает «юности светлой счастливое время». Неустойчивая, неспокойная пора отрочества переходит в пору внутреннего равновесия и полного расцвета всех сил. Время юности необыкновенно прекрасно не той невинной грацией, которая так чарует в ребенке в раннем детстве и которая неповторима, — но той новой грацией, источник которой лежит во внутренней свободе, в расцвете всех сил, в чисто художественном подходе к миру. Основная установка в юности действительно носит эстетический характер. Юноша, девушка достаточно уже сильны интеллектуально, но они еще не вступили в трезвую и будничную пору своей жизни: стоя на пороге ее, в полноте понимания действительности, но и в полноте расцвета внутренних сил души, еще не смятых, еще рвущихся вперед, — юноши, девушки подходят к действительности, как художники, как творцы. Они не рабы ее, не властители, они не ищут в ней пользы, но на пороге своей зрелости противо-ставляют действительности всю силу своих творческих порывов, всю энергию своих замыслов. То «послушание», стремление познать реальность, проникнуть в ее тайны, которые так глубоко определяют психическое своеобразие второго детства, образует, по приведенной выше формуле «диалектического» развития детства тезис; бурное, напряженное и безудержное выявление новых чувств, просыпающихся с наступлением полового созревания, чистый, уже сознаваемый субъективизм, равнодушие к объективной реальности и расцвет фантастики — все это характеризует антитезис — отрочество. А юность это уже синтез — здесь уже найдена навсегда почва для правильного соотношения внутреннего и внешнего мира, свободы внутри и необходимости в реальности, найдена, наконец, та психическая установка, которая предваряет зрелый период, ставит ему задачи. По известному афоризму, мы в зрелом возрасте осуществляем то, что в настоящую весну нашей жизни — во время юности — вставало перед нами, как задача, как путь творчества. Юность гениальна потому, что такова ее психическая установка, и потому самая убогая и тусклая юность все же прекрасна. Весь внешний мир дорог и нужен, но как материал творчества, цели и замыслы которого определяются внутренней работой духа: здесь нет ни одностороннего погружения в объективный мир, ни пренебрежения к нему, нет ни рабского, ни фантастического отношения к нему. Мир влечет к себе юность, но она всегда благоухает духовной свободой: мечты становятся
73
идеалами, высшими задачами активности — юность никогда не продает своего духовного первородства. Эстетический и этический идеализм, подлинное бескорыстие во всех увлечениях — необыкновенно красят юность, словно всегда обращена она к Бесконечному, обвеяна Его дыханием. Живя в мире идеалистических стремлений и эстетических замыслов, юность не боится реальности, не игнорирует ее, — наоборот, именно ее-то и стремится переделать, преобразить. Юность нерасчетлива — на то она и входит в систему детства — и в этом лежит источник ее разочарований, ее исканий; юность нередко становится жертвой своей доверчивости и благородства, своего идеализма. Но вся психология юности определяется тем, что это есть заключительный аккорд детства, синтетическая его фаза. Прежде чем вступить в пору зрелости, на арену самостоятельной борьбы за существование, самостоятельной работы, переживаем мы юность, в течение которой мы, уже познав действительность, зная уже себя, овладев уже основным материалом социальной традиции, как бы на «главной репетиции» подводим итоги подготовительной работе. Психическая установка юности не только не свободна от игры, но как бы по преимуществу определяется игрой, которая не является уже ни средством эйективации, ни защитным прикрытием в выявлении и осознании внутренних движений, но выступает как позиция творчества. Ведь во всяком творчестве преодолевается преграда между действительным и желанным, реальным и идеальным: позиция игры осознается в юности как путь преображения мира. Искусство является лишь одной из форм творческой работы; юность стоит перед более широкой дорогой эстетического и этического творчества.
То, что замышляет юность, осуществляем мы в зрелом возрасте. Нам приходится погрузиться в самую «гущу жизни», приходится переживать много разочарований и растерять много сил, — и юность с ее энтузиазмом и верой в свои силы, с ее верой в добро, исканием прекрасного, пламенным, порой даже жертвенным служением идеалу, с ее духовным бескорыстием, чистотой и какой-то свежестью рисуется нам в зрелом возрасте, как самая лучшая пора жизни. Да, это верно, но в сущности и все детство, в различные периоды, полно неотразимого обаяния и красоты.
Если вернуться теперь, после обзора основных периодов детства, к общей его характеристике, то мы можем сказать еще раз, что не даром детство так продолжительно: оно заполнено сложным процессом развития физических и психических сил, усвоением основного минимума социальной традиции, изучением мира и выявлением всей таинственной глубины, всей полноты субъективной жизни и, наконец, координацией открывшихся путей действования под углом творчества. Все это переживает юное существо, не погружаясь до конца в реальность, не входя в нее целиком: основной формой активности являются игры с их неразличимым сплетением реального и воображаемого. Вместе с постепенным изменением психической установки, модификации которой отвечают различным периодам детства, меняется и роль игры в
74
психической жизни. Всюду имея центральное значение, игры, однако, не остаются одинаковыми в разные периоды детства: в этом смысле детальное изучение психологии игры (понимаемой в широком смысле слова) в разные периоды жизни пролило бы новый свет на внутренний мир детей, подростков, юношей и девушек. В сложном, многообразном процессе развития формируется личность, — и если в начале развития она представляется, по известному выражению Гербарта, «хамелеоном», в смысле ее внутренней неопределенности, то к концу детства личность уже совершенно определяется.
На этом мы заканчиваем обзор общих вопросов детства и можем перейти к более детальному изучению грудного периода и раннего детства, на чем мы и закончим нашу книгу-
ГЛАВА V.
Первый год жизни ребенка. Физическое развитие ребенка, ритм в этом развитии. Первые восприятия. Развитие зрения, слуха. Память, первые ассоциации; внимание в первом году жизни. Эмоциональные переживания ребенка. Вопрос об эволюции чувств. Моральная природа ребенка. Вопрос о психической наследственности.
Любопытно, что из всех существ человек рождается наиболее слабым, оставаясь долгое время совершенно беспомощным. Целый год нужен, например, ребенку, чтобы научиться владеть своим телом и его органами. Мы знаем, что главная причина этого лежит в сложности социально-психического созревания; медленность этого процесса естественно ведет к замедлению темпа развития и в других отношениях. Можно сказать, что существует очень высокая корреляция между физическим, психическим и социальным развитием ребенка; если при настоящем состоянии педологии мы не можем представить с полной ясностью картину взаимного влияния различных процессов в развитии ребенка, самый факт корреляции не подлежит никакому сомнению.
Обратимся прежде всего к изучению физического развития ребенка в течение первого года.
Новорожденное дитя имеет в среднем вес около 3 кг. Вот вариации веса новорожденного ребенка:
| Вес |
|
Число случаев |
В % |
| (в кг) |
|
|
|
| 1-1,5 |
|
2 |
0,33 |
| 1,5-2 |
|
8 |
1,34 |
| 2-2,5 |
|
54 |
9,01 |
| 2,5-3 |
|
180 |
30,05 |
| 3-3,5 |
|
251 |
41,90 |
| 3,5-4 |
|
88 |
14,69 |
| 4-4,5 |
|
15 |
2,51 |
| 4,5-5 |
|
1 |
0,17 |
Отметим тут же, что возраст матери имеет некоторое влияние на вес новорожденного ребенка. Вот некоторые данные по этому вопросу:
76
Возраст матери Средний вес (в г)
| 15-19 |
3241 |
| 20-24 |
3299 |
| 25-29 |
3342 |
| 30-34 |
3375 |
| 35-39 |
3428 |
| 40-44 |
3326 |
Первые дни вес ребенка немного падает, но, начиная с третьего — пятого дня, он быстро начинает возрастать. На диаграмме 1 можно хорошо видеть изменение веса ребенка в течение первого года: за это время вес увеличивается в три с половиной раза.
Диагр. 1,
Что касается длины тела, то новорожденное дитя имеет среднюю длину 50—51 см; мальчики обыкновенно на один сантиметр длиннее девочек. Вот некоторые данные об изменении длины тела от 2 до 7 лет:
| Годы |
Длина (в см) мальчиков |
Длине |
i (в см) девочек |
| 2 |
74,2 |
|
77,2 |
| 3 |
85,3 |
|
83,5 |
| 4 |
91,9 |
|
90,0 |
| 5 |
96,6 |
|
96,1 |
| 6 |
103,2 |
|
100,6 |
| 7 |
106,5 |
|
104,9 |
77
Очень интересно изменение пропорции в отношении членов тела. На рис. 1 (по Штрацу) очень хорошо можно видеть изменение отношения головы ко всему телу.
У новорожденного голова занимает четвертую часть всей длины тела, а у взрослого она занимает всего восьмую часть. Любопытно также изменение пропорции между длиной ног и длиной всего тела (рис. 2).
У новорожденного ноги занимают треть всей длины тела, у взрослого — почти половину. Еще любопытно отношение всего черепа по лицевой поверхности. Оно меняется следующим образом:
У новорожденного это отношение 18: 1» ребенка 5 лет 15: 1
» »10 13: 1
» взрослого 2,5: 1
Не приводя всех фактов, связанных с этим очень важным развитием лицевой поверхности, укажу лишь на то, что отношения между различными частями лица тоже меняются — например, отношение верхней и нижней челюсти. Глазница новорожденного занимает почти половину, тогда как у взрослого она занимает лишь третью часть высоты лица.
Очень существенные изменения можно констатировать в развитии грудной клетки — поперечный диаметр развивается значительно быстрее передне-заднего. Сердце занимает в утробный период почти всю грудную полость и еще при рождении оно сравнительно велико: сердце новорожденного составляет 0,89% всего веса тела, а у взрослого человека — всего 0,52%. Размеры отдельных частей сердца тоже меняются в процессе физического развития — вообще развитие сердца идет «неправильно» в смысле неравномерности его развития в отношении к другим органам тела. Сильно меняются размеры печени: относительная величина печени, начиная с утробного периода, в детстве — до полного физического созревания — уменьшается. Нет никакой связи между развитием сердца и артериальной системы: если до периода полового развития абсолютная величина сердца увеличивается в двенадцать раз, то сосудистая система расширяется всего лишь в три раза.
Что касается мозга, то у новорожденного он имеет вес приблизительно 360 г (отношение веса мозга к весу всего тела приблизительно 1:8); в течение уже первых 8 месяцев вес мозга удваивается, к концу третьего года он утраивается. У взрослого отношение веса мозга к весу
78
всего тела— 1: 30 (35)1. Внутреннее развитие мозга идет тоже постепенно: так, при рождении как центральная, так и периферическая нервная система почти совсем лишена миэлина — очень важного элемента нервных волокон. Те части мозга, которые раньше начинают функционировать, раньше снабжаются миэлиновым веществом.
Рис. 2.
Не входя в дальнейшие подробности относительно анатомических изменений в детском организме в процессе развития, приведу лишь любопытную таблицу известного физиолога Фирордта, которая показывает процентное отношение веса различных частей тела и органов у новорожденных и у взрослого:
1 Вот сравнительная таблица отношения веса мозга в отношении веса тела (так называемый «относительный вес мозга»):
у рыб 1: 5568,
у амфибий 1: 1331,
у птиц 1: 312,
у млекопитающих 1: 180,
у человека 1: 35. Есть, однако, животные (маленькие птички, маленькие обезьяны и др.), у которых относительный вес мозга больше, чем у человека, но зато у них очень мал абсолютный вес мозга. Лишь у человека соединяется столь большой абсолютный и столь большой относительный вес мозга.
79
| |
Новорожденный |
Взрослый |
| |
% |
% |
| Скелет |
16,7 |
15,35 |
| Мышцы |
23,4 |
43,09 |
| Кожа |
11,3 |
6,30 |
| |
Новорожденный |
Взрослый |
| |
% |
% |
| Мозг |
14,34 |
2,37 |
| Спинной хребет |
0,20 |
0,067 |
| Глаза |
0,28 |
0,023 |
| Легкие |
2,16 |
2,01 |
| Сердце |
0,89 |
0,52 |
| Печень |
4,39 |
2,77 |
| Желудок и внутренности |
2,53 |
2,34 |
| |
|
|
|
Новорожденный Взрослый
% %
Мозг 14,34 2,37
Спинной хребет 0,20 0,067
Глаза 0,28 0,023
Легкие 2,16 2,01
Сердце 0,89 0,52
Печень 4,39 2,77
Желудок и внутренности 2,53 2,34
Что касается особенностей в физиологических процессах у ребенка, то они связаны с указанными уже анатомическими особенностями. Отношение поверхности тела к массе тела у новорожденного, например, в три раза больше, чем у взрослого; в грудном периоде оно все еще больше — именно в два раза. Ясно отсюда, что дитя нуждается в большем развитии «животной теплоты», поэтому пища ребенка должна быть более богата калориями. Дыхание ребенка, в соответствии с величиной легких, является учащенным (около 40 в минуту), пульс, по тем же причинам, тоже учащенный (до 140 ударов в минуту); и то и другое вдвое больше, чем у взрослого. Что касается нервной системы, то возбудимость двигательных нервов у новорожденного очень мала, — то же относится и к мускулам. Утомляемость мускулов у новорожденного очень велика — чем объясняют медленность всех движений у новорожденного. Здесь же, в быстрой утомляемости, лежит причина частого сна ребенка в первые месяцы жизни (здоровое новорожденное дитя спит в сутки двадцать часов). Несомненно, в частом сне ребенка имеет свое значение и слабость возбуждающих впечатлений, столь большая в первые месяцы, при незаконченном развитии чувственных восприятий2.
В высшей степени важное явление в физическом развитии ребенка представляет ритм этого развития. Прежде всего отметим, что рост ребенка предшествует увеличению его веса. Многочисленные наблюдения показали, что главные периоды роста падают на весну и первые летние месяцы, а увеличение веса — на конец лета и осень: в течение же зимы физическое развитие имеет минимальный характер. Явление ритма в развитии ребенка не ограничивается, однако, лишь физической стороной, но наблюдается и в психическом и социально-психическом созревании, что уже было отмечено отчасти. Возвращаясь к физическому развитию, еще раз отметим, что оно не происходит равномерно, но имеет некоторые периодические колебания (это так называемые «нормальные колебания в развитии ребенка»). Как годы особенно усиленного физического развития, выделяются период от 5 до 7 лет, стоящий на грани между первым и вторым детством, а также период от 11 до 15 лет, когда имеет место половое созревание. Тут же необходимо отметить, что физическое развитие мальчиков и девочек идет разным ритмом, как это хорошо известно при беглом даже наблюдении.
Обратимся к основной нашей теме — к вопросу о развитии психической жизни ребенка в течение первого года.
--
2 Ср. В u h 1 е г — Die geistige Entwickelung. 2-е изд. S. 71. 80
Дитя вступает в жизнь почти слепое и глухое, но все же с чувствительностью, наилучшим показателем которой является знаменитый первый крик ребенка. Говорим «знаменитый», ибо чего только не говорили по поводу этого первого крика! Гегель толковал первый крик ребенка, как выражение его высшей природы, его власти над внешним миром. В другом толковании первый крик выражает протест против того, что дитя призвано к жизни, с ее страданиями и горестями. По Канту в первом крике выражается сознание стесненности свободы, невозможности двигаться… Все эти «метафизические» толкования не имеют за собой никакого основания — между тем в первом крике, имеющем чисторефлекторный характер, не следует видеть ничего иного, кроме реакции на переход от теплой атмосферы, окружавшей дитя в утробе матери, к сравнительному холоду, охватывающему дитя при его рождении. Именно эта реакция в форме крика и свидетельствует о наличности в самый момент рождения осязательных ощущений, так как термические ощущения входят в эту именно группу. Известно также, как с первых же дней жизни дети любят купание, доставляющее им приятные термические ощущения.
Легко убедиться в том, что, кроме кожной чувствительности, дитя при рождении обладает и вкусовой чувствительностью: если ввести в ротик ребенка раствор хинина, то на лице ребенка появится совершенно определенное выражение «неприятного» ощущения — наоборот, раствор сахара не только не вызывает такого неприятного переживания, но даже вызывает чувство удовольствия. Это значит, что дитя может с помощью вкусовых ощущений непосредственно различать между горьким и сладким, а вместе с тем приведенные факты говорят совершенно ясно и о наличности эмоциональной окраски в первых ощущениях, о наличности эмоциональных переживаний. О наличности обонятельных ощущений в первые же дни жизни можно судить по тому, что дитя узнает грудь матери, издающую очень тонкий запах. Другими данными, кроме обонятельных ощущений, дитя, конечно, не могло бы руководствоваться в этом случае. Если поднести к носу новорожденного сильно пахнущее вещество, оно обнаруживает беспокойство, как бы старается отвернуться от неприятных ощущений. Если к материнской груди приложить сильно пахнущие вещества, то дитя не примет груди. С некоторым правом можно было бы вслед за Сикор-ским говорить о вкусовом и обонятельном познавании у новорожденного: если к этому прибавить указанную выше термическую чувствительность, то этим собственно и ограничивается доступный новорожденному мир. А высшие восприятия — зрительные и слуховые? Мы сейчас перейдем к изучению их развития, а пока отметим одно давнее наблюдение, которое подтверждается целым рядом общеизвестных фактов, что чувствительность ребенка к свету и звукам вначале очень мала, тогда как, например, к сильным запахам она велика: дитя спокойно спит, если в комнате светло, если громко разговаривают, даже играют на рояле, но сильные запахи делают его сон беспокойным и даже могут его разбудить.
Перейдем к развитию зрения у ребенка. Кроме классических
81
наблюдений Прейера в этом направлении, мы обладаем сверх того очень значительным материалом по вопросу о развитии зрения3. И все же этот процесс изучен не с той полнотой, какой он заслуживает.
Мы сказали выше, что дитя вступает в жизнь «почти слепым». Точных и совершенно достаточных данных по этому вопросу мы не имеем; известно лишь, что реакция на свет может быть наблюдаема в первые же дни, иногда даже в первые часы. Во всяком случае, по удачному выражению одного психолога, дитя «психически слепо»: если глаз и усваивает различия света и мрака, то это различие, конечно, слишком неопределенно и неустойчиво. Дело в том, что движения глаза, его реакция на свет являются сначала, по-видимому, чисто рефлекторным актом, дитя не управляет движениями своих глаз, вследствие чего оба глаза работают вначале независимо один от другого. Это — так называемое «нормальное косоглазие»4, благодаря которому зрительный материал в каждом глазу совершенно иной, что и затрудняет психическое усвоение его. Случайно дитя переживает и такие моменты, когда оба глаза устремлены на одну точку, — и такие случаи вызывают первые пробы активности в управлении движениями глаза, — дитя стремится задержать свои глаза на предмете. «Видит» ли дитя в это время или главный результат «зрения» заключается в удержании положения обоих глаз на одном предмете — это трудно решить. Самая неподвижность взора (почему вслед за Прейером, можно было бы назвать эту первую стадию в развитии зрения, — слегка модифицируя терминологию Прейера, — стадией «неподвижного взора») говорит скорее за то, что дитя не на предмет «смотрит», а занято внутренней работой, именно стремлением подчинить себе мускулы глаза и координировать работу обоих глаз. То, что мы находим у ребенка до стадии «неподвижного взора», хорошо характеризует г-жа Шинн, говоря о «бесцельно блуждающем взоре». Весьма возможно, что уже в эту стадию «бесцельного блуждания» имеется нечто более сложное, чем простые рефлекторные акты (как это обыкновенно думают), но мы не можем в настоящее время с определенностью судить об этом5.
Стадия «неподвижного взора» вводить дитя в важнейшую для всего психического созревания область — в управление движениями глаза. Зрительный материал имеет исключительное значение в нашей психической жизни6, ибо через него мы овладеваем пространством; глаз становится незаменимым руководителем всей нашей активности. Вот отчего такое огромное значение для психического развития имеет та фаза, когда дитя научается владеть движениями глаза. Когда хотя бы минимальный результат достигнут, тогда начинается вторая фаза в
--
3 Особенной ценностью отличаются наблюдения г-жи Шинн.
4 Есть, впрочем, наблюдения, что не у всех детей имеет место это «нормальное косоглазие». Этот вопрос требует более детального изучения.
5 См. ценные замечания Бюлера (Die geistige Entwickelung. 2-е изд. S. 100) об «импульсивной стадии в развитии аккомодации».
6 Сикорский держится мнения, что слух имеет большее значение, чем зрение, в психическом развитии ребенка, и ссылается на то, что глухие дети «тупее» слепых. Но здесь выступает значение языка, а не материала восприятий, в психическом развитии.
82
развитии зрения, которая может быть охарактеризована, как стадия «подвижного взора». Конечно, дитя не вступает в эту стадию в какой-то один момент времени— переход здесь осуществляется постепенно. Дитя научается следить глазом за предметом — вот отчего некоторые наблюдатели характеризуют эту стадию как стадию «рефлекторной установки глаза». Это едва ли удачно, так как рефлекс не предполагает никакого «управления» движением, между тем здесь мы имеем дело с настоящим управлением глазом. В третьей стадии, которую мы назовем стадией «смотрения», дитя становится способно к активному разыскиванию предмета — например, когда дитя слышит какой-либо звук, оно ищет глазами в поле своего зрения звучащий предмет. Прейер относит этот момент к концу третьего месяца, а по Меджору он имеет место уже к концу второго месяца. Конечно, это предполагает уже некоторое знакомство с пространством, с локализацией в пространстве предметов, так как без этого разыскание предмета было бы невозможно. Но развитие «искусства зрения», по удачному выражению Сикорского, требует еще надлежащего развития умения глядеть на близкие и далекие предметы, т. е. умения управлять теми движениями глазных мускулов, которые связаны с так называемыми конвергенцией и аккомодацией глаза. К 6—8 месяцам это умение (стадия «видения») можно считать сформировавшимся. Хотя подробности этого внутреннего процесса остаются неизвестны, но мы неизбежно приходим к выводу, что развитие конвергенции и аккомодации покоится на некоторой врожденной системе связей отдельных функций, опыт дает лишь развитие их, дает в руки ребенка умение владеть необходимыми движениями.
Таким образом, уже во второй половине первого года жизни дитя научается владеть важнейшим органом чувств — зрением. Параллельно с развитием «искусства зрения» идет развитие умения разбираться в различиях, которые имеют место в зрительно усваиваем материале — развивается восприятие форм и цветов, ориентирование в пространстве. Мы обратимся позже к анализу этих важных процессов.
Что касается развития слуха, то дитя начинает «слышать», по-видимому, лишь на второй или третьей неделе жизни. На сильные шумы (которые вообще долго вызывают большую реакцию, чем звуки) дитя начинает реагировать дрожанием тела, движением головы; при каком-либо шуме дитя нередко закрывает глаза. К концу второго, а чаще в течение третьего месяца дитя поворачивает головку на звук, обращаясь в ту сторону, откуда ему слышится звук. Надо, однако, тут же отметить, что развитие слуха обнаруживает ряд индивидуальных отклонений в смысле темпа развития: до шести месяцев без специального обследования врача было бы трудно сказать, является ли дитя глухим. Что касается развития «искусства слуха», т. е. умения различать те или иные стороны в звуках — и прежде всего столь важный в социальных отношениях тембр голоса, — то во второй половине первого года обыкновенно это развито уже в достаточной для ребенка степени. Дитя легко узнает голос своей матери, няни, других лиц, его окружающих. Однако, даже у детей 3—4 лет тонкость слуха развита еще слабо, что ска-
83
зывается на сравнительно слабом развитии слуховой памяти (см. некоторые данные об этом в главе об измерении интеллектуального уровня у детей).
Скажем еще несколько слов о развитии так называемого «активного осязания», вначале развивающегося, как это указывает г-жа Шинн, самостоятельно, а затем под контролем зрения. Наиболее развита осязательная чувствительность губ у ребенка, что понятно в связи с тем, что дитя сосет грудь матери. Губы долго являются главным органом осязательного познавания, так что психологи не без оснований говорят о «пространстве губ»: дети очень долго стремятся отправить в рот всякую попавшую в руки вещь, точно они только тогда по настоящему знакомятся с ней'. Эта привычка настолько укореняется, что от нее обычно приходится потом отучать детей. Уже к концу третьего месяца губы служат в качестве органа осязательного восприятия, к этому же времени начинает развиваться хватание вещей рукой (по Прейеру это имеет место в конце четвертого месяца).
Так называемые внутренние ощущения и особенно мускульные ощущения несомненно очень рано накопляются в душе ребенка. Стоит оставить дитя свободным от пеленок, как оно начинает производить разнообразные движения ручками и ножками.
Можно сказать, что между 6—9 месяцами дитя в известной степени уже овладевает различными способами изучения мира, научается владеть понемногу своим телом. Оно еще не ходит, но навыки активности уже сформировались; перед ребенком все шире, все заманчивее разворачивается бесконечный мир звуков, красок, все яснее выступает дорога активного изучения этого мира. Конечно, все, что приносят ребенку его восприятия, хаотично, так как связь между восприятиями еще очень слаба, но постепенно формируются в сознании первые ассоциации. Особенное значение имеет здесь сближение материала, связанного с различными органами чувств, с первыми движениями. Зрительные восприятия приобретают свое центральное и руководящее значение в деле регуляции активного осязания и слушания, первых проб ориентировки в окружающем мире. Однако, было бы ошибкой понимать этот процесс так, что отдельные восприятия и движения являются до этого совершенно изолированными друг от друга: если бы это было так, пришлось бы вслед за Аристотелем говорить о каком-либо sensorium commune, в котором возможно сближение материала, до того времени разъединенного. Собственно говоря, в учении Флексига об «ассоциативных центрах», развитие которых в мозгу Флексиг относил к 3—4 месяцу жизни, мы и в самом деле видим перевод на язык анатомии понятия, созданного Аристотелем. Надо только признать, что все же понятие, выдвинутое Аристотелем, более пригодно для целей психологии, чем учение об «ассоциативных центрах».
Возникновение первых ассоциаций в сознании надо представлять себе так, что исходной точкой в этом процессе является изначаль-
--
7 В. Hall говорит в одном месте, что «первым центром духовной жизни ребенка является рот». Это уже, конечно, преувеличение.
84
ная связность восприятии; мы охарактеризовали выше эту изначальную связность как «хаотическую», ибо дитя еще не разбирается в этом потоке, льющемся через органы восприятия8. Если бы дитя оставалось пассивным, то оно так бы и не вышло из этого хаоса; чтобы разобраться в нем, дитя должно выделить отдельные элементы из него. Лишь после этого можно говорить об ассоциации в сознании между отделившимися элементами. По справедливому замечанию Штерна, которое имеет силу не для одной лишь психологии детства, «диссоциация предшествует ассоциаци и»9. Таким образом, мы приходим к выводу, что различные ассоциации, которые формируются в сознании ребенка, предполагают активность его. Следуя в характеристике этого чрезвычайно существенного процесса В. Штерну, мы должны вместе с ним сказать, что к простой наличности восприятий должна присоединиться собственная активность ребенка, благодаря которой дитя выделяет из потока материала отдельные восприятия. Здесь надо иметь в виду прежде всего движения ребенка, которые являются средством выделения отдельных восприятий, — а затем все больше значения выпадает на долю внимания. Конечно, в это время едва ли возможно говорить о волевом внимании, так как сама воля еще не сформировалась. Регуляция всей нашей активности, в том числе и внимания, может быть и не волевой — она может быть связана с эмоциональной сферой10. Конечно, в первые месяцы жизни ребенка речь может идти лишь об эмоциональной регуляции внимания. Таким образом, движения ребенка и работа внимания являются необходимыми для расчленения потока, льющегося в душу через органы восприятий, а затем и для той взаимной координации восприятий^ которая вырастает на этой основе.
Один психолог наблюдает у своего ребенка 11 месяцев в течение четверти часа восемь разных чувств. Эта подвижность детской эмоциональной жизни обусловливает собой подвижность и детского внимания, его легкую отклоняемость. Именно потому особая роль и выпадает на движения ребенка, которые по возможности им повторяются, так как создаются моторные установки, ведущие к повторению движений; затем несомненно у детей с особой силой выступает в их движениях отмеченная Болдвиным тенденция к самоподражанию. Устойчивость движений, повторение их, возникновение моторных установок борются с подвижностью эмоциональной сферы, подготавливая таким образом иную форму внимания, которая в свое время определится как волевая форма внимания.
Что касается работы памяти в течение первого года, то, конечно, она идет, так сказать, полным ходом. Если иметь в виду то, что выше было
--
8 Штерн характеризует это состояние так: «Der Urzustand ist eine ganz diffuse Gesamtsensibilitat». Psych, d. frilhen Kindheit. 2-е изд. S. 56.
»Ibid. S. 57.
10 В своей книге — Проблема психической причинности — я стремился расчистить почву для того, чтобы заменить обычное разделение на непроизвольное и произвольное внимание более состоятельным разделением на эмоциональное и волевое внимание. Противопоставлять же пассивное и активное внимание совершенно невозможно: всякое внимание активно.
85
сказано об изначальной хаотичной связности восприятий, о том, что ассоциации предшествует диссоциация, то для нас должно быть ясно, что первоначально работа памяти лишь в очень малой степени может найти свое выражение в узнавании отдельных лиц и предметов. Узнавание — простейшая работа памяти, но она у ребенка предполагает целый комплекс признаков, а не один какой-либо признак. Любопытен в этом отношении случай, рассказанный Болдвиным, как дитя не могло признать свою няню, отлучившуюся на несколько дней: пока перед ребенком выступали отдельные признаки (няня брала дитя на руки, пела ему), дитя не могло узнать няню, когда же все эти признаки выступили совместно (няня, взяв дитя на руки, стала петь — получилось соединение зрительных, слуховых и мускульных восприятий), дитя узнала няню. Если Штерн убеждает в том, что первоначально «восприятия не оставляют отдельных следов», то это, конечно, правильно, но это значит совсем не то, что функция памяти еще не отделилась от функции восприятия, как полагает Штерн11, а только то, что сами восприятия не сознаются в своей отдельности, но всегда связаны с целым комплексом. Уже на втором месяце жизни, как отмечает тот же Штерн, дитя начинает выделять мать — конечно, в свете всего комплекса переживаний, исходящих от матери. Первые проблески различения между знакомыми и незнакомыми лицами отмечают и Штерн и Скупин около 3 месяцев. Постепенно развивается и свободное воспроизведение — уже после 4 месяцев можно заметить, что дитя тянется в комнату, куда его обыкновенно носят, где ему показывают разные интересные вещи. В течение первого года жизни настолько уже крепнет способность к запоминанию отдельных восприятий, что дитя узнает отдельные слова. Одно знакомое мне дитя 8 месяцев приучилось на слова матери и родных: «где у тебя память», показывать на голову: не так важно несложное движение, как важно узнавание определенных слов. На свое имя дитя отзывается гораздо раньше. Очень существенное значение имеет также работа памяти в развитии пространственных восприятий, но мы коснемся этого вопроса значительно позднее, в виду сложности проблем, связанных с восприятием пространства. Не будем также говорить о простейших актах мышления у ребенка в это время—и этого вопроса мы коснемся позже, — а перейдем теперь к характеристике эмоциональной жизни ребенка в течение первого года жизни.
Прежде чем мы войдем в изучение чувств ребенка в течение первого года жизни, нам необходимо коснуться одного теоретического вопроса, связанного с проблемой чувств, — с вопросом об эмоциональном развитии ребенка, об эволюции чувств у него. В современной психологии борются два взгляда на вопрос об эволюции чувств: первый из них может быть охарактеризован как ассоциативная теория, второй — как органическая теория эволюции чувств. Первая теория, наиболее ясно развитая известным психологом Геффдингом12, считает, что сущест-
--
11 S t е г n — Psych, d. fruhen Kindheit. S. 62.
12 См. его — Очерки психологии, основанной на опыте. В таком же духе составлена известная книга R i b о t — Psychologie des sentiments.
86
вует собственно лишь два основных чувства — удовольствие и страдание, а все остальные чувства возникают из ассоциации этих чувств с теми или иными образами. Органическая же теория развития чувств, — и она права в этом, — не считает возможным сводить все чувства к двум основным: мир чувств так же вза им онесводим, как это с психологической точки зрения надо говорить о цветах, о тембрах. Только в порядке анализа, отвлекаясь от конкретных переживаний, мы можем отделять «предмет» чувства (или образ, с которым оно связано) от самого чувства; еще менее было бы возможно чисто эмоциональный момент свести к полярности удовольствия и неудовольствия. Мы можем и даже должны разбивать сферу чувств на известные группы, но все же лишь в порядке анализа, тогда как в порядке чистого описания чувства решительно несводимы друг к другу.
Вместе с тем надо решительно отвергнуть то понимание эволюции чувств, согласно которому эта эволюция создается ассоциацией какого-либо чувства с новым интеллектуальным содержанием — с новым образом. Отношение интеллектуальной стороны в чувстве к чисто эмоциональной является настолько внутренним, органическим, что мы никоим образом не можем думать, что «присоединение» образа может направить чувство в другую сторону. Правда, давно известны факты, которые с особой силой выдвинул Фрейд в своих построениях, — когда чувство, не могущее проявиться в сознании во всей своей полноте, ищет своего выражения в случайном для него направлении. Здесь происходит своеобразное смещение лредмета чувства, вытеснение его: чувство как бы маскируется, находя свое выражение в совершенно ином направлении. Но именно эти факты и входят в группу явлений, обозначаемых понятием «лжи сознания». Мы имеем лишь маскировку, замещение в сфере сознания, как бы двойной ряд, потому что чувство сохраняет свое основное содержание, свой основной предмет. Те же изменения в жизни чувств, которые в самом деле говорят об эволюции какого-либо отдельного чувства, имено и говорять красноречиво за то, что собственно нет никакой эволюции чувства, но эволюционирует душа. Наша душа в целом становится иной — и это именно и выражается в изменении чувств. Из какого-либо чувства не может возникнуть путем ассоциации с новым образом нового чувства, хотя в появлении новых чувств и имеет свое значение наличность иных чувств в душе. Всякое чувство, как это впервые ясно выразил Липпс, теснейшим образом связано с нашим «я»; в каждом чувстве пульсирует целостное душевное бытие, живет вся душа. Быть может, здесь таятся корни важнейшего закона эмоциональной сферы, который Вундт характеризует, как закон единства (Бен называет этот закон «законом диффузии», К. Грос говорит о «монархической тенденции» чувств).
Обращаясь к характеристике эмоциональной жизни младенца, скажем прежде всего несколько слов о популярном взгляде на младенчество, как на «счастливый возраст». Если судить по внешнему выражению чувств, то надо было бы, пожалуй, согласиться с Бюлером, который ут-
87
верждает, что неприятные переживания перевешивают по своему количеству приятные13. Бюлер находит это даже целесообразным, так как чувства неудовольствия важны для ребенка, ибо, выражая их, дитя обращает на себя внимание взрослых. Однако, вопрос несомненно более сложен, чем это кажется. Штерн прав, когда говорит, что, кроме разнообразия во внешних проявлениях чувств, надо иметь в виду психическую дифференциацию и обогащение чувств, что даже важнее для психического развития ребенка14. Хорошо говорит Сикорский, что «чувства у новорожденного имеют характер общего недифференцированного душевного состояния, которое, оставаясь чуждо всякому конкретному чувству, всякой специализации душевного состояния, выражается сначала лишь в противоположности приятного и неприятного чувства». Эта полярность сохраняется навсегда, разбивая все чувства на приятные, радостные и на неприятные, тяжелые; но в том-то и дело, что это различие охватывает целые группы чувств, оформляющиеся в своей конкретности, в своей определенности из общего душевного самочувствия. В течение первого года эта психическая дифференциация не дает полного развития всех чувств, к каким способна детская душа, главным образом вследствие того, что дитя еще недостаточно разбирается в окружающем мире. Некоторые психологи (например, Сикорский) считают, что в течение первого года с полной ясностью выступает немного чувств (Сикорский говорит только о трех чувствах). С этим мнением никак нельзя согласиться — это станет совершенно ясным из анализа отдельных чувств у ребенка за время первого года жизни.
Обратимся прежде всего к чисто индивидуальным эмоциям, среди которых на первом, конечно, месте стоит страх. Как известно, некоторые психологи видят в страхе продукт индивидуального опыта: мы боимся того, что однажды уже доставило нам неприятные переживания. Другие психологи, наоборот, видят в страхе явление атавизма, наследственно переходящий от поколения к поколению, итог того примитивного существования, когда человека со всех сторон окружала опасность, — так что по мере нашего созревания инстинктивная основа страха совершенно слабеет. Мы будем иметь случай подробнее войти в дальнейшем в изучение детского страха, сейчас же остановимся на установлении фактов. Переживают ли дети в течение первого года страх? Все наблюдатели сходятся в положительном ответе на этот вопрос, — расхождения касаются лишь первых месяцев жизни, относительно которых иные исследователи полагают, что в это время дети не испытывают страха15. Между тем другие наблюдатели говорят о переживании страха у детей уже в первые недели жизни. Может быть, это разногласие связано с тем, что одни говорят о страхе в тесном смысле слова, другие же о целой группе чувств, близких к страху — о застенчивости, испуге, изумлении. Правда, изумление может иметь, по справедливо-
--
13 Вuh1ег— Die geistige Entwickelung des Kindes. S. 107.
14 W. S t e r n — Psychologie der friihen Kindheit. S. 77.
LS См., например, ВuhIeг. — Die geistige Entwickelung. S. 108; Гаупп — Психология ребенка. Рус. пер. С. 86—87.
88
му замечанию Штерна16, окраску не только страха, но и радости, может быть, по его наблюдениям, и «безразличное» изумление, — но о последнем сам Штерн говорит, что оно имеет тенденцию переходить в радость или страх.
Всякий возраст имеет свои страхи; меняются лишь предметы страха, сама же реакция страха является врожденной нам формой реакции. Штерн в одном месте приводит наблюдение над своей девочкой, которой был всего месяц — выражение испуга было так ясно у нее, что Штерн говорит о «врожденном рефлексе страха». Понятие «рефлекса страха» совершенно неприемлемо и, конечно, должно быть отброшено, между тем момент врожденности страха, как формы реакции, должен быть нами принят. Если это так, то нет никакой необходимости прибегать к понятию «идиосинкразии», как это делает Штерн, упоминая о том, что одно его дитя 8-и месяцев боялось прикасаться к морскому песку. Он же отмечает два случая из своих наблюдений (одному ребенку было 2 месяца, другому— 7), когда дети обнаруживали «очень странную реакцию страха» на протяжные тона, если они звучали отдельно или в конце мелодий. Мы будем иметь случай войти подробнее в этот вопрос дальше, сейчас же удовлетворимся констатированием того, что чувство страха бесспорно выступает у детей в течение первого года. Боятся дети темноты, незнакомых людей, боятся одиночества, иногда боятся некоторых животных — без всяких данных для этого в индивидуальном опыте.
Что касается гнева, то относительно этого чувства (точнее говоря, группы чувств гнева) нет никакого разногласия в том, что это чувство появляется очень рано. Сикорский справедливо, по нашему мнению, говорит о том, что чувство гнева нередко доходит у детей до высокого напряжения.
Что касается группы чувств, которые характеризуется как любовь к самому себе, то, конечно, о настоящем чувстве «любви» к себе не может быть речи не только в течение первого года, но и в дальнейшие годы. Тем не менее дитя погружено в самого себя, занято своими желаниями, чувствами; это не есть «эгоизм», как это нередко изображают, а только эгоцентризм, естественное сосредоточение маленького существа на самом себе: ведь иной мир еще почти не отделился для ребенка в течение первого года от него самого. Естественный эгоцентризм усиливается обычным сосредоточением на ребенке внимания всех окружающих людей: дитя привыкает к нежному и ласковому отношению. Если вы не обращаете внимания на дитя, оставляете его одного — дитя чувствует «обиду». Если строгим голосом сказать что-либо ребенку, отнимая у него какую-либо вещь, дитя (не сразу обыкновенно) расплачется, почувствовав «обиду». Нередко у ребенка проявляется очень рано зависть, нередко дитя ревниво относится, если все внимание от него обращается к другому ребенку. Таким образом, уже в течение первого года на основе естественного эгоцентризма развиваются чувства из группы чувств «любви к самому себе».
Что касается стыда, то почти все наблюдатели сходятся в том, что
--
16 W. Stern — Psychlogie der fruhen Kindheit. S. 80.
89
это чувство появляется на третьем году жизни. Я не могу примкнуть к этому мнению, основанному, как мне кажется, на неясном различении двух форм стыда— индивидуального и социального. Первая форма стыда естественно появляется позже, в связи с развитием субъективного самосознания (см. главу III), без которого, разумеется, чувство индивидуального стыда психически неосуществимо. Но что касается социального стыда, то его проявления вне всякого сомнения могут быть наблюдаемы уже в течение первого года жизни. Дитя очень чувствительно уже после 6—7 месяцев ко всякому «уязвлению» его самолюбия — оно настолько привыкает к нежному вниманию, к ласке, ко всяким проявлениям расположения, что если это сменяется строгим голосом, то дитя реагирует очень болезненно на это. Было бы наивно думать, что здесь играет свою роль физическая перемена в голосе: кто наблюдал именно в это время у детей, как выражается у них «обида», тот вспомнит, что дитя сохраняет к «обидчику» нередко очень долго неприятное чувство. Выговоры матери никогда так не действуют, как выговоры чужого человека.
Обратимся ближе к социальной чувствительности ребенка в это время. Все наблюдатели отмечают очень сильное развитие у ребенка в течение первого года жизни симпатии— этого основного проявления социальной отзывчивости. Если вся сложная область социально-психических движений восходит к тому факту, что «человек не равнодушен к человеку», — то надо признать, что дитя чрезвычайно рано обнаруживает это основное социальное чувство. Дитя очень любит общество и «боится», т. е. испытывает тяжелое, неприятное чувство, когда остается одно; ко всем, кто обычно находится возле ребенка, дитя относится с живой симпатией, выделяя из этой среды тех, кто больше времени отдает ему — мать, няню. Чужие большею частью не вызывают симпатического отзвука в детской душе, нередко дети плачут при виде незнакомого лица, обнаруживают тревогу и беспокойство, — иногда мы имеем здесь дело с зачаточной антипатией, которая не исчезает и дальше в отношении к данному лицу. Дитя, конечно, не ориентируется еще в социальной среде, но зачатки этого могут быть отмечены очень рано, на что впервые указал Болдвин: дитя способно к элементарному социальному опыту уже в это время, ибо научается тому, что с некоторыми из окружающих «капризничать» невозможно и нужно им покоряться. Та социально-психическая чувствительность, которая лежит в основе всего социального взаимодействия, имеется уже на лицо у ребенка на первом году жизни.
Если обратиться к так называемым высшим чувствам (моральному, эстетическому, религиозному), то, конечно, в течение первого года невозможно найти переживания этого типа. Однако, если мы не можем найти высших чувств в настоящем их виде, то это вовсе не значит, что у детей нет ничего, что можно назвать духовной жизнью. Сознание детское еще слишком мало развито, чтобы дать возможность оформиться в нем высшим переживаниям, но материал для этих переживаний уже накопляется, перспективы, хотя бы неясно, уже намечаются. Чтобы коснуться хотя бы в самых общих чертах возникающих
90
здесь проблем, остановимся лишь на одной из форм духовной жизни — на моральной сфере.
Можно и должно поставить вопрос о том, какова моральная природа ребенка в это время, пока еще социальная среда не успела оказать на него влияние? Еще Руссо, а после него так много других психологов, педагогов высказывали мысль, что душа ребенка чиста и добра, что свет «естественного» разума проникает в душу ребенка и направляет душевную работу. Этот взгляд, который мы можем охарактеризовать как «идиллический», считает «врожденным» ребенку стремление к добру, сводя все «злые» движения в детской душе к влиянию внешней среды. Более сдержанно говорят о детской душе те, кто, подобно Селли, говорят о моральной «нейтральности» ребенка в первое время его жизни: воспитание и жизнь ребенка могут выдвинуть те или иные движения в детской душе, но врожденными следует, по Селли, признать и добрые и злые наклонности. Этот взгляд тем более близок к действительности, что при обсуждении моральной жизни у ребенка надо иметь в виду влияние наследственности. Ведь мы говорим, конечно, не о моральном сознании, которое еще не может сформироваться в течение первого года жизни, — а о тех движениях душевных, которые только подготавливают материал для моральной жизни, которые лишь в свете сформировавшегося морального сознания обнаруживают в себе «добрые» или «злые» стремления. Чистота и непосредственность детского сознания не только не устраняют «злых» движений, но они-то именно и выдают их. Конечно, можно усомниться в правильности того, что мы характеризуем некоторые движения детской души как «злые»: можно ли применять это слово к той поре жизни, когда еще не сформировалось моральное сознание? Но если вдуматься в ранние проявления зависти, ревности, гнева, эгоизма, жестокости, то приходится признать, что уже на первом году жизни у детей имеется какое-то элементарное, зачаточное моральное сознание в форме «морали чувства». Это значит, что мы не можем, конечно, называть «добрыми» или «злыми» душевные движения, применяясь к нашим понятиям, к нашему моральному сознанию, — но должны осветить их тем, чем являются они для непосредственной оценки, к которой способны уже и дети в форме чувств. Только потому, что те или иные душевные движения получают моральную «расценку» в детской душе, с ее «моралью чувств» — они способны стать материалом для формирующегося морального сознания в подлинном смысле слова. Можно, конечно, вслед за огромным числом авторов сводить возникновение морального сознания к действию социальной среды17, но в том-то и дело, что здесь постоянно имеет место очень грубая ошибка. Весь социальный опыт ребенка имеет огромное влияние на содержание слагающихся у него моральных представлений и понятий, но самая функция морального сознания не могла бы возникнуть в таком порядке. Полярность хорошего и дурного, не имея еще специального этического смысла, а выражая общий для всей духовной жизни момент — отличие высшего и низшего, лучшего и худшего — должна уже как-то обрисоваться в детском созна-
--
17 Наиболее тонки в этом отношении поетроения Болдвина.
91
нии, как какая-то неясная перспектива, темная глубина, куда принесет свой свет социальный опыт ребенка. В том-то и дело, что эта полярность никак не может развиться из полярности приятного и неприятного: все то, что дает социальный опыт для разграничения духовной и чувственной жизни (употребляем это противопоставление за отсутствием лучшего), все это только в том случае может помочь осознанию их различия, если оно непосредственно уже преподносилось душе в каком-то чисто музыкальном усвоении его в непосредственном чувстве. Иначе не понять нам пробуждения в дальнейшем духовной жизни у ребенка; мы должны признать, что, как особая форма жизни и опыта, духовная жизнь просыпается в душе в форме чисто эмоционального предварения будущих ясных процессов. Нет морального сознания в настоящем смысле слова, но раскрывается коренная противоположность высшего и низшего, находящая в социальном опыте свою дифференциацию и стимулы для развития.
Таким образом, моральная жизнь в ребенке начинается до формирования морального сознания. Благодаря наследственности дитя приходит в мир с целым рядом предрасположений, которые определяют строение личности, ее активность, — и социальное взаимодействие впервые обнаруживает перед ребенком объективные отзвуки его активности. На реакциях окружающих людей, в отношении именно к ним дитя впервые получает материал, на котором осознается — сначала глухо и неясно — полярность лучшего и худшего, высшего и низшего. Социальная среда важна здесь, как среда, в которой получают свое объективное выражение и завершение внутренние движения: моральное сознание, в полной параллели с самосознанием, формируется тоже как «проэктивное», но оно не созидается одним социальным опытом, пробуждаясь в неясной форме чувства как непроизводная, изначальная функция. Как ни темна душа детская в это время, но она все же не является «нейтральной», не есть в моральном отношении tabula rasa: она приходит в жизнь с рядом определенных, отчасти наследственных, отчасти несводимых к наследственности наклонностей; с другой стороны, в неясной оценке чувства перед детским взором уже вырисовывается полярность высшего и низшего, лучшего и худшего. Первые социальные отзвуки воплощают это чувство в некоторые «проэктивные» этические представления.
Скажем несколько слов о всех указанных моментах. Прежде всего — о наследственности, этой загадочной и доныне, но совершенно несомненной определенности не только в физическом, но и психическом нашем развитии, зависимости его от наших родителей, а через них от целого ряда предыдущих поколений. Что касается телесной наследственности, то она настолько бесспорна, что не приходится много говорить о ней. Но существует ли психическая наследственность? По этому вопросу мы все еще не обладаем хорошо проверенным материалом: с одной стороны, влияние наследственности усматривается в общем складе личности, в отдельных психических особенностях, вплоть до профессиональной одаренности; с другой стороны, сходство родителей и детей в их психике часто объясняют однородностью социальной об-
92
становки, вообще влиянием социальных условий. Было бы, однако, неправильным отвергать факт психической наследственности — особенно это надо сказать в отношении не элементарных, а высших сторон личности.
Сравнительно недавно один из видных современных психологов Петере напечатал большую работу, посвященную проблеме психической наследственности18. Правда, Петере ограничился очень узким материалом — он сравнивал школьные успехи родителей и детей, — но за то он очень тщательно обработал свой материал. Всего Петере обследовал 1162 детей и 344 родителей (отца и мать). Работа Петерса важна в том отношении, что она стремится установить приложимость к психической наследственности законов, найденных для физического унаследования. Уже Гальтон формулировал довольно точно законы физического унаследования — и эти законы с известными ограничениями были подтверждены дальнейшим исследованием. Гальтон же пытался установить законы и психической наследственности; так, он нашел, что 31% выдающихся людей имели выдающихся родителей, но только 17% выдающихся дедов и 18% — дядей, только 3% — выдающихся прадедов. 41% выдающихся людей имели выдающихся братьев и только 13% — таких же двоюродных братьев. 48% выдающихся людей имели выдающихся сыновей, 22% — племянников, 14% — внуков и только 3% — правнуков. Исследованные Гальтоном случаи показали большую силу наследования по мужской линии, чем по женской. С применением к проблеме наследственности так называемого метода корреляции, создателем которого был ученик Гальтона — Пирсон, дело значительно подвинулось вперед19; американский психолог Thorndike ввел даже эксперимент в исследование психической наследственности.
Петере поставил себе целью проследить приложимость открытых Менделем законов наследственности к психическому унаследованию. Для этого Петере воспользовался материалами деревенских школ (т. е. школ в местностях с устойчивым населением) — он изучил школьные отметки детей, их родителей и следующего поколения. После надлежащей обработки материал этот дал Петерсу возможность установить несколько очень существенных выводов — и прежде всего подтвердить на своем материале несомненный факт психической наследственности. Свести влияние родителей на детей всецело к влиянию «среды» невозможно по целому ряду соображений20 и особенно потому, что Петере констатировал несомненную зависимость школьных успехов детей от успехов не только родителей, но и предыдущего поколения. Вместе с тем Петере констатировал наличность ряда дифференциальных особенностей в унаследовании мальчиками и девочками тех или иных «способностей», в влиянии отца и матери. Особенно важно то, что наследование сказывается не только в смешанном усвоении свойств отца
--
18 W. P e t е г s — Ueber Vererbung psychischer Fahigkeiten. Fortschritte der Psychologic und ihree Anwendungen. Ill Band. 4—6 Heft. (1915).
19 См. большое исследование Гейманса и Вирсма в Zeitschrift fur Psychologie. В. 42—51.
20 См. Peters. Op. cit. S. 369-373.
93
и матери, деда и бабушки, но и в преимущественном унаследовании свойств одного из родителей или одного лица из третьего поколения, — этим именно подтверждается приложимость Менделевской теории к психической наследственности. Отметим еще, что мать имеет большее влияние на детей, чем отец; приведем следующие цифры из работы Петерса:
| |
Сходны |
Сходны |
| |
с отцом |
с матерью |
| Сыновья Дочери |
47,4% |
52,6% |
| |
46,7% |
53,3% |
Приведем другие данные из той же работы Петерса — именно сводку данных о влиянии отца и матери на успехи детей; корреляция здесь такова:
| Корреляция свойств |
Сыновей |
Дочерей |
| Отца |
0,32 |
0,36 |
| Матери |
0,42 |
0,55 |
Большая сила влияния матери на дочерях здесь выступает с полной отчетливостью. Приведем еще любопытные данные из работы Гейман-са и Вирсмы. В семьях, где отец отличался «толерантностью», это свойство с полной определенностью было отмечено у 66% сыновей и 66% дочерей; в семьях, где этим свойством отличалась мать, оно было констатировано у 77% сыновей и 73% дочерей.
Все приведенные данные позволяют нам признать факт психической наследственности стоящим вне сомнений. Но это значит, что дитя входит в мир с известными предрасположениями и склонностями, которым он следует, конечно, в полной душевной цельности, но которые естественно вызывают разнообразные социальные отзвуки. Социальная среда расценивает особенности ребенка, его склонности в свете присущих ей моральных начал, — и во всем том, что дитя о себе слышит, во всех непосредственных реакциях окружающих людей на детское «поведение» перед оформляющимся моральным сознанием ребенка выступает «проективный» этический материал. Дитя очень рано начинает считаться с этим; пути приспособления к тому, чего от него требуют, открываются перед ребенком очень рано. Таким образом, содержание «добра» первоначально действительно «проек-тивно» в смысле своего социального происхождения, — но это касается только содержания, а не самой функции моральной, которая просыпа-^ ется в детской душе «по поводу» тех или иных данных опыта, но не развивается из них.
При изучении высшей духовной жизни у ребенка после первого года жизни мы войдем ближе в изучение этой сферы, сейчас же отметим только, что уже в течение первого года жизни в детском сознании обрисовываются перспективы духовной жизни, проступает в зачаточной
94
форме функция оценки, психически реализующая духовную жизнь, вернее говоря — выявляющая ее. Еще живет дитя в «тумане», — духовное зрение развивается очень медленно сравнительно с развитием чувственного зрения, но как уже в первые дни жизни дитя становится способно различать между светом и тьмой, так и способность различать между духовно-светлым и темным, высшим и низшим уже просыпается в детской душе в течение первого года жизни. Все это неясно, неопределенно, легко обволакивается «проективным» материалом, но все же это зачатки будущей духовной жизни.
Обратимся теперь к изучению детской активности в течение первого года жизни
ГЛАВА VI.
Активность ребенка в течение первого года жизни. Рефлексы и инстинкты; импульсивная и выразительная активность. Происхождение воли; теория Бена. Волевое самосознание и воля.
Первый год жизни ребенка заполнен разнообразной его активностью — и чем дальше развивается дитя, тем ее больше, тем большую роль играет она в его созревании. Развивается умение владеть органами чувств, психическая жизнь становится все сложнее, богаче, разнообразнее — и то «первичное сенсомоторное единство»1, которое наследственно присуще ребенку, разрушается все более растущим влиянием «центральной сферы» сознания. Штерн видит в этом закон, который вообще определяет псхическое развитие ребенка и который он формулирует как «переход от периферического к центральному»2: от простой рецептивности дитя переходит к внутренне определенной активности, от восприятий — к образам памяти и понятиям, от простых волевых актов к сложным действиям, связанным с выбором.
Обращаясь к более подробному изучению детской активности в течение первого года жизни, остановимся прежде всего на реактивных движениях, т. е. связанных с каким-либо внешним раздражением. Здесь мы встречаемся с различием рефлексов и инстинктов, — различием, которое с трудом поддается точной характеристике. Нередко говорят, что под рефлексами следует разуметь неизменные врожденные реакции, между тем инстинкты допускают влияние опыта. Если этой точки зрения можно было держаться ранее, то ныне, после работ акад. Павлова и его школы, это уже невозможно. Павлов открыл явление так называемых «условных» рефлексов — явление изменчивости рефлекторных движений в связи с изменениями условий. Собственно уже то, что говорил Вундт относительно происхождения рефлексов, значительно меняло прежнее учение о неизменности рефлексов. Вундт учил о психической основе рефлексов и сближал образование рефлексов и привычных движений: не отрицая неизменности рефлексов, Вундт видел в этом их свойстве механизацию движений, когда-то предполагавших психический момент, а затем утративших его благодаря повторению и передаче наследственным путем. Открытие Павлова ведет нас дальше и показывает, что рефлексы и ныне сохраняют «творческую» силу в себе, способность изменения в
--
1 S t е г n — Psych, d. fr. Kindheit. 2-е изд. S. 28.
2 Ibid. S. 27.
96
связи с изменениями условий. Известно, что Павлов и его школа склонны видеть в рефлексах ключ к пониманию всей нашей активности, а проф. Бехтерев создал даже новую науку — «рефлексологию». Не входя в разбор этих построений, скажу только, что правильное толкование рефлекторной активности только и возможно при учитыва-нии здесь роли психического фактора. Поэтому надежды на построение так называемой «объективной психологии», минуя субъективную сферу, представляются совершенно неосуществимыми. Но не будем входить здесь в этот вопрос. Возвращаясь к учению о различии рефлексов и инстинктов, мы должны признать, что это различие никак не может быть связано с изменчивостью инстинктов, с влиянием на них опыта, так как изменчивость может быть констатирована и у рефлексов.
Иногда говорят, что различие между рефлексами и инстинктами состоит в том, что рефлекторные движения совершаются без участия сознания, тогда как инстинктивные движения сознаются нами — не в их цели, но в их процессе. Но и это утверждение не точно, так как рядом с рефлексами, протекающими совершенно вне сознания, есть рефлексы, которые мы сознаем: если мы не сознаем сокращения зрачка, то сознаем, например, свое чихание, хотя и не управляем этим движением. Но в развитии речи мы имеем дело с явлением переработки, при участии сознания, рефлекторных движений — сначала в выразительные, потом даже в волевые. Действительно, первые звуки, какие издает дитя (в стадии «крика»), являются чисто рефлекторными. В известной мере крик, как рефлекс, всегда сохраняется в нас, но в том-то и дело, что уже переход первоначального крика в плач, использование голосовых движений в целях выражения и «сообщения» другим своих чувств есть свидетельство того, что рефлекторные движения допускают регуляцию, модифицируются под влиянием различных психических условий. Думать, что рефлекторные движения всецело определяются внешними раздражениями, а инстинктивные — зависят еще и от внутреннего фактора3, — это значит лишь упрощать факты.
Мне представляется единственно состоятельным то различение между рефлексами и инстинктами, которое видит в рефлексах простые прирожденные целесообразные реакции, а в инстинктах — сложные4. Только этот момент действительно отличает рефлексы от инстинктов. Если уже рефлексы допускают модификацию (что и находит свое выражение в учении об «условных» рефлексах), — то инстинкты, благодаря своей сложности, обнаруживают очень значительную изменчивость под влиянием опыта. В силу этого роль инстинктов в жизни человека вообще, а ребенка — в особенности, очень велика, тогда как рефлексы играют лишь подчиненную роль. Лишь в первые недели жизни ребенка, пока спят еще
--
3 Так, например, думает Штерн — Psych, d. fr. Kindheit. S. 33. ft".
4 См. очень интересное и ценное рассмотрение вопроса в книге: Ко f fka — Die Grundlagen d. psych. Entwickelung, особенно S. 69—78. К сожалению, недостаток места не позволяет нам остановиться на очень важных теоретических проблемах, которых касается Koffka.
4 Психология детства
97
иные силы в младенце, рефлексы играют важную роль, — а затем «золотое время» рефлекторной активности, простых реакций кончается, уступая место более сложным формам активности — и прежде всего — инстинкта.
Не могу не коснуться тут же вопроса о роли инстинктов в системе психических сил у взрослого человека. Если никто не отрицает факта, что у ребенка инстинкты занимают большое место, то не мало психологов думает, что у взрослого человека инстинкты не играют почти никакой роли. В связи с этой именно точкой зрения и возникла уже известная нам теория игры, по которой игры служат для выявления инстинктов, долженствующих затем исчезнуть. Психологи, стоящие на этой точке зрения, не видят у взрослых никаких инстинктов, кроме двух — самосохранения и материнского инстинкта. Но эта точка зрения, как впервые указал на это Джемс, не может быть удержана; понятие инстинкта, как основы целесообразных реакций, определяемых внутренними движениями, лишь восходящими к сознанию, но заложенными глубже сознания, — совершенно необходимо. Джемс даже полагает, что в основе всех наших основных чувств лежат инстинкты; мне представляется это правильным. В чувствах мы имеем дело с чисто эмпирическими процессами, корни которых, однако, восходят к психическим силам, лежащим глубже сознания. Попытки полной рационализации нашей активности, как бы устранения этой темной, находящейся вне контроля сознания основы нашей активности, лишь резче подчеркивают всю психическую значительность и творческую силу ее. Нет более «жалких», психически обедневших и бесплодных натур, чем те, кого называют «рассудочными» натурами, кто стремится во всем действовать лишь согласно рассудку. Всякое ослабление инстинктивных сил в человеке, психическое их отодвигание или устранение настолько обедняет и обесцвечивает человека, настолько делает его близоруким, тупым и бесплодным, что тогда становится особенно ясной важность инстинктивной сферы у человека. Внутренняя целостность, глубина и какое-то своеобразное «ясновидение», умение ориентироваться среди людей и обстоятельств исчезают, тускнеют при ослаблении в человеке инстинктивной сферы. Совершенно понятно отсюда, что у ребенка мы наблюдаем сильное развитие инстинктов: дети свободны от рассудочности, благодаря слабости интеллекта, они слишком непосредственны и «наивны», как мы говорим, чтобы подавлять в себе инстинктивные движения. Дети не любят углубляться в вопрос о смысле того или иного порыва, ими овладевающего, — они просто отдаются ему, — и тем самым дают полный простор своим инстинктивным устремлениям. Необходимо только отказаться от упрощенного понимания инстинкта: та, например, точка зрения которую развивает Бюлер5 и согласно которой у ребенка имеют место лишь инстинкты, связанные с питанием и дыханием, конечно, совершенно неправильна. Справедливо говорит Штерн6, что у ребенка инстинкты связаны главным образом с его «дея-
--
5 Buhler. Op. cit. S. 86.
6 W. Stern. Op. cit. S. 34.
98
тельностью высшего порядка», — между прочим с его социальной жизнью7.
Не входя в дальнейшие детали затронутого вопроса, остановимся лишь на анализе подражания у детей. Нет никакой надобности доказывать огромное значение подражания в психическом созревании ребенка: оно ясно само собой. Исключительно благодаря подражанию дитя усваивает язык — это главнейшее орудие индивидуального и социального психического развития; благодаря тому же подражанию дитя вообще становится способным усваивать социальную традицию. Все это так бесспорно, что на этом нет необходимости останавливаться. Но следует ли говорить об инстинкте подражания? Этот вопрос не так прост, как могло бы сразу казаться. Хотя очень многие психологи говорят об «инстинкте подражания», так что это выражение попало в систему популярной психологии, но на самом деле имеются серьезные основания против того, чтобы принимать это понятие. Так, Штерн8 указывает на двойственный характер подражательных действий: с одной стороны, в подражании он видит «примитивное волевое действие», с другой стороны, сближая подражание с инстинктивной сферой, говорит осторожно, что «способность к подражанию стоит на одной ступени с инстинктивными движениями». Для Штерна важно этим подчеркнуть, что в подражательных действиях «известная группа подражательных актов преднамечена в унаследованной структуре центральной нервной системы»9. Штерн готов назвать это «инстинктивным» подражанием, хотя это не вполне выражает его основную мысль. Решительнее его оказался Грос, который совершенно отказывается говорить об «инстинкте подражания» и говорит лишь о влечении к подражанию (Nachahmungstrieb)10. По Гросу «влечение к подражанию ^тоит_между инстинктивными и чисто волевыми действиями, связанными с интеллектом»11. Эти колебания у психологов вполне понятны, так как подражание не является чисто реактивным движением. Помимо того, что всякому внешнему подражанию предшествует так называемое «самоподражание», на которое впервые указал Болдвин, — но даже в случаях внешнего подражания внутренний фактор играет главную роль.
Начатки подражания наблюдатели констатируют уже в конце 3-го месяца жизни ребенка, а Скупин наблюдал у своего сына пробы подражания, когда ему было всего 1г/2 месяца.
От реактивной активности ребенка обратимся к тем его движениям, которые не вызваны каким-либо внешним раздражением и остановимся прежде всего на так называемой импульсивной активности. В эту группу обыкновенно относят все те движения, которые совершают дети без всякого внешнего стимула, которые не регулируются в то же время сознанием какой-либо цели, но являются как бы бес-
--
7 См. об этом, между прочим, G г о о s — Das Seelenleben D. Kind. S. 47.
8 S t e r n. Op. cit. S. 48.
9 Ibid. S. 49.
10 G г о о s. — Das Seelenleben des Kindes. S. 48.
11 Ibid. S. 49.
4*
цельными. Согласно популярной теории, импульсивные движения имеют свой источник в том, что в нашем организме скопляется энергия, ищущая своего выхода; хотя такие движения не связаны с какой-либо определенной целью, однако они занимают очень важное место в развитии ребенка. Дитя всегда испытывает чрезвычайную потребность двигаться — стоит освободить дитя из пеленок, как оно начинает двигать своими ручками и ножками. Кто наблюдал детей в это время, тот знает, какое удовольствие испытывают от этого дети; особенно приятны им такого рода движения во время купания. Из импульсивной активности развиваются и игры, которые впоследствии становятся в более тесную связь с выразительной активностью, но вначале они вырастают именно из импульсивной активности, — из «игры» ребенка со своим телом. Импульсивная активность не будучи реактивной и в то же время не регулируемая сознанием цели, доставляет ребенку чистое наслаждение самой активностью. Здесь именно и лежит психический корень игр: дитя совершает движения не в силу внешних раздражений или сознания цели, а ради чистого удовольствия. Этот момент всегда остается присущим психологии игры, придавая своеобразную окраску ей, хотя постепенно она сочетается, в качестве стимулирующего фактора, с потребностью в выразительной активности.
Выразительная активность по своему типу принадлежит к регулированной активности; рядом с тем типом регуляции, который образует существо воли, у нас имеет место и эмоциональная регуляция активности — это и есть выразительные движения. Их место в системе душевной жизни гораздо значительнее, чем это признавали до сих пор. Не будем, однако, входить в их психологический анализ, а обратится к характеристике выразительных движений ребенка в течение первого года жизни.
Движения ребенка очень рано являются «выразительными» в том смысле, что окружающие ребенка люди по этим движениям догадываются о состоянии ребенка, о его потребностях. Выразительная сила движений познается именно по их социальному резойансу и не может быть надлежаще понята вне последнего момента. Здесь не место входить в теоретический анализ того закона двойного выражения чувств, о котором нам уже приходилось говорить; скажу только, что те формы, в каких выступает явление выражения чувств у нас, с полной ясностью говорят о громадном значении социального резонанса в генезисе этого типа внутренней работы. Всякое социальное «стеснение» губительно отзывается и на телесном и на психическом выражении чувств и, наоборот, — социальная поддержка усиливает, обогащает телесное и психическое развитие чувств. Что касается роста и развития выразительных движений ребенка, то огромное участие в этом социального резонанса стоит вне всякого сомнения. Дитя очень рано замечает, что его крик или плач, те или иные движения вызывают приятные перемены, удаляют боль или неприятные переживания. Это непосредственное знание очень быстро приобретает регулирующее влияние на движения ребенка, внося в них сознаваемую уже задачу вы-
100
ражения и сообщения другим людям желаний и чувств. Крик очень рано (между 3—20 неделями) начинает сопровождаться плачем, а затем дитя научается плакать без крика.
Рис. 3.
Не менее важное значение для ребенка в его социальном и индивидуальном развитии имеет совсем противоположное выразительное движение — смех. Нечто близкое к улыбке можно наблюдать уже в первые дни жизни, но настоящую улыбку мы встречаем лишь после трех недель. Сикорский справедливо говорит по этому поводу, что до этого момента связь ребенка с матерью имеет биологический характер, но после первой улыбки, которой дитя встречает уже знакомое лицо матери, эта связь для обоих сторон приобретает «моральный» — скажем шире — духовный смысл. В этой улыбке, освещающей все лицо ребенка и придающей ему необыкновенно привлекательный вид, дитя вступает впервые в совершенно новый мир — радостный и манящий к себе; можно сказать, что именно с этого момента, когда просыпается способность радоваться и улыбаться, дитя начинает жить духовной жизнью. Рисунок 3, который мы берем из книги Сикорского (к сожалению, не упоминающего, к какому возрасту относится снимок), дает очень характерное изображение напряженного недоумения, связанного со страхом, и сменившего его чувства удовольствия.
Перейдем теперь к сложцому и трудному вопросу о развитии волевой регуляции в течение первого года жизни, чем мы и закончим обзор активности ребенка в это время. Заметим, что в течение первого года жизни у ребенка наблюдается — и притом с чрезвычайной ясностью — образование привычек, но нам удобнее будет коснуться этого вопроса немного позднее — при изучении привычек, образующихся в раннем детстве вообще.
Вопрос о развитии и происхождении воли стоит необыкновенно сложно в современной психологии, как бы оправдывая известную
101
мысль Гагггмана (с особенной силой выраженной им, кроме его общих сочинений, в книге — Die moderne Psychologie; есть и русский перевод) о том, что jjQJieabie процессы протекают вне сознания, что сознанию доступны лишь продукты, итоги волевой жизни в нас. Действительно, с первого взгляда кажется непонятным, что и доныне психологи никак не могут решить вопрос, представляет ли сфера воли особую, своеобразную, непроизводную форму психической жизни или же в ней должно видеть лишь некоторое сочетание, ассоциацию простых психических процессов. Трудности решения этого вопроса зависят, однако, не от того, что воля, как таковая, находится вне сознания (как думает Гар-тман), а от того, что мы имеем здесь дело с очень запутанной формой психической жизни12..
С точки зрения психической эволюции первостепенное значение принадлежит вопросу о производности или непроизводности воли, т. е. вопросу о том, должны ли мы видеть в воле своеобразную, неразложимую, оригинальную психическую функцию или же должны видеть в ней лишь новую форму, в какой проходят перед нами известные уже процессы (интеллектуальные и эмоциональные). Нередко признание воли своеобразной и непроизводной психической функцией ведет к психологическому волюнтаризму, т. е. к признанию того, что все психические процессы развиваются по типу волевых13. Однако, надо признать, что нет никакой принципиальной связи между учением о непроизводности воли и психологическим волюнтаризмом.
Для краткости я не буду излагать всех теоретических построений в данном направлении и ограничусь лишь анализом того учения о генезисе воли, которое развил Бен. Хотя его теория была высказана очень давно, но она является не только типичным учением о производности воли, но до известной степени даже классическим, так как в нем с полной ясностью выступают основные черты построений, не признающих своеобразия воли.
Egg считает так называемую «…ескoгo развития, точнее было бы сказать, что для Бена не существует воли, как таковой, а существует лишь особая сложная форма активности, в которой пррдгтявп£ние_п (предстоящем) удовольствии предваряет активность. Это представление не «мотивирует»~воли — в точном~смысле этого слова, т. е. не является причиной последующего движения, — оно только его хронологически предваряет: причина же движения лежит не в представлении, а находится глубже его, точнее говоря, причина движения та же, что и причина появления представления, так как движение и образ связаны ассоциативно.
--
12 Напомню главные книги по психологии воли:
Pfander — Phanomenologie des Wollens. 1900; H. Schwarz — Psychologie des Willens. 1900; Meumann — Intelligenz und Wille. 1908; N. А с h — Ueber Willenstatigkeit und das Denken. 1905; Ueber Willensakt und das Temperament. 1910; Michotte et P r u m — Etude experim. sur le choix volontaire. 1910; Lindwersky. Der Wille. 2-е изд., 1921.
13 В русской литературе эту точку зрения развивал Н. О. Лосский в своей книге — Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма. 1903.
102
То, что называют «волей», развивается по Бену из двух корней — из импульсивной активности и из памяти. Мы уже знаем, что дитя, кроме рефлёктортьцПГинстинктивных движений, совершает много импульсивных движений. Эти движения, совершаемые без всякой внутренней регуляции, помимо непосредственного удовольствия от самой активности, часто вызывают удовольствие и теми неожиданными результатами, какие оно создает случайно. Пусть, например, движение а вызывает чувство Ъ и образ некоей «перемены» в окружающей действительности В; пусть другой раз такое же движение а1 вызывает чувство Ь1 и образ перемены — Вр
а-Ъ-В а1-Ь1-В1
Ассоциативно связанные члены первого ряда вступают в более тесную связь благодаря повторению, — и когда образуется более прочная ассоциация, тогда может случиться, что образы В и В1 и связанные с ними чувства Ъ nbj могут появиться в душе самостоятельно и тогда в силу ассоциации мы совершим те движения а или ар которые с ними связаны. Эти-то движения, которые по своему существу «импульсивны», т. е. не вызываются^ внешними раздражениями, но которые вместе с тем предваряются сознанием образа и чувством (что психологически и составляет содержание так называемого «мотива»), — и могут быть названы «волевыми». Они отличаются от чистых импульсивных п е ре"м"ещением членов ассоциации: & и В не следуют за движениемalt но, наоборот, предваряют его. Для Бена нет никакого основания поэтому думать, что так называемое «целесознание» вызывает движение, хотя связь между образом и чувством, с одной стороны, и движением, с другой стороны, несомненна, но только эта связь н е причинная, а та связь, которая имеет место между членами ассоциативного целого14.
Что дает нам теория Бена? Он хотел вывести волевую активность из, более простых форм активности, но даже при том упрощенном понимании волевой психологии, которая ограничивается фактом предварения движения сознанием цели (в действительности, как это убедительно показали экспериментальные исследования, волевая психология очень сложна), его попытка должна быть признана неудачной. Аналогичные построения Спенсера, Эббинггауза и других представителей той же теории не вносят ничего нового: их общая ошибка заключается в том, что они думают вывести психологию волевых движений из ее элементов. Волевые движения, будучи очень сложными, состоят из моментов а, Ь, с…; значит ли это, что они получаются из этих моментов? Методологически непозволительно придавать генетический смысл тому, что устанавливает описание; но ошибка Бена и следующих за ним психологов не только методологически груба, но отвергается и тем, что не дает решения поставленной задачи. До сих
--
14 Учение об ассоциации целого и части, намеченное Гамильтоном, было развито с чрезвычайной ясностью Геффдингом (см. его — Очерки психологии).
103
пор вообще не удалось показать производность волевой психологии, — и это, конечно, не случайно, а определяется ложной постановкой вопроса. Мы должны признать волевую функцию своеобразной и непроизводной функцией нашего духа, что, конечно, вовсе не исключает вопроса развитии воли. В теории Бена можно видеть нечто ценное, но не по вопросу о происхождении воли, а по вопросу о развитии вол ев ого самосознания. Даже признавая волю непроизводной, изначальной функцией нашего духа, мы должны выяснить, как мы осознаем в себе волю. Как бы ни определять сущность воли, совершенно ясно, что здесь мы имеем дело с особой формой регуляции активности — именно через сознание (в частности через сознание цели). Как показал с полной обстоятельностью Ах, для волевой психологии существенно сознание своей «м о щ и», т. е. сознание того, что мы можем совершать те или иные действия. В эмоциональной регуляции активности как раз этот момент совершенно отсутствует — и здесь-то и лежит психическое различие двух форм регуляции, с такой силой и ясностью сознаваемое нами непосредственно. Всь левая^ активность дает нам необычайно яркое переживание нашего «я» — она всегда переживается как активность «я». Психология так называемых «решений» и дает нам возможность заглянуть глубже в процесс слияния целесознания с «я»; в этом процессе сознание того, что мы «можем» выполнить известное движение, имеет решающее значение. В нашей обычной активности мы только потому не замечаем этого момента^ что большей частью совершаем привычные движения, не требующие внимания, но при углубленном внимании, как это показали эксперименты Аха, указанный момент сознается с полной ясностью. Он как бы окрашивает собой всю нашу активность, музыкально ее проникает, и потому, быть может, нам трудно его выделить. В болезненных состояниях мы иногда переживаем расстройство волевой психологии именно в данном направлении — нам кажется, что мы не сможем совершить известных движений, и это совершенно парализует нашу волю, как мы говорим, т. е. делает невозможным волевой процесс. Когда в темноте мы идем в незнакомом для нас месте, мы испытываем тоже чрезвычайное потрясение волевой психологии именно на почве ослабления чувства нашей «мощи»15.
Все это достаточно показывает значение «сознания своей мощи» в волевой психологии. Но возникает вопрос — каким образом мы приобретаем это сознание? Ясно без дальнейших рассуждений, что только посредством опыта: только наш непосредственный опыт может научить нас, что мы можем и чего мы не можем. Мы не имеем крыльев, не можем летать, не можем подниматься над землей — это мы хорошо знаем, но откуда? Только из непосредственного опыта, который определяет границы того, что мы можем и чего не можем, — как только в опыте мы и можем узнать, что обладаем известной силой: до опыта у нас нет никакого знания об этом. В вопросе о развитии у нас волевого самосознания указанная Беном схема может быть полезна, но, ко-
--
15 См. интересную статью Левенштейна — Ueber den Akt des Konnens und seine Bedeutung fur die Praktik, Didaktik und Padagogik. Ztschr. f. padag. Psych. 1911.
104
нечно, совсем не в том смысле, какой ей придавал Бен. Модифицируя существо его теории, мы могли бы сказать, что мы лишь случайно открываем в себе способность совершать движения соответственно тому, что называется «целью», т. е. соответственно некоторому образу, как бы предвосхищающему идеально то, что должно быть реализовано в движении. Признавая волю изначальной, непроизводной функцией, мы не разрешаем еще вопроса о том, как мы осознаем в себе волевую силу, а между тем именно это сознание, как мы видели, конституирует волевую психологию. Теперь мы видим, что сознание волевой силы может быть дано нам лишь опытом — и притом случайным опытом, так как только случай может натолкнуть дитя на соответствие результатов активности тому предвосхищающему образу, который был до активности в сознании ребенка.
Дитя очень рано проявляет инстинктивную и выразительную активность и, конечно, чувствует, что эта активность осуществляет то, что было в душе. Но это еще не формирует воли. Для того, чтобы возникла волевая активность, необходимо, чтобы активность определялась не тем порывом, который психически «продвигает» в нас инстинктивные устремления, не чувством, ищущим своего выражения, как это имеет место в выразительной активности. Пока причина движений лежит в инстинктивной или эмоциональной сфере, воли еще нет, т. е. нет на лицо способности осуществлять в движениях то, что предносится нашему сознанию, как «цель», т. е. как образ, предвосхищающий результат движения. Для того, чтобы в нас проявилась волевая активность, необходимы два условия: наличность в нас волевой функции, как способности осуществлять в движениях наши идеи, а с другой стороны — наше знание о том, что мы обладаем этой функцией. Пока_мы не сознаем, что обладаем волей, она, будучи присущей нам, как бы отсутствует, как бы дремлет в нас. Конечно, не сознание воли формирует ее —и этого именно и не понял Бен, но сознание впервые делает возможной работу воли. Когда мы утверждаем это, то, конечно, имеем в виду непосредственное, интуитивное сознание, — а не то сознание, которое предполагает самонаблюдение и анализ.
Бен выводит волю из импульсивной активности, т. е. из той формы активности, которая не имеет и никогда не может иметь никакой цели. Совершенно ясно, что функция воли, будучи изначальной и непроизводной, но нуждаясь для своего психического проявления в сознании мощи, примыкает в этом процессе не к импульсивной активности; ибо если и здесь опыт дает соответствие результатов активности и внутренних переживаний, то все же здесь эта связь является действительно и глубоко случайной. Импульсивная активность, как таковая, бесцельна и лишь случайно может быть связанной с каким-либо внутренним переживанием, по существу же она не предполагает этих переживаний и потому процесс, о котором говорит Бен, не может быть всеобщим. А priori ясно, что пробуждение воли может быть связано лишь с той активностью» --В--кшхщо_й есть сознание цепи иттй что-липо ана-л о г ЦЧР"Р РМУ И В КОТОРОЙ ВМЕСТЕ С ТЕМ ВОЗ\Ю^АЮ^АШШРЕ1ШЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СТОРОНЫ. ВЕДЬ В ВОЛЕ МЫ ИМЕЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
105
регуляцию активности, точнее говоря, волевая регуляция опирается на интеллектуальную работу: с полной силой этот момент обнаруживается так называемом «выборе» при борьбе мотивов.
Не импульсивная, а лишь инстинктивная активность является именно той формой активности, примыкая к которой в нас оформляется воля. С одной стороны, инстинктивная активность, хотя и реак-тивнгПю своей сущности, но вместе с тем она регулируется психически — теми потребностями, порывами, которым мы следуем, не понимая их ценности и целесообразности, а просто отдаваясь им. Но вместе с тем инстинктивная активность доступна воздействию опыта; в инстинктивной активности мы не действуем слепо и автоматически, но приспособляемся к данным условиям. На этой именно почве и возможно расширение роли интеллектуального момента в активности; инстинктивные движения, так сказать, дорастают до волевых. Та интеллектуальная работа, которая имеет место при инстинктивной активности, как бы раздвигает перспективу, расчищает перед нами путь для того, чтобы мы попробовали осуществить и то, что выступает в сознании, как чистый образ, т. е. вне инстинктивной сферы, вне чувств и желаний и связанных с ними движений. Такая случайная проба (а она может быть только случайной, ибо дитя, хотя и доросло до пробуждения воли, но не подозревает в себе ее), конечно, оправдывает себя — и в этот именно момент рождается воля, ибо дитя приобрело уже волевой опыт. Известное нам уже явление самоподражания содействует повторению и закреплению волевого опыта.
Таким образом, пробуждение воли (а только о нем и может быть речь при понимании воли, как непроизводной, изначальной функции) связано с развитием инстинктивной активности, к которой примыкает воляТДитя должно дорасти в своей инстинктивной активности до того, чтобы стать способным к первой пробе волевой активности.
Когда происходит фактически этот процесс, когда «рождается» воля у ребенка? Вне всякого сомнения стоит то, что это происходит в течение первого года жизни, но более конкретное определение здесь очень трудно. Симптомы пробуждения воли выступают, впрочем, очень рано, как это отмечают различные наблюдатели. Пусть эта детская воля еще «слаба», т. е. легко уступает место другой форме регуляции активности, но она уже выступает, как особая психическая функция. В. Штерн склонен думать, что развитие инстинктивной деятельности предполагает «некоторое примитивное содействие воли ребенка»16. Мы видели выше, что в детском подражании Штерн отличает форму, в которой тоже имеет место «примитивное действие воли». Если согласиться с Штерном, то надо признать, что волевая функция выступает на втором—третьем месяце жизни. Я склонен, однако, думать, что Штерн слишком широко понимает «примитивное действие воли», сводя к нему все формы регулируемой активности, т. е. сводя к воле и эмоциональную регуляцию. С этим согласиться невозможно; в силу этого рассуждения Штерна не кажутся мне убедительными. Гораздо
--
16 Stегп. Op. cit. S. 43.
106
существеннее то, что дают нам наблюдения над развитием зрения, над развитием активного осязания, умения прислушиваться. В третьей и четвертой фазе развития зрения выступают признаки волевой регуляции, то же наблюдаем мы в развитии активного осязания. Я склонен поэтому думать, что к концу первого полугодия жизни у ребенка уже просыпается волевая функция. Это сказывается в чрезвычайном повышении количества движений, которые совершает дитя. Еще не двигаясь самостоятельно, дитя к лому времени проявляет склонность к беспрестанному движению. Во вторую половину первого года жизни дитя научается постепенно двигаться и здесь открывается перед ребенком совершенно новая дорога развития: самостоятельная активность становится центральным фактом в жизни ребенка.
Рис. 4.
Когда дитя учится ходить, в нем с полной ясностью выступают все черты волевого внимания, и это убедительно говорит о том, что волевая регуляция просыпается раньше. Вместе с пробуждением воли начинается интенсивный процесс овладевания органами тела, всей системой доступных движений. Овладев органами чувств, дитя стремится овладеть своим телом, чтобы вступить в следующий период развития. Между 9—12 месяцем жизни совершается действительно глубокий перелом в жизни ребенка — в физическом и психическом его развитии. Дитя перестает кормиться грудью; оно уже свободно от пеленок, со всех сторон сжимающих его, начинает уже самостоятельно двигаться. Первоначальное умение владеть органами чувств, органами тела уже достигнуто. Мы не затронули до сих пор лишь одной стороны в развитии ребенка — именно развития у него речи в это время. Изучением этого последнего процесса мы закончим характеристику первого года жизни ребенка и естественно перейдем к изучению психического своеобразия раннего детства.
107
ГЛАВА VII.
Развитие речи. Три стороны в развитии речи; их связь между собой. Развитие речи с психо-физиологической точки зрения. Крик, лепет, членораздельная речь. Речь с психологической точки зрения. Словесные образы. Психология понимания слов и означения. О количестве слов, известных ребенку. Логическая сторона речи; ее грамматическое развитие. Закон Штерна.
Крик, с которым дитя вступает в жизнь, имеет, как мы знаем, рефлекторный характер, — однако уже он вызывает социальный отзвук, уже он служит фактически средством для выражения того, что переживает дитя. Рефлекторное голосовое движение приобретает выразительное значение не в силу внутренних его свойств, а в силу социально-психических условий, в каких оно раздается. Постоянный социальный резонанс, постоянные ответы социальной среды на голосовые движения ребенка очень рано ведут к тому, что дитя подмечает выразительную функцию крика — и здесь, конечно, лежит главнейшая психическая причина того, что рефлекторное голосовое движение является исходным пунктом сложного и плодотворного процесса развития речи. Очень рано крик сам по себе становится выразительным, т. е. возникает не только как рефлекторное, но и как выразительное, внутренно обусловленное голосовое движение. Хотя крик, как рефлекторное движение, возможен в нас до конца жизни, но он перестает быть только рефлекторным очень рано. С фонетической точки зрения крик является первоначально монотонным и однообразным, но в нем очень рано может быть отмечена нюансировка, которая дает возможность матери или няне безошибочно определять, что именно выражает этот крик. Дитя как бы инстинктивно учится играть на богатейшем своем инструменте — голосе; чем дальше растет дитя, тем многообразнее и дифференцированнее оттенки в его крике. Если один автор1 уверяет, что у своего семимесячного сына он мог с полной отчетливостью различать три разных крика (крик радости, крик нетерпения и крик страха), то надо признать, что это различие можно находить гораздо раньше — в первые же месяцы жизни. Штерн даже уверяет, что мать уже в первые недели может различить, означает ли крик ребенка боль, голод или то, что он мокрый2. Очень любопытен плач ребенка. Дитя очень рано замечает, что его плач имеет влияние на окружающих. В силу этого
--
1 Е. Egger— Entwickelung d. Intelligenz und der Sprache bei den Kindem. S. 14 (у меня под руками немецкий перевод).
2 W. S t e r n — Psych, d. fr. Kindheit. S. 75.
108
его плач (равно как и крик) перестает быть «пассивно выразительным» (т. е. независимым от сознания ребенка), но приобретает «активно выразительный» характер. Дитя сознает выразительную силу крика и плача и стремится использовать ее. Если оставить ребенка одного в комнате, дитя будет плакать, пока не придет кто-либо в комнату; очень скоро на крик и плач ребенка оказывает свое влияние и то его наблюдение, что сильный крик скорее приводит к желанным результатам, чем слабый.
По некоторым наблюдениям3, уже на пятой неделе можно заметить в крике отдельные звуки. Голосовые движения как будто еще лишены той индивидуальной окраски, которую зовем мы тембром и которая, как известно, связана с наличностью дополнительных тонов в голосовой волне. «Я не знаю, — пишет тот же Е g g е г, — ни одной Матери, которая могла бы в первые два или три месяца отличить свое дитя среди нескольких других детей по голос у»4. Мне кажется это неверным; насколько я могу судить, именно плач ребенка довольно отчетливо окрашен для нас; в плаче уже выступает тембр — конечно, сначала в неясной форме. Музыкальная сторона плача, обладающего, вообще говоря, большей выразительной силой, чем голос, мало изучена; хотя плач музыкально сложен, но все же в нем очень рано проявляются индивидуальные особенности, впрочем, не только голосовые). До известной степени плач может быть сближаем с почерком — по его индивидуальной выразительности.
Дитя не только само кричит и плачет — оно все время слышит вокруг себя звуки, и наличность этой звуковой атмосферы является могучим фактором в развитии голосовых движений у ребенка. Дитя застает вокруг себя установившиеся формы речи, научается их понимать — раньше чем само научится владеть ими. Голосовые движения, как они возникают изнутри у ребенка (крик и плач), освещаются и регулируются звуками, какие дитя слышит вокруг себя. Эта связь голосовых движений и слуховых восприятий дана ребенку в виде унаследованного предрасположения — опыт лишь пробуждает к действию его.
В развитии речи, как таковой, необходимо различать три стороны — психо-физиологическую, психологическую и логическую. Речь является прежде всего системой звуков, производимых нашим голосовым аппаратом; это производство звука, его артикуляция есть физиологический, точнее говоря — психофизиологический процесс, который мы можем изучать отдельно. Однако, речь в психо-физиологической своей стороне не развивается отдельно от того, для чего она существует. Самое развитие речи связано с тем, что она имеет «значение», т. е. служит средством выражения внутреннего мира — чувств, желаний, мысли. Вначале речь обслуживает эмоциональную сферу души, выражает чувства и желания; постепенно затем она начинает обслуживать и интеллектуальную сферу, что и становится впоследствии главной задачей речи. В этой своей функции, в выражении наших мыслей, речь становится орудием мышления и неиз-
--
3 Е g g e r. Op. cit. S. 13.
4 Ibid. S. 17.
109
бежно подчинена логическим законам, точнее говоря — в развитии речи можно с известным правом говорить о логической стороне этого развития. То, что называется грамматической стороной речи, частью и является носителем логической стороны речи, хотя в полноте своей грамматическая сторона речи служит выражением не только логических, но и психологических моментов речи.
«Чистая» мысль, как таковая, подчинена логическим законам и только им. Но «чистая» мысль, свободная от всякого психического своего выражения, может быть констатирована лишь как один из переходящих моментов в развитии нашего мышления. Самостоятельное бытие «чистой» мысли, совершенно свободной и в себе и в своих связях с другой работой мысли от психического выражения, для нас неосуществимо. «Чистая» мысль осуществима для нас лишь как момент, включенный в психическую ткань. Отсюда становится для нас ясным, что действие мысли, как таковой, т. е. в ее чисто логической стороне, на речь только потому и возможно, что между логическими и психо-фи-зиологическими процессами стоят еще психические. Эти психические процессы делают возможным взаимное влияние мышления и речи, так как если мышление есть одновременно логический и психический процесс, то речь является психо-физиологическим процессом. Как ни один звук, который мы издаем, не стоит вне связи с психическим миром, так и наша мысль, будучи в своем существе внепсихиче-ской — как акт чистого понимания — реализуется в нас в системе психических процессов, включена в психическую ткань. Через психическую эту среду логические и психо-физиологические процессы могут иметь друг на друга влияние. Таким образом, говоря о наличности трех сторон в речи, мы имеем в виду не действительное отдельное существование их рядом друг с другом, а лишь различаем эти стороны, не отделяя их одну от другой. Фактически речь развивается как единый, хотя и сложный процесс; реальность языка представляет нам живое и органическое единство этих сторон, так что только в целях анализа и возможно их различать.
Обратимся теперь к изучению отдельных сторон в речи и остановимся прежде всего на ее психо-физиологической стороне. Подходя к речи с этой стороны, мы можем различить в развитии речи несколько фаз. Вслед за другими авторами мы будем различать три фазы: 1) крика, 2) лепета и 3) настоящей речи. Однако, должно сознаться, что при настоящем состоянии наших знаний о развитии речи это деление не вполне удовлетворительно и мы будем им пользоваться лишь за отсутствием более точного.
В первой фазе мы находим у ребенка крик, плач и первые пробы артикуляции; некоторые наблюдатели различают поэтому в первой стадии две ступени: первая ступень (первые 6 недель) — неартикулиро-ванный крик и вторая ступень (до конца первой половины года) — артикулированный крик. Это верно в том смысле, что начатки артикуляции могут быть найдены уже в крике, как это впервые отметил, если не ошибаюсь, Прейер. Надо признать, что в процессе развития артикуляции известная роль должна быть отведена плачу, который, как мы
110
уже говорили, музыкально богаче крика. Не следует забывать также, что в производстве звука огромное значение принадлежит дыханию; кто не знает общераспространенного мнения, что когда дитя кричит — оно «упражняет легкие»? И в самом деле, уже в крике, а тем более в плаче дитя проделывает необходимую для развития голоса работу; в этом смысле было бы неправильно говорить, что в стадии крика дитя издает звуки исключительно в целях выражения своих чувств или в силу рефлекторного механизма. Уже в этой стадии имеет место самоподражание — этот зачаток игры. Дитя кричит или плачет иногда как бы в целях упражнения голоса, оно просто повторяет одни и те же движения. Незаметно за этими движениями осуществляется очень важный процесс развития голосового аппарата; мы уже приводили наблюдение Egger'a относительно того, что уже на пятой неделе жизни ребенка можно говорить о его голосе.
Рядом с криком, плачем постепенно выступает новая форма производства звуков, которую принято характеризовать словом «лепет». Фаза лепета длится приблизительно от 3-го месяца до 9—12, а иногда и дольше; она обнимает все те формы производства звуков, которые предшествуют появлению настоящих слов, — и в этом смысле стадия лепета обнимает целый ряд разнообразных процессов. Писк и движение губами, начатки пения и повторение одних и тех же слогов, настоящая артикуляция и пробы новых звукосочетаний — все это обнимается понятием лепета. С одной стороны, здесь мы имеем дело с явлением самоподражания и настоящей игры звуками, с другой стороны, мы видим здесь пробы артикуляции, вовсе не связанные с установкой на игру. Было бы неправильно видеть в лепете только игру: игра является лишь одной из действующих здесь сил.
Хотя стадия лепета некоторое время уживается с криком и плачем, но постепенно вся голосовая эволюция как бы сосредоточивается в лепете. Это связано с тем фонетическим многообразием, которое мы находим в лепете: по уверению многих наблюдателей в фазу лепета дитя овладевает почти всеми звуками языка. От следующей стадии лепет (с известным правом) может быть отличаем тем, что звукосочетания еще лишены «значения» — однако, не следует забывать, что уже в период лепета у ребенка имеются «слова», т. е. с известными звукосочетаниями соединяются те или иные «значения». Правда, это не «настоящие» слова в том смысле, что они не имеют определенного звукового контура: когда дитя говорит: «мма — мма — мма» или «бба — бба — бба», то оно может повторять один и трт же слог несколько раз5, между тем «настоящее» слово имеет законченный контур («мама», «баба»). Однако, эти звуковые комплексы, не имеющие определенного контура, имеют свое «значение» — и это дает право говорить о «словах лепета»6. Все же прав и Селли, когда он видит а лепете «рудимент пения и музыки, а не артикулированного языка»; было бы точнее сказать, что в лепете гораздо большее значение принадлежит музыкальной стороне
--
5 Обобщая (без всяких оснований) этот момент, фазу лепета иногда характеризуют, как «фазу попугая».
6 Ср. В й h 1 е г — Die geistige Entwickelung des Kindes. 2-е изд. S. 207.
111
речи, чем артикуляции звуков. Мы говорили уже, что в течение стадии лепета дитя постоянно упражняется в артикуляции, — но основной процесс лепета лежит не в артикуляции, а в развитии голоса вообще. Эта сторона еще мало изучена, но мы могли бы сказать, что дитя прежде научается петь, чем говорить. Ритмика детского лепета, конечно, запутана: иногда в нем совершенно явственно выступает ритм, иногда он становится неясным. Во всяком случае, лепет гораздо больше связан с музыкальной стороной речи, с развитием детского голоса, чем с артикуляцией, как таковой. Слушая детский лепет, сплошь и рядом отмечаешь колебания в производстве звуков: один раз дитя явственно и раздельно произносит какие-либо звуки, затем словно забывает их. Все это связано с тем, что главная работа лепета лежит не в артикуляции, которая является побочным результатом основного процесса. Можно думать, что самая артикуляция становится доступной, дифференцируется только потому, что дитя в лепете занято развитием голоса, как такового, что и делает его гибким.
В стадии лепета дети всех народов и стран чрезвычайно сходны. Когда начинается образование слов, различия эти — конечно, благодаря влиянию языковой атмосферы, в которой развиваются отдельные дети, — лишь тогда начинают выступать с полной силой. «Интернациональность» же детского диалекта, как выражается В. Штерн, может быть отмечена лишь в детском лепете и в самых ранних формах речи, — и снова причину этого мы должны видеть в том, что лепет есть «стадия пения» в развитии детской речи, если позволено так модифицировать идею Селли.
Лепет часто характеризуют, как «монолог»; дитя «говорит», но еще не «разговаривает». Это, конечно, верно, хотя дитя собственно не говорит, а поет — во всяком случае, больше поет, чем говорит.
Как вторая стадия начинается при незаконченности первой и некоторое время существует с ней рядом, так и в третью стадию в развитии речи дитя вступает еще в расцвете второй. Новым является прежде всего подражание тем звукам, которые дитя слышит вокруг себя; это подражание становится постепенно все более могучим и влиятельным фактором в развитии речи. Штерн нашел начатки такого подражания уже в конце первой половины первого года жизни, а Дике (Dix) даже ранее — в конце третьего и четвертого месяца. Особое значение этого момента в развитии речи заключается в том, что дитя воспроизводит те звуки, которые оно слышит вокруг себя. Этим создается сближение в развитии речи между ребенком и языковой средой, в которой он живет; в музыкальном развитии голоса этот фактор вносит известный подбор, выдвигая преимущественно определенные звукосочетания. Один автор уверяет, что в период лепета дети способны к производству решительно всех звуков, какие встречаются в человечестве; звукосочетания, недоступные для взрослых, доступны для детей. Если это верно, то тогда совершенно ясно, что подражание звукам, какие дитя слышит вокруг себя, так сказать специфицирует эту музыкальную гибкость детского голоса, выдвигая и закрепляя лишь определенные звукосочетания.
112
Предвестником третьей фазы в развитии речи является еще один очень важный процесс, именно «понимание» речи, которая звучит вокруг ребенка. Не будем сейчас говорить о психологии «понимания» чужой речи — мы коснемся этой темы подробнее несколько позже, отметим лишь, что дитя вживается постепенно в языковую среду, его окружающую, приучается к тому, что слова имеют определенный звуковой контур, и, наконец, привыкает к тому, что эти звуковые комплексы нечто «означают». Психологию этого сложного процесса мы разберем ниже, сейчас же отметим, что если в лепете дитя постепенно овладевает тайной голоса и научается артикулировать, если в подражании звукам, которые дитя слышит вокруг себя, оно привыкает к определенным звукосочетаниям и овладевает наследственно данной координацией слуховых и артикуляционных ощущений, то, приучаясь «понимать» чужую речь, дитя овладевает тем, что одушевляет и формирует весь процесс речи — овладевает «душой» речи и ее живою связью с «телом» речи — звуками. Речь подготовлена уже как система звуков, в понимании же речи окружающих дитя подходит к сознанию и усвоению движущего начала речи, ее способности быть выражением и проводником «смыслов». «Когда три указанных функции, — говорит справедливо по этому поводу Штерн7, — развивавшиеся первоначально отдельно одна от другой, образуют некоторое единство, — тогда начинается у ребенка речь в собственном смысле слова».
Третья фаза — фаза членораздельной речи или, что то же — фаза «настоящих» слов начинается между 9 и 18 месяцами. Обычно около года дитя уже вступает в эту фазу, но возможны случаи, когда вступление в фазу настоящей речи запаздывает. Процесс развития речи чрезвычайно индивидуален; до сих пор не удалось выяснить его функциональных связей с другими психо-физиологическими и психическими процессами. Дитя вступает в фазу членораздельной речи тем, что у него появляются слова с определенным звуковым контуром, с определенным «значением». На этих словах обнаруживаются успехи в артикуляции, достигнутые в предыдущий период. Можно установить известную закономерность в появлении отдельных звуков: сначала дитя, кроме гласных, владеет небольшим запасом согласных звуков, но постепенно, под несомненным влиянием окружающей среды, дитя «выучивается» все большему числу согласных звуков. Этот процесс длится обыкновенно до 4-х лет, и в течение этого времени речь ребенка обнаруживает так называемые «естественные» дефекты речи. Главные дефекты речи обнимаются понятием картавления, которое состоит в неправильном выговоре как отдельных звуков, так и целых слогов. Дитя стремится на место трудных звуков подставить близкие, но'легко дающиеся ему — оно идет здесь по линии наименьшего сопротивления.
Нормально дитя к 4 годам (иногда чуть позже) выговаривает все звуки своего родного языка; однако, надо сказать, что та стадия в культуре голоса, на которой останавливается процесс развития речи, охватывает только умение ясно и правильно выговаривать звуки родного языка — но не больше. Между тем чистая дикция, умение владеть всем
--
7 S t е г n — Psych, d. fr. Kindheit. 2-е изд. S. 86.
113
богатством оттенков, присущих голосу — а голос по истине может быть назван богатейшим музыкальным инструментом — лишь случайно даются нам. Природа не заботится ни о чистоте дикции, ни о красоте голоса — она предоставляет решение этих задач воспитанию. Известно, что очень многие люди не говорят «своим» голосом, т. е. не владеют тем регистром, который был бы наиболее легким для них. Некоторые из нас случайно умеют пользоваться все полнотой, всем богатством своих голосовых средств, но как много людей, которые не знают своего голоса, не владеют им!
На этом мы можем остановиться в изучении развития исихо-физи-ологической стороны речи и перейти к ее психологической стороне. Переход этот тем естественнее, что живая речь не только взрослого, но и ребенка всегда есть связная речь, aire отдельные слова, тем менее отдельные звуки. Звуковое развитие, успехи в артикуляции достигаются в живой речи, в связных высказываниях, — поэтому психологический анализ речи, как живого целого, естественно примыкает к тому, что было сказано выше.
Всякое слово имеет двойную природу: оно имеет прежде всего свое «тело», которое состоит из звуков, но оно имеет и свою «душу» — тот «смысл», который одухотворяет эти звуки, является выражаемым ими «значением». В живой реальности языка никогда «тело» слова не существует отдельно от его «души»: мысль («душа» слова) может — сама по себе — существовать отдельно, могут произноситься кем-либо и звуки («тело» данного слова) без придания им «значения», но то и другое не входят в систему языка. В языке мы имеем дело со словами, в живом единстве соединяющими «тело» и «душу» слова.
Звуковой комплекс («тело» слова) имеет определенную и законченную форму, имеет свой «контур». Потому-то в стадии лепета и не бывает «настоящих» слов, что звуковые комплексы с определенным уже лексическим содержанием не имеют еще определенной формы (дети говорят — «мма — мма — мма…» вместо нашего «ма — ма»). Определенность звукового контура в «настоящих» словах ведет к тому, что внимание привыкает к звуковой стороне слова, легко выговаривает звуки, легко их узнает и благодаря этому свободная энергия уходит вся в работу мысли.
Звуковой комплекс является носителем определенного «значения» — это именно и делает его «словом». Как это возможно и как это осуществляется в нас, в детях? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно ближе войти в анализ психической стороны речи.
Когда мы слышим чужую речь, мы слышим звуки, поток звуков, в котором «узнаем» отдельные слова. Этот процесс выделения из звукового потока отельных слов дается нам легко, проходит незаметно, но совершенно ясно, что процесс «узнавания» знакомых слов в звуковом потоке возможен лишь потому, что в нашей душе живут слуховые образы слов. Если кто-либо произнесет неясно знакомое нам слово, мы не узнаем его и оно не будет для нас иметь'никакого смысла; это хорошо показывает, что весь процесс «понимания» чужой речи опирается на узнавание слов прежде всего в их звуковой стороне.
114
Когда мы выговариваем только что услышанное или любое иное слово, мы как бы знаем наперед, что именно хотим сказать — это ясно видно на тех случаях, когда мы «оговариваемся» и произносим не то слово, какое хотели произнести. То, что регулирует процесс выговора слова, есть несомненно некоторый «образ» слова, т. е. психический его облик, связанный с его выговариванием; можно было бы назвать этот образ слова — моторным (в частности — артикуляционным) образом. Нельзя понять процесс говорения так, что механизм артикуляции действует «сам собой», потому что мы говорим то, что хотим сказать, выражаем свои мысли с помощью слов. Но каким образом чистая мысль могла бы регулировать процесс выговаривания слова? Ясно без дальнейших рассуждений, что это возможно только в том случае, если у нас в душе имеются образы слов, нужных нам. Наша мысль воплощается прежде всего в душе в некоторые языковые образы — и только благодаря этому она может регулировать процесс речи, внешнего выговаривания слов. Мы, взрослые, настолько привыкаем «облекать» в «форму» слов наши мысли, этот процесс до того представляется нам естественным, что мы с трудом могли бы наблюдать в себе этот переход мысли в слова: ведь если мы внешне не выражаем в словах наших мыслей, то мы их выражаем так называемой «внутренней речью». Но как бы ни смотреть на это явление внутренней речи, мы должны признать, что это явление регулируется также образами слова — ибо и здесь бывают случаи, когда мы употребляем во «внутренней речи» не то слово, какое было нужно.
Убедительным доказательством того, что моторные (артикуляционные) образы слова действительно существуют, могут служить ошибки при выговаривании слов, а также те случаи, когда говорят люди, находящиеся в экстазе. Думать, что в этом случае слова выговариваются «сами собой», невозможно уже по одному тому, что речи лиц, находящихся в экстатическом состоянии, не представляю! простого набора слов, но связаны между собой своим «содержанием».
У детей, как и у взрослых, слуховой и моторный (артикуляционный) образы слов соединены с образом обозначаемого предмета (большей частью с зрительным его образом). Но у взрослых грамотных людей сюда присоединяется еще зрительный образ написанного (напечатанного) слова и графический образ, регулирующий написание слова. Все эти образы связаны друг с другом, так что между ними рано образуется полная психическая эквивалентность: мы без труда, например, записываем то, что слышим, говорим о том, что мы видим.
Дитя первоначально обладает лишь слуховым образом слова — оно слышит вокруг себя слова, привыкает к их звуковому контуру, узнает его и научается придавать ему определенное «значение». В. Штерн справедливо отмечает, что объем слов, которые дитя понимает, значительно больше объема слов, которые дитя само может выговорить; эта «отсталость» собственного говорения в отношении к пониманию слов, по мнению Штерна, продолжается очень долго — до зрелого возраста. Я думаю, что мнение Штерна правильно.
Пока дитя не связывает с определенным звуковым комплексом
115
«значения» (хотя бы сознаваемого самым смутным образом), до тех пор оно не знает этого «слова», имея лишь слуховой образ. Каким же образом доходит дитя до того, чтобы понять «символическое» значение звуковых комплексов? Связан ли этот процесс с простой ассоциацией звуковых комплексов с образами тех или иных предметов или же в основе его лежит нечто иное? Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, укажем на следующее. Когда мы говорим, что всякое слово что-либо означает, то у нас непременно налицо то, что обозначается (предмет обозначения), и то, чем этот предмет обозначается (материал обозначения4). Если мы слышим «незнакомое» слово, например греческое слово « deybpov », — оно для нас ничего не «обозначает» и является простым набором звуков. Случайно в нашем сознании может находиться рядом с этим слуховым образом «5ey5pov» (а) — зрительный образ дерева (Ь); но простое существование рядом этих двух образов а и Ъ совершенно их не сближает. Необходим особый а к т, с помощью которого мы могли бы сознать, что а «означает» Ъ. Этот «означающий» (сигнификативный) акт впервые объединяет материал обозначения и его предмет, т. е. впервые создает психологию обозначения. Как видим, кроме предмета обозначения и материала его, необходим еще особый означающий акт: не простая ассоциация образов а и Ъ создает их связь означения, а именно особый акт. Тайна психологии обозначения лежит именно в нем.
Мы, взрослые, не замечаем в себе этого процесса в полной раздельности его моментов — обыкновенно, когда мы слышим (на родном языке) какое-либо слово, мы его «непосредственно» понимаем; это связано вовсе не с ассоциацией а и Ь, а с тем, что акт означения, переживаемый на каждом шагу, не сознается нами с полной ясностью — в этом виде нет никакой психической необходимости. Но когда мы говорим на чужом языке, особенно если мы не вполне свободно владеем им, процесс понимания и обозначения не идет так быстро и тогда с полной ясностью можно наблюдать акт означения.
Между психологией обозначения — когда мы сами говорим слова, внося в них тот или иной «смысл», то или иное «значение» — и психологией понимания чужой речи нет существенного различия. В обоих
116
случаях необходим материал обозначения и его предмет, но лишь акт обозначения связывает а и Ъ, устанавливает их «единство». Очень любопытен процесс замены слов «эквивалентными» выражениями, — когда, например, мы читаем в рассказе слово «храбрый человек», но, излагая своими словами, говорим о «мужественном» или «смелом» человеке. Этот процесс, имеющий огромное значение в качестве симптома понимания и в этом смысле совершенно неоцененный школой, покоится на том, что слово а сначала осознается в своем «смысле» (Л) и только тогда может быть подменено эквивалентным «;.
Самая «эквивалентность» означает не что иное, как одинаковую силу в выражении одного и того же смысла; поэтому подмен слова а «эквивалентным» словом а1 покоится на сознании смыслаЛ, без чего неосуществима замена одного слова другим.
Дитя очень рано научается «сообщать» окружающим свои желания и чувства в крике, плаче, движениях; для окружающих людей все это нечто «означает». Но означающая функция крика, плача, движений вырастает независимо от сознания ребенка и впервые доходит до сознания в своем социальном резонансе, в своем социальном отзвуке. Перед ребенком раскрывается перспектива означения — мы могли бы повторить знакомый уже нам термин Болдвина — проективно: дитя еще не сознает функции означения в ее внутреннем смысле, можно сказать — в ее идее, но перед ним уже вырастает перспектива обозначения, уже накопляется материал, который должен быть понят в своем смысле. Социальный резонанс, который имеет плач, крик, не создает актов означения, ибо с актами связано внесение «смысла» в слова, в звуки, в движения — но он подготовляет дитя к тому, чтобы овладеть этой функцией означения. Как это происходит и когда, — это очень трудно сказать, но когда к 3-му году жизни у ребенка проявляется стремление узнать название всякого предмета, у него как бы уже формируется общая идея, что всякий предмет должен иметь свое «название», свое «обозначение»; мы должны видеть в этом медленное осознавание той перспективы, в темную глубину которой дитя глядело несомненно и раньше. С известным правом мы могли бы распространить на этот процесс «рождения» функции означения в душе ребенка то, что нам известно о пробуждении ее у Елены Келлер. Известно, что Елена Келлер была слепо-глухо-немой; когда с ней познакомилась ее воспитательница г-жа Сюлливан, она постепенно научилась ассоциировать те или иные осязательные ощущения (на ладони) с разными предметами (хлебом, водой и т. д). Объективно говоря, те или иные осязательные ощущения для нее уже «обозначали», но так как психологически они были простой ассоциацией образов и Елена Келлер не вносила в них «акта означения», то она переживала связь образов а и b совершенно конкретно. Между тем в психологии обозначения несомненно имеется «идеирующая» функция, восхождение к идее предмета: это сказывается в сознании, что данное «слово» (материал обозначения) приложимо сколько угодно раз к однородным предметам. Слово «дерево» «обозначает» не только то дерево, которое я вижу, но и всякое другое дерево; это можно выразить так: пред-
117
метом обозначения является не реальный (данный, конкретный) предмет, а «интенциональный» предмет или предмет «вообще». Это значит, что предметом означения может быть и данное дерево, и всякое другое дерево «вообще», в его «сущности», а не в данной именно конкретной реальности. Возможность применения слова к любому числу однородных предметов сознается нами непосредственно при акте означения — это-то и формирует «перспективу» означения в его иде-ирующей силе, в его возвышении к идее. Именно здесь и выступает впервые различие интенционалыюго предмета (предмета обозначе-1 ния) и реального предмета.
Is Елена Келлер связывала известные ощущения на руке с предметами — и зачаток акта означения сказывался в том, что она хотела с помощью известных «знаков» указать на определенные предметы. Но сознание ее как бы спало — она обозначала, но не сознавала, что именно делает. Но вот однажды слово молния осветила тьму, в которой она жила, — и она сразу поняла то, что образует сущность обозначения, именно всеобщую приложимость «знака» к бесчисленным однородным предметам. Г-жа Сюлливан очень драматично рассказывает об этом: в девочке поднялось тогда чрезвычайное волнение, и она стала лихорадочно «называть» один предмет за другим.
То, что пережила Елена Келлер, переживают все дети — только пробуждение в них функции обозначения идет постепенно: оно предваряется тем проективным сознанием этой функции, которое создается социальным резонансом. В течение уже первого года жизни, после 6—8 месяцев, функция обозначения пробуждается у детей.
Можно ли исчислить количество слов, которыми владеет дитя? Некоторые психологи считают это возможным, но я не могу разделить этой точки зрения. Мы уже упоминали о наблюдении Штерна, что количество доступных пониманию ребенка слов всегда больше того, чем дитя само пользуется. Некоторые слова дитя знает хорошо, любит их и часто их употребляет; другие слова дитя знает, но редко употребляет; есть и такие слова, которые дитя знает плохо, забывает их. Как исчислить в таком случае количество слов, известных ребенку? Существует наблюдение, что девочки вообще раньше научаются говорить, чем мальчики. Вне всякого сомнения стоит факт, что в семье младшие братья и сестры обыкновенно скорее и легче научаются говорить, чем старшие дети, так как с первыми детьми говорят лишь родители, а с младшими говорят их брать.. - и сестры, имеющие более благотворное влияние на развитие языка. Развитие речи у детей из слоев, стоящих на низшей ступени в социальном отношении, начинается сравнительно поздно и протекает вообще медленнее, чем у детей образованных классов. Здесь имеет свое значение то обстоятельство, что высшие классы обыкновенно посвящают больше времени детям, чем низшие.
Дети обнаруживают предпочтение к словам, между звуковой стороной которых и значением есть «естественная» связь. Слово «собака» не удержится так, как слово «гав-гав». В этом именно смысле детский словарь имеет интернациональный характер. На детском языке России, Германии, Франции, Японии «собака» обозначается почти однородно
118
(«гав-гав», «wau-wau», «oua-oua», «wan-wan»). To же должно сказать о слове «ма-ма». Нередко дети выдумывают свои собственные слова, — и в этом смысле говорят об особом детском языке. Нормально дитя редко удерживает эти продукты своего языкового творчества, но иногда их усваивают взрослые и они переходят в их язык (это особенно относится к именам).
Приведем цифры одного французского психолога, касающиеся запаса слов у двух детей в одной семье:
| Годы |
Старшее дитя |
Младшее дитя |
| 1'/4 |
21 |
8 |
| 11/2 |
60 |
22 |
| 13/4 |
167 |
72 |
| 2 |
334 |
334 |
| 21/4 |
500 |
587 |
| 21/2 |
639 |
751 |
| 23/4 |
800 |
982 |
| 3 |
1089 |
1316 |
Развитие языка ребенка обиаруживет весьма любопытные ступени в развитии его грамматического строя. То, что называется вообще грамматической стороной речи, охватывает все те внешние и внутренние особенности в строе речи, в жизни отдельных слов, которые дают возможность с помощью языка выразить нашу мысль в совокупности ее логических отношений. Грамматическая сторона речи отражает, конечно, не одну только логическую сторону нашего мышления, но и психологическую его сторону. Это тем более важно помнить, что именно детский язык первоначально очень мало обслуживает интеллектуальную сферу и гораздо больше служит эмоциональной сфере, сфере желаний, потребностей и замыслов. К этому присоединяется и то, что первоначально речь ребенка состоит из «однословных» предложений, другими словами, все то, что хочет сказать ребенок, он говорит с помощью одного слова. Следуя Штерну, мы можем наметить четыре периода в грамматическом развитии речи, — и как раз первый период (который Штерн локализируег между 1 год. и 1 год. 6 мес.) отличается тем, что слово является звуковым комплексом, связанным с определенным лексическим содержанием, но еще лишенным какой бы то ни было «грамматической» формы. Само лексическое содержание еще не разделяет с достаточной ясностью логический или волевой момент; здесь важно иметь в виду, что детскую речь вообще, а в этот период в особенности, нельзя ограничивать только словесным материалом, — в ней огромную роль играет интонация, мимика, жесты. Справедливо замечает по этому поводу Бюлер, что для ребенка речь, разговор означает долгое воздействие других на его чувства и волю и в соответствии с этим для него самого речь всегда окрашена его чувствами и желаниями. Когда дитя говорит «стул» — в это «предложение» оно может вносить различные смыслы, выразить различные желания и чувства («дайте, уберите этот стул» и т. д.). То, что Вундт установил для разви-
119
тия языка у человечества вообще, с полной ясностью может быть констатировано и у детей: предложение идет впереди слова; слова развиваются из предложений, в живом разговоре. На первой ступени — однословного предложения — слово лишено присущих нашему языку флексий: звуковой определенности соответствует, конечно, определенное лексическое содержание (хотя и в этом случае открывается известный простор для оттенков, выражаемых интонацией, жестами), но без всякого намека на грамматические формы. В это время еще нет «частей речи» — нет ни имен существительных, ни глаголов и т. д.: слово представляет лишь лексическое содержание и допускает самые разнообразные вариации смысла, им выражаемого («стул» означает и «дай» стул, и «возьми» его, и «сядь» на стул, и «встань» со стула). Отсутствие грамматических форм вполне отвечает психологической стороне речи: однословное предложение редко выражает «мысль», а больше выражает желания, замыслы, чувства.
Грамматическое развитие речи связано с постепенным ростом детского интеллекта, и первая ступень в этом слиянии дается как раз тем идеирующим актом, который связан с обозначением. Пока слова не имеют постоянного и определенного смысла, пока лексическое содержание слова допускает те вариации в смысле, которые определяются желаниями, чувствами ребенка, — до тех пор логический момент мысли, конечно, не может иметь влияния на речь ребенка. Когда дитя дорастает до такого фиксирования лексического содержания слова (в акте означения), однословное предложение становится уже тесной формой для выражения мысли (чувства еще могут пользоваться однословным предложением). Этот второй период в грамматическом развитии речи (Штерн его считает от 1,6 до 2 лет) характеризуется переходом к новой синтаксической форме речи и установлением «значения» слов. Дитя начинает увлекаться обозначением предметов, в эту именно пору преимущественно оно пользуется слогами, обозначающими предметы («предметная» стадия по известному закону Штерна о трех стадиях в развитии апперцепции). Каждая вещь должна иметь свое имя, и глухое сознание этого побуждает дитя к тому, чтобы узнать названия всех окружающих его предметов. Начинается уже период вопросов, обращенных пока лишь к тому, как называются предметы. Запас слов сильно расширяется. По исчислениям Штерна, к году и трем месяцам 100% слов состоит из имен существительных:
Годы Имен. сущ. Глаголы Ост. части речи
1,3 100%
1,8 78% 22%
1,11 53% 23% 24%
Для более правильной оценки этих фактов полезно привести следующие цифры, найденные Gautier при анализе известной энциклопедии «Petit Larousse». На 39779 слов:
Имен сущ. 24 741 — 62,2%
Прилагат. 7 392 - 18,9%
120
| Годы |
Имен. сущ. |
Глаголы |
Ост. |
| |
|
|
части речи |
| 1,3 |
100% |
|
|
| 1,8 |
78% |
22% |
|
| 1,11 |
53% |
23% |
24% |
Для более правильной оценки этих фактов полезно привести следующие цифры, найденные Gautier при анализе известной энциклопедии «Petit Larousse». На 39779 слов:
Имен сущ. 24 741 — 62,2%
Прилагат. 7 392 - 18,9%
Глаголов 5 459 — 13,7%
Ост. частей речи 2 183 — 5,2%
Тот же автор сравнивает запас слов у трех детей 21/2 лет и одного неграмотного крестьянина:
| Слова |
У детей |
У крестьянина |
| Имена сущ. |
58% |
55% |
| Глаголы |
21% |
29% |
| Прилагат. |
10% |
10% |
| Ост. |
11% |
6% |
| части речи |
|
|
Ограниченный подбор «нужных» слов у ребенка, связь развития запаса его слов с окружающей обстановкой, с потребностями ребенка до известной степени освещается работой двух английских ученых8. Они брали из словаря 170 слов наугад и определяли количество известных слов:
| Годы |
Мальч. |
Дев. |
| 9*/2 |
14,7% |
14,6% |
| 101/2 |
15,3% |
15,2% |
| 111/3 |
15,6% |
16,5% |
| 121/2 |
18,1% |
17,2% |
| 131/2 |
20,7% |
19,0% |
| 141/2 |
20,6% |
19,7% |
Около 2-х лет дитя вступает в третий период грамматического развития речи: слова, бывшие до того времени неизменными, начинают изменяться, приобретают флексию. Этимологический прогресс следует, таким образом, за синтаксическим. От многословного предложения, характерного для второго периода, дитя переходит к организации предложения. Еще нет «синтаксиса» в техническом смысле слова, все предложения простые, связаны «паратактически»; появление первых проб создавать «подчиненные» предложения вводит нас уже в четвертый — последний период синтаксического развития (от 2,6 лет и дальше).
Во всем этом синтаксическом процессе главное влияние принадлежит растущему интеллекту, требующему более ясного и расчлененного выражения мысли. Язык становится все более гибким орудием мышления, все лучше выражает то, что думает дитя. Однако, в синтаксическом, общее говоря — в грамматическом развитии играют роль и другие факторы. Дитя подражает взрослым, переделывает по-своему то, что слышит; этот процесс9 необыкновенно занимателен — в нем проявляется подлинное творчество ребенка. Очень важна роль анало-
--
8 Thompson a. Smidt. Brit. Journ. of Psych. 1915.
9 См. особенно ценные замечания об этом у Селли (гл. IV. § 4).
121
гии в образовании слов и грамматических форм10. Постепенно дитя все более овладевает речью, которая становится послушным орудием мысли: трудны лишь первые шаги, а затем процесс развития речи идет с необыкновенной быстротой.
Заканчивая на этом изучение развития речи у ребенка, мы приходим к концу в характеристике первого года жизни. Нам не раз приходилось выходить за пределы этого периода — особенно при изучении развития речи, — но все же перед читателем прошли основные особенности первого года жизни. За это время дитя делает огромный шаг вперед: входя в жизнь беспомощным, мало приспособленным, еще не владеющим органами чувств, своим телом, еще не владея способом передавать другим свои чувства и желания, дитя в течение первого года овладевает важнейшими силами своими. Оно научается видеть и слушать, ориентируется более или менее в пространстве, научается понимать — хотя бы и мало — окружающих людей и подготовляется уже к тому, чтобы научиться говорить; наконец, дитя научается уже главным формам движения, умеет «держаться» за точку опоры. Нет еще ни одного вполне усвоенного навыка ни одного созревшего знания, — но во всех направлениях уже цветет жизнь и активность. Дитя, вступая в период раннего детства,' находится уже на пороге человеческой жизни во всем объеме ее богатых сил; поистине первый год жизни — настоящее «введение в детство». Физические и психические перемены, характеризующие переход к детству, не сразу бросаются в глаза, но при общем их сопоставлении мы получаем полное основание к тому, чтобы считать дальнейшие годы жизни ребенка новой фазой детства.
--
10 См. об этом W. и К. Stегп — Kindersprache. 1920.
ГЛАВА VIII
Эмоциональная жизнь в раннем детстве; общие замечания. Индивидуальные чувства у ребенка. Страх у детей; учение о двух формах страха. Гнев у детей. Вопрос о детской жестокости. Чувства, направленные к самому себе; два основных их направления. Индивидуальный и социальный стыд. Психология бесстыдства.
Раннее детство, как мы знаем, охватывает период от 1 до 5—61/2 лет — конечно, приблизительно. Мы знаем уже общий смысл, общие черты этого периода, столь важного в психическом созревании ребенка, знаем, что дитя в это время живет преимущественно своими эмоциями, живет в мире, наполовину созданным его воображением. Чистота детской души, ее непосредственность стоят вне всякого сомнения, хотя известные начатки того, что можно назвать «лукавством», могут быть отмечены уже и в это время. К сожалению, мы и доныне обладаем сравнительно небольшим материалом относительно психического развития ребенка в это время: наш материал касается по преимуществу внешней стороны в жизни ребенка, внутренний же его мир открыт нам очень слабо.
Вопреки обычному порядку в изложении психической жизни ребенка в течение раннего детства, мы выдвинем на первый план изучение эмоциональной жизни его в это время, исходя из указанного уже принципа, что эмоциональная сфера имеет в это время центральное значение в системе психических сил. Мы видели уже, что даже в тече- | ние первого года жизни эмоциональная жизнь ребенка очень богата — почти все эмоции, хотя бы в зачаточной форме, уже доступны детской душе. Можно сказать, что раннее детство является «золотым временем» для эмоциональной жизни в нас. Если прав Штерн, думающий, что всякая психическая функция имеет свой период высшего развития в течение жизни, то мы должны признать, что для эмоциональной сферы в целом (для отдельных чувств это, конечно, не вполне верно) именно раннее детство является таким золотым временем. Хотя в это время развивается волевая активность очень сильно, но даже и она очень ярко окрашена эмоциями — точнее было бы сказать, что доминирует в это время эмоциональная активность, а волевая регуляция лишь включена в нее в виде подчиненного момента. Когда среди взрослых мы встречаем так называемые эмоциональные натуры (особенно часто среди женщин), то это господство в их внутреннем строе эмоции придает им какое-то своеобразное очарование — нас восхищает их непосредственность, подлинная грация. Уже Шиллер понял сущность
123
грации, определив ее как естественность и вытекающую отсюда внутреннюю свободу движений. Все искусственное, деланное разрушает грацию, даже если «деланность» исходит не от внешнего какого-либо мотива, а диктуется простым вмешательством рассудка. Господство эмоций создает действительно своеобразную и другим способом недостижимую внутреннюю свободу, — и оттого психический тип ребенка, по евангельскому учению, остается типом высшей жизни: здесь евангельское учение отвечает глубочайшему нашему опыту. Надо иметь при этом в виду существенное отличие детской «наивной» непосредственности от той непосредственности, которую мы можем наблюдать у взрослых — у эмоциональных натур: у них всегда кладет свою печать жизненный опыт, всегда имеется осадок горьких и тяжелых переживаний, всегда есть суровое и трезвое понимание действительности, какова она «на самом деле». Шиллер выразил это в известном афоризме, что, мы не смеем играть со всем. Дитя не знает еще никаких границ для игры, оно свободно от внутренней серьезности и деловитости, — тогда как взрослые, имея даже эмоциональную натуру, выносят из жизни горькое чувство действительности: когда взрослые теряют чувство действительности, то это является ясным признаком психического заболевания.
Но у детей — по крайней мере первые годы — еще нет «чувства действительности»: разграничение действительного и вымышленного развивается очень медленно. Мы уже говорили, что в процессе игры дитя глядит на игрушки, на предметы игры так, как если бы то, что они символизируют, было перед ними в полной реальности: все очарование игры держится на неразличении реального и воображаемого. Постепенно, однако, создается особая «сфера игры», от которой отделяется сфера реальности; благодаря этому, как впервые это показал Болд-вин1, игры становятся в высшей степени важным фактором в понимании действительности. Но этот процесс отделения «насамделишного», действительного от воображаемого совершается медленно, и когда в душе ребенка утверждается интерес к внешнему миру, каков он есть «на самом деле», тогда уже кончается период раннего детства, эмоциональная сфера перестает играть прежнюю роль, исчезает понемногу и непосредственность, грация детской души. Только еще раз, как раз на пороге зрелости, в юности, психический дуализм (развивающийся в течение второго детства) приобретает «художественный» характер, чувства вновь доминируют в душе, а запросы чувств приобретают значение «идеалов», художественных задач. Тогда последний раз перед нами выступает та же грация, какая была у детей. Мы же, взрослые, лишь в редкие моменты нашей жизни возвышаемся до этой непосредственности, ибо не можем выбросить из души все то темное и суетное, что вносит в душу жизнь, не можем ослабить ядовитое влияние тех бесчисленных компромиссов, которыми заполнена наша жизнь.
Раннее детство потому уже является золотым временем для эмоциональной жизни в нас, что дети испытывают полную психическую и социально-психическую свободу в выражении своих чувств, что, как
--
1 В а 1 d w i n — Thoughts and Things.
124
мы знаем, является условием расцвета эмоциональной сферы. Детская экспансивность, отсутствие всякой мысли о том, что может быть результатом выражения чувств, желаний, обеспечивает ребенку свободное развитие чувств. Дитя еще не знает никаких эмоциональных конфликтов (конечно, если дитя живет в нормальных условиях). Все то, что говорит по этому поводу Фрейд и его школа, не верно; мы коснемся ниже этого вопроса в связи с анализом сексуальной сферы у ребенка во время раннего детства. Дитя не знает в это время никаких конфликтов: наоборот, и природа, и люди, и вещи — все, все привлекает и манит к себе дитя, все восхищает его, пробуждает к нем эмоциональный резонанс, наполняет радостными переживаниями. Дитя как бы ищет этих переживаний, стремится ко всему прикоснуться, схватить «смысл» всего. Хотя дитя и занято в это время внешним миром, который привлекает к себе внимание ребенка, но этот интерес еще не одушевлен настоящей любознательностью. Мир интересует дитя не таков, каков он «на самом деле», а таков, каким он «кажется»: разделение действительного и воображаемого лишь назревает, принимается как нечто фактическое, но не мешает ребенку в его свободном «мифотворчестве».
Мы часто называем раннее детство «золотым детством», как бы подчеркивая этим радостный, поэтический характер жизни в это время. И мы правы — в том смысле, что дети действительно кажутся как бы окрыленными. Для правильной оценки детских радостей и горестей надо, однако, иметь в виду что эти радости и горести дети переживают глубже, Чем мы, потому что детское сознание узко, память слабо и мало окрашивает то, что приносит жизнь: дитя живет моментом. Власть момента над детской душой вообще чрезвычайно типична, но с особой силой это выступает как раз в раннем детстве. Дети не знают продолжительных радостей или горестей, но зато отдаются им всей полнотой своего существа. Оттого так горьки-горьки детские обиды, оттого так сладостна и упоительна неповторимая детская радость. Здесь, в этой глубине и узости чувств лежит причина эмоциональной подвижности ребенка: дитя как бы выпивает до дна чашу радости и скорби и переходит к новому чувству, легко забывая о прежнем. Подвижность детского внимания как раз и определяется этой эмоциональной подвижностью. Нам приходилось уже отмечать факт, найденный одним наблюдателем, когда в течение 15 минут у ребенка сменилось 8 разных чувств.
Однако, необходимо тут же отметить, что власть момента в детской душе, создавая эмоциональную подвижность, делает ребенка психически уязвимым, беззащитным. Мы сложили хорошую пословицу — «не только свет, что в окошке», но как раз детям остается чуждо то, что выражено в этой пословице. Отдаваясь всецело, всем существом своему чувству, дети переживают свои горести, как настоящие трагедии. Мы, взрослые, переживая самые тяжелые чувства, одновременно имеем в душе много других чувств: жизнь, широкая, разнообразная, привязывает к себе бессчисленными мелкими радостями, удовольствиями, с помощью которых мы как бы смягчаем острые углы тягостных пере-
125
живаний. Мы как бы «устанавливаемся» на мысль, что жизнь еще может перемениться, и мы забудем все то горькое, скорбное, что ныне переживаем. Эта мысль, хотя бы мы ее и не пускали в сознание, — как итог нашего опыта, как жизненное наше убеждение, кладет свою печать на все наши переживания и смягчает их: от глубокого горя спасают нас мелочи, от трагедии удерживают мелкие радости и ставшие приятными привычки. Но для дитяти все это еще закрыто — ничто не может смягчить его обид. Дитя может забыть свое горе, но, пока оно его переживает, оно для него глубоко, безвыходно, бездонно2. Когда слушаешь горький плач ребенка, он отзывается в душе такой острой жалостью, такой болью за обиженное и огорченное дитя! Не надо забывать о чрезвычайной нежности, можно сказать — хрупкости детской души, которую можно было бы с полным правом назвать mimosa р u d i с а. Всякое неосторожное, неумелое прикосновение заставляет дитя уйти в себя… Часто мы, даже не подозревая об этом, наносим тяжелые раны детской душе — и тогда дети переживают глубокую, часто ими не сознаваемую, но тем более губительную для здоровья души драму. Но, конечно, причина этих психических «травм» лежит совсем не в ущемлении сексуальной сферы ребенка, как это думает Фрейд и его школа, а в том, что мы, взрослые, плохо разбираемся в детской душе и нередко наносим ей непоправимые раны. Нередко дитя — экспансивное и нетерпеливое — хочет от нас, чтобы мы все бросили и занялись им, а мы, занятые серьезным и трудным делом, в досаде и скверном расположении духа, ответим грубо ребенку — и дитя увянет, замолчит, уйдет в себя. Мы вовсе не имели ввиду обидеть ребенка, сделать ему больно — нам просто было не до него, но может случиться и так, что наш резкий ответ («прошу тебя, отстань…»), наш грубый тон может оборвать нежную нить, соединявшую сердце ребенка с нашим:
2 Вот интересный рассказ 11-летнего мальчика С. о его детском горе (написано как школьная работа): «Самое яркое мое воспоминание осталось у меня о разлуке с няней. Няня пришла ко мне с 3-х лет, я так привязался к ней, что не признавал никого другого. Каждый день утром она одевала меня, потом я шел пить чай, потом мы ходили гулять и гуляли до обеда; я обедал отдельно и няня вместе со мной. После обеда я ложился спать, а няня отдыхала. После сна наступало самое интересное время дня — рассказ сказок. В это время она еще больше привязывала меня к себе. Она рассказывала мне страшные сказки, и я шел пить чай, полон страшных мыслей, затем ложился спать, и этим кончался день, проведенный с няней. Так проходили еще такие же дни, пока я жил с няней. Хорошее было время тогда, ничто не тревожило меня, я был маленький и ничего не понимал. Так настал 1916 год, мне было 5 лет. Настало ужасное для меня время. Однажды я сидел на коленях у няни; она рассказывала мне какую-то сказку. Когда она кончила сказку, я заметил какую-то грусть на ее лице; няня сказала мне, что я уже большой и мне надо взять гувернантку. Я не подумал, что это означает ее отъезд, но все-таки эта весть поразила меня, я начал плакать и просить маму не брать бонну, но ничего не помогло. Потом все заглохло почти на восемь месяцев. Однажды я пошел к кому-то в гости; я долго был там с няней. Вдруг няня начала как бы прощаться со мной; я не понял всего, скрывающегося под этой странной выходкой няни, я стал играть дальше и дальше и не заметил ухода няни. Но только я пришел домой, я увидел какую-то немку, которая подошла ко мне. Тут я понял весь ужас. Я убежал от этой немки и стал искать няню, но везде, где я искал, ее не было. Я пошел к маме и плакал; мама утешала меня, но ничего не могла сделать… Потом я свыкся с немкой, но все же это было не то…» В этом бесхитростном рассказе мальчика 11 лет так живо переданы детские переживания — маленькая детская трагедия обрисована здесь чрезвычайно хорошо.
126
дитя никогда уже не подойдет к нам с былой простотой и доверчивостью. Часто приходится наблюдать, что в наших семьях дети порой совсем неоткровенны с своими родителями, смотрят исподлобья: конечно, они любят своих родителей, но не могут подойти к ним, не могут открыть им душу. В этом с полной ясностью обнаруживается губительный для детской души результат тех именно случаев, когда родители оттолкнули их своим резким и грубым отношением… Преимущественное развитие эмоциональной сферы делает дитя непосредственным, грациозным, но в то же время это развитие эмоциональной сферы делает дитя. необыкновенно хрупким.
В развитии эмоциональной жизни ребенка огромное значение Должно быть приписано свободе выражения чувств. Прежде всего здесь надо иметь в виду только что подчеркнутую свободу с о-циального выражения: для нормального развития чувств ребенка чрезвычайное значение имеет то, свободно ли выражает дитя свои чувства, или же «уходит в себя», таит про себя скрытые свои желания. Застенчивость, имеющая часто органические корни, еще чаще является итогом горького социального опыта; она всегда вносить психическое напряжение в душе ребенка, задерживает естественное выражение чувств. Это никогда не проходит даром; социальное давление, в виде небрежного, равнодушного, сурового отношения со стороны окружающих, как бы не дает распуститься лепесткам нежного цветка — детской души; под тяжким давлением невнимания, суровости, небрежности дитя психически хиреет, словно ему не хватает солнца, не хватает ласки и тепла. Стоит присмотреться к детям, попавшим в приюты, чтобы невольно сравнить их с теми чахлыми растениями, которые развиваются в темноте. Но не одно социально-психическое давление стесняет развитие эмоциональной жизни; ребенку присуща экспансивность, ему необходима свобода в телесном выражении чувства. Все то, что стесняет, останавливает дитя в этом направлении, тяжело отзывается на эмоциональной сфере ребенка.
Известный наш педагог Лесгафт дал классификацию школьных типов, которая бросает свой свет на условия психического созревания ребенка в раннем детстве. Классификация, данная Лесгафтом, не очень удовлетворительна в своих теоретических основах, но ее можно принять и без этих устаревших и искусственных теоретических построений: она необыкновено хороша, как ряд превосходно сделанных портретов. Лесгафт с удивительным мастерством зарисовал шесть типов детей. Если этими шестью типами не исчерпывается галерея детских типов, если теоретические рассуждения Лесгафта, словно придуманные уже после зарисовки портретов неверны, то все же они дают очень много для психолога и педагога. В основу Лесгафт положил только что отмеченный момент — свободу в проявлении чувств и желаний или отсутствие ее. Нельзя не согласиться с тем, что это действительно имеет фундаментальное значение в жизни ребенка.
Вот классификация Лесгафта:
1. Тип лицемерный,
2. честолюбивый,
127
3. Тип добродушный,
4. мягко-забитый,
5. злобно-забитый,
6. угнетенный.
По толкованию Лесгафта, первые три типа развиваются в атмосфере свободы, отличаясь между собой силой интеллекта (честолюбивый стоит выше лицемерного, добродушный — выше честолюбивого); вторые три типа развиваются в атмосфере угнетения, различаясь тоже силой интеллекта. Не трудно убедиться в том, что это толкование совершенно искусственно — например, лицемерие, конечно, не нужно и невозможно, если дитя развивается на психическом и социально-психическом просторе, но оно совершенно понятно, если дитя не смеет обнаруживать своих желаний. Равным образом лицемерие совсем не связано с низким умственным уровнем, а как раз наоборот. Но, за вычетом этих легко отделимых от классификации теоретических соображений Лесгафта, ее нужно признать очень удачной, хотя она и не исчерпывает галереи детских типов.
Из шести зарисованных Лесгафтом портретов четыре (лицемерный, мягко- и злобно-забитый, угнетенный) относятся к детям, не знающим свободы в раскрытии своей личности! Этот высокий процент детей, ущемляемых в своей эмоциональной жизни (а это является центральным), к сожалению, не может быть назван преувеличенным. Любопытно различие между мягко-забитым и злобно-забитым ребенком. Оба они забиты, лишены ласки и внимания, свободы и простора, но те дети, в отношении к которым режим семьи является грубым и резким, обыкновенно «озлобляются» против своих близких, становятся сами грубыми, дерзкими, неприятными. Все это отравляет детскую душу, наполняет ее ядом злобы, который душа детская вбирает в себя, как губка, — но все же должно отметить, что, озлобляясь, дитя не теряет своей личности. Злоба является своеобразной формой защиты личности, охраняет ее от полного подавления: в злобе дитя проявляет свою личность, находя в ней единственный выход для утверждения своей личности. Как ни опасна с точки зрения морального здоровья ребенка злоба, как ни ядовито ее дыхание для нежной души детской, но с точки зрения психического здоровья, как такового, злоба является последней защитой ребенка от полного подавления и упадка личности. Губительнее поэтому действует тот семейный уклад, который вырабатывает «мягко-забитый» тип ребенка. То, что дал Лесгафт в отношении генезиса этого типа, можно было бы назвать художественно-педагогическим открытием Лесгафта. Пробовал зарисовать этот тип в своей известной классификации характеров Рибо, но он только наметил его, выделив его из классификации, как «аморфный», и совершенно не углубившись в социально-психические условия его развития. Заслуга же Лесгафта как раз и заключается в том, что он с необыкновенной глубиной вскрыл эти условия создания мягко-забитого типа. Если злобно-забитый тип развивается в условиях грубого и резкого подавления чувств и желаний ребенка, то мягко-
128
забитый тип развивается, наоборот, в нежной, сентиментальной атмосфере той родительской любви, которая со всех сторон охватывает дитя, не давая никакого простора для его личной инициативы. Родители никогда не принуждают, а только упрашивают, — поэтому дитя не может реагировать грубо или озлобленно на то, что ему не дают свободы. Все облечено в нежные формы любви, дитя живет как бы под стеклянным колпаком, в душной атмосфере оранжереи. Оно не знает свежего воздуха, оно не делает ошибок, ибо все обдумано, все предупреждено любящими родителями. Ребенку не нужно думать, не нужно решать никаких вопросов — все готово, все обдумано заранее — и ребенку остается только слушать родителей и выполнять их советы. Для чувств ребенка, для его желаний нет простора: социально-психическое стеснение здесь очень сильно, ибо все то, в чем дитя выходит за пределы желанного для родителей, родители останавливают — и делают это так нежно, так ласково, что дитя даже и не замечает, что желания его подавлены. Чтобы сделать незаметным давление, родители его облекают в нежные формы, сопровождают какими-либо неожиданными удовольствиями. А то, что родители считают дог[устимым, то уже все заранее обдумано и приготовлено. Инициативе ребенка не на чем проявиться: это — забитое дитя, дитя обезличенное, теряющее способность иметь свои желания, яркие чувства. Апатия и психическая вялость имеют свой корень именно в том, что у ребенка стеснено выражение его чувств; в злобной реакции дитя отстаивает свою личность, охраняет ее, но когда давление облечено в мягкие, нежные формы, дитя постепенно обезличивается, яркие, сильные чувства уже не расцветают в душе, и на всей личности лежит печать бесформенности, недоразвития.
Все это красноречиво говорит о громадном значении социально-психического простора для здравого развития эмоциональной жизни в ребенке. Всякое давление — принимает ли оно грубые формы или облекается в формы мягкие и нежные — губительно действует на душу ребенка; невыраженные, неоформленные чувства падают в глубину души, накопляя там запас болезненных ущемлений. Если отбросить «сексуальный монизм» Фрейда, то все его учение о психических травмах и о развитии на почве этого психических заболеваний должно быть признано правильным.
Переходя к характеристике отдельных чувств у ребенка, мы будем следовать такой классификации их:
1) индивидуальные чувства,
2) социальные (междуиндивидуальные) чувства,
3) высшие (надындивидуальные) чувства.
В первую группу мы включаем страх, гнев, чувства в отношении к самому себе, индивидуальный стыд; во вторую группу мы включаем социальный стыд, симпатию и антипатию, сексуальные переживания; в третью группу — моральное, эстетическое и религиозное чувство.
5 Психология детства
129
Обратимся к чувству страха3.
Нам уже приходилось говорить о том, что страх является одной из основных и врожденных форм реакции души: меняются предметы страха, меняется выражение страха и его влияние на внутренний мир личности, на ее поведение, но страх, как известная форма оценки, как тип отношения к миру и людям, остается всегда в нас. Анкета о предметах страха, произведенная в свое время Ст. Холлом, убедительно показывает, что любой предмет, любое явление может стать объектом страха. Особенно ясно выступает это у детей, которые боятся темноты, резких звуков, незнакомых лиц, животных, воды, огня и т. д. К формам страха, которые не имеют опоры в индивидуальном опыте4, присоединяются страхи, основанные на личном опыте, страхи, внушаемые окружающими (родители, няни часто устрашают дитя, чтобы заставить его замолчать). Сказки, которые рассказываются детям, добавляют новые предметы страха. Таким образом, источником страха является инстинктивная настороженность, личный тяжелый опыт, влияние социальной среды. Так или иначе — страх должен быть признан всеобщей и неустранимой реакцией души; как хорошо говорит Ст. Холл, «педагогическая проблема в отношении к страху заключается не в том, чтобы искоренить страх, а в том, чтобы привести его в границы здоровой реакции».
Каково влияние страха на дитя? Вне всякого сомнения стоит отрицательное влияние его, доходящее в исключительных случаях до рокового разрушения психического и нервного здоровья. Однако, было бы односторонним говорить лишь об этом отрицательном влиянии страха. Если К. Гроссу и не удалось, вслед за Рибо, убедительно раскрыть «целесообразность» реакции страха, то все же положительное значение страха в жизни ребенка, как и в жизни всего человечества, бесспорно. Ст. Холл первый обратил внимание на связь переживаний страха с психологией риска, которой принадлежит столь глубокое творческое значение в нашей жизни. Переживания риска пробуждают в нас энергию, подымают творческую силу, вызывают смелость, инициативу, — имеют вообще положительное и творческое влияние на нашу душу. Но переживания риска теснейшим образом связаны со страхом, потому что о риске можно говорить только там, где перед нами есть какая-либо опасность. По справедливому мнению Ст. Холла, в историческом развитии человечества наибольшее значение имели как раз те. кто смело шел навстречу опасности, кто не боял-
--
3 Главная литература: К. G г о о s — Das Seelenlehen ties Kindes. 5-е изд. S. 268—303: W. Stern— Psychologie d. fr. Kindheit. 2-е изд. S. 268—303; Sully— Studies of Childhood. (Chap. VI); St. Hall — A. Study of fears (переведено в русском сборнике статей Ст. Холла по психологии и педагогике). А. В i n e t — La peur chez enfants. Annee psychol. 1895; HirschI a ff— Ueber die'Furcht der Kinder. Ztschr. I. p. Psych. 1901—2.
4 К. Грос и В. Штерн, не разделяющие взглядов Ст. Холла, видящего в страхе пример действия биогенетического закона в душе, признают, однако, «инстинктивную» или наследственную основу в страхе. См.: К. Groos. Op. cit. S. 288—289, 294—296. W. Stern. Op. cit. S. 300 («Мы должны противопоставить страху, основанному на опыте, инстинктивный страх»).
130
ся незнакомого, страшного, — только благодаря таким людям человечество и могло двигаться вперед. Все неведомое, окутанное какой-то мглой, таинственное, запрещенное, все, что возбуждает страх, — вместе с тем неизъяснимо влечет к себе. Те, кто не знают этого чувства, кто держится за установленное, ясное, безопасное, никогда не идут вперед: жизнь же движется теми смельчаками, которые смело и решительно бросаются навстречу опасности, рискуют. Психология риска, творческий подъем в нем, эмоциональное напряжение ясно свидетельствуют о том, что психология риска не только теснейшим образом связана с переживаниями страха, но что в ней должно видеть второе выражение (рядом с депрессией) страха. Страх в своем выражении может, таким образом, иметь пассивную и активную форму— может вызывать психическую и психо-физическую депрессию, но может выразиться и в переживании риска, в влечении ринуться навстречу опасности. Те, кто связывает (Рибо, отчасти Groos — см. его книгу: S. 277, 2-te Anm.) психологию страха с инстинктом самосохранения, должны были бы признать совершенно неизбежной и активную форму страха. Грос справедливо говорит об «интенциональном отношении к предмету» в чувстве страха (отделяя его от «обсуждения» положения — ibid. S. 283); страх действительно окрашивает и определяет всю психическую установку, ставит нас в определенное отношение к предмету, дает его оценку. В результате — мы либо «отступаем» перед предметом, переживаем депрессию в той или иной степени, либо, испытывая чувство страха, «рискуем» броситься навстречу опасности.
Новое понимание страха, намеченное впервые Ст. Холлом, находит себе полное подтверждение в том, что мы находим у детей в раннем детстве: дитя, испытывая «жуткие» чувства, что так ясно выражается на лице его, в то же время с любопытством и интересом заглядывается на то, что возбуждает у него страх. Все таинственное привлекает детей к себе — на лице их так ясно написано напряжение, а в то же время запрещенное, опасное тянет к себе: им и страшно и в то же время приятно. На этом пути развивается у детей смелость, творческая уверенность в себе, героические порывы: все то в психологии риска, что влечет и манит к себе взрослых, что подымает в них творческий дух, все это видно и на детях. И как грустно глядеть на тех детей, желания и чувства которых никогда не «перелетают за частокол», воздвигнутый средой в виде правил, советов и запрещений. Наличность активных проявлений страха не исключает, конечно, и пассивных его проявлений, — но она смягчает эту депрессию. «Неофобия», как называет Грос боязнь нового, чужого, незнакомого, уравновешивается влечением к незнакомому, любопытством и любовью к риску, — так в сочетании двух форм страха развиваются у ребенка важнейшие двигатели социальной жизни.
Селли считает страх одним из наиболее характерных чувств ребенка. Это — верно, только нужно иметь в виду обе формы страха. К сожалению, Ст. Холл, впервые выдвинувший мысль о двух формах страха, в своей анкете исключительно дает перечень страхов, имеющих негативный характер. Когда мы читаем у него, что девочки испытывают в
131
среднем в два раза больше страхов, чем мальчики, то не объясняется ли это различие известным всем господством у мальчиков активных форм страха? Вот несколько цифр из исследования Ст. Холла:
| Годы |
Среднее число |
«страхов» |
| |
на одного мальчика |
на одну девочку |
| 0-4 |
1,76 |
4,89 |
| 4-7 |
1,54 |
2,44 |
| 7-11 |
3,56 |
4,34 |
| 11-15 |
3,69 |
6,22 |
| 15-18 |
2,40 |
10,67 |
| 18-26 |
2,55 |
4.31 |
На диаграмме выступают с полной ясностью особенности в развитии страха в зависимости от возраста и пола.
Диагр. 2.
Как видим у мальчиков, начиная с четырех лет, после ослабления ранних страхов, страхи растут до 15 лет и затем падают, у девочек же, отличающихся большим числом страхов, они растут до 18 лет. Не придавая полной достоверности этим цифрам Ст. Холла, в виду общих методологических недостатков анкетного метода, в виду неучтенное™ активных форм страха, считаем все же полезным привести их. Средняя цифра страхов мальчиков — 2,58, у девочек — 5,46.
Обратимся к чувствам группы гнева. Надо признать, что это чувство встречается очень часто в раннем детстве. Очень любопытно, что у детей мы находим в это время довольно часто чувство мест и5; может быть, и правы те, кто видит в мести простейшую форму справедли-
--
s Штерн (Psych, d. fi. Kindheit. S. 324) говорить об инстинкте мести у детей, но с этим можно согласиться только в том случае, если будем видеть в мести психологический зачаток чувства справедливости. Штерн сам говорит о том, что дети «мстят» («воздают за зло злом») не только людям, но и вещам. Скупин приводит пример такой мести у его сына 4 лет.
132
вости («каждому по его заслугам»). Давно известно, что детская справедливость — суровая, а подчас и жестокая, — впрочем, вопроса о детской жестокости мы коснемся ниже подробнее.
Как страх, так и гнев с необычайной выразительностью отражается на лице ребенка. Наморщенный лоб, красное лицо, тяжелый блеск глаз, сжатые кулачки, общее напряжение тела — как все это выразительно у детей! Лет пятнадцать тому назад мне пришлось на улице видеть дитя с расширенными от ужаса глазами — я, кажется, никогда не забуду этого лица, этой силы выражения. Подобной выразительности гнева у детей мне лично не пришлось наблюдать, но злые, гневные, жестокие глаза, сердитый детский взор — кто их не знает? Гнев имеет разные степени, может быть соединен со злобой, может быть свободен от нее; существует и «святой гнев», которого не узнают только те, кто к добру и злу, по словам поэта, «постыдно равнодушны». Дитя переживает все эти формы гнева; и негодование, и злобный гнев, и мстительное чувство, и чистый гнев на обидчика, обижающего не дитя, а кого-либо другого, — все это доступно ему. Особенно важно для нас отметить наличность и в этом чувстве двух форм его выражения — пассивной и активной. Как в страхе преимущественно все знают его пассивную форму, так в гневе знают преимущественно его активную форму. Но не следует забывать о «бессильном гневе», когда человек не в состоянии активно выявить свое чувство и принужден таить в себе гнев. Мы говорим выразительно про такие случаи, что человека «душит» его злоба. У ребенка бессильный гнев встречается очень часто: дитя бессильно сжимает свои кулачки, у него дрожит голос, «слезы гнева» (есть и такие) выдают душевное волнение — но он не может, не смеет выразить своего чувства… Не помню точно — где, но есть у Достоевского одно место, где он говорит о таком затаенном, благодаря бессилию, гневе, который долго жил в душе ребенка, затем юноши, отравляя душу. Известно, как обижается дитя на несправедливое к себе отношение, как долго — иногда на всю жизнь — портятся от этого бессильного гнева, залегающего в душе, отношения самых близких людей. Мне пришлось наблюдать в одном мальчике 8 лет такую сосредоточенную злобу, такое ожесточение сердца, что стало жутко. И что же — для меня выяснилось потом, что это дитя, начиная с 4—5 лет, часто гневалось на отца за его отношение к деду мальчика; иногда гнев выражался в пароксизмах, припадках ярости — но это не могло дать исхода всему тому бессильному и тем более ядовитому гневу, который со дня на день накоплялся в душе. Илюша у Достоевского («Братья Карамазовы») может служить прекрасным изображением детского гнева и его психических последствий.
Коснемся еще вопроса о прославленной, всеми почти признанной детской жестокости. В защиту тезиса о детской суровости ссылаются преимущественно на жестокое отношение детей к животным, которых они любят мучить, к которым не испытывают никакого сострадания. Никто не станет отрицать, что дети действительно часто мучат животных — особенно маленьких — щенят, котят; но значат ли эти факты, что дети действительно жестоки? Ведь если вы, взрослый, начнете мучить животных, то дитя всегда страдает от этого, плачет, умоляет, что-
133
бы вы оставили в покое животное. Вообще, если дитя видит, что кто-либо плачет, оно не может остаться равнодушным, само плачет горькими слезами, всеми силами старается помочь обиженному. Если это верно в отношении к человеку, то не менее верно и в отношении к животному. И тот факт, что дитя само нередко мучит животных, но не допускает, волнуется, когда видит, что другие его мучат, красноречиво говорит о том, что в первом случае мы имеем дело не с жестокостью, что психология ребенка здесь более сложна. Дитя вовсе не равнодушно к чужим страданиям, если только оно видит перед собой страдания; все то, что застилает детский взор туманом, мешает видеть чужие страдания, естественно делает его нечувствительным и возбуждает у нас подозрение в детской жестокости. К таким факторам относится прежде всего и больше всего — игра. Уже в течение первого года жизни дитя «изучает» вещи между прочим и таким образом, что, взявши их в руки, бросает их на пол; если вы подымете вещь, дитя снова и снова ее бросит. Если бы мы, взрослые, не останавливали детей, не следили за ними, не убирали вещей со стола, дети много могли бы напортить нам. Между тем у ребенка не только не действует здесь «инстинкт разрушения», но, наоборот — все это одушевляется чистым интересом познания: для того, чтобы познакомиться с вещью, с ее свойствами, дитя и бросает ее. Самоподражание, о котором нам не раз приходилось говорить, закрепляет это в некоторую привычку. Мы, взрослые, часто сердимся, если видим, что дети не дорожат своими вещами и ломают их, а некоторые педантичные педагоги выдумали даже правило, что если дети «небрежно» обходятся со своими игрушками, то необходимо у них отнять эти игрушки на время и таким образом приучат к бережливому и благоразумному отношению к вещам. Но забывают в таком случае, что такая бережливость и благоразумие прежде всего неестественны в такое время, что дитя испытывает действительную склонность к тому, чтобы разбирать вещи на части и таким образом лучше их познавать. Дитя и без того переживает в раннем детстве на каждом шагу ограничения в своей игре, ибо перед ним все с большей ясностью обрисовывается, в противовес широкому простору мира, созданного воображением — строгий и неизменный «порядок» действительности. Чем чаще дитя приходит к выводу, что не со всем можно играть, тем больше ему хочется свободно играть с вещами, с животными. Поистине, здесь, как это подметил Адлер, сказывается потребность в психической компенсации, в связи с все возрастающим объемом тягостного и принудительного приспособления. Если только вы не очень суровы, то дитя охотно станет играть с вашими волосами, вашим костюмом; ему нравится, если вы притворно выражаете испуг — это повышает ценность «победы», придает вообще большую заманчивость игре. Вообще это не есть проявление злого начала в ребенке— а проявление игры фантазии, потребность в свободной активности, желание всего коснуться, все взять в руки, попробовать, заглянуть, что находится внутри. Само собой разумеется, что для детей, как и для нас, взрослых, гораздо приятнее играть с живыми, чем с мертвыми вещами. Когда играем мы, взрослые, то мы очень ра-
134
ды, если встречаем какие-либо затруднения — ведь иначе победа в игре не доставляет никакого удовольствия. Но точно то же переживают и дети: если дети с вами играют «в прятки» и вы скоро находите дитя, то дитя сердится на вас, что вы не хотите с ним играть — ведь весь смысл игры заключается в том, чтобы найти тогда, когда «трудно» найти. Дети особенно любят играть с теми, кто «умеет» долго не находить спрятавшееся дитя и при этом еще разыграет целую историю («Господи, да где же это Ваня? Пропал! Пропал и не найти его. Что же я скажу его маме?…» и т. д.). Вместе с тем дети так настойчиво стремятся изучать все то, что они видят, — активно, поп oculis, sed manibus, не глазами только, но и руками… ныне педагогика сама старается привить школьникам эту манеру основательного, «трудового» изучения явлений, — а дитя естественно идет именно этим путем. И как дети не могут равнодушно глядеть на ваши часы, лежащие на столе, и если только вы не остановите дитя, то оно непременно возьмет часы в руки и начнет их «крутить», — точно так же дитя не может равнодушно глядеть на животных, особенно на малых (щенят, котят, на птичек) и непременно хочет взять их в руки, вообще коснуться их. То, что эти маленькие существа пищат, оказывают сопротивление, барахтаются — только повышает удовольствие игры. Дитя и не думает о том, что своими экспериментами делает больно животным, оно отдается своим экспериментам и забывает, что в его руках живое существо. А мы, взрослые, разве не забываем, увлекаясь какой-либо игрой с живыми существами, что это живые существа? Кто не знает, что охотники часто бывают необыкновенно мягкими, любят животных, но, отдаваясь влечению игры на охоте, неутомимо и безжалостно преследуют животных? А в социальных «играх», когда мы увлекаемся гневом, когда интригуем или фантазируем, кокетничаем, — разве мы не забываем о том, что перед нами живые существа? Разница только та, что в нашем распоряжении есть всегда достаточно материала, чтобы понять, что делается с живым существом, когда мы с ним играем, а дети этим материалом не обладают. Дитя вообще мало думает о внутреннем мире других людей; в своем естественном эгоцентризме, этой естественной сосредоточенности на самом себе, дитя находится как бы в зачарованном кругу, из которого ему трудно выйти. Если оно видит ваши слезы, если видит, что вас другие обижают, оно исполняется такого гнева на обидчика, оно плачет за вас горше и сильнее, чем Вы сами; но когда оно само вас обижает, оно кажется нам нечутким, жестоким. Не ясно ли, что тут дело вовсе не в жестокости? Мы просто не понимаем детей в этом случае, мы меряем детей на свой аршин. Да, если бы это мы, с нашим чувством действительности, с нашим пониманием чужой душевной жизни, делали то, что делают дети, — это безусловно было бы жестокостью, но ведь дети так мало еще входят в чужую душевную жизнь! Они игра-юте животными, с людьми, наслаждаясь не мучениями, а сопротивлением, отсутствием той безответности, которая делает часто безвкусной игру с вещами. Мы могли бы назвать детей жестокими, если бы они, сознавая с полной ясностью, что вам больно и тяжело, продолжали мучить вас, — но таких случаев так мало! Дитя подымает за одну
135
ножку котенка, который отчаянно пищит, барахтается, царапается, — и дитя довольно, как довольны бываем и мы, когда, например, в цирке артист сделает какой-нибудь необыкновенный номер. Своеобразная «жадность» к театру, к зрелищу отодвигает и для нас все то, что стоит за этими необыкновенными номерами. Отчего же мы удивляемся детям? Я не хочу здесь заниматься апологией игр детей, связанных с мучением животных; я хочу лишь заглянуть в их душу. Дети не дадут в обиду своих котят и щенят, они безропотно позволяют им игратьс собой; я знал одно дитя, которое безропотно снесло, когда комнатная собака, с которой оно играло, укусила его в щеку; дитя не позволило наказать собаку. Для него это было лишь неприятным эпизодом в игре…
Родители часто упрекают детей в равнодушии к ним, в нечутком и «черством» отношении. Большею частью эти упреки основаны на том, что дети беззаботно и весело играют в дни горя, болезней, напряжения… Неужели и это признать выражением детской неотзывчивости? Дети действительно «эгоцентричны» — таков естественный и необходимый в психическом их созревании факт. Ведь если бы дети не были эгоцентричны, не были погружены в свой детский мирок, это могло бы иметь самое губительное последствие для нежного их существа, которому еще нужно расти, расправлять свои силы. Дитя должно в это время жить для себя, — и слава Богу, если дети играют и беззаботны — придет и для них время неразрешимых задач, мучительных дум. Медленно научаясь понимать чужую душу, дитя естественно не понимает горя родителей; а если оно поймет, если вберет его в свою душу, как сгибаются под непереносимой тяжестью слабые детские плечи!
Мы видим, что обычные упреки, посылаемые детям в том, что они жестоки, — несправедливы. Если мы освободимся от неверного суждения о том, что называется детской жестокостью, то и психология детского гнева предстанет перед нами в более правильном освещении. Детский гнев более чист, чем наш; ассоциация гнева и злобы, столь частая у взрослых, редка у детей. Можно даже утверждать, что появление злобы у детей есть верный симптом тяжелой наследственности или скверных условий жизни ребенка.
Обратимся теперь к сложнейшей группе чувств — к чувствам к самому себе. Не только в течение первого года жизни, как мы уже указывали, но и в течение раннего детства дитя не знает настоящей любви к самому себе. Этот чувство предполагает устойчивый интерес к самому себе, чего мы совсем не находим в течение раннего детства. У ребенка есть много чувств, направленных к его собственной личности, но все эти чувства не могут быть охарактеризованы, как любовь к самому себе. Если субъективное самосознание развивается очень медленно, то интерес к своей личности развивается еще медленнее.
Не надеясь исчерпать большую и трудную тему, к которой мы подошли, остановлюсь лишь на наиболее существенном. — Подобно тому, как в реакции страха и гнева мы имели дело с двумя полярными выражениями этих чувств, так и в чувстве самого себя дитя стоит перед двумя выражениями этого чувства. Одно опирается на сознание своей си-
136
лы и подымает творческое, активное самочувствие, открывает дорогу для активности, укрепляет сознание своей ценности; другое, наоборот, опирается на сознание своей слабости, озлобляет дитя, как бы подрезает его крылья, понижает желание действовать, тягостным чувством негодности и ненужности разливается в душе. Чувство своей силы и чувство своей слабости — таковы две полярные формы самочувствия, развивающиеся очень рано у ребенка. По этим двум руслам бегут новые и новые чувства своего «я», усиливая и одно и другое. Опыт дает достаточно материала для развития обоих чувств — ибо одно связано с творческой активностью, с пробами самостоятельного и свободного проявления своей личности, а другое связано с отказом от своей воли, с приспособлением к другим и подчинением им. Всюду, где дитя может осуществлять свои желания, оно переживает бодрое сознание своей силы, непосредственно переживает свое «право» на самостоятельную активность, — и всюду, где оно не смеет, не может осуществлять того, что хочет, где дитя должно приспособляться, у него развивается сознание границ его сил, сознание слабости, даже бессилия. Первое чувство имеет положительное значение, второе — отрицательное; первое подымает общее настроение, создает творческие импульсы, пробуждает новые силы, ставит новые задачи, манит дитя к новой и новой деятельности. Успех окрыляет дитя, подымает тон его самочувствия, внушает ему веру в себя. Наоборот, чувство своей слабости имеет совсем иное влияние — оно заставляет дитя отрекаться от своих планов и порывов, убивает порывы, заставляет дитя подчиняться чужой воле, вызывает болезненное ущемление в личности, подрывает веру в себя. Дитя приспособляется к другим, чувствует себя неспособным, негодным… Нормально в душе нашей живут оба чувства, взаимно уравновешивая друг друга, но сплошь и рядом — и у детей это особенно часто — доминирует какое-либо одно чувство. Дети, которые чаще, ярче переживают чувство своей силы, становятся самоуверенными, упорными, настойчивыми, самолюбивыми, хвастливыми, тщеславными: все это является результатом яркого развития у них чувства своей силы. Дитя привыкает к тому, что его все зовут умным, милым, прекрасным, удачным, оно привыкает к похвале, любит и само похвастаться своим платьицем, игрушками, иногда само говорит себе похвалы. Если дитя в самом деле быстро развивается, его успехи невольно вызывают всеобщие похвалы и восхищение — и дитя начинает невольно думать о себе очень высоко, считает себя чем-то необыкновенным. Конечно, рано или поздно придет конец этому самомнению, — и дитя, которое считало себя каким-то чудом, неизбежно переживет жестокое разочарование в самом себе и может совершенно потерять веру в себя, как мы говорим — махнуть на себя рукой.
На основе высокого мнения о себе нередко развивается одно из наиболее ядовитых чувств в нашей душе — зависть: чужие успехи мучат нас, мы хотим царить всегда и во всем. Уже в раннем детстве нередко приходится наблюдать тлетворное дыхание зависти, — особенно это чувство усиливается в случае сближения детей из разных социальных слоев. При развитии напряженного самолюбия дети вообще становят-
137
ся необыкновенно чувствительны к тому, что говорят о них другие люди. Попробуйте прочитать выговор таким детям в присутствии чужих — почти всегда это действует очень болезненно на самолюбивых детей. Неумелые укоры наши нередко не только не вызывают желания стать лучше, но лишь озлобляют детей; повышенная чувствительность детей к тому, как относятся к ним окружающие, дает место многим тяжелым и даже роковым в развитии юного существа ударам.
Немного иную картину представляет развитие ребенка, если дитя особенно часто чувствует свою слабость, свои недостатки, не смеет, не решается проявить свои желания. Вся личность ребенка приобретает печать какой-то забитости, придавленности, психической угнетенности. Глаза такого ребенка не смотрят смело и весело, в них часто виден страх, робость, какая-то сковывающая дитя застенчивость, напряженное внимание, быть может лицемерие; движения — осторожны, робки, нерешительны, какие-то сдавленные. Дитя не только не имеет веры в себя, но оно считает себя никому ненужным, чужим, заброшенным; не менее первого ребенка дитя второго типа становится болезненно чувствительным ко всяким уколам самолюбия. Оно готово признать себя неспособным, бесталанным, лишь бы не слышать презрительных отзывов, лишь бы не замирать от стыда и боли, когда при всех указывают на его недостатки, — и нередко оно становится социально тупым, словно его привыкли раздевать при всех, привыкли издеваться над ним. Оно уже теряет стыд, тупо и злобно слушает аттестации себе, — лишь где-то там, в глубине, закипают слезы бессильной злобы и обиды. Психическая депрессия, пассивность овладевают душой ребенка, не растут крылья в душе, не хочется проявлять свою инициативу, общий упадок, общая апатия, нередко злоба оседают в душе. Мы видели на классификации детских типов Лесгафта, как велико и глубоко влияние чувств силы и слабости в развитии и организации детского характера, — эти чувства как бы направляют развитие души, формируют самый важный и значительный материал, из которого строится характер. Здесь залагается основной фонд наших запросов и склонностей, определяется направление в развитии личности.
Сфера чувств, о которых мы ведем речь, требует усиленного и вдумчивого внимания к себе со стороны родителей и педагогов. Хотя в раннем детстве отсутствует «эгоцентрическая установка», нет культа своего «я», но дитя, не сознавая этого, все же все время занято собой, глубоко переживая и радости, и горе, и успехи, и неудачи. А мы, взрослые, нередко, не понимая того, что творится в детской душе, наносим ей тяжелые раны: достаточно, например, указать на наше отношение к детскому упрямству. Как отмечает Штерн, упрямство — это упорное отстаивание своей воли, нежелание склониться ни перед просьбой, ни перед наказанием — начинает проявляться уже в течение первого года жизни; конечно, раннее детство несет затем с собой развитие упрямства.
На прилагаемом рисунке 5 воспроизведена картина известного художника Каульбаха.
На лице ребенка видно упорство, соединенное со страхом; дитя не поддается на уговоры и приманки, оно замкнулось в себе. Мы, взрос-
138
лые, нередко считаем долгом подавлять упрямство у детей и так как это очень трудно, то невольно разгорячаемся, приходим в сильное возбуждение, реагируем телесным наказанием на упрямство ребенка, не замечая, что разрушаем психические основы личности. Упрямство — это психическое предварение сильного характера, — и мы, подавляя упрямство, разрушаем чувство силы, добиваемся того, чтобы дитя отказалось от своей личности, унижаем его…
Рис. 5.
Перейдем к чувству стыда. — Мы уже говорили, что необходимо различать между индивидуальным и социальным стыдом. К сожалению, этого различия не усваивает даже такой тонкий психолог, как В. Штерн, который, принимая простейшие выражения стыда за их «сущность», трактует стыд исключительно как социально-психическое движение в нашей душе. Один автор6просто заявляет безапелляционно, что «стыд есть по существу социальное чувство» и отождествляет его далее с «чувствительностью к чужому мнению». Это забвение чисто индивидуальной стороны в стыде, вероятно, является одним из главных мотивов, заставляющих других психологов возводить всякий стыд к половому стыду. Хотя, по нашему мнению, вся сексуальная сфера в нас существенно связана с социально-психической нашей жизнью, однако чисто индивидуальный момент тоже выражен здесь очень сильно; в половом стыде несомненно тоже ярка его индивидуальная сторона. Конечно, Штерн совершенно прав, когда заявляет, что «первые стадии в развитии стыда не стоят ни в каком отношении — ни прямом, ни косвенном — к сексуальной сфере.
--
6 Р i g g о t — Die Grundzuge der sittlich. Entwickelung und Erziehung. (Beitrage zur Kinderforschung. VII. S. 18).
139
Чтобы разобраться хотя бы немного в психологии стыда, нужно исходить — как это мы делаем неизбежно во всяком «вчувствовании» в детскую душу — из того, как проявляется стыд у взрослых людей. Его место в душе зрелых людей настолько велико, что Влад. Соловьев счел возможным усмотреть в стыде эмпирическую основу моральной жизни. Мне не представляется его точка зрения вполне верной, но по своему месту в системе чувств, в системе стимулирующих наше поведение сил стыд действительно имеет большое значение. Смысл той психической установки, которая определяется чувством стыда, заключается в мучительном и тягостном сознании того, что личность наша «недостойна», не стоит на должной высоте. Стыд всегда предполагает раздвоение в нас: в нас есть то, чего мы стыдимся, и есть способность оценивать это «падение». По глубокой мысли Влад. Соловьева, стыд есть функция в нас «целомудрия», духовной целостности и правильной иерархии в нас сил нашего существа. Всякий раз как эта правильная иерархия нарушается, нам становится стыдно — и острие этого чувства направлено собственно не на то или иное наше «дело», а на нашу личность. Половой стыд есть лишь специальная форма стыда, которая отсутствует до известного возраста, пока еще дремлет сексуальное сознание (а если половой стыд проявляется рано, то это всегда связано с влиянием социальной среды, различий, например, в одежде девочек и мальчиков), — равно как он ослабляется к старости. Очень важно при оценке этого мало изученного чувства иметь в виду и то, что объекты стыда меняются, но самое чувство остается. Может быть, в метафизике пола стыд имеет действительно глубочайшую связь с полом, но в психологии иола, в эмпирическом развитии сексуальной сферы стыд является душевным движением, не связанным с одной лишь половой сферой и может быть даже скорее здесь выветривается, чем в других направлениях.
Зоопсихологи иногда утверждают, что стыд свойствен и животным. При той неточности психологической терминологии, от которой особенно страдает психология чувств, при отсутствии вполне законченных описаний основного «смысла» чувств, основной установки, ими определяемой, очень трудно оспаривать отдельные зоопсихологические наблюдения. И все же нам представляется верным утверждением Влад. Соловьева о чисто человеческом характере чувства стыда8. По своему существу чувство стыда принадлежит к высшим чувствам, связанным с духовной жизнью, а у нас нет никаких данных приписывать животным духовную жизнь. Если является спорным вопрос о том, обладают ли дети чувством стыда, то тем более спорным должно признать утверждение, что животные испытывают чувство стыда.
При изучении развития стыда у детей, как правильно отмечает Штерн9, огромное затруднение создается тем, что мы постоянно гово-
--
х Это мнение разделяет проф. И. А. Сикорекий."Stern-Op. cit. S. 318.
140
рим детям: «стыдись», «как тебе не стыдно». Мы вызываем у детей не столько чувство стыда, сколько известную чувствительность к чужому мнению и тем лишь усиливаем естественную склонность к переживанию именно социальной формы стыда. Мы сейчас объясним, отчего у детей доминирует социальная форма стыда, но надо признать, что мы, взрослые, усреднейшим образом помогаем этому. Между тем социальная форма стыда, односторонне развиваясь в детской душе, очень замедляет развитие основного чувства — индивидуального стыда.
Казалось бы, у детей нет собственно объектов стыда. Чего бы могли стыдится дети, особенно в ранние годы жизни? И не кажется ли с этой точки зрения стыд у детей вызываемым лишь социальной средой, которая приучает детей стыдиться и тогда, когда для этого нет никаких поводов во внутреннем самочувствии ребенка? Ведь если мы признали, что у ребенка нет настоящей «любви» к самому себе, за отсутствием интереса к своей личности, то не следует ли признать, в силу тех же оснований, отсутствие у детей подлинного стыда, ибо они совсем не заняты самооценкой? Сикорский, говорящий определенно об отсутствии у детей в раннем детстве чувства стыда, признает, что во всяком случае стыд появляется не раньше 3 лет — и то под влиянием окружающей среды10. Но так же, как, отвергнув наличность у ребенка настоящей «любви» к самому себе, мы признали наличность «чувств в отношении к самому себе», предваряющих будущую «любовь» к себе, так и в отношении стыда должны мы признать, что в самочувствии ребенка очень рано начинают обнаруживаться движения, по существу предваряющие переживания стыда. Конечно, здесь, быть может, с особенной силой сказываются индивидуальные различия11, и развитие не всех детей идет одинаково в данном направлении. Однако, у очень многих детей рано (на первом даже году жизни) начинает проявляться «застенчивость» — и притом с такой закономерностью, что Болдвин выдвинул учение о нескольких стадиях в развитии застенчивости; вначале иметь место, по Болдвину, «первичная» или «органическая» застенчивость. Теория Болдвина подверглась критике как раз в частях, относящихся к дальнейшим стадиям, но относительно начальной стадии возражений не было. Правда, застенчивость часто относят к группе чувств страха, как это с особенной ясностью развил Грос12, но ведь и чувство стыда иногда сближают со страхом в виду той депрессии, которую вызывают одно и другое чувство. Я считаю детскую застенчивость прямым предварением стыда13 и думаю, что именно здесь лежит ключ к психологии стыда в раннем детстве.
Когда мы излагали учение Болдвина о развитии самосознания, мы, примыкая к его мысли, что первая стадия носит проективный, т. е. социально мотивированный характер, указывали на то14, что про-
--
10 К сожалению, у меня под руками лишь немецкий перевод книги Сикорского. Относящийся сюда случай см.: Die seelische Entwickelung des Kindes. 2-е изд. 1908. S. 91.
11 S t e rn. Psychologie d. fr. Kindheit. S. 318.
12 G г о о s — Das Seelenleben des Kindes. S. 299—300.
13 Штерн держится того же мнения: Stern — Op. cit. S. 318—9.
14 См. выше гл. III.
141
ективная самохарактеристика предваряется непосредственным чувством себя как живого существа. Стыд, как функция самооценки, тоже должен пройти проективную стадию, и подобно тому, как проективное самосознание вообще остается в нас навсегда, так и проективная самооценка в тонах стыда остается в нас навсегда, как его социальная (или проективная) форма. Но, разумеется, социальный материал при самооценке только в том случае может осесть в детской душе и оформить чувство стыда, если еще раньше, в непосредственном самочувствии, уже звучало основное настроение этого чувства. В первичной застенчивости, которую наблюдатели отмечают уже в конце первого года жизни (Скупин) или в начале второго (Штерн), мы и видим первые, неясные для самого ребенка, но непосредственно в нем звучащие настроения стыда. Проективный материал оформить эти движения уже позже (по Штерну 2—4 годы жизни, по Сикорскому — 4-й год) — и тогда появляется социальная форма стыда, с особенной ясностью выступающая, как отмечают все наблюдатели, у девочек.
Первичная застенчивость проявляется по отношению к незнакомым людям. Дитя стремится укрыться от чужого взора, отворачивает головку, прячет ее в складках платья матери или няни. Иногда эта застенчивость побеждается любопытством, но нередки случаи, когда дитя может расплакаться, увидав незнакомое лицо. Это не есть страх: если дитя боится нового лица, то его движения принимают все особенности «бегства», дитя пугливо бросается к матери, плачет совсем другим плачем. В застенчивости, как удачно выражается Штерн, есть стремление «уйти в самого себя». В чем смысл этого движения? Когда мы переживаем стыд, мы хотели бы не только уйти в себя, но и от себя: этого последнего, наиболее характерного для стыда движения дитя не может переживать, потому что в нем нет ясного сознания своего «я», но то внутреннее сжатие, когда душа как бы сморщивается, когда так хочется стать незаметным (для взрослых незаметным даже для самого себя), переживает и дитя. Но почему же это тяжелое сжатие, сморщивание души пробуждается при виде чужих людей? Да потому, что отрицательная самооценка, вызывающая эту «психическую спазму», это упадочное и тягостное сжатие души — может родиться в детской душе только на основании внешнего к нему отношения других людей. Не всех чужих «стыдится» дитя — нередко оно остается равнодушным к чужим людям, часто охотно идет сразу им на руки — лишь некоторые чужие люди чем-то в своей внешности, в облике, в голосе вызывают у ребенка внезапное чувство понижения своей ценности. Это не страх, а ощущение своего социального «падения»: дитя как бы ощущает себя перед лицом незнакомца ненужным, ничтожным. Самочувствие и самооценка остро понижаются и дают тяжелое переживание: это и есть начатки стыда или, как выражается Штерн, «мотивы стыда»15.
Первичная застенчивость связана, таким образом, с пониженным чувством своей социальной ценности; в этом смысле застенчивость вполне примыкает к группе описанных нами переживаний своей сла-
--
15 St em — Op. cit. S. 319.
142
бости. В своей социальной или проективной форме стыд действительно является одним из выражений чувства слабости, т. е. входит в группу чувств, направленных к самому себе, — но даже и в этой своей форме он осложняется моральным мотивом. Влад. Соловьев был прав, видя в стыде один из эмпирических корней моральной жизни в нас; он ошибался только в том, что принимал его за основной эмпирический корень морали. — То, что проявление застенчивости, социального стыда связано с самооценкой, а не с простым ущемлением личности ребенка, постепенно развертывается в первичное моральное суждение о себе. Мы дальше будет иметь случай говорить о развитии морального сознания ребенка, и мы увидим, что первые представления о морально-ценном выступают в сознании ребенка благодаря взаимодействию с социальной средой, как это впервые подробно развил Болдвин. Чувство стыда в его индивидуальной форме является продуктом психического развития ребенка, ибо эта самооценка становится здесь уже независимой от социальной среды. Примеры индивидуального стыда, т. е. переживаний стыда, не связанных с тем, что кто-то либо знает или узнает о дурном поступке, а вытекающих из того, что дитя само себя осуждает, появляются же к концу раннего детства, как первые проблески того возрастания субъективного самосознания, которое подготовляет психически сосредоточение на самом себе, подготовляет «интерес» к самому себе.
Штерн справедливо указывает16 на то, что стыд, как чисто психическое явление, достигает уже значительного развития, прежде чем он может быть обращен к телу. Дети поздно начинают «стыдиться» своего обнаженного тела, если только они развиваются в нормальных условиях: по наблюдениям Скупина, этот момент мог быть отмечен лишь тогда, когда мальчику было 5,1, по Штерну — лишь в течение шестого года жизни.
Нельзя тут же не отметить, что наше влияние на ребенка преимущественно покоится на использовании социального стыда. Конечно, как ранняя форма стыда, социальный стыд скорее и проще может быть возбужден у детей, но в том-то и дело, что вся социальная жизнь, помимо наших усилий, выдвигает на первый план именно социальный стыд, и нам совсем не нужно было бы стараться прилагать еще с своей стороны усилия к этому. Между тем преимущественное развитие социального стыда задерживает развитие индивидуального стыда. По силе своего психического влияния, по своему значению в моральном развитии юного существа, индивидуальный стыд должен был бы занимать одно из первых мест, но мы обычно не только не содействуем развитию этого нежного, интимного, но продуктивного чувства, но даже всячески оттесняем его, делаем его ненужным, на первый план выдвигая именно социальный стыд. Мы все обращаем внимание ребенка на то, что о нем подумают такие-то и такие-то люди, если узнают о его грехах, мы стараемся возможно заострить и усилить чувствительность ребенка к социальному его «удельному весу» — и, правду сказать, нажимая этот клавиш, можно скорее достигнуть внешнего эффекта. Но в об-
--
16 Stern — Op. cit. S. 320.
143
щем развитии личности ребенка социальный стыд имеет скорее отрицательное значение, сосредоточивая все внимание на том, что другие могут сказать, если узнают грехи ребенка. Все это невольно наталкивает дитя на лицемерие, которое служит достаточным симптомом недоразвития индивидуального стыда. Между тем все то ценное, что есть в социальном стыде, связано исключительно с той дозой индивидуального стыда, который ему присущ. Если нас глубоко и болезненно уязвит, в переживании социального стыда, чужое презрение, пренебрежение, недоверие, осуждение, то все это может иметь благотворное влияние на наше моральное развитие только в том случае, если нам внутренно станет стыдно самих себя, если социальный стыд перейдет в индивидуальный.
Для понимания психологии стыда — впрочем, не столько в раннем, сколько во втором детстве и отрочестве, — необходимо иметь в виду, что и стыд, подобно отмеченным раньше чувствам, может иметь пассивную и активную форму.
Мы говорили до сих пор о «пассивном» стыде — в нем действительно сосредоточены основные и ценные черты этого чувства, но нередки случаи, преимущественно у мальчиков, когда стыд, его напряженное переживание выражается в бравировании. Подобно тому, как в психологии риска мы, переживая страх, как бы игнорируем его и идем навстречу опасности, так очень частое у мальчиков школьного периода бесстыдство есть только иное выражение стыда. Конечно, для существа психология стыда, с ее стремлением сжаться, уйти в себя и даже от себя это является извращением, но и в этой активности бесстыдства проявляется стыд; если бы не переживали дети внутреннего острого напряжения, они бы не вносили в свои бравады столько силы, столько резкости. Бесстыдство есть не отсутствие стыда, а извращенное его выражение — потому извращенное, что для стыда существенно стремление «сжаться». И всякий раз, когда у детей или у взрослых встречаем мы циничное бесстыдство, более чем вероятно, что в основе его лежит именно стыд, болезненное и острое его переживание, определяющее напряженность его извращенного выражения. Давно уже было отмечено, что люди нередко именно от застенчивости становятся грубы, — но это и есть выражение того, что в бесстыдстве чаще всего мы имеем дело с «активным» проявлением стыда.
Анализируя чувство стыда, мы невольно перешли уже сферу индивидуальных чувств и вступили в область социальных чувств. Но собственно и другие индивидуальные чувства не являются абсолютно индивидуальными: и страх, и гнев, и чувства к самому себе развиваются при непрерывном взаимодействии с социальной средой. Обратимся теперь к другим социальным чувствам.
ГЛАВА IX.
Социальные чувства у ребенка. Социальная симпатия, ее развитие; антипатия. Сексуальная сфера у ребенка. Сексуальное развитие ребенка по Фрейду, анализ его построений. Высшие чувства у ребенка. Моральная жизнь ребенка, место ее в духовном созревании. Моральные чувства. Чувство долга. Три ступени в развитии моральной жизни. Моральное мышление у ребенка. Детские «идеалы». Перелом в моральном сознании ребенка. Моральная активность у детей, их моральный импрессионизм.
Социальные чувства рождаются вместе с социальным опытом, так как всякий социально-психический опыт выражается прежде всего в чувствах. Не благодаря работе интеллекта, не через подражание входим мы в связь с социальной средой, но благодаря тому, что непосредственно чувствуем эту среду, как живую, человеческую. Мы говорили уже, что это первичное и непосредственное переживание человеческой среды, как таковой, лежит в основе всего нашего социального взаимодействия. Окружающие нас люди являются для нас людьми (Mitmenschen, по удачному выражению Авенариуса) благодаря этому непосредственному восприятию их, как живых существ; по мысли Гиддингса, которая представляется нам верной, в нас есть глубокое чувство нашей однородности с людьми. Мы ощущаем людей не только как части мира явлений, но и как живые существа, как субъекты самостоятельной и творческой активности1. Можно поэтому сказать, что существует некоторое общее социальное чувство, лежащее в основе всех отдельных социальных чувств.
Конечно, детям присуще это основное социальное чувство, потому что уже в течение первого года жизни дети научаются, без размышлений, различать между людьми и вещами. Но в течение грудного периода социальные горизонты, открытые перед ребенком, слишком узки; дитя еще слишком связано с матерью, с обычной его обстановкой, оно медленно овладевает органами чувств, органами тела. Расцвет социальных чувств начинается с развитием языка, с отходом от матери, с пробой самостоятельных движений. Конечно, и эта область чувств, хотя они и направлены на внешнюю среду, остается в значительной степени закрытой для нас. Мы остановимся здесь на характеристике симпатии, отталкивания от людей, как своеобразного антагониста симпатии, свя-
--
1 См. развитие этой точки зрения неофихтеянца Мюнстерберга в его — Grundzuge der Psychclogie.
145
занного, однако, именно с социальным чувством, и полового чувства. О социальном стыде мы говорили выше.
Социальная симпатия (как и социальная антипатия) развиваются у детей очень рано. Уже в течение первого года жизни дети проявляют явные признаки своей симпатии к отцу и матери, к няне, к членам семьи, ко всем тем, кто относится к ним с вниманием. Когда дитя заканчивает свой грудной период, социальная среда, в которой оно доныне вращалось, естественно расширяется; в детских играх начинают проявляться социальные инстинкты, которые становятся средством ориентирования в социальной традиции, в социальной среде. К пятому — шестому году жизни начинают проступать признаки, что ребенку уже мало семьи, что ему уже тесно в ней, начинает проявляться чрезвычайный интерес к сверстникам. Тот психический «уход» из семьи, который обыкновенно имеет место на 8—9 году жизни, подготовляется уже на краю раннего детства.
Болдвин считает одним из важнейших проявлений общего социального чувства— внушаемость. Мне представляется верным в этой мысли то, что не социальная жизнь должна быть понимаема из внушения (как это думали Сиддис, Бехтерев), а наоборот, внушение должно быть объясняемо из основ социальной психологии. Внушение есть некая особая форма связи, отмеченная своеобразной поддатливостью. Недавно Фрейд в своей новой, очень интересной работе (Die Massen-psychologie und Ichanalyse) довольно удачно указывает на полную неясность понятия «внушения» и стремится найти основы его в той самой социальной связности, которая имеет место в семье2. Окрашивая все в цвета своего пансексуализма, Фрейд все же находится на правильном пути, связывая проблему внушения с явлениями нормальной социальной связности. Однако, не следует думать, что загадка внушения до конца может быть раскрыта в плоскости социально-психологического исследования; загадка внушения и всего того, что с ним связано несомненно глубже и сложнее. Бесспорно во всяком случае, что с развитием социальной психологии для нас будут становиться яснее многие загадки, которые казались неразрешымыми для индивидуально-психологического исследования.
При современном даже состоянии социальной психологии теряет всякое значение прежние споры о выводимости сострадания и социальной симпатии из «эгоизма». То, что у Шопенгауэра было гениальным прозрением, хотя и облеченным в понятия его метафизики, то ныне является совершенно бесспорной истиной эмпирической социальной психологии — именно непроизводность симпатии, сострадания. «Ты» и «я» — понятия коррелятивные; в самой личности есть свой, обращенный к социальной среде социальный полюс, и личности незачем переживать сложный процесс развития (как это, например, строил еще Спенсер), чтобы срастаться с социальной средой. Личности незачем с ней срастаться, потому что она ее «преднаходит», развивается в непрерывном взаимодействии с ней.
Сострадание в настоящем смысле слова появляется очень рано.
--
2 Fre u d— Massenpsychologie und Ichanalyse. 1921. §§ 4 и 8
146
Прейер рассказывает, что его дитя, которому было тогда 2 года и 3 м., плакало, видя на картине человека или животное в опасном положении. Селли приводит случай плача у ребенка 9J/2 м., которое разволновалось, видя слезы матери. У Болдвина находим подобный случай, относящийся к 1,1 году. Скупин рассказывает о нежной заботливости его сына в отношении к петуху, когда его сыну было 2,8. В специальной работе Бека3, написанной на основании материалов, полученных анкетным путем от родителей, констатируется известная периодичность, точнее говоря, неравномерность в развитии чувства сострадания. Вот данные, приводимые Беком:
Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Число случаев сострадания 3 66 95 94 93 60 41 28 37 25 19 10
Конечно, метод, которым пользовался Бек, не позволяет говорить о точном исследовании чувства сострадания у детей, но все же известную ценность выводы его, конечно, представляют. Как мы видим из приводимых им данных, наибольшее развитие чувство сострадания получает между вторым и шестым годом, т. е. как раз падает на раннее детство. В той же работе находим данные о предметах сострадания:
1) Члены семьи 146 случ. =36,0%
2) Другие люди 59 » = 14,5%
3) Животные 88 » =21,0%
4) Безжизненные вещи, куклы, растения 56 » =14,0%
5) Образы людей или животных
в картинах или рассказах 60 » = 14,5%
Половина случаев сострадания относится к людям — и при том преимущественно к членам семьи; лишь начиная с третьего года жизни, заметно растет сострадание к лицам, стоящим вне семьи — и чем дальше, тем больше. Смысл этого правильно истолковывает Штерн4, когда говорит, что состраданию предшествует расширение круга социальных связей: симпатия распространяется лишь на тех, с кем чувствует себя дитя связанным. Особенно любопытно, что сострадание усиливает нежные чувства, которые дитя питает к кому-либо; это проявляется у детей, пожалуй, даже ярче, чем у взрослых. Отметим также, что рост социальной отзывчивости может быть наблюдаем и в способности бояться за других. Конечно, во всем этом нередко сказывается влияние социальной среды, примера, но что чувство сострадания, симпатии имеет свои глубокие корни в душе ребенка, это отчетливо видно на тех случаях, когда сострадание ребенка развивается в таком направлении, в котором оно никак не могло бы определяться под влиянием старших, например, сострадание к животным и особенно к безжизненным предметам. Селли приводит трогательное выраже-
--
3 Вое с k— Das Mitleid bei Kindern, 1909. См. также: G roe t hyysen-Das Mitgefiihl. Ztschr. f. Psych. 1904; Ebbinghau s-D u r r-Grundzuge d. Psychol. B. II. § 93.
4 S t e r n — Psych, d. fr. Kindheit. S. 329.
147
ние одного ребенка, который с состраданием глядел на неподвижно лежавший камень: «бедный камень, говорило дитя, как ему скучно лежать на одном месте». Способность чувствования в данном направлении становится уже к 5 годам настолько яркой, что в играх детей мотив сострадания начинает занимать значительное место.
Степень развития сострадания и симпатии, конечно, различна у разных детей— здесь сказываются большие индивидуальные различия. В общем девочки всегда «чувствительнее» мальчиков, у них скорее и чаще пробуждается симпатия. Штерн сообщает любопытные данные относительно своей младшей дочери Евы, у которой отзывчивость была очень слабой: это стояло, как выясняет Штерн, в связи с общей вялостью и медленным развитием ее эмоциональной жизни. Подобных случаев встречается в детском развитии не мало: рядом с чуткими, отзывчивыми натурами стоят натуры мало отзывчивые, иногда даже тупые. Случаи социальной тупости требуют к себе усиленного внимания со стороны родителей и педагогов — конечно, эту тупость меньше всего можно устранить, воздействуя на интеллектуальную сферу.
Рядом с состраданием, живой отзывчивостью и простым влечением, симпатией к людям надо признать возможность проявления социальных чувств и в противоположном направлении. Нам уже приходилось говорить о детской жестокости и указывать на то, что почти всегда в этих случаях мы имеем дело с игрой, с непониманием чужих страданий. Но в развитии социального сознания, социальных чувств у ребенка нельзя отрицать случаев, когда в разгаре социальной борьбы чужое страдание может вызвать стремление продолжать это страдание. Чувство сострадания заглушается, отодвигается упоением своей «победой», желанием насладиться своим торжеством. В детской мстительности, которая, как мы видели, распространяется и на вещи, выступает мотив, совершенно противоположный симпатии и состраданию. Конфликт нежности и справедливости, о котором говорит в одном месте Достоевский, знаком уже детской душе. Мы имеем еще слишком мало наблюдений в данном направлении, но несомненно, что детская душа в этом направлении достаточно сложна. Дитя, видя, как кто-либо обижает близкого человека, животное, проникаясь жалостью к обижаемому, загорается гневом на обидчика и готово его «уничтожить». На этой почве возникают первые отталкивания от людей, первые антипатии. Быть может, не только на почве гнева, но и на почве страха зарождаются наши антипатии, — эти могущественнейшие двигатели в нашей душе. Самые разнообразные чувства, питаясь из социального взаимодействия ребенка с его средой, оказывают влияние на его социальные чувства. Ревность и зависть, тщеславие и самолюбие, хвастливость и мстительность — все это влияет на наше социально-психологическое ориентирование. Даже мы, взрослые, не отдаем себе отчета в наших симпатиях и антипатиях — что же говорить о детях? В неясном ясновидении наших симпатий и антипатий сказывается много инстинктивного, точнее говоря, здесь проявляются различные неосознаваемые нами психические движения.
148
Перейдем к анализу сексуальной сферы у ребенка.
При современном состоянии изучения проблем пола в жизни и развитии человека, невозможно отрицать огромного, можно сказать, центрального значения пола в психике человека, в развитии его существа. С тем большим удивлением приходится констатировать странное пренебрежение современной психологии к проблеме пола. Достаточно указать на то, что в лучших руководствах психологии (Wundt, Ebbinghaus, Geyser, Jodl, James, Titchener и др.) мы не находим совершенно изучения сексуальной сферы у человека. Пансексуализм Фрейда — этого нельзя отрицать — является реакцией этому небрежному отношению современной психологии к проблеме пола. Единственно, где больше уделяют внимания полу, — это дифференциальная психология, где давно уже стремились учесть психическое своеобразие мужчин и женщин, мальчиков и девочек. Материала в этом направлении скопилось достаточно5, но все это ведь есть лишь симптомы того глубокого влияния пола на личность, на психику, которая в целом остается незатронутой дифференциально-психологическими исследованиями. Когда читаешь Фрейда и фрейдианцев с их настойчивым разысканием влияния пола в самых разнообразных индивидуальных, социальных и исторических процессах, то, несмотря на постоянные преувеличения в этих случаях или, вернее, именно вследствие этих преувеличений, чувствуешь, что до школы Фрейда пол был пустым местом для психологии. Могучее, разностороннее влияние пола, его связь с творческими и патологическими процессами в нас как бы не существовали для психологов.
До Фрейда вопрос о сексуальной сфере в детском существе почти совершенно не был разработан; было принято думать, что лишь с началом полового созревания возникает вообще сексуальная сфера. Между тем психическое развитие девочек и мальчиков начинает проявляться так рано, что это одно должно было бы обратить внимание на то, что пол является определяющей силой, творческим фактором, можно сказать, с первых дней жизни. Правда, мы доныне не имеем философской антропологии, в которой была бы не только правильно вскрыта конституция человеческого существа, но и указаны иерархические отношения различных сил в человеке. Это, на наш взгляд, является одной из главных причин замедленности в изучении проблем пола. И доныне мы стоим лишь на пороге этих проблем, а пансексуализм Фрейда, несмотря на изумительную энергию сторонников этого течения, нередко скорее затемняет, чем уясняет вопросы.
Если исключить дельное исследование Молля о половой жизни ребенка, да замечания о половом развитии ребенка в различных книгах по сексуальной педагогике, можно сказать, что настоящее изучение детской сексуальной сферы, интерес к ней был пробужден Фрейдом и его школой. Для Фрейда детство является периодом, особенно уязвимым в сексуальном отношении, — и те конфликты, которые возникают в это время, создают почву для психических заболеваний. Сущность психоа-
--
5 См. сводку материалов в книге L i p p m a n n'a — Psychische Geschiechtsun-terschiede. T. I-II. 1917.
149
налитического метода, который был и остается прежде всего терапевтическим методом, в составе которого «исследование» больного еще не выполняет всей задачи, — сущность психоаналитического метода заключается в том, чтобы путем извлечения из глубин души тех комплексов, которые были похоронены там и образовали ядовитый материал, освободить человека от источников его психической неуравновешенности. В силу этого все течение фрейдианства относит к детству основные психические травмы, основные конфликты; проблема детства чрезвычайно занимает последователей этой школы и они постоянно уделяют ему внимание в самых разнообразных своих работах. Правильнее было бы даже сказать, что все работы фрейдианской школы так или иначе освещают детство.
Если оставить в стороне пансексуализм Фрейда и его школы, то надо признать правильной ту общую мысль Фрейда, что уже детство знает жизнь пола, что уже в детстве пол является действенным и живым началом. Конечно, все то, что совершается в данном направлении в детском существе, остается в важнейшей своей стороне скрытым, темным, неразвитым, однако задолго до полового созревания в самых разнообразных функциях проявляются различия, обусловленные полом. И не только отдельные психические функции, но и общее поведение, общий психический уклад у мальчиков и девочек являются различными. Утверждение изначальной бисексуальности человеческого существа, находящее себе известное подтверждение в анатомо-физиологиче-ских особенностях, не находит себе подтверждения в психической области, где влияние пола сказывается необычайно рано, хотя и не всегда поддается точному учету.
Последуем за Фрейдом в его характеристике половой жизни у ребенка. — Половые переживания, по Фрейду, первоначально не связаны со специальными телесными функциями — их органом является все тело, раздражения которого доставляют ребенку общее возбуждение. Если и у взрослых существуют «эрогенные зоны», раздражение которых отзывается половым возбуждением, то у ребенка эрогенной является вся поверхность тела. Но среди этих приятных раздражений одни имеют особенный характер, резко выделяющийся по своему постоянству и обилию удовольствий, — это сосание, которое становится для ребенка главным источником полового возбуждения, объектом которого является, таким образом, мать, эта «первая любовь» всякого ребенка. По Фрейду, сосание является источником полового возбуждения и для матери, а не только для ребенка; на этой именно почве возникает и укрепляется особенно интимный характер отношений матери и ее детей. Но вот приходит момент, когда кормление грудью прекращается, прежняя близость к матери ослабевает, мать не может быть в постоянном распоряжении ребенка. Это создает глубочайшую и, по мнению фрейдианцев, собственно непоправимую трагедию в душе ребенка, который во всех дальнейших своих переживаниях стремится так или иначе восстановить то, что наполняло его при близости к матери. Мать остается на всю жизнь не только первой, но в сущности единственной любовью, а отец, как бы отнимающий мать, становится объектом сле-
150
пого раздражения и ненависти — так зарождается в темных глубинах детского существа «эдиповский» комплекс, с его стремлением устранить отца и стать на его место.
Раз начавшись, конфликт в детской душе становится неутихающим источником психического раздражения, впервые выдвигающего страх, как психическое выражение основной ущемленности души. Вместе с тем тело продолжает быть органом полового возбуждения, уже не имеющего своего объекта; возникая в детском существе, эти переживания, втайне устремленные к матери, не могут сознаваться в этом своем содержании. Неосуществимость устремлений к матери ведет к тому, что они падают в глубину души, оттесняются из сферы сознания, — а то, что появляется в сфере сознания, не имеет своего объекта и тем погружает дитя в своеобразный аутоэротизм, в котором объектом половых переживаний является само дитя: «я» ребенка, пишет в одном месте Фрейд6, является собственным и первоначальным резервуаром «Libido».. Все углубляя свое понимание сексуальной сферы, Фрейд в последнее время склонен сближать с половой сферой все, что связано с самосохранением7, — поэтому сосредоточение на матери своих переживаний вполне объясняется ее ролью в питании и жизни ребенка. Но, отрываясь от матери и переживая благодаря этому важнейший в жизни конфликт, дитя продолжает испытывать «половое удовлетворение» от всего того, что поддерживает в нем жизненный процесс. Фаза аутоэротизма переживается всеми8; однако, в последнее время Фрейд склонен признать его особую форму — преимущественно у женщин, — в которой с самого начала нет внешнего объекта полового удовлетворения, в которой аутоэротизм является изначальной формой. Это и есть «нарциссизм» — «влюбленность в себя»9.
Фаза аутоэротизма опасна тем, что дитя является погруженным в хаос неясных, но заманчивых переживаний. Если случайно возникает детский порок, он легко закрепляется благодаря напряженному интересу к половому возбуждению. Лишь с половым созреванием, когда все тело перестает иметь эрогенное значение, когда вся эрогенная сила сосредоточивается в развивающихся органах, — проходит нормально фаза аутоэротизма и вновь появляется внешний объект половых устремлений. Когда раньше врачи, желая отучить юношу от полового порока, советывали ему вступить в нормальную половую жизнь, то они руководились смутным сознанием именно этой идеи — что появление внешнего объекта половых устремлений освободит юношу от чар аутоэротизма.
В изложенной нами в общих чертах теории Фрейда есть кое-что истинное и слишком много фантастического. Верно прежде всего то, что
--
6 Fr e u d — Jenseits des Lustprincips. 1921. S. 51.
'Freud- Zur Einfuhrung des Narcissismus. Jahrbuch d. Psychoanalyse. Bd. VI. S. 12; Freud — Jenseits des Lustprincips. 2-е изд. S. 51 ff.
8 Чрезвычайно ценны построения Штеккеля в его последней работе — Onanie und Homosexualitat. 1921.
9 F r e u d — Zur Einfuhrung des Narcissismus. S. 13.
151
пол действует в нас уже в детском возрасте, что существует поэтому половая жизнь в нас в это время. Но в чем она выражается, в чем она состоит, — на эти вопросы Фрейд отвечает без всяких колебаний, но и без оснований своими гипотетическими построениями. Пол вообще глубже, шире «половой жизни»; это составляет истину в суждениях Фрейда, когда они направлены против упрощенного понимания пола, — но это же положение должно быть направлено и против Фрейда, когда он конструирует понятие половой жизни ребенка. Она есть в нем — это нельзя отрицать, как отрицают многие, — но все же пол глубже и значительнее того, что может быть названо половой жизнью ребенка; проблемы пола у ребенка нельзя исчерпать, ее нельзя целиком втиснуть в нарочно расширяемые схемы половой жизни в детстве. Пол ищет и находит свое выражение во всех психических функциях — это верно в особенности по отношению к детству. Пол к тому же не исчерпывается ни половой жизнью ребенка, ни «отражениями» пола в различных психических и психофизических функциях, — он глубже, существеннее эмпирической сферы, имеет метафизические корни и интимно связан со всем подлинно индивидуальным, своеобразным, единственным, что присуще данному человеку, как его неповторимые свойства. В силу этого мы находим сексуальный оттенок во всех психических движениях очень рано, точнее говоря — во всех психических функциях находит свое выражение различие пола.
С этой точки зрения, Фрейд и его школа правы, когда говорят о сексуальном развитии в течение раннего детства. Можно даже признать, что кормление грудью для обеих сторон — и матери и ребенка — заключает в себе нечто близкое к сексуальной сфере. Однако, окрашивать отношение матери и ребенка всецело в цвета сексуальности, видеть в нем простейшее, но вместе с тем и влиятельнейшее10 выражение половых переживаний, нет никаких оснований. Вслед за одним автором11 можно было бы различать два слоя в половой психике, но, разумеется, образование нижнего слоя в половой психике может быть результатом лишь длительного психического развития; поэтому думать, что сексуальная сфера12 проявляет свое действие у ребенка за порогом сознания, невозможно. Относить сексуальный момент к сознанию ребенка — это поистине значит превращать грудного младенца в утонченного любителя половых наслаждений13. Между тем, по Фрейду, именно так и должно представлять себе дело — ибо из сексуального конфликта, переживаемого младенцем, развиваются, так сказать, темы всего дальнейшего психического развития у человека. Наличность какого-то глухого сексуального оттенка может быть, конечно, отыскиваема в преимущественной нежности взаимных отношений отца и дочери, матери и сына, но ведь это только значит, что даже в отношениях родите-
--
10 По Фрейду, «конфликт» в детском половом устремлении к матери имеет неотразимое влияние на всю нашу жизнь!
11 Eh r enf el s — Sexuales Ober— und Unterbewusstsein. Polit. -antropol. Revue. Bd. II. 6.
12 Имеем в виду эмпирическое ее выражение; метафизическая же сторона пола, конечно, проявляет свое действие во всех психических процессах.
13 Op. Klotscher — Das Erwachen des Geschlechtsbewusstseins. 1907. S. 9.
152
лей и детей, сущность которых лежит совершенно вне сексуальной сферы, сказывается, однако, влияние пола.
Влияние пола — одно, влияние сексуальной сферы, как эмпирического выражения пола, — другое; если в отношении отца к дочери, матери к сыну проявляется больше нежности, интимности, то здесь сказывается влияние пола, как метафизической силы в личности, определяющей ее своеобразие, и, конечно, совершенно нет влияния сексуальной сферы в отце или матери на их отношение к детям. Можно было бы сказать, что особая нежность родителей к различным детям (отца — к дочери, матери — к сыну), если и имеет половой характер, то, так сказать, в внетелесном смысле: ведь пол в нас действительно есть подлинная духовная сущность, телесные выявления которой в эмпирической личности имеют вторичный характер. Если принимать во внимание указанную духовную сущность пола, то его влияние на семейные отношения, конечно, глубже неравномерной нежности родителей и детей. Семья слагается в нечто цельное, в некоторый социально-духовный организм, и это все обвеяно полом, ибо семья созидается полом; оттого презрение к полу соединяется с низкой оценкой родственных отношений — и обратно. Однако, учитывая все это, было бы крайне легкомысленно объяснять что-либо в родственных отношениях из влияния сексуальной сферы, как эмпирического выявления пола.
Возвращаясь к построениям Фрейда, мы должны категорически отвергнуть его гипотезу о сексуальной природе взаимоотношений матери и детей. Вероятно, правильно то, что до полового созревания вся поверхность тела у ребенка имеет эрогенный характер, все тело служит органом половых переживаний. Вместе с тем идея аутоэротизма14, на наш взгляд, удачно выражает главную особенность развивающегося полового сознания у ребенка. Недаром и сам Фрейд, как мы видели, построил понятие чистого аутоэротического типа — преимущественно у девочек, — который не переживает сексуального влечения к матери. Совершенно непонятным остается, почему именно для мальчиков кормление грудью является источником половых переживаний, а девочки не испытывают этих переживаний. Эта уступка, сделанная Фрейдом для того, чтобы объяснить психологию нарциссизма, расслабляет его же собственные категорические утверждения о сексуальном существе отношений матери и детей в период кормления грудью. Вместе с тем падает еще более фантастическая, на наш взгляд, идея о «глубоком конфликте», переживаемом ребенком в связи с утерей прежней близости к матери.
Признавая аутоэротизм, как главную особенность детского полового сознания, мы выражаем этим существеннейший момент в ней — не только отсутствие полового объекта, но и отсутствие самой установки на таковой объект. В ребенке действует пел, как организующая и творческая сила, определяющая своеобразие данной личности, — но он действует изнутри, еще не имея специального своего выражения. Так называемая «асексуальность» детства относится
--
14 См. разработку этого понятия также в книге Гавелок Эллиса — Schamgefuhl und Geschlechtstried.
153
именно к тому, что в детском существе пол еще внеэмпиричен, что в нем еще нет «половой жизни». Ранний онанизм, — а известны случаи образования привычки к механическому раздражению половых органов уже в течение первого и второго года жизни — кладет свою печать на дитя благодаря нервному раздражению, которое оно вызывает, а не потому, что оно создает «половую жизнь». Конечно, это раздражение постепенно приобретает характер полового возбуждения — как и всякое раздражение тела: нет еще половой жизни, но уже накопляются половые переживания, не имеющие своего объекта. Может быть, детская душа переживает в данном направлении много, может быть, психически сексуальная сфера начинает довольно рано функционировать, — но едва ли нам помогают в этом отношении разобраться в детской душе гипотетические построения Фрейда. Недавно проф. Гауппом был опубликован очень любопытный материал — заметка г-жи X., в «моральной серьезности и психологической подготовке» которой проф. Гаупп совершенно уверен: г-жа X. стремится восстановить первые следы половых возбуждений в раннем детстве своем. Первый описываемый случай относится к 5 годам, — здесь половое возбуждение было создано чувством сострадания — в игре: дети играли в животных, изображали мерзнущих животных. Дети объясняли матери, отчего им нравится игра, но девочка X. не высказала своего мнения, не решилась высказать его ни за что— и на всю жизнь запомнила это. Мнение же ее, как оно ей запомнилось, заключалось в том, что живое представление о страданиях и мучениях животных от холода заставляло дрожать — «и это было так сладостно!» В своих комментариях г-жа X. пишет, что это было то самое переживание боли, соединенной с наслаждением, которое в форме «сладкой дрожи» остается сущностью половых переживаний. Как бы ни относиться к последнему замечанию г-жи X., нельзя отрицать того, что для нее самой воспоминание из раннего детства звучало тем самым, что в позднейшие годы было осознано ею как половое переживание. Г-жа X. добавляет, что она считает возможными половые переживания в самом раннем детстве и потому считает необходимым, чтобы матери боролись с образующейся иногда у детей привычкой играть с половыми органами15.
Не признавая построений Фрейда в целом, мы считаем, что детям действительно доступны половые переживания, что они вначале аутоэ-ротичны, не связаны с установкой на половой объект. Мне представляется возможным поэтому из стадии аутоэротизма выводить различные извращения в половой психике, как это например, делает Штек-кель.
Любопытно, что на краю раннего детства и некоторое время во втором детстве, а иногда и дольше — встречается явление, названное кем-то «детский романтизм». Девочки 5—8 лет, мальчики 6—9 обнаруживают склонность к романтическому обожанию, к настоящей «влюбленности». Как отметил уже Грос в превосходном анализе «игра в любовь», по'ювая психика отмечена уже исканием «объекта». В кокетстве дево-
--
15 Materialien uher kindliche Keimformen sexueller Gefuhle. Ztschr. f. angew. Psych. Bd. XV H. 1/2. S. 72-78.
154
чек, начинающемся иногда — вероятно, под влиянием среды — уже к 5 годам (девочки вертятся перед зеркалом, примеряют разные платьица, надевают ленточки и т. д.), сказывается уже совершенно иная психология, чем та, которую мы характеризуем как аутоэротизм. Конечно, это детское кокетство есть игра; в мелодии ее мы, взрослые, с нашей установкой на сексуальную сферу, слышим тона, которые в нас и для нас имеют несомненный половой характер. Да, эти тона м ы можем найти и у девочек и у мальчиков, но вся эта мелодия у них, ее общий смысл имеет совсем другой характер, другой акцент… Сейчас для нас важно отметить то, что фазу аутоэротизма, через которую, по-видимому, проходим мы все и отзвуки которой слышатся всю жизнь, мы переживаем нормально довольно быстро, если к 5—6 годам жизни возможна уже установка на «половой объект», психология влюбленности и обожания. Надо признать, что «игры в любовь» психически разбивают аутоэротизм; впрочем, тайна того, как половые переживания выходят за пределы индивидуальности и сосредоточиваются в «объекте», — остается пока неразъясненной, в своем эмпирическом проявлении, тайной. Так называемая «первая любовь» — у девочек возможная, как мы видели, очень рано, у мальчиков немного позже — обнаруживает, что половое сознание юного существа таково же, как оно присуще и взрослым.
Развитие полового сознания длится очень долго и до конца не заканчивается в течение всего детства. Сложность, нежность и влиятельность всего того, что переживаем мы в половом сознании, ведет к тому, что зигзаги, неправильности в сексуально-психической сфере имеют самое глубокое значение для всей нашей личности. Пол в нас это — огонь, которому не следует давать разгораться слишком рано; пол в нас является глубоким, отчасти внеэмпирическим фактором в развитии в нас нашей индивидуальности. При настоящем состоянии дифференциальной психологии мы не можем еще проследить того, как развиваются и оформляются различия пола. Мы следили и будем дальше по возможности следить за влиянием пола на психическую жизнь, на психическое развитие детей, но, к сожалению, все это еще ускользает от более глубокого анализа. Помимо того, что недостаточно установлены самые факты, в которых выражается это влияние пола, мы недостаточно еще понимаем смысл этих фактов и внутреннюю связь их. Даже те различия, которые имеют место при полной зрелости, недостаточно еще изучены и понятны — что-же говорить о более ранних и потому и более неясных стадиях? Мы можем только отметить фундаментальное значение пола в формировании личности и ее психического своеобразия. В отдельных психических функциях, в активности и особенно в играх, в формировании характера, в темпе и зигзагах развития, — во всем этом девочки и мальчики отличаются друг от друга. Наличность переходных ступеней, мужская черта в девочках, женственные черты в мальчиках, вообще все то, что можно было бы назвать психической бисексуальностью, — все это не может ослабить значения пола в развитии личности. Надо только помнить, что пол в нас есть огонь и что
155
должно охранять детей от опасного и непоправимого ущерба, который может принести юной душе преждевременное вспыхивание этого огня.
При современном состоянии психологии мы не можем с определенностью вскрыть внутреннюю связь между развитием сексуальной сферы и социальным сознанием в нас. Пол является могучим фактором социального сближения — не только среди юношей и взрослых, но и среди детей. Усердные почитатели пансексуализма открывают даже в дружбе детей или юношей и девушек влияние сексуальных движений; эти преувеличения только потому и возможны, что мы еще мало знаем внутреннюю связь социальных и сексуальных движений. С особенной силой могучая социально-двигательная сила, присущая половой сфере, выступает в переживаниях любви, когда нашу душу охватывает симпатическое влечение ко всем людям, ко всему миру, когда растворяются, исчезают в нас все антисоциальные переживания. Как хорошо раскрыл это Влад. Соловьев в своих статьях — О смысле любви, — на почве половой любви осуществляется труднейший перелом в нас, победа над естественным эгоцентризмом и живое, всецелое устремление к любимому человеку — а через него ко всему миру. Эта социально-психическая экспансия тем важнее, тем продуктивнее, что она совершается в глубине души, пересоздает тип нашей душевной работы.
В детстве социально-двигательная сила пола обнаруживается в дружбе мальчиков и девочек, в глубоком взаимном их влиянии, как это хорошо мы знаем по коэдукации в детских садах. Девочки и мальчики умеряют и восполняют друг друга; взаимное влияние здесь направляется, быть может, примером взрослых, но еще больше тем тайным притяжением двух полов, которое впоследствии разовьется в самое глубокое и плодотворное наше чувство.
На этом мы заканчиваем обзор социальных движений в детской душе и можем теперь перейти к изучению высшей духовной жизни в детях и прежде всего — моральной сферы у них.
В духовном развитии ребенка моральные чувства, моральная жизнь, может быть, и не имеет центрального значения, может быть, раннее детство более ярко определяется эстетическими устремлениями и переживаниями, — но все это верно лишь в отношении эмпирической стороны детства. Если подойти глубже к детской душе, углубиться, насколько это доступно для нас, в метафизику детства, тогда становится ясным, что моральное здоровье детской души является, быть может, самым важным, самым глубоким фактором ее духовного развития. С эмпирической точки зрения должно признать примат эстетической жизни у ребенка в раннем детстве, но нельзя забывать о том, что ясно выступает уже для эмпирического изучения детства — о целостности детской души, ее наивности и непосредственности, что, свидетельствуя об отсутствии в ребенке всякого раздвоения, искусственности, характеризует настоящее моральное здоровье детской души. Хотя у ребенка можно найти в эмпирической его личности богатое развитие моральных чувств, однако важнее этих чувств, замыслов и порывов — моральная чистота, искренность, про-
156
стодушие и целостность духа, в которых заложена главная моральная сила детства. Если дитя имеет слабое развитие эстетической жизни, религиозной сферы, но обладает моральной чистотой и цельностью, мы должны сказать о таком ребенке, что он не утерял образа Божьего в себе, не утерял основной метафизической силы своего существа. С психологической точки зрения, насколько она возвышается над эмпирическим материалом и проникает в неясную метафизическую сторону детства, моральное созревание детской души является осью ее духовного развития. В свете этого невольно выдвигается мысль, что человек в своем развитии стоит прежде всего и больше всего перед моральной задачей. Если Гербарт говорит где-то, что человек в своем духовном созревании поднимается от «хамелеона» до «личности», то это верно в том смысле, что задача нашего жизненного развития заключается для нас в том, чтобы найти присущую нашей индивидуальности идеальную форму. Принято думать (таково убеждение общераспространенного педагогического натурализма), что задача нашего развития заключается в «развитии и раскрытии всех присущих нам сил», но забывают, что это развитие направляется тайным и неустанным исканием идеала, не одинакового для всех, не общего и абстрактного, а конкретного и вполне индивидуального. В этике с большим, чем где бы то ни было, правом должен быть утверждаем плюрализм, а смысл этического плюрализма состоит в том, что-этический идеал — не один для всех, а для каждой индивидуальности есть свой идеал и, конечно, свой путь к нему. В свете этического плюрализма многое становится ясным в духовном созревании детской души, по новому освещаются для нас зигзаги и неправильности этого развития, недостатки и своеобразие индивидуальности. Детское упрямство, апатия, увядание, лень и т. п. часто восходят к невозможности для ребенка примириться с тем Прокрустовым ложем, на которое хотят уложить дитя родители, педагоги, среда. Дитя ищет своего пути к своему идеалу, а мы навязываем ему наш идеал и непременно хотим, чтобы дитя двигалось именно по нашей указке… Моральные задачи, моральный смысл духовного созревания ребенка — вот что определяет логику развития его, и это необходимо понять, этим необходимо осветить весь процесс формирования личности в ребенке. Конечно, дитя включено, как и мы все, в порядок природы, но не только в него включено оно; в детстве дитя подготовляется к самостоятельной борьбе за существование, и этим определяется биологическая ценность и неустранимость детства — это хорошо показал Грос в своей теории игры. Но этот биологический аспект детства не должен закрывать моральнойстороны его: детство есть определенная фаза в духовном созревании ребенка, которое идет уже в течение детства. Если основная форма активности ребенка связана с играми, то это разграничение сферы реальной действительности и сферы игры не имеет морального характера, не создается какими-либо моральными мотивами. Другими словами — игры дают в себе такое же место моральным движениям, как и реальная деятельность, даже больше — игры содействуют моральному развитию
157
ребенка не меньше, чем прямое взаимодействие с социальной средой. Дитя вносит в игры то же моральное умонастроение, ту же моральную установку, как и в реальную активность, — может быть даже, играм принадлежит очень существенная роль в генезисе морального сознания — в оформление всего того, что, как сфера субъективно дорогого, желанного, ценного, развивается вне связи с сферой действительного, фактического. Впервые ведь именно игры открывают ребенку сферу возможного в противовес сфере действительного, сферу желанного в противовес сфере реального. Это имеет значение не только в интеллектуальном созревании, как это отметил Болдвин, но, конечно, — и в развитии морального сознания. Дитя движется к добру, к идеалам, оно стоит на пути этического развития очень рано, хотя этическое сознание в нем и не сформировалось еще, хотя оно не вполне отделилось в своем своеобразии от близких, но в своем существе иных форм духовной жизни. Впрочем, развитие не только этического, но и эстетического и религиозного сознания протекает так же: и здесь дитя движется медленно к оформлению и уяснению своеобразия этих форм духовной жизни. Можно сказать, что в отношении духовной жизни детство не может быть так противоставлено зрелому возрасту, как мы их противоставляли с точки зрения биологического и социального созревания их. В последнем случае детство и зрелый возраст относятся как подготовка к деятельности и самая деятельность: детство заполнено развитием сил, усвоением всего того, без чего нельзя быть самостоятельным. Вот отчего игры, как форма деятельности ребенка, так существенно отличны от реальной активности: в игре дитя имеет дело с объектом, созданным главным образом работой воображения. Для всей духовной жизни это различие не имеет значения: в игре дитя остается с теми же задачами, как и в реальной активности, в частности в игре так же обязательны моральные требования, как и в обычной жизни. Конечно, придет пора, когда в развитии духовной жизни мы становимся перед тем, что выразил Шиллер в своем известном афоризме: «играть можно только с красотой и только играть можно с красотой». Моральная сфера постепенно становится сосредоточеннейшим носителем сознания реальности, моральная активность принимает трудовой характер, и неразличение реального и воображаемого становится опаснейшим ядом для здорового морального развития (как это, например, видно в психологии «хлестаковщины»). Но для ранних стадий моральной жизни это еще не имеет значения; вся духовная жизнь в раннем детстве связана с духовной жизнью в зрелом возрасте не как подготовка к активности и самая активность, а как различные ступени в общем развитии духовной жизни. Если на духовной жизни в детстве неизбежно сказываются общие черты детства, то все это духовное содержание детства не может быть охарактеризовано, как низшая, предварительная фаза духовного развития. Дитя не только не стоит ниже нас, но, по словам Христа, мы не можем достигнуть идеала, если не станем, как дети, и это значит что детская духовная жизнь, духовная организация, как тип, ближе стоит к идеалу, чем наша. Из этого, конечно, совсем нельзя сделать того вывода, что хорошо было бы,
158
если бы дитя всегда оставалось ребенком: развитие детской души, несущее с собой неизбежное разрушение начальной целостности духа, необходимо, чтобы от наивной духовной жизни, через страдания и грехи, дойти до сознательной духовной жизни. Развитие этического, эстетического, религиозного сознания несет с собой новые трудности, но в тоже время оно является фактором важнейшего в нас процесса — духовного нашего созревания.
Прежде чем мы войдем в изучение эмпирического развития моральных движений в душе ребенка, два слова о задачах психологического анализа моральной сферы.
Задача психологии при изучении моральной сферы состоит не в анализе и оценке целей морального развития, наших идеалов — а исключительно лишь в изучении того, как развивается, в каких формах слагается моральная жизнь в нас. Для психологии, конечно, вовсе не равноценны все движения в душе, она не может не учитывать того, что в духовной жизни вообще, а в моральной в особенности придает «лучшим» движениям нашей души особую продуктивность, влиятельность и психическое обаяние. Различие добрых и злых движений не растворяется в психологии, но психология берет его из этики так же, как берет она из логики различие «истинного» и «ложного» мышления. Истинное мышление отлично от ложного не только по своей логической силе, но и психологически — ибо психология не может не констатировать влияния как претензий на истинность, так и сознания истинности. То и другое является моментом огромной психологической влиятельности, и психология не может не констатировать этого. Но психология не занимается расценкой того, какое мышление истинно или ложно — она берет эту расценку из логики и констатирует различную психологическую структуру ложного и истинного мышления. Точно также в отношении моральных движений в нашей душе психология, не отвергая различия всего того, что связано с добрыми и злыми движениями в душе, не исследует ни оснований, ни мотивов нашего распределения моральных движений на добрые и злые, но берет это распределение из популярного, общего этического сознания. Вместе с тем психологический анализ моральных движений вовсе не предопределяет того, что при этом должно видеть в их развитии «слепую необходимость». Именно психологическое изучение морального развития лучше всего показывает, как из тумана, которым окутана детская душа, выступает для нее солнце свободы. Дитя постепенно овладевает изначально присущей ему моральной свободой— и этот внепричинный момент входит в глубокую и интимную связь с эмпирическим процессом, — связь, которую мы не можем проследить в подробностях, но которую с тем большей настойчивостью должны констатировать. Процесс морального развития уже в течение раннего детства оказывается подчиненным двум типам закономерности: в нем сказываются законы эмпирического мира и законы идеального мира. Реальная и идеальная сфера, эмпирическая и надэмпирическая действительность незаметно входят в моральном (и вообще в духовном) созревании ребенка в глубокую связь между собой.
159
Моральная жизнь в нас выражается и в движении чувств, и в работе интеллекта, и в активности, ибо моральная жизнь есть особый тип ми-роотношения, цельная и своеобразная сфера жизни в нас. Задача психологического раскрытия моральной сферы в нас, как особой и целостной формы жизни, не была еще правильно поставлена, а тем более решена в психологии; мы и до ныне не особенно далеко ушли от методологических приемов Адама Смита, отделившего искусственно «хозяйствующего человека» от человека морального. Как ни велики были успехи психологии в течение XIX века, но они сравнительно мало отразились на синтетическом изучении моральной сферы. В целях большей ясности и нам придется заняться отдельно изучением моральных чувств, моральной активности, работы интеллекта в моральном направлении. В психологии детства это искусственное разделение особенно условно, но при современном состоянии психологического изучения моральной сферы в нас было бы трудно идти иным путем.
Что такое «моральное» чувство? Мы должны дать хотя бы предварительное определение этого понятия, так как без этого невозможно войти в изучение моральных чувств у ребенка. Не входя в подробности этого сложного, но неразработанного вопроса, скажем, лишь кратко, что мы называем моральными те чувства, «на дне» которых, при развитии их, оказывается какая-либо «моральная идея». Чувство морально в своих итогах и концах, — и только этот критерий позволяет отличить столь близкие, друг на друга влияющие и все же из разных источников идущие в нас движения, как социальная симпатия и «доброе» движение в душе, т. е. чувство, влекущее нас к добру. Моральные чувства с нашей точки зрения являются формой, в которой выступает в нас моральный опыт: через них, как через окна, глядится в нашу душу сфера моральных ценностей, но тот свет, который льется в нашу душу через эти окна,, недостаточен и не может разрешить тех вопросов, которые возникают на почве моральных чувств. Как раз именно в силу этого моральное сознание и не может остаться в стадии «морали чувств» (Gefuhlsmoral) — ибо эта мораль имеет в себе много случайного, неопределенного, неясного. Одно моральное чувство, хотя оно и только оно и ставит перед нами моральные задачи, не может само решить вопросов, с ним связанных, — и в силу этого моральное сознание от формы чувства неизбежно движется к форме разумности. Однако, все же неустранимая и незаменимая роль моральных чувств заключается в том, что лишь они создают непосредственную близость человека к предмету моральной активности, вносят моральную свежесть, искренность в нашу моральную жизнь. Развитие морального сознания, конечно, выдвигает опасность потухания и ослабления моральных чувств, ибо моральное сознание движется к форме разумности, — но тем важнее уяснить себе эту незаменимую функцию чувств в моральной жизни. Как раз в детстве мы и находим преимущественное развитие в моральной сфере чувств; пусть моральный горизонт детей узок, пусть неясны, случайны, изменчивы их моральные понятия, но мо-
160
ральное отношение детей к людям, к природе так простодушно, непосредственно и сердечно, как это почти недоступно для нас.
Я думаю, что мы должны признать три основных моральных чувства— любовь к людям (альтруизм), стыд и «чувство совести»16. Эти три чувства вносят в нашу душу моральный опыт, создают в нас непосредственное моральное ориентирование, дают моральную оценку в отношении трех основных объектов моральной жизни — в отношении к самой личности, в отношении к другим людям, в отношении к культуре, как системе жизни, как к продукту активности. В чувстве стыда мы непосредственно различаем в себе, в своей личности добро и зло, точнее, выделяем в себе, благодаря стыду, все свое недолжное, недоброе. Здесь мы ярко переживаем все недоброе в себе, сознание же добра в себе выступает лишь как вторичное переживание (сосредоточение же на добре в себе обыкновенно связано с опасным движением самовлюбленности), словно для здорового морального развития совсем ненужно чувство своей ценности. Во всяком случае, нельзя отрицать того факта, что на вершинах этической жизни усиливается сознание своей «убогости», смирения и «духовной нищеты» — наоборот, влюбленность в себя, повышенное сознание своей ценности служат симптомом морального увядания.
В окружающих нас людях мы морально ориентируемся как раз иначе, — мы вступаем в моральные отношения к людям, не отталкиваясь от них, а чувствуя притяжение к ним. Чувство любви к людям, сострадание, стремление дать им радость — вот что выдвигает перед нами наши моральные задачи в отношении к другим людям. Любовь к людям — а это есть основное чувство в данной группе чувств — открывает нам в них доброе, а не злое; любовь если не идеализирует, то всегда смягчает острое и тяжелое в людях. Конечно, любовь к людям, желание им добра неизбежно сталкивает нас со злом в людях — ибо когда мы испытываем сострадание к человеку, то этим чувством мы уже становимся в определенное отношение к тому, что причинило страдания данному лицу. В любви к людям открывается для нас первое различение добра и зла в людях, определяется моральная наша задача в отношении к ним. Наконец, в работе совести, которая в простейших своих формах является чувством (хотя в высших своих формах она имеет более сложный характер), в работе совести мы оцениваем не нашу личность, не других людей, а наши действия, как таковые, в их корнях и в их результатах. Работа совести пробуждается именно тем, что всходит из семян, которые мы сеем, тем, что существует уже как непоправимый, невозвратимый факт, что входит в объективную действительность.
Стыд, любовь к другим людям, работа совести — это как бы три окна, сквозь которые льется в душу нашу моральный опыт. Благодаря тому свету, который льется в душу через эти чувства, перед нами выступают три объекта моральной оценки, три сферы нашей моральной активности: наша личность, другие люди, культура, как продукт нашей совместной деятельности.
---
16 Не считаю возможным защищать здесь понимание совести как «чувства».
6 Психология детства
161
Что касается чувства долга, основное значение которого для моральной сферы особенно подчеркивал Кант, то надо признать, что это чувство есть продукт, а не источник моральной жизни в нас. В психологии детской души это может быть прослежено с полной ясностью.
Обращаясь к тому, как складывается развитие моральной сферы у ребенка, и останавливаясь на изучении моральных чувств ребенка, мы видим на первом плане стыд, как проводник моральных сил в душу ребенка. Совершенно ясно, что выводить из стыда развитие моральной жизни в нас, как этого хотел Влад. Соловьев, невозможно потому, что чувство стыда медленно развивается в нас, что вначале оно имеет узкий характер. Ведь детям собственно нечего стыдиться в себе, поэтому движение стыда приобретают для детского сознания моральный смысл приблизительно к концу раннего детства. До этого движения стыда, начиная с первичной застенчивости, лишены морального содержания для самого ребенка. Только тогда, когда уже организовалось субъективное самосознание, возможно действие стыда в сторону развития морального сознания. Мне приходилось уже говорить, что переживания стыда первоначально имеют «проективное» содержание, т. е. связаны с проективным сознанием, и лишь после этого переживания стыда приобретают то чисто субъективное содержание, с каким оно выступает у нас, взрослых. Мы видели также, что психологическое действие социального стыда покоится на пробуждении в нас именно индивидуального стыда, но независимо от этого социальный стыд имеет огромное значение, в первую пору моральной жизни, в формировании в нас морального сознания, ибо он вводит дитя в мир моральной традиции, вводит дитя в моральное мышление окружающих людей, приучает считаться с объективной, внешней стороной наших поступков, всего нашего поведения. Благодаря как раз социальному стыду дитя впервые начинает ощущать моральную действительность вне себя, моральную атмосферу, начинает, сознавать, что моральная жизнь есть нечто общее, для всех обязательное, не есть нечто случайное и субъективное. Социальный стыд заставляет дитя думать об этой надиндивидуальной инстанции — и таким образом постепенно над внутренним миром ребенка вырастает некоторая моральная инстанция, которая сначала воплощается в обществе, в его моральных обычаях.
Индивидуальный стыд, в своей чистой форме, не у всех играет значительную роль в развитии морального сознания. Помимо того, что индивидуальные различия здесь особенно велики, помимо того, что интерес к самому себе есть явление позднее и большею частью бывает окрашен односторонне — слабость стыда, как проводника моральной энергии в детях, объясняется, как было уже указано, его сосредоточенностью на недолжном, дурном. Стыд — мучительное чувство и потому обладает большой психической силой, но в нем нет творческого подъема, а есть бегство от самого себя. Стыд нередко ведет к моральной де-
162
прессии — и лишь в психической обстановке морального здоровья он приобретает творческое значение.
Обратимся к чувству любви в детях. Мы уже достаточно разбирали миф о детской жестокости и можем не возвращаться к этой теме. Мы говорили уже о том, что дитя чрезвычайно чувствительно к чужим страданиям — конечно, в случае ясного их внешнего выражения. Если мы говорим детям, что нам тяжело, трудно и т. д., то наши речи действительно не вызывают никакого движения любви к нам в детях: выслушав наши речи, они остаются равнодушными и холодными. Но если дитя замечает само наше страдание — слышит его в голосе, видит в выражении лица, в слезах и т. д., то без наших слов сердце его исполняется истинной и глубокой жалости. Это значит, что чувство любви у детей к людям имеет непосредственный, можно сказать — сенсуаль-н ы й характер. Все то, что разрушает непосредственное восприятие чужого страдания (например, игра!), ведет к «холодности» у детей— конечно, мнимой. Не следует забывать при этом о естественном эгоцентризме детском, который как бы окружает его неким волшебным кругом, за пределы которого не выходит дитя. Может быть, и очень хорошо то, что дитя, со своей глубокой отзывчивостью, многого не замечает вокруг себя! Детское сердце не могло бы вынести нашего холодного мира, если бы оно не было так погружено в себя и отдавалось бы всецело движениям любви и жалости. Может быть, поэтому и хорошо, что оно как бы заключено в некую скорлупу, что оно так глубоко погружено в себя: если бы дитя понимало всю неправду нашей жизни, оно не могло бы вынести ее без глубокой и трагической ломки. Чувствительность детей так велика, что некоторые родители стремятся удалить из жизни детей все неприятное, тяжелое, — но это, конечно, ошибка, потому что все равно детям придется познакомиться с тяжелой стороной жизни и это будет еще тяжелее после. Нельзя не отметить тут же, что движение любви в детском сердце совершенно не связаны с социальными перегородками, царящими в нашем мире. Ребенку социальные различия не мешают всюду видеть человека.
Что касается работы совести, то в своей простейшей форме она выступает в форме чувства, развиваясь постепенно в более сложную форму. Работа совести направлена на оценку наших действий в их объективной стороне; подходя очень близко к переживаниям стыда, это чувство все же направляет нашу оценку не на нашу личность как таковую, а на нашу активность в ее результатах и объективных итогах. Психология работы совести, до сих пор еще слабо изученная17, преимущественно выступает в своей так называемой «отрицательной» форме, т. е. больше в указании того, чего не должно было делать, чем того, что должно. Работа совести является центральным руслом, которым струится в нас моральный опыт, ибо здесь с большей силой, чем в других случаях, моральная оценка стремится от формы чувства перейти к форме суждения. Моральное сознание здесь зреет с наибольшей силой, ибо хотя работа совести всегда остается обращенной к субъекту, но в субъекте она освещает не мотивы его действий, не личные отзвуки их в тех,
---
17 См. работу Elsenhaus'a — Das Gewissen. 6*
163
к кому они обращены, а ценность действия самого по себе. Не буду входить здесь в психологию работы совести, ограничусь лишь замечанием, что здесь именно зреет наиболее влиятельная и существенная сторона в нашем моральном сознании. У детей работа совести, как и переживания стыда проходят свою проективную стадию, однако и здесь проективный материал опирается на некоторое общее, недифференцированное сознание своего «греха». Из того материала, каким мы располагаем в настоящее время, можно было бы сделать заключение, что работа совести начинается раньше проявления стыда. Очень любопытны в этом отношении наблюдения Штерна над его детьми18, однако едва ли можно с ним согласиться, что наказание детей за проступки проходит три стадии: первую он называет чисто ассоциативной, когда наказание ассоциируется с каким-либо движением (т. е. оно просто не усваивается как наказание), вторую стадию Штерн характеризует, как «логическую», когда наказание рассматривается как «естественное» следствие поступка, и только третья стадия, по Штерну, имеет моральный характер, определяясь сознанием своей «греховности». Без особых рассуждений ясно, что в первую стадию наказание не существует, если оно лишь в порядке ассоциации связывается с поступком. Между тем дети уже 1 года проявляют несомненную способность понимать наказание, как таковое; «логическое» же понимание наказания, мысль о нем, как о «естественном» результате поведения, конечно, является очень поздней и есть уже продукт морального развития, есть более поздняя фаза в развитии морального сознания. Вопреки Штерну должно признать, что дети очень рано усваивают внутреннюю связь между «проступком» и «наказанием». Конечно, работа совести, сознание «греха» оформляется благодаря социально-психическому давлению (образующему сущность всякого «наказания»), но это давление не создает работу совести, а лишь ее оформляет. Сам Штерн, борясь с телесными наказаниями, столь еще распространенными в немецкой педагогике, подчеркивает, что дети не нуждаются в грубом физическом воздействии, ибо они чувствительны и к более тонкому воздействию19. Это верно, но эта общая чувствительность и есть не что иное, как выражение слагающейся перед душой ребенка общей— неясной, неопределенной и все же открытой уже — моральной перспективы. Дитя очень рано чувствительно и к внефизическому воздействию, и это свидетельствует о моральной чувствительности его, о способности усваивать в воздействии на него моральную сторону. Достаточно сравнить нормальных детей с морально-тупыми, чтобы согласиться с тем, что усвоение морального смысла наказания не есть дело интеллекта, а опирается на ту особую работу, оформленные итоги которой знакомы нам, как сознание «греха».
Моральное сознание ребенка сначала выступает лишь в форме непосредственных оценок чувства, — но именно этот моральный опыт делает дитя способным не просто усваивать правила жизни и заветы социальной традиции. Для ребенка оживает моральная сторона в том,
--
18 S t e r n. Psychologie der fruhen Kindheit. S. 338—343.
19 I b i d. S. 338.
164
что несет ему социальная традиция, что несет его жизненный опыт: самые формы отношений, самые пути действования подсказываются ему традицией, указаниями старших, и в этом смысле моральная жизнь ребенка носит гетерономный характер, но без работы моральных чувств все это не имело бы морального смысла для ребенка. Это необходимо уяснить себе, чтобы понять истинный смысл детской моральной жизни. Она имеет гетерономный характер, т. е. определяется в своем содержании и даже в своей санкции всем тем, что лежит вне личности ребенка — традицией, нравами, авторитетом взрослых. Но дитя не просто делает то, что предписывает ему традиция, авторитет родителей: дитя «усваивает», т. е. делает своим содержание морали, господствующей в жизни. Нужна ли мораль, каково должно быть построение ее, — все эти вопросы совершенно чужды сознанию ребенка, но в то, что он принимает и усваивает, он вносит одушевление и искренность; с помощью чужих идей он в себе выпрямляет и выявляет моральные силы свои, — и это одушевление идущего от других людей морального содержания, это понимание его как морального было бы невозможно, если бы в душе детской не было собственного морального материала, глухого, неясного, но вводящего дитя в мир моральных отношений. Моральная перспектива открывается для ребенка через ту моральную работу, которая связана с непосредственными оценками в его чувствах. И здесь повторяется то общее положение, которое не раз приходится повторять при анализе детского сознания: проективный материал не создает психическую функцию, но впервые ее оформляет, придает ей впервые определенное содержание.
Развитие морального сознания неизбежно идет в том направлении, что собственный моральный опыт приобретает для ребенка все большее значение и вытесняет гетерономную мораль. Уже во втором детстве начинается частичное сопротивление тому, чего требует традиция и авторитет взрослых, — и часто к концу второго детства, но нередко и в начале отрочества, начинается яркий период а н о м н о й морали: для подростка нет никакой системы, никакого устойчивого «закона», он следует порывам чувств и желаний, доверяет только собственному опыту, систематически и сознательно отвергает всякую попытку принудить его к чему-либо. Медленно подросток или юноша подходят, наконец, к «автономной» стадии, когда моральное сознание ищет формы разумности и находит закон в глубине самого себя.
Раннее детство, конечно, всецело еще заполнено гетерономной моралью— содержание морального сознания определяется влиянием среды, отдельных людей, всей совокупностью традиции. Однако, если содержание этических представлений взято извне, то установка на моральный смысл этих представлений есть выражение собственного морального творчества ребенка, есть свидетельство его вростания в этическую жизнь. Как в усвоении языка дитя сначала говорит лишь то и так, как и что слышит вокруг себя, а потом язык становится средством выражения собственной мысли ребенка, так в росте его морального сознания дитя должно пройти стадию пользования готовыми
165
формами морального мышления, чтобы, овладеть ими, перейти к самостоятельным этическим размышлениям.
Если моральное созревание идет нормально, то уже в течение раннего детства можно встретить у ребенка чувство долга. С одной стороны, это чувство является выражением внутренней последовательности, логичности: если дитя, например, начало какую-нибудь работу, которая потом не нравится, оно обычно продолжает ее до конца, словно как бы думает: не нужно было начинать, но раз начал, нужно кончить. То, что укрепляет такую внутреннюю последовательность, постепенно развивает чувство «долга» — прежде всего в отношении к своим собственным затеям и планам. Если бы применить сюда известную терминологию Канта, то можно было бы сказать, что в ребенке первоначально выступает не категорическая, а гипотетическая императивность… Другим корнем чувства долга является борьба, выступающая у ребенка тоже сравнительно рано, между глубокими и поверхностными, устойчивыми и случайными стремлениями. Дитя рано знакомится с такими конфликтами — Штерн наблюдал их уже в конце второго года; дитя на своих ошибках, на горьком своем опыте начинает понимать ценность устойчивых и глубоких стремлений сравнительно с случайными и поверхностными. Необходимо только, чтобы мы, взрослые содействовали тому, чтобы возникающее чувство долга имело внутренний, а не внешний характер. К сожалению, обыкновенно взаимодействие с социальной средой способствует скорее развитию чисто внешнего понимания «долга».
От моральных чувств ребенка перейдем к изучению морального мышления его. — Вначале дитя просто повторяет то, что слышит вокруг себя; его моральные суждения воспроизводят суждения окружающей среды. Дитя дышит тем воздухом, который окружает его, вбирает в себя то, что находит вокруг себя. Но надо иметь в виду, что этическая фразеология европейских народов— одно, а этическая действительность у них — другое. Мы живем возвышенными идеями Евангелия; даже религия гуманистического атеизма в своих этических требованиях стоит на той же высоте. Можно было бы сказать, что своим сердцем мы связаны с Евангелием, но в своей жизни мы не только далеки от него, но живем даже так, как если бы исповедовали убеждения, противоположные Евангелию. Мы сами, таким образом, вносим в детскую душу страшный этический дуализм, дуализм убеждений и дел, — и дитя, конечно, неизбежно проникается этим. Оно сначала усваивает наши слова и вносит в них весь жар юной души, весь энтузиазм чистого сердца, — но оно учится жизни по нашей жизни и естественно следует в своей жизни не нашим словам, а нашим делам. Если в жизни нашей так много лжи, удивительно ли, что и дети становятся способны ко лжи? Конечно, моральный дуализм имеет у ребенка иной характер, чем у нас — он является невинным, простодушным и наивным. Наша моральная атмосфера ядовита для ребенка, но дитя не сознает этого, а просто подражает нам со всей своей непосредственностью. Дитя, с одной стороны, усваивает наши слова, проникается теми началами, которые заключены в этих словах, а с другой стороны, его
166
собственная жизнь, наблюдения над окружающими людьми формируют у него собственные моральные убеждения, собственные моральные понятия. Мы не должны удивляться тому, что эти собственные моральные понятия детей оказываются узкими и грубыми. Нет никакого противоречия, если дитя в этих собственных понятиях расходится с теми высокими идеями, которые оно же «исповедует» — здесь просто на лицо два разных слоя в моральном мышлении. Одни убеждения имеют общий и, можно сказать, внежизненный характер (ибо таковыми они оказываются и в нашей жизни), другие имеют конкретный и реальный характер. Не следует забывать о слабости абстрактного мышления у детей: для детского интеллекта не всегда легко от общей идеи перейти к ее воплощениям в частных фактах, от частных фактов — к общей идее. Чаще всего сознание общего и сознание частного оказываются двумя видами сознания, не связанными между собой. Дитя может знать общее грамматическое правило и делать ошибки в диктовке, ибо не догадывается, что это и есть как раз пример на приложение этого правила. Точно так же общие и конкретные моральные убеждения живут в детском сознании как два вида убеждений, не связанных между собой. Общее и конкретное существуют отдельно и независимо одно от другого — что и является характерным симптомом слабости абстрактного мышления. Придет свое время, когда функция абстракции разовьется — и тогда можно говорить о противоречиях между двумя слоями моральных взглядов; дитя само находит (уже во втором детстве) эти противоречия и мучительно переживает их. На этой именно почве закрепляется лицемерие, как разрешение этических конфликтов: дитя просто живет двойной жизнью — для себя одной, для других другой. Другие дети просто отбрасывают неудобную этическую фразеологию, идут путем этического скептицизма. Чаще всего, однако, находим мы у детей психологию компромисса: дитя верует в общую идею, не отрекается от нее, но в то же время, вслед за взрослыми, в жизни следует не этой идее, а какому-нибудь маленькому, но житейски удобному правилу. Это не есть психология лицемерия, а тот мелкий, пигмейский дуализм, мертвящее дыхание которого чувствуем мы всюду: тут нет никакой маскировки, а просто психология компромисса, снисходительное отношение к своим и чужим поступкам, частое тяготение к благоразумию — этой типической системе компромисса. Печать доброты и благодушия, снисходительности и ничтожности лежит неизбежно на всей этой психологии, столь далекой от единства, цельности, внутренней законченности.
Надо признать, что условия морального созревания наших детей очень тяжелы. Спенсер справедливо говорил, что личность не может морально развиваться, если общество, ее окружающее, морально застыло: низкий моральный уровень социальной среды создает величайшие препятствия для индивидуального морального процесса. Этот процесс связан с непрерывным взаимодействием с окружающей средой — и пока наше общество полно глубоких моральных и социальных противоречий, для наших детей необычайно труден путь цельного этического развития.
167
Некоторые психологи считали возможным путем анкеты выяснить моральные взгляды и идеалы детей — по их ответам на вопросы, «чем вы хотите. быть» и «почему». То, что дает подобная анкета, конечно, не может быть названо изучением детских идеалов: моральное сознание детей, конечно, сложнее, чем это здесь предполагается20. То, что дают нам анкеты приведенного типа, вскрывает понимание жизни у детей, их замыслы, планы, вообще один слой их моральных понятий — то, что дети выводят из своего опыта. Но, конечно, в этом же детском моральном опыте есть и нечто иное, что ими еще не осознается, что не может быть формировано, хотя оно и окрашивает внутренний мир ребенка. Поэтому думать, что в ответах детей мы глядим в глубину морального сознания детей, конечно, невозможно.
Что дают результаты анкет указанного выше типа? Прежде всего эти анкеты отчетливо показали влияние окружающей обстановки на понимание жизни. В первой фазе (до 5—6 лет) дети хотят быть тем, кого они видят вокруг себя — мальчики хотят быть инженерами, врачами, учителями, офицерами и т. д., девочки хотят быть хозяйками, матерями, учительницами и т. п. По мере того как дитя начинает знакомиться с историей, перед ним выступают образы различных героев — и дитя невольно начинает поклоняться этим образам. Один мой племянник 5 лет говаривал: «я буду царем — хотя это еще не наверно»… От обычной жизни моральное сознание детей возвышается, таким образом, в сферу героического — и это является в высшей степени важным симптомом внутренней работы в моральном сознании — именно перехода от эмпирического мира к идее, от обычного к идеальному. Этот переход осуществляется там, в темной глубине души, дитя ясно не сознает его, но все же дитя в своем моральном сознании отрывается от того, что его окружает. — Во всяком случае, при оценке анкет о детских «идеалах» необходимо иметь в виду, что в них мы имеем дело с результатами внутреннего морального процесса, с симптомами его — но не больше. Самый переход сознания к героическому и идеальному, отрыв от эмпирического, окружающего здесь, конечно, не вскрывается.
Скажем еще несколько слов о моральной активности детей. Надо, конечно, различать между «нравами», как совокупностью принятых форм общения, образующих тот уровень, ниже которого не должен спускаться член общества, — и моральной активностью как таковой. Дитя усваивает те формы поведения, какие оно замечает вокруг себя — оно подражает окружающим людям, одним подчиняется, другими само повелевает и т. д. Уже к 4-му году жизни можно заметить у детей усвоение разного рода обычаев, разных форм социальных отношений — внимания к взрослым, учтивости, любезности и т. д. Во всем этом нет еще моральной активности, т. е. нет того регулирования активности моральным сознанием, которое образует сущность моральной активности. Надо иметь, впрочем, в виду, что и у нас, взрослых, моральная активность в истинном смысле слова занимает мало места: многое мы делаем в силу привычки, в соответствии с принятыми в нашей среде
---
20 Общий обзор этих исследований см. у Меймана (М е u m a n n — Vorlesungen zur Einfuhrung in die experimentelle Padagogik. Bd. I. 2-е изд. S. 620—629).
168
обычаями, а не во имя моральных начал. Быть может, у детей моральная активность занимает даже больше места, чем у нас, взрослых, так как дитя непосредственнее, экспансивнее. Можно, конечно, упрекать дитя в моральном импрессионизме, но самая моральная установка, быть может, чаще определяет активность у детей, чем у нас. Власть моральных настроений, случайных, нетерпеливых, быстрых кладет печать непосредственности на всю детскую активность, — в этом смысле детство может быть названо золотой порой эмоциональной моральной активности. В детях нередко встречаем мы воплощение шиллеровской «прекрасной нравственности» (Schone Sittlichkeit). Роль моральных идей в активности детской значительно слабее, — и если дитя слишком рано начнет рационализировать свое поведение, получается тягостный тип резонера.
В полной связи со слабым участием моральных идей в активности ребенка (но ярким участием моральных эмоций) стоит слабое развитие волевой моральной активности. Дело в том, что из двух функций воли — регуляции движений и задержки их — особенное значение в моральном развитии имеет как раз умение задерживать движения. То, что мы называем самообладанием, как раз и обозначает эту силу задержки движений под влиянием моральных начал: самообладание может быть и внеморальным, но в моральном развитии самообладание является одной из самых важных сил. Как раз у детей волевая сфера развивается очень слабо в сторону задержек: в этом нет беды, так как слишком раннее развитие задержек могло бы иметь самое фатальное влияние на личность ребенка, могло бы затормозить тот процесс раскрытия сил, для которого и нужно собственно детство. Но все же надо признать, что моральная активность детей имеет не волевой, а эмоциональный характер.
На этом мы можем закончить изучение морального процесса в душе ребенка и обратиться к изучению его эстетической жизни.
ГЛАВА X.
Эстетическая жизнь ребенка; общие ее черты. Эстетические чувства; эстетическое творчество. Рисование, его постепенное развитие. Сказки. Мифологизм детского мышления. Сказка и миф. Сказочное творчество детей. Работа фантазии и сказки.
При анализе эстетической жизни ребенка мы должны иметь в виду то же, что легло в основу характеристики моральной сферы у ребенка — именно, что эстетическая сфера есть форма жизни, определяемая особой установкой. Она захватывает и чувства, и интеллект, и активность, и это значит, что мы имеем здесь дело с целостной сферой, с особым типом мироотношения. Как мы, взрослые, так и дети эстетически живут — прежде всего в своем эстетическом опыте, в восприятии прекрасного, в живом энтузиазме, который загорается от этих встреч с прекрасным, в слиянии с ним. Но эстетические переживания вызывают затем сложную психическую работу, сохраняющую эту определенность эстетическим опытом: они вызывают, с одной стороны, эстетическое мышление, с другой стороны, эстетическое творчество. Если, говоря о моральной сфере у ребенка, мы должны были отметить сравнительно слабое эмпирическое проявление морального созревания, которому по существу должно отвести чрезвычайно важное место в духовном развитии ребенка, — то в отношении к эстетической жизни ребенка мы не видим ни необходимости, ни возможности строить- понятие скрытой эстетической жизни. Такое понятие психологически было бы очень трудно конструировать, но в этом нет и надобности, ибо то, что мы находим в эмпирическом развитии личности в данном направлении, так богато и разнообразно, так настойчиво и глубоко, что нет необходимости искать еще скрытой эстетической жизни в ребенке. Детство, можно сказать, насыщено эстетическими переживаниями, порывами к эстетическому творчеству, оно как бы окрашено эстетической радостью, восторгами, доходящими до экстаза. Правда, у детей слабо развито эстетическое мышление — и это кладет яркую печать на своеобразие детской эстетической жизни; не без связи с этим стоит чрезвычайная широта эстетического опыта у детей. Все в мире — и большое и малое, и мертвое и живое, и звезды и небо, и земля и люди — все, все восхищает дитя, влечет его к себе, все наполняет его радостным волнением, все нравится ему без всякой мысли о возможном его использовании, без всякого пустого резонерства. Можно поэтому даже утверждать, что отношение ребенка к миру (беря лишь то, что да-
170
ет эмпирическая сторона личности) носит по преимуществу эстетический характер: эстетическая установка доминирует в детской душе. Конечно, тут есть глубокая связь с тем, что детство по преимуществу заполнено играми, т. е. деятельностью, сознаваемая цель которой заключается в самом процессе деятельности, свободной от власти необходимости — свободной и в субъекте игры и в ее объекте. Психология игры не только близка, но, можно сказать, идентична психологии эстетической жизни, — и это как бы укрепляет высказанную выше мысль о том, что в детстве доминирует эстетическое отношение к миру. Обаяние и неповторимая грация детства не объясняются ли этим преимущественным развитием эстетических сил в душе ребенка? Слабый еще интеллект не вносит трезвого и критического отношения к действительности; моральная жизнь еще не вносит в душу того сурового и трудового настроения, которое она будет вносить позднее. Радостно и свободно глядит дитя на мир, не думая извлекать из него пользы, не превращая его в «проблему», загадку, — а прежде всего и больше всего любуясь им, радуясь тому прекрасному, что в нем находит.
Эстетическая жизнь ребенка замечательна своим универсализмом — и этим наиболее отлична она от эстетической жизни взрослых: все прекрасное, в какой бы ни было оно форме, привлекает и увлекает дитя. Дитя любит и музыку, и сказку, и рисование, и лепку, и танцы, и сценические представления. Ребенку совершенно чужда черта, столь часто встречающаяся у взрослых: дитя не знает нашего сосредоточения на одном—двух видах искусства — оно любит все виды искусства. Среди нас, взрослых, не так мало людей, которые поклоняются прекрасному, когда оно предстает лишь в определенной форме — одни любят поэзию и равнодушны к музыке, к живописи, другие любят живопись, скульптуру, но не любят поэзии и т. д. Дитя же любит все прекрасное — и эта универсальность эстетических интересов ребенка находит полное свое выражение в универсальности эстетической активности у детей: дитя любит и рисовать, и петь, и лепить, и слушать сказки, играть на всех инструментах и танцевать. Ничто прекрасное не оставляет дитя равнодушным… Созревая, становясь взрослыми, мы теряем эту универсальность, нередко эстетическая жизнь в нас совсем замирает и тускнеет. — Другая, в высшей степени характерная черта детской эстетической жизни заключается в творческом ее характере: дитя никогда не может ограничиться эстетическим восприятием, как это сплошь и рядом мы наблюдаем у взрослых, — дитя неизменно стремится к творчеству, пользуясь всеми доступными ему средствами. Не один Айвазовский чертил углем, будучи мальчиком, на заборах… Если вы оставите у себя на столе карандаш, можете быть уверены, что дитя им воспользуется, чтобы разрисовать все, что возможно. Раскрытый рояль влечет к себе дитя так же, как краски или какой-либо иной материла для творчества: дитя словно пользуется всяким поводом, чтобы творить, творческая энергия как бы ищет своего выхода.
Из сказанного ясно чрезвычайное богатство у ребенка эстетических чувств. Можно, конечно, характеризовать эти чувства как поверхност-
171
ные и даже грубые, так как детский вкус настолько неприхотлив, что дитя находит наслаждение там, где мы никак не можем эстетически настроиться; дитя не замечает того, что нам бросается в глаза, что нас отталкивает. Изощренный эстетический вкус, нередко некоторая пресыщенность эстетическими переживаниями ведет у нас, взрослых, к тому, что мы предъявляем к прекрасному очень высокие требования, что нас раздражает и коробит малейшая ошибка, дисгармония, незаконченность. Мы вносим в свое восприятие и момент разумности — мы ищем тех впечатлений, которые не слабеют, не рассеиваются при их идейной переработке. Дитя же не ищет художественной законченности и за ничтожную долю прекрасного охотно прощает то безобразное, к которому оно приросло. Дитя не размышляет над тем, что ему нравится, а просто им любуется — оно непосредственно уходит в свое любование, и всякие комментарии взрослых больше мешают, чем помогают ребенку. Селли рассказывает о дитяти, которое просило мать не объяснять картинок, так как «без этого ему понятнее». Это необыкновенно типично для детского эстетического восприятия. Непосредственное любование само по себе ясно, законченно и не нуждается ни в каком психическом дополнении — оно говорит детскому сердцу, пробуждает в нем радость и восторг. Работа интеллекта здесь просто не нужна — в полную противоположность нам, взрослым, не могущим остановиться на стадии непосредственного любования и нуждающимся в том, чтобы «выразить» это переживание в словах, «осмыслить» его. Детям чуждо это нередко суетное и фальшивое желание — они любят эстетическую жизнь без потребности о ней говорить.
Расцвет эстетических переживаний у ребенка мы находим после третьего года, — и чем дальше идет развитие ребенка, тем ярче и сильнее выступает в нем эстетическая жизнь. Хотя нам мало доступен внутренний мир ребенка в течение раннего детства, но для нас бесспорно, что дитя любит и людей и природу, — и все его отношение к людям и к миру окрашено эстетическими переживаниями. Во всем этом сказывается «власть момента», о которой нам уже приходилось говорить; печать импрессионизма лежит на эстетических движениях ребенка, которые как бы проходят сквозь душу ребенка, не оставляя глубокого и действенного следа. Поэтому эстетические движения в детской душе не имеют того продуктивного влияния, какое они имеют у взрослых, но вместе с тем роль эстетических движений в духовном созревании очень велика: ничто не делает нас человеком в такой степени, ничто не вводит нас так в духовную жизнь, в творческие задачи и перспективы, открытые перед человечеством, как эстетические переживания, потому что в них мы не ищем никаких материальных, внешних благ, полны внутренней и чистой радости, свободны от всякого утилитаризма.
Эволюция эстетических переживаний в течение детства заключается в том, что они охватывают все большую сферу, что объем их все ширится. Мир как бы цветет перед детьми, словно живут они в вечную весну; это постепенное преображение мира зависит, конечно, от внутреннего расцвета эстетических движений в душе ребенка. «Эстетизация» действительности, расширение эстетического подхода к ней, спо-
172
собность во все вносить эстетическую точку зрения — все это, конечно, связано с внутренним ростом эстетической жизни в душе ребенка. К сожалению, однако, когда эстетическая установка достигает того, что охватит всю действительность, когда эстетические движения станут могучими и властными, когда душа детская начнет постепенно овладевать этими движениями, — тогда медленно, под влиянием разных причин, эстетическая жизнь начинает увядать у детей. Но при нормальных условиях дети все же переживают период полного расцвета и все охватывающей силы эстетических движений в душе.
Штерн полагает1, что в течение раннего детства дитя собственно не знает настоящих эстетических переживаний, так как не форма, а содержание влекут к себе детскую душу. Не отрицая наличности в детской душе эстетических переживаний, Штерн считает, что они никогда не выступают в своей чистоте, никогда не бывают изолированы, но как бы спаяны с другими переживаниями: «большею частью дитя желает того, что ему нравится». — Хотя «внеэстетические» моменты действительно занимают не малое место в эстетических движения ребенка, но с общим положением Штерна, основанным на этом факте, совершенно невозможно согласиться. Не входя в подробности, которые могли бы завести нас слишком далеко, должен только указать, что никоим образом невозможно примкнуть к (очень, правда, распространенному) взгляду, что эстетические переживания направлены только на форму, а не на содержание. То понимание эстетических переживаний, которое видит их сущность в «изоляции» (Гаман), в «Willenslosigkeit» (Фоль-кельт), тоже не может быть удержано. Здесь не место входить в анализ этого вопроса; мы касаемся его лишь для того, чтобы показать, что положение Штерна о недоступности детям настоящих эстетических переживаний связано с такими предпосылками о природе эстетических переживаний, которые не могу быть, с нашей точки зрения, удержаны. Эстетический объект вообще никогда не действует одной своей формой, но всегда действует и своим «содержанием» (хотя последнее понятие требует более глубокого определения), точнее говоря — эстетический объект действует органическим синтезом формы и содержания. Как раз дети стоят перед меньшей опасностью устранения целостного эстетического переживания под влиянием содержания как такового: именно взрослые необыкновенно часто грешат этим, просто не подымаясь до высот эстетического созерцания. «Понимание» содержания психологически нередко затрудняет формирование эстетических переживаний у взрослых — это особенно ясно в отношении к поэзии, — искусству, наиболее трудному для эстетического восприятия благодаря «понятности» его содержания. Дети, наоборот, слабо реагируют на содержание, плохо понимают содержание как таковое и, наоборот, необычайно чувствительны к малейшей дозе прекрасного. Чисто эстетические и внеэстетические моменты входят у детей в связь, не разрушающую общего эстетического впечатления; не следует при этом забывать черты, уже отмеченной — нетребовательности детской, снисходительного отношения к отсутствию законченности и эстетической цельно-
--
1 S t e r n — Psych, d. fr. Kindheit. S. 309.
173
сти. Тот же Штерн, в главе, посвященной восприятию картин у детей, справедливо отмечает, что чистое созерцание является для ребенка «состоянием, которое лишь постепенно развивается в нем»2. Тут же Штерн отмечает, что чисто рецептивное созерцание является неотделимым пока моментом в развитии действия, связанного с созерцанием: созерцание переходит в действие3. С другой стороны, сам Штерн цитирует наблюдения Эрлиха4, согласно которым чисто эстетические оценки можно найти у ребенка уже к 3]/2 годам. Селли, считающий, что любовь к цветам раньше других переживаний даст чисто эстетическое наслаждение и может привести к выделению эстетических переживаний, относит это явление к 4 годам.
Быть может, то недоразумение, которое мы встречаем здесь у Штерна, связано и с тем, что он не различает ясно в эстетическом переживании момент восприятия и оценки от момента мышления: ведь в то самое время, когда дитя так богато эстетическими переживаниями, когда все восхищает и радует его, вызывает эстетическое настроение, — вкус и эстетическое мышление ребенка развиты очень слабо. Иногда просто кажется даже, что дитя ищет только повода для того, чтобы пережить эстетические чувства: объект, как таковой, имеет здесь небольшое значение. Вот почему нам не раз кажется странным, что дети с восторгом относятся к тому, в чем, по-видимому, нет никаких признаков прекрасного. Очень любопытно, что, согласно наблюдениям Бине, дитя только в 6 лет легко распознает различие между прекрасным и безобразным (см. рисунки б, 7,8, которые предлагаются детям; дети должны ответить на вопрос «что тебе больше нравится?»).
Рис. 6.
Для оценки эстетических восприятий детей любопытно и другое испытание по Бине: детям показывают снимки, в которых не хватает какой-либо части лица, и спрашивают: «чего здесь не хватает?» (рис. 9). Дети обыкновенно лишь в 7 лет дают правильные ответы.
Ничто не свидетельствует с такой яркостью об огромном развитии
--
2Stern-Op. cit. S. 117.
3 См. примеры внеэстетических моментов в эстетическом переживании детей у Селли.
4 Е h г 1 i с h — Vom Erwachen des aesthetischen Hmpfindens.
174
эстетической жизни у детей, как их богатое воображение, которое, как мы знаем, является органом эмоциональной сферы. Детское воображение имеет ясно выраженный художественный характер, художественную цель; всюду, где только может проявиться деятельность воображения, оно вносит этот эстетический момент. С полной ясностью выступит это перед нами, если мы обратимся к эстетическому творчеству у детей.
Рис. 7.
Отметим прежде всего чрезвычайное развитие у детей стремления к драматизации любого сюжета: всякий рассказ, сказку, стихотворение дитя стремится драматизировать. Детские игры — мы
Рис. 8.
уже говорили об этом — являются ничем иным, как драматизацией какой-либо фабулы: дети играют «в человека» или «в животных», драматически представляя какой-либо эпизод из их жизни. Иные игры являются настоящими сценическими представлениями, которые дети готовы повторять много раз: со своей стороны они с неослабевающим восхищением глядят на сценические представления взрослых, доступные им.
В изучении детского творчества до сих пор наибольшие успехи сделаны в изучении рисования, лепки и поэзии: эти три формы творчества особенно привлекательны для детей и легко им доступны.
175
Что касается рисования, как формы творчества, то оно в настоящее время изучено с наибольшей полнотой. Лучшее изложение современного состояния этого вопроса дает Б ю л е р в своей книге — Die
Рис. 9.
geistige Entwickelung des Kindes; там же читатель может найти и библиографию вопроса. Изучение детских рисунков началось всего 35 лет тому назад, когда Ricci выпустил (1887 г.) свою книгу — L'arte dei bambini. Из огромной литературы, появившейся после этого, укажу лишь на книгу С е л л и, посвященную психологии детства (в ней вся десятая глава посвящена изучению детских рисунков), большое исследование К е рш енштейнера — Die Entwickelung der zeichnerischen Begabung. 1905 (есть русский перевод I части), исследование Левин штейна — Kinderzeichnungen bis zum 14 Lebensjahre. 1905. Несмотря, однако, на большую литературу, появившуюся за все это время, нельзя не признать, что мы все еще находимся на пороге изучения проблем, которые здесь выступают перед нами.
Есть любопытная и до конца еще не понятая аналогия между развитием языка и развитием рисования. Мы знаем уже, что вначале одно слово является носителем целого предложения, так что всякое слово, в полноте его этимологических изменений, является уже продуктом
176
синтаксического развития, а не его исходной точкой. Вначале нет собственно отдельных слов в том смысле, как они существуют в развитом языке: ибо процесс развития идет не от слова к предложению, а от предложения к слову. Это положение с особой убедительностью развил Вундт в своей книге — Volkerpsychologie (В. I и II). В полной аналогии с этим мы должны сказать, что детский рисунок развивается не от отдельных элементов, но от того целого, которое дитя хочет передать в своем рисунке: развитие отдельных частей, внимание к отдельным чертам и отделка их — все это уже новые задачи, вырастающие на основе неудовлетворенности первоначальным рисунком.
Первые пробы рисования — это настоящее «маранье», «каракули»: дитя «играет» карандашом по бумаге, выводит какие-то линии — и уже это его радует; дитя привлекает здесь в сущности то же, что составляет основу в радости всякого, самого высокого и зрелого творчества: из движений карандашом «что-то выходит», объективируется, созидается. Создание линии — без связи, без «рисунка», в хаосе и нагромождении — волнует и влечет к себе дитя, — и здесь залагаются, оформляются основы творческой психологии, ибо суть и ценность всякого творчества — в переходе за грань «переживаний», в создании объективного, как бы отделяющегося от творца бытия, всем доступного, для всех открытого. Еще линии не становятся материалом для «изображения», изобразительная сила и функции линий еще не предчувствуется, а так же как первые пробы пения, извлечения звуков из инструмента, так и эти каракули радуют появлением нового бытия, отделяющегося от ребенка, застывающего, приобретающего таинственно самостоятельность. Творить бытие, вызывать его к жизни, накопляя, нагромождая линии одна за другой — вот что влечет к себе дитя в этой стадии; она вся еще «до-эстетическая», как, пожалуй, и значительная часть настоящего детского рисования — «до-эстетическая», ибо нет еще эстетической задачи, как таковой. Однако вспомним, что природа является высочайшим объектом эстетического восхищения — при отсутствии в ней сознательного движения к эстетической цели; так начатки и первые ступени всякого творчества уже заключают в себе тайну прекрасного, содержат его силу, ибо входит здесь всюду магическая сила фантазии. Если даже в зрелом искусстве время от времени появляются фазы, когда новые сочетания красок, тонов, слов радуют сами по себе, хотя бы и были лишены связующего и ритмизующего начала, если набор слов, сочетания красок, тонов не только вбирают в себя эстетические искания чьи-либо, но и могут действовать эстетически на других (что с особенной ясностью видно именно в «простом», т. е. лишенном художественного смысла сочетании красок, звуков, слов), то у нас нет никакого основания заподазривать эстетическую функцию «маранья» для ребенка.
Случайно дитя, наблюдавшее и до того рисунки взрослых, видевшее, как из начертания линий тут же выходит «рисунок», — случайно и оно создает такой же «рисунок», осознавая затем изобразительную силу линии и овладевая постепенно этой силой. Этот шаг имеет такое же глубокое и могучее влияние на творческое развитие ребенка, как от-
177
крытие «значения» в словах. Слова «звучат», но они и «означают» — и дитя довольно рано входит в эту двойственную жизнь слов: в стадии лепета оно уже достигает того, что у него звучат звуки, однако оно еще ничего не обозначает своими звуками. Пока дитя овладеет звуковой «материей», оно еще не ищет в них путей для означения (хотя уже способно понимать слова других в их «значении») — дитя отдается чистому созиданию звукового бытия, поистине играет этим звуковым бытием. Нужно психически вырасти из этого элементарного творчества звуков, нужно настолько созреть, чтобы не удовлетворяться простым набором звуков — и тогда дитя переходит к настоящим словам. Аналогичный процесс находим мы и в развитии у ребенка рисования: маранье некоторое время заполняет дитя целиком, вполне его удовлетворяет, и, пока дитя не выросло из этой фазы, случайное открытие изобразительной функции линии нисколько его не выводит из этой фазы — дитя психически еще не созрело до этого. Но когда оно созреет, первая же случайная удача привязывает внимание ребенка именно к «образу», к «рисунку», к возможности с помощью линии «изобразить» человека, предмет. Тайна изображения долго не дается ребенку — а многие из нас и в зрелом возрасте не овладевают этой тайной, — но дети уже заглянули в эту тайну, уже стоят на ее пороге, и она их манит и влечет к себе. Графические формы медленно даются ребенку, развитие графического творчества сложнее и запутаннее, чем развитие словесного творчества. Если сравнивать эти две сферы — сферу слова и сферу графических форм, то уже в самом начале с полной ясностью выступает запаздывание графического развития у ребенка. Дитя понимает чужие слова очень рано — может быть, уже на третьем месяце жизни; уже к 9 месяцу жизни (иногда и раньше) оно иногда способно выговаривать отдельное слово, — между тем уменье схватывать формы, понимать картины начинается только на втором году жизни, а первые пробы графического творчества, первые пробы овладевать изобразительной функцией рисунка и выйти за пределы каракулей могут быть лишь на третьем году жизни (Scupin, Major). Замедленность в развитии графического творчества сказывается и в том, что, в то время, как начавши говорить, дитя с сравнительной легкостью овладевает самыми различными формами слов, — в графическом творчестве дети долго не выходят за пределы нескольких форм, которыми они овладели и которые они без конца варьируют.
Стадия «марания» не однообразна — в ней можно наметить несколько ступеней; если верить Кречу (К г о t s с h — Rythmus und Form in der Kinderzeichnung. 1917), в развитии каракулей можно наметить пять ступеней — здесь как бы намечается впервые подход к изучению того, что Бюлер назвал «фонетикой» рисования.
«Марание» есть своеобразная моторная игра, точнее говоря, вид моторной игры (ибо лепет есть тоже вид моторной игры, но не с графическими, а артикуляционными движениями). Уже в этой стадии сказывается большая косность того материала, с которым дитя здесь играет: можно было бы сказать, что звуковой материал сравнительно с графи-
178
ческим является более гибким. Это сказывается, между прочим, в том, что на графическом материале сильнее сказывается самоподражание, повторение предыдущих движений. Ни в одном искусстве (даже в дифференцированной, высшей форме) так не опасна власть самоподражания, как в искусстве рисунка; все, что можно эстетически извлечь из этого, извлекается началом ритма и симметрии, но и только. В словесном и музыкальном искусстве повторения, вариации не только не
Рис. 10. Рис. 11.
мешают, но при умении становятся источником богатейших открытий: аналогия здесь — подлинно творческая сила; в искусстве же рисунка повторение опасно потому, что ведет к отвердению, к неподвижности формы, к стереотипу. В детском уже рисунке это застывание форм ясно выступает, как дефект, с которым, часто безуспешно, борются и дети, жалуясь на то, что у них все выходит «одно и то же». Единственный эстетический просвет здесь дается в использовании однообразных движений для орнамента, который развивается сначала именно из простого повторения тех же движений. Прежний взгляд на развитие орнамента, который высказывали Grossе, К. Vonder S t e i n e n и согласно которому орнамент развился из особой стилизации рисунка, должен быть оставлен. Помимо того, что можно найти орнамент среди первобытных народов, в их примитивном искусстве, и у народов, у которых не развилось изобразительного рисунка, то, что говорит в этом направлении психология детства, достаточно убедительно. Орнамент вырастает из игры линиями, диктуется простым повторением движений, которое эстетически используется и закрепляется. Бюлер сообщает5 об одном мальчике, который из маранья прямо перешел к рисованию кругов и к орнаментам уже на
--
В u h 1 е г — Die geistige Entwickelung des Kindes. S. 275—276.
179
втором году жизни. Впрочем, обычно у детей орнамент является добавлением к рисунку, как бы своеобразным сближением рисунка с тем повторением линий, которое имеет место при марании. Нарис. 10, 11 и 12 представлены сравнительно поздние пробы орнаментировок у детей школьного возраста (по Кершенштейнеру).
Рис. 12.
При переходе к изучению детских рисунков необходимо иметь в виду, что графическое творчество сравнительно долго стоит вне связи с выразительными движениями. В то время как голос с самого начала имеет выразительную функцию, что подчеркивается и усиливается тем социально-психическим резонансом, который он вызывает, графическое творчество и в своем генезисе не связано с выразительными движениями, и в своем развитии остается им чуждо. Развитие рисунка из маранья, из графической игры движется чутьем изобразительной силы рисунка, его способности давать образу, закреплять и объективировать формы. По мере того, как дитя овладевает теми или иными формами, они, конечно, становятся проводниками его мыслей, настроений, чувств, приобретают свое место в системе выразительных движений, но выразительная функция рисунка всегда слабее его изобразительной силы. Тупики новейшей живописи (кубизм, экспрессионизм, футуризм, кубофутуризм) не тем ли психологически и объясняются, что между выразительной и изобразительной функцией рисунка нет глубокой связи? Во всяком случае нельзя отрицать психологического формализма в детском рисунке: развитие творчества одушевляется здесь чувством формы прежде всего. Между прочим, здесь же лежит один из корней основной особенности детского рисунка — его символизма.
Обратимся к детским рисункам и отметим прежде всего, что главной темой в детских рисунках является человек. Хотя имеются известные исключения, но бесспорным является этот общий и существенный факт, стоящий в глубокой внутренней связи с тем, что и в играх дитя главным образом играет в человека. В развитии рисунка в данном направлении уже Селли отметил известную закономерность: по Селли, дитя от «неопределенного и бесформенного маранья» переходит к ступени примитивного рисунка — схемы, а затем к ступени более искусной трактовки тех же сюжетов. Более точно и подробно изу-
180
чил процесс развития детских рисунков Кершенштейнер в своем знаменитом исследовании — Die Entwickelung der zeichnerischen Begabung. По Кершенштейнеру, развитие рисунка (выключая «предфазу» каракулей) проходит четыре стадии — стадию чистой схемы, стадию смешанной схемы, стадию силуэтов или контуров и, наконец, стадию пластического изображения. Вот образцы первой стадии:
Рис. 15. Рис. 17. Рис. 18.
Эта стадия рисунка особенно поучительна для психолога: с полной ясностью выступает здесь то, что рисунок совсем не направляется образом, который имеется в душе (первые рисунки никогда не являются срисовыванием с натуры, а рисуются «на память»); рисунок, наоборот,
181
определяется тем, что дитя «знает», лучше сказать, «думает» о предмете6. Справедливо замечает по этому поводу Штерн, что это является одним из опровержений предрассудка, будто в основе духовного развития лежит сенсуальный, чувственный материал. Из изучения детских рисунков становится ясно, говорит Штерн, что «первоначально чувственный материал» (das Anschauliche) является символом того, что «имеется в виду», о чем думают (das Gemeinte, das Gedachte); только с большим трудом развивается постепенно способность выделять в созерцании вещей «данное нам»7. Уже Селли установил тезис, что «юный художник гораздо больше является символистом, чем натуралистом»; исследование Кершенштейнера, установив наличность схемы, как исходной фазы в развитии рисунка (выше которой не подымаются иногда и взрослые!), дало блестящее подтверждение этого. Как пример влияния того, что дитя знает, укажем на рис. 17, где внутренний кружок должен изображать сердце. На рис. 38 мы видим такое же явление: невидная глазу луковица нарисована так, как если бы ее можно было видеть. Дитя вовсе не рисует того, что можно видеть: оно рисует то, что е с т ь, по его мнению. Этим объясняется наличность двух глаз при рисунках в профиль, точно просвечивающие сквозь одежду ноги, руки и т. д. Детская эстетика здесь даже сложнее, чем это представляется с первого взгляда8, — в этом отношении очень любопытно сравнить некоторые особенности детских рисунков с блужданиями новейшей живописи, конечно имеющими свою, хотя и одностороннюю, логику. Еще любопытная черта детских схематических рисунков, стоящая в теснейшей связи с символическим характером детского рисования, с влиянием в нем «знания» — я имею в виду своеобразное раздробление материала: расчленение материала, подлежащего рисованию (что имеет существеннейшее значение вообще в технике рисования и особенно в исканиях современной живописи), следует, по правильной формуле Бюлера, «порядку знания»: дитя знает о человеческом теле, что оно есть ряд частей с особыми названиями — и именно «номенклатурное расчленение» и ложится в основу схемы. Отсюда легко понять и другую характерную черту детских рисунков — пространственную разобщенность отдельных частей тела (см. рис. 18, взятый у Кершенштейнера) или беззаботность относительно того, как связаны отдельные части тела. Так, руки нередко растут из головы (рис. 16), из шеи; ноги прямо растут из головы… Рисуя профиль, дитя непременно приставит второй глаз (см. рис. 19).
Селли очень подробно и интересно показывает, как постепенно совершенствуется в схематическом рисунке рисование отдельных черт
--
6 Рисунок определяется тем, что хорошо по-немецки выражается словом «Das Gemeinte».
7 S t е г n — Psych, d. fruhen Kindheit. S. 230.
8 См. особенно об этом у Бюлера, который очень широко и интересно разработал связанные с детскими рисунками проблемы.
182
(особенно любопытно это относительно рисования носа и зубов). Селли уверяет также, что уже в схематических рисунках можно говорить о «выразительной» стороне их, что в них можно видеть те или иные настроения детей. Кершентейнер высказывается решительно против этого тезиса и, конечно, он прав — во всяком случае, когда всматриваешься в книге Селли в рисунки, в которых он видит выражение различных настроений, то никак нельзя в них усмотреть его9.
Рис. 20. Рис. 21. Рис. 22.
Следующей ступенью в развитии рисунка является стадия «смешанной схемы», в которой уже можно отметить первое приближение к реальности, изображаемой на рисунке. Примеры, характерные для данной стадии, —рис. 20,21 и 22.
Рисунок здесь явно схематичен, однако ясно чувство формы человеческого тела, нет режущих несообразностей, не только глаз ребенка уже лучше видит, но и в создании рисунка есть большой художественный прогресс в смысле реализма — пока лишь, правда, формального. Вот почему Кершеиштейнер характеризует эту ступень как смесь формального и схематического. Уже здесь более или менее соблюдается пропорция частей тела, — начало симметрии, играющее поверхностную роль в чистой схеме, имеет более художественное выражение; во всем этом уже обнаруживается влияние оптических впечатлений на рисунок.
9 Бюлер тоже высказывается против воззрения Селли. В u h 1 е г — Op. cit. S. 281.
183
Еще ярче чувство формы, умение графически передавать то, что усваивает глаз, сказывается на третьей ступени, где схема уже исчезает, ясно выступает контур или силуэт; когда к этому прибавляется умение передать глубину и перспективу, зарисовать пластичность предмета, его рельеф и даже изобразить движение, — мы имеем высшую, четвертую ступень.
Вот рисунки, отвечающие третьей ступени:
Рис. 23. Рис. 24.
Примеры рисунков четвертой ступени — 25 и 26.
Рис. 25.
184
Рисуя человека, дитя прежде всего рисует его лицо, которое долго является главным предметом интереса — остальные части тела кое-как присоединяются к лицу, а иногда даже отсутствуют. Сначала дитя рисует лицо en face, затем уже рисует в профиль, еще не замечая того, что в профиль мы не видим двух глаз…
Приведем несколько цифр из исследования Кершенштейнера: хотя они относятся ко второму детству, однако очень хорошо освещают развитие художественного творчества у детей вообще.
Из обработки рисунков 4031 детей (1996 мальчиков и 2035 девочек) Кершен-штейнер извлек следующие данные (отно -сятся к изображению отца, матери и ребенка «по памяти», т. е. не с натуры):
Рис. 26
| Классы |
|
Мальчики |
|
|
|
|
Девочки |
|
Число учени- |
|
В» |
|
Число уче- |
|
В% |
|
|
Ступень |
|
|
Ступень |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
I |
II |
III |
IV |
|
I |
II |
III |
IV |
| I |
338 |
98 |
2 |
_ |
_ |
325 |
98 |
2 |
_ |
— |
| II |
309 |
90 |
10 |
— |
— |
391 |
98 |
2 |
— |
— |
| III |
348 |
78 |
21 |
. 1 |
— |
256 |
95 |
5 |
— |
— |
| IV |
299 |
59 |
36 |
5 |
— |
344 |
87 |
11 |
2 |
— |
| V |
237 |
48 |
46 |
6 |
— |
222 |
79 |
19 |
2 |
— |
| VI |
240 |
16 |
59 |
18 |
7 |
232 |
66 |
31 |
3 |
— |
| VII |
130 |
7 |
52 |
28 |
13 |
183 |
52 |
38 |
7 |
3 |
| VIII |
95 |
3 |
44 |
32 |
21 |
82 |
57 |
35 |
8 |
— |
Приведем рядом другую таблицу, касающуюся рисования с натуры:
| Классы |
|
|
Мальчики |
|
|
|
|
Девочки |
|
|
Число учеников |
|
В % |
|
|
Число учениц |
|
|
В% |
|
|
Каракули |
Ступень |
|
|
Каракули |
Ступень |
|
|
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
| I |
291 |
2 |
94 |
4 |
_ |
_ |
289 |
6 |
93 |
1 |
_ |
_ |
| II |
298 |
— |
93 |
6 |
1 |
— |
299 |
1 |
98 |
1 |
— |
_ |
| Ш |
299 |
— |
79 |
14 |
7 |
_ |
300 |
_ |
93 |
6 |
1 |
■______________ |
| IV |
300 |
— |
57 |
29 |
14 |
— |
281 |
— |
92 |
7 |
1 |
_ |
| V |
247 |
— |
38 |
35 |
23 |
4 |
254 |
— |
76 |
20 |
4 |
_ |
| VI |
151 |
— |
26 |
42 |
24 |
8 |
251 |
— |
70 |
24 |
6 |
— |
| VII |
122 |
— |
12 |
28.' |
42 |
18 |
174 |
— |
50 |
38 |
10 |
2 |
| VIII |
83 |
— |
— |
12 |
26 |
62 |
56 |
— |
39 |
42 |
15 |
4 |
Если сравнивать первые четыре класса, то особого различия между рисованием на память и рисованием с модели нельзя заметить: одина-
185
ково в обоих случаях схематический рисунок уступает место Н-й ступени. Лишь в старших классах наличность модели имеет влияние на улучшение рисунка. Очень поучительно сравнение художественного развития у мальчиков и девочек. В то время как у мальчиков, начиная с V класса, % схематических рисунков находится уже ниже половины и падает очень быстро, доходя до 3 в последнем классе, у девочек даже в последнем классе % схематических рисунков остается 57. Вот диаграмма, иллюстрирующая это различие в рисунках 1-й и Н-й ступени:
I II III IV V VI VII VIII
Диагр. 3.
Вот сводные данные (по Кершенштейнеру), касающиеся рисунков с натуры:
| |
Мальчики |
Девочки |
Абсол. число |
В% |
Абсол. число |
В% |
| Каракули |
5 |
0,5 |
20 |
1,0 |
| 1-я ступ, (схема) |
1124 |
62,5 |
1578 |
83,0 |
| П-я ступ. |
339 |
19,0 |
241 |
12,6 |
| Ш-я ступ. |
233 |
13,0 |
59 |
3,1 |
| IV-я ступ. |
90 |
5,0 |
6 |
0,3 |
186
Если это выразить графически, то получим:
Диагр. 4.
Коснемся несколько развития рисунков у детей на другие темы. Рисование животных проходит у детей, по Кершентейнеру, пять ступеней: 1) схема «животного вообще», 2) схема определенного животного, 3) смешанная схема, 4) ступень контура, 5) пластический рисунок.
Вот рисунки 1-й ступени:
187
Рис. 32.
Первые три рисунка схематически рисуют лошадь, последний птицу.
Вот последовательно рисунки III, IV и V- й ступени:
Рис. 33.
Рис. 34.
Рис. 35.
В рисовании цветов, растений наблюдаются те же ступени. Вот рисунки цветка на I- й ступени:
Рис. 36.
Рис. 37.
188
Рис 40. рис. 41.
В рисовании дерева вот примеры 1-й ступени:
189
Вот последовательно рисунки II, III и IV-й ступени:
Вот цифры, касающиеся изображения лошади:
| Классы |
|
|
Мальчики |
|
|
|
Девочки |
Число учеников |
|
В % |
|
Число учениц |
|
В % |
|
Ступень |
|
|
Ступень |
I |
II |
III |
IV |
V |
I |
II |
III |
IV |
V |
| I |
295 |
89 |
9 |
2 |
|
_ |
325 |
98 |
2 |
_ |
_ |
_ |
| II |
312 |
66 |
31 |
2 |
1 |
— |
362 |
95 |
2 |
— |
— |
— |
| III |
300 |
57 |
39 |
3 |
1 |
— |
392 |
86 |
14 |
— |
— |
— |
| IV |
331 |
45 |
43 |
10 |
2 |
— |
315 |
73 |
25 |
2 |
— |
— |
| V |
235 |
31 |
56 |
11 |
2 |
— |
175 |
70 |
30 |
— |
— |
— |
| VI |
236 |
26 |
49 |
19 |
4 |
2 |
134 |
62 |
37 |
1 |
— |
— |
| VII |
133 |
19 |
43 |
28 |
9 |
1 |
184 |
57 |
35 |
7 |
1 |
— |
| VIII |
84 |
12 |
36 |
35 |
17 |
— |
24 |
67 |
33 |
— |
— |
— |
Приведем еще таблицы, касающиеся рисования цветка:
| Классы |
|
Мальчики |
|
|
Девочки |
|
Число учеников |
|
В % |
|
Число учениц |
|
В% |
|
Каракули |
Ступень |
|
Каракули |
Ступень |
|
I |
II |
III или IV |
I |
II |
III или IV |
| I |
297 |
7 |
92 |
1 |
|
323 |
10 |
90 |
|
_ |
| II |
315 |
2 |
92 |
6 |
— |
333 |
6 |
91 |
3 |
— |
| III |
301 |
_ |
85 |
14 |
1 |
292 |
7 |
89 |
4 |
— |
| IV |
326 |
_ |
75 |
23 |
2 |
320 |
4 |
86 |
10 |
_ |
| V |
230 |
_ |
75 |
25 |
— |
218 |
1 |
86 |
12 |
1 |
| VI |
235 |
1 |
48 |
49 |
2 |
227 |
1 |
68 |
29 |
2 |
| VII |
119 |
_ |
35 |
54 |
11 |
176 |
— |
38 |
56 |
6 |
| VIII |
83 |
— |
27 |
59 |
14 |
24 |
— |
25 |
71 |
4 |
И в этих двух таблицах ясно выступает медленный темп художественного развития, запаздывание девочек сравнительно с мальчиками.
В последнее время стали много заниматься сближением между детскими рисунками и рисунками у диких народов. Вопрос этот очень любопытен с разных точек зрения. Несомненно, здесь могут быть указаны любопытные параллели; не входя в них10, остановлюсь несколько на сравнении рисунков наших детей и детей примитивных народов. Рисунки детей эскимосов (см. рис. 47) очень далеки от схем наших детей:
--
10 См. по этому вопросу: В u h 1 е г — Die geistige Entwickelung. § 25; Kerschen-steiner. Op. cit.; Levinstein — Kinderzeichnungen bis mm 14 Lebensjahre mit Parallelen aus der Urgeschichte, Kulturgeschichte und Volkerkunde; W и n d t — Volker-psychologie. B. Ill; Kretschmar — Kinderkunst bei den Volkern niederer Kultur; Verworn — Kinderkunst und Urgeschichte. Verworn — Ideoplastische Kunst.
191
Рис. 47.
Г-жа Майтланд, собиравшая эти рисунки, пришла к выводу, что можно провести полное сближение рисунков эскимосских детей и наших детей, но Бюлер справедливо замечает, что на основании таблиц, приведенных Левинштейном, этот вывод не может быть принят. Очень интересную коллекцию рисунков негритянских детей собрал Кречмар, а также Франке в своей книге — Die geistige Entwickelung der Negerkinder (1915): эти рисунки совершенно аналогичны рисункам наших детей.
Скажем несколько слов об общем значении рисования в духовном развитии детей.
Дитя видит предметы, слышит их названия, само их называет, но это «знание» является бледным, неясным, как это хорошо обнаруживается как раз в детских рисунках. Сами по себе зрительные, слуховые восприятия еще не вполне выводят дитя из сферы субъективных переживаний, — хотя, конечно, дитя так же «экстернализирует» или «объективирует» свои восприятия, как и мы. Но эта объективация определяется главным образом «размещением» вещей в пространстве; так как дитя долго не отделяет само себя от всей обстановки, то сама по себе объективация или экстернализация предметов восприятия не отделяет их вполне от дитяти. В первых же пробах рисования, еще не выходящих за пределы «каракулей», дитя неожиданно знакомится с
192
возникновением вещей, приближается к тайне созидания. По мере того, как дитя овладевает изобразительной силой рисунка, оно становится способным воплощать в рисунке, в некоторую форму бытия, свои образы, свои замыслы. Рисование становится не только средством эстетического творчества, средством «изображения» тех или иных образов, занимающих внимание ребенка, — оно является техническим введением в сферу той активности, с помощью котороймы можем творить, созидать нечто объективное, реальное. Рисование не одно служит этому — по-строительные игры, лепка тоже развивают это «творческое сознание», эту «творческую установку», но рисование является самым доступным и простым путем в развитии этого. Помимо огромного значения этого момента в общем развитии творческой жизни у ребенка и в особенности эстетического его творчества, рисованию принадлежит огромная роль в развитии точности наших восприятий. Оно становится благодаря этому очень ценным фактором в интеллектуальном созревании ребенка, в развитии внимания, способности восприятия и наблюдения. Не менее важна роль рисования и общем техническом развитии ребенка. Техническая свобода, т. е. уменье воплощать свои мысли, планы, свои фантазии — есть чрезвычайно важная способность, которую нужно всячески развивать: сколько людей не созидают ничего ценного благодаря именно этому, что не владеют той или иной техникой воплощения своих замыслов и идей! Технические навыки, техническая «ловкость», умение пользоваться различными формами технического воплощения планов, и, г°й, замыслов впервые реализуют в нас мощь творчества. Конечно, все мы владеем, в большей или меньшей степени, элементарной техникой, необходимой для нашего быта, но от этих форм техники до настоящей технической свободы, до умения владеть различными формами технического творчества еще далеко. Рисование имеет тем большее значение в этом техническом созревании, что оно доступно для всех по простоте своих средств.
Еще большее значение в этом техническом, а также и эстетическом созревании ребенка должны мы приписать лепке. Из одного и того же материал (воск, глина) дитя лепит разнообразные фигуры, которые стоят тем выше нарисованных фигур, что они не имеют плоскостного характера, а представляют настоящие воспроизведения реальных вещей и существ. Трудно даже рассказать, какой чрезвычайный подъем творческих замыслов вызывает в душе ребенка возможность лепить разные фигуры! В душе ребенка зреет сознание своей творческой силы, перед ним раскрывается бесконечная перспектива творчества; то, что делает человека царем природы, распорядителем могучих ее сил, открывается уже здесь ребенку в бесконечной и манящей к себе перспективе. Достаточно зайти в хорошие детские сады, чтобы убедиться в огромном значении лепки в духовном созревании детей: известно, что это самое любимое занятие детей. Мы не имеем еще исследований о влиянии детских садов на детей, переходящих затем в обычные наши школы, но там, где в школах — в начальных классах — удается сохранить лепку, как форму «занятий», ее огромное влияние на внутренний
7 Психология детства
193
рост детской личности стоит вне всякого сомнения. Не могу тут же не упомянуть еще об одном пути художественного развития ребенка, имеющем, по моему убеждению, глубокое влияние на развитие ребенка, на процесс роста и освобождение души в ее силах — на детские танцы. Так называемая ритмическая гимнастика (по системе Далькроза), при всей ценности своей, напоминает ту стадию в методике рисования, когда шли от элементов к целому. В ритмической гимнастике усваиваются именно элементы, через усвоение которых будто бы вводится начало ритма во все движения тела. Может быть, у отдельных детей ритмическая гимнастика и пробуждает общее чувство ритма и чутье изящного, но в целом, по моим наблюдениям, это можно наблюдать сравнительно редко. Дело в том, что отдельные движения в системе ритмической гимнастики б е с с м ы с л е н н ы, не одухотворены никаким содержанием. И как в методике рисования мы идем ныне не от элементов, а от целого, исходим из детского рисунка, как он естественно слагается у ребенка, и постепенно идем к более точной передаче целого и к отделке подробностей, — так и в методике физического воспитания надо исходить от осмысленных, одушевленных известным содержанием движений, постепенно достигая и большей выразительности движений и лучшей отделки частностей. Ритм в нас вообще не создает целого из частностей, а, наоборот, возникает из расчленения целого — это относится и к звуковому, и к зрительному, и к моторному ритму. Не входя в более подробное обсуждение этой темы, столь же важной в психологии, как и в педагогике, скажем только, что в сочетании изобразительных танцев (в передаче в системе движений какого-нибудь сказочного содержания) с ритмической гимнастикой видим мы разрешение затронутого вопроса о путях развития движений в ребенке. Во всяком случае, вовлечение движений в сферу эстетического процесса, происходящего в душе ребенка, имеет неоценимое общее значение; лишь на этом пути тело становится не преградой, а органом души, что и сказывается в освобождении и развитии грации. Полную параллель этому находим мы и в культуре голоса. Добавим, что чрезвычайно важно развитие телесного ритма и грации именно в раннем детстве, задолго до пробуждения полового сознания, — ибо здесь, в ритмизации движений, мы становимся страшно близки к началу пола. Пока чиста детская душа, развитие ритмики и грации в движениях не создает никакого психического возбуждения, столь уже опасного не только в пору полового созревания, но и последние 3—4 года до него.
Остановимся еще на очень важном проводнике эстетической жизни в ребенке — на сказках. Чтобы понять сложную и влиятельную роль сказок в эстетическом развитии детей, необходимо понять то своеобразие детского миропонимания (оно, конечно, есть у детей!), которые мы можем охарактеризовать, как детский мифологизм, который сближает детей с первобытным человеком и… художниками. Для детей, для первобытного человека, для настоящего художника вся природа жива, полна внутренней богатой жизни, — и это ощущение жизни в природе не имеет в себе, конечно, ничего надуманного, теоретического,
194
а является непосредственной интуицией, живым, убедительным восприятием. Мы приводили уже рассказ у Селли, когда одно дитя пожалело неподвижно лежавший камень («Бедный камень! как ему должно быть скучно всегда лежать на одном месте») — это может служить хорошим примером детских интуиции. Чудесные стихи Лермонтова
«Ночевала тучка золотая На груди утеса великана…»,
вероятно, ближе всего и понятнее именно детям с их чувством жизни в природе. Это чувство жизни в природе, по мере роста процессов эйек-тивации, все более нуждается в интеллектуальном оформлении — и сказки как раз и отвечают этой потребности ребенка. Есть еще другой корень сказок — это работа детской фантазии: будучи органом эмоциональной сферы, фантазия ищет образов, чтобы выразить в них детские чувства11. Существует несомненная и глубокая связь между играми и сказками; можно было бы даже сказать, что всякая сказка, в своей сущности, есть не что иное, как фабула игры — независимо от того, была ли эта игра сыграна или нет. Слушая сказки, дитя наслаждается той же свободой в игре образов, какой оно наслаждается в игре движений, — различие созидается здесь, между прочим, и тем, что в настоящих играх, как мы это знаем исходной точкой является всегда некоторая доля реальности (еще раз напомним восхитительный образ девочки Козетты у Виктора Гюго в «Отверженных» и ее игру с остатком поломанной сабли). Игра это есть воплощенная — драматизированная, инсценированная — сказка, а сказка—это игра до своей инсценировки. Но как игра психологически отлична, так сказать, «действенным мифологизмом», живым преображением чего-либо действительного, что должно быть налицо, так и сказка, могущая обойтись даже без капли реальности, отлична общим мифологическим сознанием, общей мифологической перспективой, в которую глядит здесь детская душа. Но здесь необходимо нам остановиться, хотя бы и очень кратко, на различии мифа, как такового, от сказки и на общей характеристике детского мифологического сознания.
Обычно считают, что различие между мифом и сказкой заключается в том, что, слушая сказку, мы сознаем, что в ней говорится о чем-то недействительном и «сказочном», тогда как миф есть лишь наивная форма научного объяснения, принимаемая совершенно серьезно12. В этой характеристике правильно схватывается различие сказки и мифа в их зрелую пору, правильно выдвигается на первый план различная психическая установка в обоих случаях. Однако, было бы ошибкой не замечать именно генетической близости сказки и мифа — и это имеет особое значение для того, чтобы войти в понимание детского
--
11 Через изучение детских фантазий мы можем проникать в закрытый мир детских чувств. Как метод индивидуальной психологии это разрабатывал в Киеве д-р Шнеерсон.
12 Среди психологов детства особенно резко эту точку зрения проводит Бюлер — Die geistige Entw. S. 311. 320-32 1.
7*
195
мира: миф и сказка растут из одного корня, взаимно влияют друг на друга, и их различие связано с более определенным сознанием различия мира действительности и мира фантазии. Вначале же мифологическое понимание действительности настолько еще связано со сказочным миром, со сказочными образами, что часто совершенно невозможно сказать, где кончается одно и начинается другое. Сказочные герои, действующие в сказках существа занимают не малое место в системе мифологического понимания действительности у ребенка13. Это мифологическое понимание, хотя и является выражением роста интеллектуальной силы у ребенка, очень сильно связано с работой фантазии; мы коснемся этого вопроса несколько далее, сейчас же лишь подчеркнем участие фантазии в понимании действительности у детей. Грос приводит интересный пример создания девочкой 31/2 лет этиологического мифа, т. е. мифа, необходимого для объяснения причины явления, и справедливо сближает это с этиологическим мифотворчеством взрослых14. Что касается сказки, она несомненно далека от этого влияния интеллекта; и то, что слышит дитя в сказках, рассказываемых ему, и то, что оно само (уже на четвертом году) жизни создает в своих сказках, чуждо познавательным задачам. Однако, сказочный мир еще не противостоит вначале миру действительности, равно как дитя еще не сознает разной психической установки при обращении к сказочному миру или к мифологически понимаемой действительности. Мы еще увидим дальше прекрасные параллели к этому в том, как воспринимает дитя картины: оно их принимает за реальность.
Характерным отличием «сказочного сознания» Бюлер считает то, что сказка «чужда действительности»1-5. Это, конечно, верно, но это неполно и потому не вскрывает сущности «сказочной установки». Сказочный мир, как и сфера игр, как и сфера искусства, конечно, отличен от действительности, но он обладает в то же время каким-то устойчивым бытием, про которое можно сказать словами Лейбница, что оно, как и материя, — phaenomenon bene fundatum. Сказка не есть для ребенка чистая выдумка, герои сказки живут для ребенка своей особой жизнью, как и для нас, взрослых, было бы не точным сказать, что любой художественный образ «выдуман». Да, мы понимаем, что он создан художником, но, после того как он создан, он живет и в нас и в других какой-то особой устойчивой жизнью, он обладает каким-то особым полуреальным бытием. Различие между «сказочной» и «познавательной» установкой идет не по линии действительного и недействительного, наоборот, само это различие является продуктом психического развития под влиянием игры (и сказк и); сказочный мир, скажем шире — сфера игры возникает в итоге психической работы, опирающейся на «установку на игру». Для этой установки характерно — мы говорили уже об этом — выражение чувств, и то, что созидает фантазия, как выражение чувств, долго не сознает-
--
13 Это признает и Бюлер (Op. cit. S. 320). HGroos- Das Seelenleben des Kindes. S. 152—153. 15Buhler-Op. cit. S. 320.
196
ся в своем отличии от всего реального16. Лишь по мере того, как мир фантазии расширяется и растет, по мере того как яснее и яснее переживается свобода в этом мире и связанность в мире «действительном» — начинают отделяться (очень медленно) две сферы. Детские мифологемы и сказочный мир не мало времени являются тесно связанными — и это очень затрудняет их расхождение, тем более, что в интеллектуальном росте ребенка мифологемы отпадают, как молочные зубы, а сказочный мир живет устойчиво и даже часто дает убежище мифическим образам (как это видно и на сказках народных).
Обратимся к краткой характеристике детского сказочного мира. Первые сказки, как это справедливо отмечает Бюлер, связаны с личностью самого ребенка: матери, няни хорошо это чувствуют и начинают первые сказки так: «жил-был мальчик такой, как ты…». В этих сказках невольно повествуется о том, что переживает дитя — сказка как бы воплощает в образе то, что есть в душе ребенка. В сказочном материале выступают люди, животные, вещи — знакомые ребенку—и эти сказки звучат для ребенка, как рассказ о чем-то вполне реальном. Помню, как я рассказывал своему племяннику 4-х лет о лошади и ее жеребеночке и потом сам забыл подробности рассказанной сказки — и это было ужасно обидно мальчику, который все добивался, чтобы я рассказал ему о жеребеночке: утеря подробностей сказки была так же горька мальчику, как утеря чего-то реального… Справедливо говорит Селли, что для детей слова имеют глубокую и таинственную связь с вещами, названием которых они являются: дети глядят на слова как на символы вещей; они боятся некоторых слов, веруют в волшебную силу других. Мы имеем здесь дело с настоящей верой в волшебную силу слов. Бюлер, который не разделяет этого взгляда Селли, сам признает, что в мире сказки нет ничего невозможного для ребенка. Здесь действительное и чудесное так сплетаются одно с другим, что нам это представляется непонятным, — между тем здесь нет никакой загадки, если вспомнить, что сама действительность понимается мифологически.
В сказках постоянно налицо неожиданные перемены, скачки, превращения; однако, чисто комбинаторная фантазия проявляется в сказках слабо, — здесь лежит причина неверного мнения, особенно защищаемого Вундтом, о скудости детской фантазии. Несправедливость этого мнения так очевидна, что его нечего даже опровергать. Очень часто в сказках находим преувеличения или преуменьшения, — это один из излюбленных приемов сказочной поэтики. Бюлер справедливо ставит этот момент в связь со слабостью сравнения у детей17.
По Штерну, своеобразная сказочная установка может быть наблю-
--
16 Справедливо говорит по этому поводу Штерн (Op. cit. S. 182), что дитя долго не сближает настоящего с прошлым; критерий реальности лежит для ребенка не в связности бытия, а в интенсивности его переживания.
17 По шкале Бине, сравнение по памяти (например, мухи и бабочки) по силам лишь детям, достигшим 8 лет.
197
даема уже в начале третьего года жизни18. Для характеристики сказочного мира ребенка неоценимое значение имеет мало еще изученное собственное сказочное творчество ребенка. По Штерну, первые сказки, сочиняемые детьми, не имеют ничего общего с личностью ребенка—и это нисколько не противоречит указанному выше типу первых сказок, которые рассказываются ребенку. Окружающие дитя взрослые невольно приближают сказку к миру внутренних переживаний ребенка, ибо без этого дитя не может заинтересоваться сказкой: дело идет не о личности ребенка, а о его чувствах, личность же и там иная, но только близкая (с тем же именем, таких же лет и т. д.) Собственные сказки детей представляют рассказы о детях, о животных, которым вкладываются такие же чувства, какие испытывает и дитя. По Штерну, собственное сказочное творчество начинается на 4 году жизни, а новый тип сказок о самом себе («когда я буду большой…») начинается около 5 лет. Впрочем, фантастические рассказы о себе (без своеобразного сказочного стиля) встречаются и раньше.
Даже то, еще недавнее изучение детских сказок, каким мы обладаем в настоящее время, не позволяет придерживаться традиционной теории фантазии. В этом отношении очень типичны взгляды Бюлера, который отказывается от чисто ассоциативного (или, как он называет — «аддитивного») принципа в объяснении генезиса образов фантазии. Бюлер видит ключ к пониманию детской фантазии в принципе аналогии19 — и это вдвойне верно — и потому, что этим образы фантазии сближаются с построениями мышления, а не памяти (напомню удачную формулу Эббинггауза-Дюра о «мыслях фантазии» — Fantasiegedanken), — и потому, что этим создания фантазии приближаются к правильному пониманию в их отношении к эмоциональной сфере. Аналогия, которая, как мы увидим, является простейшей формой мышления, является типичным «допущением» (Annahme), логическое использование которого никогда не может идти далее правдоподобия, — a Annahmen, как это хорошо раскрыл Meinong, и есть форма работы фантазии, т. е. связана с эмоциональной сферой. Грос, который не склонен сводить к Annahmen всю психическую тайну установки игры и иллюзорного сознания, согласен, однако, что они играют значительную роль и в играх детей, и в «эстетической иллюзии», и в сказках21. Мы можем быть решительнее и признать, что сказки всецело связаны с работой фантазии, именно как органа эмоциональной сферы: сказочный мир объективирует для ребенка те или иные чувства, и в этом тайна живучести в нашей душе сказочных образов и тайна их влияния на детскую душу. Правильно указывает ряд психологов на близость сказочных образов к образам в сновидениях22, а в связи последних с эмоциональной сферой, конечно, не может быть никаких сомнений.
--
18 См. примеры: Stern — Op. cit. S. 183.
19 Напомню, что уже Бен сводил все творчество к ассоциации сходства, которую он понимал в смысле аналогии.
21 G г о о s — Das Seelenleben des Kindes. S. 183 — 184.
22 О работе фантазии во сне см. у Штерна (Op. cit. S. 202—205).
198
Конечно, сказочный мир открывается ребенку лишь тогда, когда он владеет уже хоть немного речью — и эта связь сказки с языком всегда остается очень тесной. -Когда дитя овладевает речью, оно именует весь мир, дает всему название, как бы оживляя этим весь мир, — и здесь собственно начинается настоящая детская мифология. Все, что получает свое имя, получает и жизнь; все оживает и как бы открывается в своей жизни для ребенка, который чувствует эту жизнь даже в неизменных и мертвых вещах. Когда в сказках оживают вещи, когда различные предметы в сказках начинают действовать ночью, когда все спит, — то в этом нет ничего удивительного для ребенка, ибо мифологическое одухотворение всего предшествует сказке. По мере развития игр, роста сказочного материала все яснее становится для ребенка различие мира «воображаемого» и действительного, — но, и отделяя эти два мира, дитя их не противопоставляет, ибо воображаемое обладает для ребенка реальностью, только иного типа. Сказка и миф расходятся поэтому не столько по принадлежности своей к разным сферам реальности (тем более, что позднейшие сказки — типа сказки о Робинзоне — как это признает и Бюлер23, приближаются к действительности), сколько по участию в их создании разных психических сил, — по своим целям, по своей установке. Задача сказки — дать образы, в которых выражаются, которыми питаются чувства, миф же имеет познавательную функцию вытекает из задачи понимания действительности.
Рисование, лепка, сказки — таковы наиболее изученные формы эстетического творчества у детей. Бегло просмотревши эту сторону эстетической жизни ребенка, мы убедились в богатом развитии творческой активности у детей, в высокой напряженности эстетической жизни, в удивительном универсализме ее, убедились, что эстетическая жизнь детей отлична от нашей именно тем, что ей чужда пассивность. В том общем надломе и кризисе, которые переживает дитя в начале школьного возраста, имеет большое значение присущий нашей культуре интеллектуализм, низкая оценка эмоциональной жизни: это ведет к подавлению творчества, обслуживающего эмоциональную сферу. Школа должна идти навстречу эмоциональной жизни ребенка, особенно высшей духовной жизни его; интеллектуальное развитие школа не должна ставить на первое место. Дитя не ищет прежде всего знания — а ищет выражения и питания своей внутренней жизни, творчества, и мы должны помочь детям в этом. Фактически и жизнь и школа давяще действуют на эмоциональную жизнь ребенка, и тяжелый надлом, потускнение эмоциональной жизни, общее понижение творческих сил являются и в наше время неизбежным спутником вступления в школьный возраст…
Нам осталось еще познакомиться с религиозной сферой ребенка, — на этом мы закончим знакомство с высшей духовной жизнью его.
23Buhler-Op. cit. S.320.
199
ГЛАВА XI.
Религиозная жизнь ребенка. Принципы религиозной психологии. Общие черты детской религии. Детские религиозные представления; религиозная активность у детей. Детская фантазия. Развитие ее понимания в современной психологии детства. Детская ложь, ее социальные корни. Настоящая ложь, ее формы. Анализ «псевдолжи».
Как моральная, эстетическая, так и религиозная жизнь в нас образует особую сферу духовной жизни, целостную, единую, определяемую особой установкой, — в силу чего религиозная жизнь находит свое выражение как в чувствах, так и в работе ума и в активности. Конечно, сердце религиозной жизни, ее движущая сила находится (как и в моральной и в эстетической сфере) — в чувствах, ибо они одни придают религиозным процессам в нас начало жизни. Есть не мало людей, мысль которых, в силу самых разнообразных условий, занята религиозными темами; есть люди, поведение, активность которых заполнены выполнением религиозных обрядов, но если не теплится в их душе огонь религиозного чувства, — в них нет религиозной жизни. И, наоборот, где есть религиозное чувство, там есть религиозная жизнь, в каких бы скромных размерах ни выражалось влияние этого чувства на сферу ума или активности. Быть может, существует даже известный контраст между преимущественным развитием ума или чувства в религиозной сфере, благодаря чему те, кто много говорят или пишут о религии (богословы), часто бывают лишены непосредственного религиозного чувства — и, наоборот, мистики, все те, в ком развитие религиозного чувства достигает высокого напряжения, не любят говорить о своих переживаниях. Но, конечно, наличность такого контраста не является типичной и необходимой. Одно несомненно — чувство является сердцем религиозной жизни, ее живым средоточием, благодаря чему все то, что ослабляет религиозное чувство, объединяет и ослабляет в нас религиозную жизнь.
Изучение религиозной жизни ребенка очень трудно й здесь существует некоторая аналогия с теми трудностями, какие встречают нас при изучении первобытной религии. Хотя наши дети выростают в атмосфере религиозной традиции, но в то же время они проходят некоторые естественные ступени в этом своем вростании в полноту религиозной традиции. Религия имеет глубокие корни в душе человеческой, и, помимо влияния внешней обстановки, традиции, душа детская, как и душа первобытного человека, тянется к горней сфере, ищет ее. При характеристике детской религиозности, помимо малой изученности этой
200
стороны детства, мы встречаемся еще с тем чрезвычайным затруднением, что психология религиозной жизни вообще остается все еще слабо разработанной, несмотря на огромную литературу, появившуюся в данном направлении в последние 2—3 десятилетия. Здесь не место входить в подробности1, я остановлю внимание читателя лишь на том, что, с моей точки зрения, важно для понимания религиозной сферы в нас.
Основным религиозным чувством является непосредственное чувство Бога, живое ощущение Его близости, переживание встречи души с Богом. Всякая душа по своему переживает эту встречу и — что еще важнее — по своему осознает и понимает свой религиозный опыт. Как отметил впервые Джемс в своей превосходной книге — О многообразии религиозного опыта, — существуют глубокие индивидуальные различия в том, как переживают люди свои встречи с Богом; религиозное чувство таит в себе нечто музыкальное, что трудно передать словами. Но, помимо этой невыразимости религиозных чувств, они имеют различный характер в своем содержании. Страх, любовь, надежда, ощущение греховности, смирение, восхищение — все это может быть уподоблено тем цветам, на которые разлагается, проходя сквозь призму, белый луч: так и религиозное чувство, проходя сквозь призму нашей психики, приобретает различный характер, различное содержание и направление. Неверно было бы думать вместе с Шлейермахером и его бесчисленными последователями, что основное религиозное чувство состоит в переживании зависимости от Бога: одно из конкретных содержаний религиозного чувства принимается здесь за основное. При общей характеристике религиозных переживаний существенно отметить лишь два момента: чувство Бога, как идеальной сферы, как Силы и Разума, и сознание нашей связи с горней сферой.
Современная религиозная психология выдвигает два принципа, которые определяют разработку основных психологических проблем в данном направлении. Первый принцип — биологическое толкование религиозной жизни, т. е. признание того, что религия в нас есть жизненная сила, играющая в нашей жизни огромную роль, представляющая огромную жизненную ценность. Наблюдение фактов sine ira et studio приводит нас к тому, что, независимо от наших верований, от внутреннего отношения нашего к христианству или другим религиям, мы должны признать, что всякая религиозность является влиятельнейшей психической силой, окрашивающей всю нашу личность, что религиозный опыт, религиозная жизнь имеют не побочное, а основное место в системе души. Религиозная жизнь в нас имеет глубо-
--
1 Главные книги по психологии религии:
James — The varieties of religions experience; Starbuck — The psychology of religion; L e u b a — The psychology of religion; Сое — The spritual life; Flournoy— Les principes de la psychologie religieuse; Sabbatier— La philosophic de la religion; W о fa-be r m i n — Die religionspsychologische Methode; Ocsterreich — Einfuhrung in die Religionspsychologie; M a i e r — Psychologie des emotionalen Denkens; W u n d t — Volker-psychologie. Bd. IV—VI; M u 11 e r-F reienfels — Psychologie der Religion; Н. М. Боголюбов— Философия религии. Т. 1. См. также В. В. Зеньковский — О методе в религиозной психологии.
201
кую тенденцию стать в центре нашей жизни, нашей личности, стремится окрасить и нашу активность и наши восприятия и понимание действительности. В то же время, согласно другому — феноменологическому принципу современной религиозной психологии, развитие религиозной жизни в нас должно быть описываемо так, как это определяется внутренним опытом, независимо от нашей «веры» или «неверия». Феноменологический принцип требует чистого описания того, что находим мы в опыте; поэтому, если диалектика религиозного развития в нас психологически не может быть описана иначе, как взаимодействие души с Богом, то это само по себе еще не утверждает бытия Бога, как Трансцендентного Начала. С феноменологической точки зрения наша религиозная жизнь является не монологом, а живым диалогом — беседой, иногда и «борьбой» с Богом.
Современная религиозная психология твердо устанавливает и то, что религиозные переживания всегда ищут своего социально-психического выражения, что и выводит религиозную жизнь за пределы индивидуальных переживаний и создает всегда «церковь» (в психологическом смысле слова). Вне культа невозможна никакая религия, а культ есть явление социально-психическое; в этом смысле существует у всех народов «натуральная церковь» до той «благодатной церкви», о которой учит христианство.
Если глядеть на религиозные переживания как на коренную и непроизводную функцию нашего духа, если отбросить те поверхностные и грубые точки зрения, которые видят в религии создание страха (timor fecit deos, гласит известное изречение Лукреция2) или простейшую форму объяснения мира, простейшую метафизику, — тогда для нас будет ясен глубокий внутренний смысл религии, как формы нашей установки, формы нашего опыта. Религия, как психическая функция, не может быть устранена из души человека; человек, теряющий «веру», не теряет потребности в религии и часто, по словам Достоевского, «верует» в свое «неверие». В современном обществе, в котором так сильно распространено безверие, психическая потребность религии удовлетворяется целым рядом суррогатов. Эта психическая неустранимость религии лучше всего свидетельствует о том, что религия является глубокой и внутренне необходимой функцией нашей души.
Если мы обратимся к изучению детской религиознной жизни, то необходимо на первый план выдвинуть то, что общее отношение ребенка к действительности носит, как мы уже говорили мифологический характер. Весь мир полон для ребенка жизни — часто недоступной, таинственной, и это относится столько же к ближайшей действительности, сколько и к тому, что находится за пределами опыта. Детская мифология вместе с тем антропоцентрична и антропоморфна: личность ребенка, его близкие стоят в центре всего, толкование жизни, разлитой вокруг ребенка, окрашено тем, как понимает дитя людей. Даже неподвижным и мертвым вещам дитя приписывает те же чувства, те же стремления, какие оно находит у себя,
--
2 В современной психологии на этой грубой точке зрения стоит Эббинггауз.
202
у других людей. Если бы дитя не слышало от взрослых о Боге, оно бы инстинктивно искало своей мыслью центр и средоточие мира, Хозяина и Господина — Отца и Вседержителя. Отсюда, из этого корня растет то, что можно назвать своеобразной «естественной детской религией».
Примитивная детская мифология незаметно открывает детское сердце для восприятия Божества; дитя живет долго, так сказать, музыкальной стороной этого восприятия, сердцем своим устремляется «горе», хотя сознание детское не оформляет этих переживаний и даже не нуждается в этом некоторое время. Развитие и расширение мифологического понимания природы, загадка появления новых существ и исчезновения прежних, загадка рождения и смерти наростают в сознании ребенка раньше, чем детский ум овладеет идеей Бога, как Творца и Вседержителя: непосредственное чувство с такой силой наполняет детскую душу сознанием «смысла» в бытии — этой основной интуицией религиозной, интуицией простейшего аспекта Божества, что оформление идеи Вседержителя в детском уме лишь заканчивает процесс, шедший в душе. Когда начинается этот процесс интеллектуализирования религиозных чувств, тогда дитя, примыкая к тому, что узнает от окружающих, само начинает создавать религиозные образы. Обыкновенно мы идем дальше того, что в состоянии охватить дитя, еще «не умеющее богословствовать», по замечанию г-жи Шинн. Сплошь и рядом родители сообщают детям такие религиозные понятия, которых они не воспринимают или слабо воспринимают, — как нередко в наше время впадают и в другую крайность — ничего не сообщают детям, воображая, что оставление детей в религиозной пустыне будто бы охраняет «естественное» развитие души. Целый ряд особенностей детской религиозности объясняется как раз влиянием среды, нередко искажающей то, чем живет душа ребенка. Так, нередко родители превращают Божество в детских глазах в какую-то карательную инстанцию; родители учат не любви к Богу, развивают не творческое устремление детской души к Тому, Кто все дал и все сохраняет, а развивают страх перед Богом. Этот момент узкого утилитаризма в религиозном влиянии среды на детскую душу необычайно вредно отзывается на ней и, между прочим, имеет своеобразное отражение и в детской религиозности. Нередко дети узкоутилитарно глядят на молитву, и на этой почве рано или поздно развивается глубокий религиозный кризис. Будучи христианами, мы вносим нередко в детскую душу дохристианское понятие о Боге—Судии; тайна Божьей Любви, безмерной и прощающей, остается часто закрытой от детской души благодаря этому. Не следует забывать, что дитя склонно и само, не в движениях сердца, но в работе своего маленького ума — к дохристианскому понятию о Праведности в Боге, склонно к формализму и «юридизму», — и это связано и с слабым пониманием чужой и собственной души и отсутствием опыта страданий, впервые уносящих нас к Божественной Любви. Христианская среда должна была бы расширять эту натуральную узость детского сердца, а не укреплять ее, как это часто происходит в наших семьях.
203
Детское сердце вовсе не является религиозно тусклым, — наоборот, оно носит в себе живое чувство Бога, но мы не умеем играть на этом дивном инструменте — на детском сердце, не умеем извлекать из него гимн Божеству, который бессознательно поет дитя в глубине своей чистой души. Высокая религиозная настроенность детской души имеет вокруг себя такую холодную религиозную атмосферу нашего времени, такое религиозное одичание, что не должно удивляться тому, что этот источник высшей духовной жизни часто засоряется. Обыкновенно наши дети довольно ране теряют свою религиозную отзывчивость, и причина этого лежит в нашей безрелигиозной жизни, в нашем жизненном материализме, в нашем стремлении жить без Бога. Религиозная одаренность детской души, не получая необходимого для нее питания, постепенно растрачивается и слабеет. Когда расцветает в детской душе дивный цветок религиозной поэзии — кто это наблюдал, тот знает, как поэтична и прекрасна детская «наивная» религия, — то затем этот цветок быстро вянет, ибо ему недостает необходимого света и теплоты. Движения детской души не встречают отзвука, не поддерживаются, не укрепляются ответным религиозным огнем. В результате этого слабеет и гаснет основное религиозное чувство, и на месте его возникают разные мелкие, поверхностные, суетные и суеверные переживания. Как от большого дерева растет мелкая поросль, так и в нашей душе, когда бледнеет основное религиозное настроение, — появляются в душе мелкая поросль, мелкие и суетные религиозные чувства. Мы не можем с полной ясностью проследить этот процесс, ибо он является слишком внутренним и само дитя не отдает себе отчета в нем, но есть все основания думать, что уже в раннем детстве появляется та роковая «трещина» в душе, которая отделяет и отдаляет высшие чувства от реальной жизни и тем ослабляет их.
В религиозной установке детского сердца, конечно, нет место никаким сомнениям — детские религиозные переживания непосредственны, музыкальны, неясны, но дитя ощущает мир как живое целое, которым руководит любовно и заботливо «Отец». Семья является прообразом простейших этических и религиозных концепций; из нее берет образы не только дитя, но и зрелое человечество, чтобы осмыслить и выразить то, что наполняет душу невыразимым чувством, звучит в ней непередаваемой музыкой. Образ Отца Небесного, который все направляет и все сохраняет, наполняет душу детскую такой тишиной и сладостью — и здесь источник детской радости и беззаботности, здесь питание творческого одушевления, наполняющего дитя. Очень интересно наблюдать за детскими молитвами — в них есть удивительная красота и умилительность для нас: пусть молитва в своих словах, в своем «содержании» подсказана взрослыми, но дитя вносит в эти чужие слова свою душу. И сколько нежности, чистой любви, трогательной простоты вкладывают дети в свои молитвы! Конечно, дитя обычно знает, под влиянием окружающей среды, не только это доверчивое и сердечное обращение к Богу, но и страх перед Богом, но почти всегда это имеет свой корень в нас. Религиозные представления детей, слагающиеся под нашим влиянием, лишь усиливают форма-
204
лизм и «юридизм» детского ума — и это постепенно отстраняет в душе то, что шло от сердца.
Один автор3 развивает ту мысль, что детская религиозность имеет более мистический, чем эмоциональный характер; первое детство, согласно этому автору, окрашено религиозным мистицизмом, связано с примитивным детским супранатурализмом; лишь второе детство и отрочество дает место религиозному чувству. Я не могу согласиться с этим, так как детский мистицизм и супранатурализм, о котором говорит данный автор, в значительной степени есть не что иное, как те детские мифологемы, о которых нам не раз приходилось говорить. «Религиозное» же в детской душе оформляется именно в чувствах — неясных, но зовущих и одушевляющих дитя, — и от этих чувств зреют религиозные силы, развивается религиозная функция в детской душе. Конечно, дитя имеет свой мистический опыт, оно живет в непосредственных встречах с горней сферой, как бы метафизически ближе к Богу, чем мы, — но ведь детское сознание этим не владеет, лучи, идущие из горнего мира, проходят почти бесследно сквозь детскую душу, не имея точек опоры в детском сознании. Пусть детям слышнее «музыка сфер», пусть доступнее для них небеса, пусть в связи с этим дитя исполняется радостного и творческого влечения ко всему, любит весь мир, как бы ощущает его жизнь и его центр — Отца Небесного, но это только и оформляется в форме чувств, музыкальных, зовущих, но невыразимых. Детские мифологемы, конечно, связаны с этими чувствами, но они лишь в очень слабой степени передают то, что открыто детской душе. Поистине, их мифологемы — это больше примитивная метафизика, гадания, фантазии о мире, чем богословие, чем оформление в словах того, чем полнится детская душа.
Обратимся к характеристике детских религиозных представлений. Надо тут же отметить, что ни одна сфера духовной жизни не дает такого значительного места представлениям, скажем шире — интеллектуальному моменту, как религия, и это психологическое своеобразие религиозной сферы мы находим и у детей. К сожалению, мы обладаем очень скудным материалом для характеристики детских религиозных представлений4. — Заметим прежде всего, что чем богаче какая-либо религия образами, тем она доступнее и ближе детской душе, тем более глубоко воздействие на нее такой религии: дитя не может обойтись без религиозных образов, и если мы не будем давать ему образов Божества, оно само создаст их. Тот процесс, который нашел свое лучшее выражение в истории буддизма, где эта религия без Бога очень скоро в народном сознании обросла религиозными образами, обратила Будду и его учеников в божественные личности, — этот процесс неизменно совершается и у детей, если только им не сообщают родители
--
3Grunwald — Padagogische Psychologie. Berlin. 1921. S. 375—376.
4 Вот главная литература по религиозной психологии ребенка:
Buchmuller — Der Knabe als religiose Personlichkeit; W e i g 1 — Kind und Religion;
В о 11 g e г — Kind und Gottesidee; Schreiber — Der Kinderglaube; Vorwerk — Kindergebet und Kinderpsychologie; С е л л и — Очерки по психологии детства; Grun-wa l d — Padagogische Psychologie (§§ 36—39).
205
религиозных образов. Если мы будем говорить ребенку о Боге, но не будем сообщать ему конкретного образа Спасителя, если дитя усваивает нашу мысль о Боге, но не имеет ясных образов Божества, то оно само создает эти образы. Кто не знает, что всякая религия распространяется не благодаря своим идеям, а благодаря своим образам, привлекающим к себе сердца, а не ум людей? И у взрослых людей в их религиозной жизни образам принадлежит главное место, у детей же эта сторона выражается ярче и сильнее. Та религия действует более воспитательно, которая обладает большим количеством образов; религия без почитания икон действует слабее, чем религия, связанная с почитанием икон. Вспомним дивный образ Лизы Калитиной и развитие у нее религиозных чувств под влиянием рассказов ее няни…
Не имея большого материала для суждений о детских религиозных представлениях, мы можем сказать, что детские религиозные представления и понятия — схематичны, пожалуй даже грубы. Мы говорили уже, что дитя больше видит в Боге Судию, начало Правды, чем Любовь, чем начало нежности и милосердия — говорим не о том, чем дышит детское сердце, ао том, как мыслит детский ум. В Исповеди Гоголя находится всем известный рассказ о том, как его мать, когда ему было 4 года, рассказала ему о Страшном Суде. Рассказ этот запал в душу Гоголя; семя долго лежало, казалось, без всяких признаков жизни в глубине души, — но пришла пора, и оно взошло пышным цветом и глубоко отразилось в религиозных исканиях Гоголя. Этот факт красноречиво говорит о том, как глубоко врастают в детскую душу религиозные образы.
Несомненная и глубокая ошибка обычного религиозного воспитания заключается в том, что оно слишком рано интеллектуализирует религиозные переживания ребенка, вернее говоря — сообщает идеи, до которых не доросло еще в своем развитии детское сердце и которые потому живут в душе как абстракции, как пустые формулы. Одно дело — религиозные образы, другое дело — религиозные идеи; в первых дитя нуждается, и, чем они доступнее, яснее, тем сильней их власть над детской душой, — до вторых дитя должно еще дорасти. Религиозные образы необходимы для выражения религиозных переживаний — такова их функция; вот отчего нет лучшего воспитательного материала, чем рассказы об Иисусе Христе, о Его Матери, о святых.
Необходимо отметить, что влияние религиозной среды на детскую душу не ограничивается внесением указанных религиозных образов; помимо этого общество, обладающее тайным фондом былых, дохристианских верований, живущих и доныне в современной душе (в виде разных «суеверий»), — прививает и их детской душе. Через сказки (преимущественно) в душу детскую входит целый мир побледневших былых верований, которые, попадая в детскую душу, находят в ней точку опоры и задерживаются. Я хорошо помню из своего детства, что, когда мне было 4 года, няня рассказывала мне сказки, в которых действовали выходцы с того света и разные страшилища. Помню и доныне, с каким волнением и замиранием слушал я (обыкновенно в сумерки) эти рассказы… Странная образовалась у меня тогда ассоциа-
206
ция — с этими рассказами спаялось в душе воспоминание о ворковании голубей. Много прошло уже времени, но и доныне, когда я слышу воркование голубей, душу мою наполняет жуть и тягостное напряжение — словно слышится в этих звуках таинственная, загробная музыка, от которой сжимается сердце… Суеверия, «подземная» религия живет и доныне и в народе и в культурных слоях общества, — и теми или иными путями она проникает и в детскую душу.
Мы говорили о схематизме детских религиозных представлений; упомянем еще об их симплицизме, об упрощенности всего более сложного и глубокого. Именно эти черты требуют сугубой осторожности при религиозном воспитании, так как у детей легко возникают настоящие кризисы. Я говорил уже о том, что элементарный религиозный утилитаризм, влияющий на религиозное восприятие (мы устрашаем детей Богом, угрожаем Им), вызывает и у детей упрощенное представление о связи нашей с Богом. Нередко у детей можно констатировать такое представление о молитве, что Бог должен исполнить всякую молитву; превращение детской молитвы в просительную молитву вообще мало отвечает детской беззаботности, поэтому проходит часто без опасного влияния на религиозную жизнь. Но иногда, у сосредоточенных и напряженных детей, отсутствие немедленного результата молитвы вызывает резкое религиозное охлаждение и отзывается в душе долгим потускнением религиозного чувства.
Что касается религиозной активности детей, то, беря для ее характеристики примеры из окружающей нас жизни, можем сказать: детям вначале совершенно чужд тот дух компромисса, который столь характерен для современного христианского общества, верования которого столь далеки от его жизни. Детская вера является цельной, — дитя легко и радостно выполнит то, что подскажет ему вера, со всей серьезностью и искренностью следует за голосом своего сердца. Но жизнь, которую находит вокруг себя дитя, не терпит и не ищет цельности, она не только не соответствует господствующим верованиям, но часто резко противоречит им. Дитя не может не замечать этого разлада, этой двойственности, не может не дышать этим отравленным воздухом, — и в душу его незаметно проникает ядовитый религиозный дуализм. Нечего удивляться поэтому, что религиозная активность у детей столь мало является творческой, так мало проявляет религиозную энергию ребенка и так легко укладывается в ряд привычных действий. В то время как эстетическая жизнь ребенка ярко окрашена творческим напряжением, в то время как моральные переживания окрашивают жизненную активность ребенка, — его религиозные переживания рано приобретают какой-то пассивный характер, словно не ищут своего выражения в активности. Конечно, это не может быть признано нормальным, ибо эмоциональная сфера всегда ищет того, чтобы окрасить собой активность. Если же религиозные переживания становятся такими бессильными и бледными, словно нежный цветок, растущий при слабом свете, если впоследствии они становятся такими неустойчивыми и хрупкими, то за этим стоит какое-то преждевременное увядание или
207
недоразвитие. Мы знаем, что именно религиозные переживания в сильнейшей степени обладают тенденцией стать центральными и окрасить собой весь наш внутренний мир, поэтому было бы естественно ожидать при развитии детской религиозности повышенной и яркой религиозной активности, что в редких случаях и наблюдается. Фактически же мы, взрослые, употребляем все усилия к тому, чтобы ослабить самый тон религиозной жизни в ребенке, чтобы оттеснить ее вглубь души, сделать бессильной, бесплодной, — и делаем мы это больнее всего и больше всего для детской души своей жизнью. С другой стороны, мы спешим уложить порывы детской души в известные формы, — религиозное воспитание совсем еще чуждо внимания к тому собственному вростанию ребенка в мир религиозного творчества, которое мы охраняем при регуляции, например, эстетической жизни ребенка. Может быть, охлаждающее влияние наше на детскую религиозную жизнь имеет и свою хорошую сторону — ведь что бы делало дитя, если бы, входя в жизнь, оно сохраняло пыл религиозных устремлений, творческий порыв к религиозной активности, для которой нет и самого скромного места в современной жизни, в современной культуре? Я не буду входить в эту тему, далеко выводящую нас за пределы психологии детства, и ограничусь лишь общим указанием, что в религиозном развитии ребенка его творческая энергия, творческие порывы исчезают бесследно, и религиозная активность рано застывает в формах привычных, извне воспринятых действий…
Характеристикой детской религиозной сферы мы заканчиваем изучение высшей духовной жизни ребенка, а следовательно и всей эмоциональной сферы его; нам необходимо еще сказать несколько слов о детском воображении, исходя из того положения, что воображение есть орган эмоциональной сферы. Изучение детского воображения, детского творчества должно единственно проложить надежный путь к пониманию детской эмоциональной сферы. Если изучение эмоциональной сферы трудно и у взрослых, — во сколько же раз оно труднее в отношении детей! К детской душе особенно хочется приложить слова одной из сестер в драме Чехова — Три сестры, — которая говорит, что душа ее как запертый рояль, ключ от которого потерян. Мы знаем, мы глубоко чувствуем, что там, в глубине детской души, есть много прекрасных струн, знаем, что в душе детской звучат мелодии — видим следы их на детском лице, как бы вдыхаем в себя благоуханье, исходящее от детской души, — но стоим перед всем этим с мучительным чувством закрытой и недоступной нам тайны. Прекрасна, притягательна, детская душа, но как мало доступна именно в своих эмоциях, в этой внутренней музыке, звучащей в детской душе! Мы можем «вживаться» в детскую душу, — и именно в моменты наивысшего подъема в нас этого вживания мы с болезненной ясностью сознаем, как далеко стоим мы от детей… Эта невозможность прямым путем проникнуть в мир детских чувств делает особенно важным изучение детского воображения — через которое мы можем надеяться заглянуть и в сферу чувств ребенка.
208
Мы знаем, что некоторые психологи говорят о бедности детского воображения, исходя из чисто формального анализа продуктов детского творчества. Мы говорили уже, что это мнение ошибочно; конечно, правильно давно выраженное противоположное мнение — что мир детской фантазии необычайно широк и богат. Действительно, участие фантазии приходится отмечать всюду в жизни ребенка — и особенно это приходится говорить при изучении главной формы детской активности — игр. Самый факт широкого развития воображения в детской душе, можно сказать — его господства сравнительно с интеллектом не вызывает поэтому никакого сомнения. Нередко этот факт объясняют тем, что детский интеллект очень слаб и не развит, благодаря чему — так говорит это мнение — фантазия и играет такую роль в детской жизни, слабея по мере того, как растет и крепнет критическое чутье, работа ума. Но, разумеется, совершенно невозможно видеть причину развития воображения у детей в каком-либо психическом дефекте, — должен же быть какой-то положительный корень этого. С той точки зрения, которую мы развили раньше и согласно которой работа воображения состоит в психическом выражении чувств, в интеллектуализации и уяснении их, широкое развитие воображения у детей, при ярком расцвете у них эмоциональной жизни, не представляет ничего загадочного. Я позволю себе задержать внимание читателя на том, как приближается ощупью современная психология детства к правильному пониманию этого.
Традиционная точка зрения на воображение нашла свое лучшее выражение в современной психологии у Гроса. Любопытно, что тот самый Грос, которого мы прославляем как лучшего современного психолога детства, как создателя ее основных принципов — ибо лишь благодаря Гросу стал нам понятен смысл детства и его основное содержание, — что именно Грос не понял природы детского воображения. Часто Грос как бы приближается к более глубокому пониманию его, — особенно любопытно в этом отношении установленное им понятие «сферы переживаний», окрашенных какой-либо эмоцией5, — это понятие Грос приближает в дальнейшем к характеристике работы фантазии — именно, к так называемым «грезам». Особенное значение придает он «грезам наяву», которые, по его мнению, ближе стоят к художественной фантазии, чем к грезам во сне, и которые более распространены, чем это обыкновенно думают. «Значительное большинство людей, — пишет Грос, — и детей и взрослых, глубоко прячут в своей груди тайные движения эти; иногда люди могут долго находиться в интимном общении любви или дружбы, не выдавая ни одним словом скрытые грезы свои, к которым они ежедневно возвращаются, но ключ от которых они не вверяют никому»6. В этой характеристике грез, их связи с интимными, закрытыми чувствами Грос приближается к развитому нами пониманию фантазии, как органа эмоциональной сферы — ведь от грез до настоящей фантазии один только шаг. Вместе с тем Грос различает в работе фантазии две функции — «создание иллюзии»
--
5 G г о s s — Das Seelenleben des Kindes. S. 111.
6 Ibid. S. 151.
209
(что приближает работу фантазии к эмоциональной сфере) и создание образов — помощью комбинации (что и дает начало термину «комбинирующая фантазия»). Если бы Грос глубже вошел в анализ первой функции фантазии, в связи с своей теорией игры, он лучше понял бы невозможность оставаться при традиционном понимании воображения, — во всяком случае в книге его имеются уже симптомы приближения к эмоционалистическому толкованию воображения. Кроме приведенных выше мест, очень любопытно все то, что мы находим в главе его книги — Die Illusion und die bewusste Selbsttauschung; здесь Грос примыкает во многом к Мейнонгу, о работе которого «Annahmen» мы говорили раньше при характеристике новой теории воображения. Правда, Грос не хочет ставить «Annahmen» в центр объяснения проблемы фантазии, но он признает существенное их участие не только в играх, но и при слушании ребенком сказок7. Но все это только симптомы разложения у Гроса традиционного понимания воображения; в основной же главе книги, посвященной фантазии, Грос всецело стоит на этой традиционной точке зрения. Анализируя работу фантазии, как функцию интеллекта («способность комбинации, — пишет он, — опирается на законы ассоциации»8), Грос изучает три формы работы фантазии: 1) преувеличение и преуменьшение, 2) отделение отдельных черт от комплекса и 3) создание из отдельных образов более сложного комплекса образов. Характеризуя первую форму работы воображения, Грос дает интересный пример: «у меня тридцать пуль, — говорило одно дитя, — нет, пятьдесят! нет, сто! нет, тысяча!». «Я видела бабочку, — говорило другое дитя, — величиной с кошку, нет — такую, как дом!». Грос и сам видит здесь влияние нескольких чувств9 и даже говорит осторожно, что «творческая работа фантазии может протекать и независимо от воли», намекая даже на руководящую роль чувства при этом. Подводя, однако, итоги общему анализу детской фантазии, Грос приходит к выводу, что регуляция работы фантазии10 исходит если не от отдельного образа, то от идеи, которую тут же Грос характеризует, как «комплекс образов»11. Еще ярче и определеннее эта точка зрения выражена у Селли, который считает, что в работе фантазии определяющей силой является образ12. Те психологи, которые свободны от преувеличений в этой области, сосредоточивают свое внимание на формальной стороне в работе фантазии — это относится, например, к Штерну, посвятившему несколько прекрасных страниц анализу фантазии, но не углубившемуся в ее проблему, и особенно к Мейману13. У последнего особенно ясно видно, что сосредоточение на формальной
--
7 Ibid. S. 183.
8 Ibid. S. 146.
9 Ibid. S. 147-148.
10 Штерн применяет к фантазии плодотворное понятие «детерминирующей тенденции», выдвинутое впервые Н. Ахом. См.: Stern — Psych, der fruhen Kindheit. S. 191.
HGroos-Op. cit. S. 50.
11 Сначала Сикорский стоял на той же узко-интеллектуалистической точке зрения, вызвавшей возражения со стороны Perez, Rayneri, Colozza, но потом он отошел от этой точки зрения.
13 См.: Meumann — Vorlesungen… Bd. I. 2-ое изд. 1916. S. 178—205.
210
стороне в работе фантазии, можно сказать, удаляет нас от проблем ее, как бы ограничивает горизонт психолога.
Значительно глубже и тоньше анализирует фантазию Бюлер, развивающий свою точку зрения в связи с изучением сказок. Общее заключение Бюлера таково: «основная схема работы фантазии не состоит в диссоциации и вариирующей потом ассоциации образов»14. Тайна детской фантазии, по Бюлеру, состоит не в комбинации элементов, а в творчестве аналогий. Хотя и Бюлер отводит много места чисто формальному анализу, но центр тяжести лежит у него не в этом. Открытие смысла в работе ассоциации (в противовес чисто внешнему ассоциированию элементов, согласно господствующей теории), открытие внутренних мотивов в построении образов фантазии («аналогия»!) намечает уже новую перспективу в понимании фантазии. Не забудем, что согласно развитой выше теории фантазии, она есть не что иное, как эмоциональное мышление; поэтому открытие смысла в работе фантазии15 и не позволяет трактовать фантазию, как функцию памяти, как простое комбинирование элементов. Но если в работе фантазии обнаруживается «смысл», тем настойчивее выступает необходимость указать источник «детерминирующей тенденции» в ней. Фантазия не может быть формой познавательного мышления, а в то же время она идет к раскрытию «смысла», к построению «идей» — и это значит, что фантазия является новой и своеобразной формой мышления.
Еще дальше указанных авторов пошел К1 о s e в своей небольшой, но хорошей книжке — Die Seele des Kindes (1920), — Клозе еще ближе подошел к защищаемой нами теории. Указывая на различие снов и сказок, Клозе пишет: «при слушании сказок дитя не видит непременно образы сказки с особенной живостью, — работа фантазии у ребенка устремлена в это время не на самое представление (Das Vorstellen), а на «вживание» и «вчувствование» (Einleben und Einfuhlen). При слушании сказки дитя переживает не пеструю смену образов, а ряд чувств, аффектов, установок. Конечно, в потоке этих переживаний всплывают порой очень ярко отдельные образы, — но все же они имеют побочное значение… Созерцание (Anschauung) отступает перед вчувство-ванием»16. Самое предпочтение в сказках всего чрезвычайного, сенсационного, возбуждающего, возвышенного связанно с исканием эмоционального подъема. Клозе остроумно и интересно освещает, исходя из этого, известные формальные особенности детской фантазии17.
Конечно, Клозе прав. Для нас особенно любопытна его точка зрения, как симптом приближения современной психологии детства к тайне детской фантазии, к пониманию ее эмоционального корня. Конечно, в работе фантазии создаются образы, но образы не есть
--
14 В u h 1 е г — Die geistige Entwickelung des Kindes. S. 338.
15 К этому, как мы видели, подходит и Грос, но его слишком связывает традиционная точка зрения.
16 К1 о s e — Die Seele des Kindes. S. 75."Ibid. S. 76-77.
211
цель той работы, которую мы называем фантазией, а только средство. Дитя ищет выражения и уяснения своих чувств, и это достигается с помощью образов, которые питают чувство. Образы сказок, рассказов, стихи, рисунки, музыка — все это является как бы центром для оседания наших чувств, для их оформления в сознании — без этого они проходят нашу душу как бы сквозь сито и, падая в глубину души, мутят и тяготят ее. Нет ничего мучительнее того, когда какое-либо сильное, могучее чувство овладевает нашей душой и мы не можем, не умеем выразить его. Самое телесное выражение чувства опосредствуется психическим его выражением, — без слов, без музыки, без психического выражения чувство каким-то мучительным оцепенением сковывает тело — так бывает, например, при сильном горе, когда нет слез, когда словно все окаменело…
Я говорю тебе, певец: я слез хочу Иль разорвется грудь от муки…
(Байрон — Лермонтов).
Фантазия и стоит перед разрешением этой задачи, перед созданием образов, как бы вбирающих в себя чувства, как губка вбирает воду, — так нередко в каком-либо образе, в словах, в отдельном звуке для нас как бы воплощается и символизируется все наше чувство. Между прочим, здесь лежит, на наш взгляд, объяснение того странного в индивидуальной и исторической психологии факта, что в сказочных сюжетах, при общей вариации сюжета, неизменно иной раз сохраняются как раз мелочи. Да, это мелочи с точки зрения интеллектуального анализа содержания сказки, — но они могут вобрать в себя все главное эмоциональное содержание, стать его носителями. Не только у детей, но и в культурной истории человечества (в так называемой «миграции сюжетов») этот факт устойчивости побочных моментов выступает иногда с удивительной силой. Так и в жизни нашей, когда мы хотим быть верными традициям (ср. обычаи при свадьбах, при похоронах), мы особенно дорожим мелочами; так и в творчестве художников, при общем развитии их дарования, нередко стойкими и неизменными оказываются некоторые мелочи.
И в сказках, и в рисовании, и в играх, и в танцах, и в ленке, и в пении — всюду дитя ищет воплощения и выражения своих чувств. Оттого так много случайного в комбинации элементов образа — основным остается лишь то чувство, которое руководит творчеством и ищет через него своего выражения и питания. Вообще говоря, здесь имеет место своеобразная интеллектуализация чувства18 — ибо чисто музыкальная, невыразимая сама по себе сторона чувства как бы переводится на прозрачный и ясный язык интеллектуального материала. Всякий образ — звуковой и словесный, графический и пластический переводит волну наших чувств, их мелодию, которая звучит в нашей душе, — в ясные, как бы «застывающие» образы, отделяющиеся от та-
--
18 По этому тонкому и трудному вопросу см. новую книгу Мейнонга — Ueber die emotionale Presentation.
212
инственной, неизреченной глубины в нас. Эта «презентация» чувств, говоря термином Мейнонга, еще не означает того, что нами теряется основная эмоциональная установка, — мы не заняты еще представли-ванием образа, как таковым, а через созерцание его вступаем лишь в новую фазу эмоциональной жизни. Но вместе с тем те картины, которые рисуются перед нашим сознанием, вначале занятым не их созерцанием, а лишь использованием их для выражения чувства, приобретают как бы самостоятельное устойчивое бытие, вступают вообще в систему образов, в систему мыслей. Образы фантазии — это Annahmen, это картины возможного, желанного, страшного, радостного, — и эти картины, эти Annahmen, вызванные к жизни ходом эмоциональной жизни, становятся рядом с чистыми построениями ума, сами к ним тянутся по принципиальной близости к ним, — так именно и возникают детские мифологемы: в них сначала действует только фантазия, но затем они внедряются в сферу интеллекта, где приобретают новую и очень существенную функцию, создавая целую сферу мышления, которую мы можем характеризовать как гипотетическое мышление. Гипотетическое мышление с психологической точки зрения есть не что иное, как использование в целях и в путях познавательной нашей работы — Annahmen. По существу Annahmen связаны с сферой чувств и желаний, но их внедрение в сферу не только донаучного, но и научного19 мышления отводит им значительное место и в работе интеллекта. Эта сфера пограничных явлений лишь начата изучением, — и как раз для психологии детства она имеет огромное значение по своему значению для понимания игры20 и особенно для понимания особо трудного и в то же время очень важного по своему значению в судьбах растущей личности явления — лжи. Детская ложь более или менее уже понята в своем своеобразии, — для нас же это имеет особый интерес в связи с анализом детской фантазии. К характеристике лжи у детей мы теперь и обратимся.
Вопрос о детской лжи имеет большое и практическое и теоретическое значение. С практической точки зрения важно понять корень, функцию и условия лжи; хотя мы постоянно вносим сами ложь в нашу жизнь, не можем жить без ее, но мы хорошо понимаем ядовитое влияние лжи даже на взрослых, а тем более на детей. Правду сказать, мы не очень любим «наивных» детей, которые не умеют вовремя промолчать или даже утаить какую-либо истину, мы так явно бережемся таких детей, что дети скоро начинают понимать, чего нам нужно от них. Здесь как раз ясно выступает существеннейший факт в нашем вопросе — именно, что ложь у детей имеет не индивидуальный, а социальный корень. В нашей жизни ложь имеет вполне закономерное существование, является формой борьбы за существование, защитным приспособлением, весьма сходным с явлением мимикрии. Мы увидим, что в детской душе имеют место процессы,
--
19 Это вскрыл, правда акцентируя на других моментах, в своей большой работе — Philosophic des Als — О Файхингер.
20 И Грос, и Болдвин уделяют много места этому в своих трудах.
213
которые совсем не являются, в своей сущности, ложью, но которые, под влиянием социальных условий, становятся затем настоящей ложью. Эти процессы, сами по себе, могли бы развиваться и в таком направлении, что они никак не могли бы стать ложью, если бы тот социальный резонанс, который они порождают, не превращал их в ложь и не закреплял их в этом их свойстве. В силу этого мы можем сказать, что ложь у детей создается на социально-психической основе, что она имеет прежде всего социальную функцию. Когда социальное взаимодействие касается указанных психических процессов у ребенка, оно превращает их в ложь и этим оказывает глубокое влияние на их развитие — но, конечно, и здесь ставит свои границы. В социальных отношениях ложь необходима лишь в определенных границах; если угодно, наше воспитательное воздействие на детей, с одной стоуюны, вызывает ложь, как социальную силу, как средство самозащиты, с другой стороны, оно же указывает и границы лжи. Есть социально-полезная сторона во лжи, но есть и социально-опасная, и мы ждем от детей, что они усвоят одну и уберегутся от другой, научатся прикрытию лжи и не утеряют чувства правды. С одной стороны, под влиянием идеалов христианства, мы хотим в детях удержать и охранить их чистоту и правдивость, с другой стороны, не хотим совсем изгонять пробирающуюся в детскую душу ложь, так как это было бы опасно для детей. Мы инстинктивно хотим соединить и одно и другое — охранить детскую душу в ее светлых сторонах, с другой стороны, подготовить дитя к жизни. Здесь перед нами выступает одна из многих трагических сторон в современном воспитании: идеалы, без следования которым воспитание теряет свою внутреннюю силу, так далеки от жизни! Задача воспитания, с другой стороны, не заключается ли в том, чтобы ознакомить дитя с реальной жизнью, а не вводить в какой-то вымышленный мир? Пока нет в нашей жизни правды, пока далека жизнь от идеалов Евангелия, воспитание наше неизбежно будет отмечено таким мучительным и ядовитым дуализмом…
Вопрос о детской лжи не менее любопытен и с теоретической точки зрения, — это явление так сложно и темно, так много запутывает в детской душе. Проблема детской лжи действительно соприкасается с целым рядом основных вопросов психологии детства.
В известном своем этюде о детской лжи Ст. Холл различает пять видов ее: 1) «героическая ложь», где ложь является, по выражению Ст. Холла, «средством для благородных целей»; 2) «партийная ложь», когда дитя лжет вследствие своих личных отношений (симпатии или антипатии) к кому-либо; основное положение здесь может быть формулировано известным афоризмом — «правда для друзей и ложь для врагов»; 3) «эгоистическая ложь», продиктованная какими-либо личными интересами. Школьные болезни детей, к которым они прибегают как к защитному средству в трудных положениях, служат хорошим примером эгоистической лжи; 4) «фантастическая ложь», когда дитя выдумывает из чистой любви к выдумке — например, чаще всего в игре, нередко и само веря своим выдумкам, — и, наконец, 5) «патологи-
214
ческая ложь», в основе которой лежит чисто патологическая потребность обманывать себя и других, возбуждать себя вымышленными историями. Из перечисления этих видов лжи легко убедиться, что во всех этих случаях — кроме лишь четвертой формы («фантастической лжи») — мы имеем дело с настоящей ложью. Но объем тех фактов, которые мы должны анализировать, шире того, что дает нам Ст. Холл, и это нам станет ясно, если мы точно определим понятие лжи. Под ложью мы должны разуметь заведомо лживые высказывания с целью кого-либо ввести в заблуждение: мы имеем здесь три основных момента, одинаково необходимых для того, чтобы была возможность говорить о лжи, — ложное (в объективном смысле) высказывание, сознание того, что это высказывание ложно, и. наконец, стремление придать заведомо ложной мысли вид истины, стремление ввести кого-либо в заблуждение.
Что касается первого момента — отсутствия истины в наших высказываниях, — то, конечно, он встречается и у детей и у взрослых очень часто, — у детей, по понятным причинам, конечно, в большей степени, чем у нас. Слабость внимания, неточности в восприятии, ошибки памяти, неверные выводы — все это помимо воли ребенка, вносит «ложь» (в объективном смысле слова) в суждения ребенка, — и эти невольные ошибки, которые дитя добросовестно признает за истину, кажутся нам часто случаями лжи — мы не верим чистоте и просто-душности детей, не верим тому, что они не замечают ошибок. Надо заметить, что дети особенно болезненно реагируют на то, когда им приписывают ложь там, где была невольная ошибка: когда ошибка вскрыта, дети понимают, что они неверно передали какой-либо факт, и у них, конечно, нет никаких способов доказать, что они были правдивы. Эта беззащитность, это бессилие доказать свою правдивость, очень болезненно переживаются детьми. Между сферой таких невольных ошибок и настоящей ложью Штерн21 вводит еще широкую сферу «мнимой лжи» или «псевдо-лжи» — и здесь именно заключается главнейшая часть того, что инкриминируется детям, как ложь.
Но обратимся сначала к «невольным ошибкам» детей. В своем исследовании высказываний22 Штерн нашел, что у детей 7-ми лет всякий третий элемент высказывания — ложен (объективно), между тем у детей 14-ти лет ложным является лишь всякий пятый элемент. Этот вывод Штерна очень характерно освещает факт естественных ошибок в детских высказываниях. Любопытно тут же указать, что из верных ответов детей только две пятых дают они сами, остальные три пятых добываются путем вопросов; при вопросах обыкновенно одна треть дает ложные ответы. Штерн нашел, что процент ошибок в ответах на вопросы в 5*/г раз больше, нежели при свободном рассказе! Очень любопытный факт, бросающий свет на источник «лжи» в детских речах… Интересно тут же отметить различие между
--
21 С. u. W. S t e r n — Erinnerung und Aussage in der ersten Kindheit. (Beitr. zur Psych, d. Aussage. F. II. H. II. S. 59).
22 W. Stern — Die Aussage als geistige Leistung und als Verhorsprodukt. (Beitr. zur Psych, d. Aussage. H. III).
215
мальчиками и девочками при развитии у них верности в их рассказах; вот диаграмма, суммирующая у Штерна его анализы:
Диагр. 5.
В этой диаграмме схематически воспроизведено очень существенное различие между мальчиками и девочками в возрасте от 7 до 14 лет. До 10 лет у девочек очень слабо развивается верность и точность в их высказываниях (Штерн видит причину этого в сильном развитии фантазии при отсутствии критицизма), а затем, начиная от 10 лет, девочки развиваются очень быстро и хорошо. Штерн как раз в связи с этим и устанавливает понятие «Prapubertatsperiode», чтобы зафиксировать известную замедленность в психическом развитии. У мальчиков этот «Prapubertatsperiode» лишь начинается к 10 годам, — до этого времени точность и верность в высказываниях растет у них очень сильно, а начиная с 10 лет растет слабо. Любопытно отметить еще два вывода Штерна, касающихся различия девочек и мальчиков: девочки в своих рассказах дают предпочтение «личным» категориям, мальчики, наоборот, — внеличным. Штерн полагает23, что это предпочтение личного перед внеличным есть выражение умственной отсталости, так как «личные» категории отвечают более низшей стадии развития. Второй интересный вывод Штерна заключается в том, что в отношении точности высказываний о цветах девочки, вопреки обычному мнению, стоять ниже мальчиков. Не касаясь второго вывода, который сам Штерн считает «неожиданным»24, скажем о первом, что интерес девочек к личностям, а не к вещам, конечно, не есть свидетельство умственной отсталости, а должен быть объяснен более глубокими особенностями в духовной жизни девочек.
Штерн проделывал опыты (по образцу тех, которые легли в основу его работы — Die Aussage…) над своими детьми 21/2 и 3-х лет. Уинч25 занялся такими же опытами над группой 3-х и 4-летних детей из детских садов. Липман и Вендринер26 такие же опыты проделали в детском саду над 6 мальчиками и девочками в возрасте от 4 до 6 лет. В этих опытах с особенной яркостью встает картина той неясности и неточности, которая имеется у малых детей.
Причины всех этих ошибок могут быть различны. Прежде всего не-
--
23 Работа Штерна (Die Aussage…) выпущена в 1904 году; с тех пор его взгляды на ступени духовного развития несколько изменились.
24 См. его собственные комментарии: Die Aussage… S. 142—143.
25 W i n с h — German Aussage-Experiments with English School-Children.
26 Beitr. zur Psych, d. Aussage. F. II. H. III.
216
обходимо указать на ошибки при восприятии: детское восприятие очень сильно связано с интеллектуальным типом, с типом высказывания. Г-жа Л е л е ш (Lelesz) изучала экспериментально связь интеллектуального типа с типом наблюдения, с высказываниями и нашла факт огромного влияния интеллектуального типа на ошибки при высказываниях27. Г-жа Лелеш дает любопытные цифры относительно некоторых форм интеллектуальной работы, имеющей связь с вопросом об ошибках; сосчитывая28 истинные высказывания, спонтанные ответы, общее число ответов, внушаемость, она получает следующую характеристику разных интеллектуальных типов:
1)у интеллигентного типа эта сумма = 300,8
2) у «описывающего» » » 262,2
3) у «истолковывающего» » » 207,9
4) у поверхностного » » 159,3
У интеллигентного типа сильнее выступает так называемая «самокорректура», что и имеет влияние на количество ошибок29.
Существенным источником ошибок в детских высказываниях является неточность памяти: помимо того, что при самом восприятии вкрадываются неточности, работа памяти вносит целый ряд изменений в то, что задерживается в душе. Формально говоря, мы имеем здесь дело с искажениями воспринятого материала, по существу же это не искажения, а переработка материала, который мы, однако, добросовестно принимаем за тождественный с тем, что мы воспринимали. Нельзя не выделить особо слабого развития сознания времени у детей. Даже дитя 4-х лет еще слабо различает время; когда оно говорит «недавно» или «давно», то в его устах это звучит очень неопределенно. Особенно хромает у детей локализация воспоминаний во времени; до известной степени воспоминания стоят как бы вне времени. Прошлое для ребенка — это некоторая темная глубина; лишь самые недавние события еще сохраняют некоторые временные взаимоотношения, а все остальное как бы плавает в каком-то хаосе. Между тем наши вопросы к детям очень часто связаны именно с точной локализацией во времени: мы, например, спрашиваем дитя, была ли у нас вчера г-жа N, и дитя с полной убежденностью отвечает «да», хотя г-жа N была значительно раньше.
При оценке ответов детей нельзя не учитывать и того существенно-
--
27 L е 1 е s z — L'orientation d'esprit dans le temoignage. Arch, de Psyech. T. XVI. 1914. P. 113-157.
28 Подробности ее рассчета — см.: Р. 155. Г-жа Лелеш в начале работы говорит о пяти типах, а затем сводит их к четырем (intelligent, decriptif, interpretateur, superficiel).
29 Г-жа Лелеш дает такие цифры относительно распределения различных типов:
1) Интеллигентный 29,8%
2) Поверхностный 27,4%
3) «Истолковывающий» 24,2%
4) «Описывающий» 9,8%
5) Амбициозный (ambitieux) 3,2%
6) Неопределенный * 5,6%
217
I
го факта, что дети не вкладывают в свои слова того именно содержания, какое вкладываем мы. Штерн справедливо указывает, что те выражения, которые в наших устах, для нас звучат как утверждения какого-либо факта, для ребенка совсем не являются проводником таких утверждений, а служат для выражения чувств и желаний. На этой почве возникает целый ряд недоразумений: мы вкладываем в слова детей не тот смысл, какой вкладывают в них дети. Не следует так же забывать о том влиянии на слова детей, какое имеют их интересы. Но особо должно подчеркнуть те ошибки в словах детей, которые связаны с влиянием внушения. Если вас спрашивают: «неужели вы не видели такого-то человека?», то в самом вопросе, в тоне, в каком он произносится, есть элемент внушения; вам начинает казаться, что вы и в самом деле видели данного человека… Штерн в своих опытах с высказываниями нашел, что внушаемость у детей 7-ми лет выражается в цифре 50%, а в 15 лет — 20%; эти цифры хорошо освещают всеми известную высокую внушаемость у детей до 7-ми лет, т. е. в раннем детстве. Дитя необычайно легко поддается внушению — лишь с ростом интеллекта развивается и критицизм, ослабляющий действие внушения. Штерн дает интересные примеры самовнушения у детей в возрасте 3—4 лет30.
Быть может, важнейшим источником «ошибок» в высказываниях детей является игра, но здесь мы уже переходим как раз в ту среднюю сферу, которую мы, вслед за Штерном, назвали «мнимой ложью» или «псевдо-ложью». Штерн, однако, слишком узко глядит на это явление — он думает, что здесь имеет место игра словами, но явление, к которому мы теперь подошли, конечно шире.
Мир «действительный» — объективный, неизменный, независимый от нас — для ребенка не вполне еще отделен от мира фантазии; если в отдельных пунктах дитя ясно сознает их разноприродность, то в других пунктах они незаметно переходят один в другой. К этому присоединяется и то, что «установка на игру» незаметно вплетается в реалистическую установку — от делового тона дитя незаметно для себя может перейти к игре. Именно в этих случаях дитя «играет» без мысли о том, что оно вводит нас в заблуждение, ибо мы сохраняем то отношение к действиям и словам ребенка, которое определялось его серьезной деловитостью. Надо непременно иметь в виду, при оценке поведения ребенка, его слов, что, кроме сознательной, нарочитой игры, дитя порой незаметно само для себя переходит к установке на игру. И в первом случае не может быть речи о настоящей лжи, — тем менее можно говорить о ней во втором случае: и здесь и там перед нами «мнимая ложь» (псевдо-ложь) — она кажется нам ложью, а в действительности не является ею, так как здесь нет цели обмануть, а есть цель поиграть. Конечно, дитя стремится к тому, чтобы мы принимали
--
30 S t e r n - Psych, d. fr. Kindheit. S. 294.
О внушаемости у детей см.: Baginsky— Ueber Suggestion bei Kindern. Ztschr. f. pad. Psych. 1901; Binetet Henri — La suggestibilite normale chez les enfants. Rev. Philos. 1894; Binet — La suggestibilite. 1900; M. H. Small— The suggestibility of children. Pedag. sem. IV. 1896.
218
за истину то, что не является истиной, — но это нужно лишь для игры и на время игры: если бы дитя интересовалось теми реальными результатами, которые могут вытечь из того, что примут за истину ложь, то тогда не может быть речи об игре с ее самоцелью, тогда перед нами заинтересованность в некоторых реальных переменах и настоящая поэтому ложь. Но пока дитя играет, ему нужно обмануть, чтобы игра удалась — и только на время игры и нужен обман. Не исключено, что дитя после игры не восстановит истины, чтобы иметь возможность в дальнейшем еще поиграть под покровом того же обмана, — но это и означает равнодушие к реальным переменам, вызываемым обманом, беззаботное отношение к ним, а не использование их в реальной жизни. Если же последнее имеет место, то опять-таки не может быть речи об игре. Любопытно, что если во время игры вы покажете ребенку, что понимаете, что все это только игра, то это будет очень досадно для ребенка. Именно это и побуждает иногда ребенка прибегать к обману, тем более, что это обманывание превращается в игру, создает обстановку риска и повышает удовольствие игры. Все это уже очень опасно и нередко может иметь самые дурные моральные последствия, но это уже другое дело, по существу же мы имеем дело с игрой. Можно сказать, что значительная часть того, что признается ложью, на самом деле не является настоящей, серьезной ложью, а определяется установкой на игру. И относительно взрослых (а также периодов отрочества и юности) должно сказать, что люди серьезно лгут гораздо меньше, чем это кажется извне: мы просто не замечаем (да это и в самом деле трудно заметить), что тут вплетается игра.
Штерн особо выделяет случай «провоцированной лжи»: этот случай мы имеем тогда, когда дитя отвечает на наш вопрос «неверно» (с нашей точки зрения), так как понимает его не в том смысле, в каком задаем его мы. Штерн приводит такой пример: однажды его дочь ударила младшего брата; когда мать, через некоторое время, напомнила этот случай, то девочка стала отрицать это, говоря: «нет, нет». Эти слова для нас звучат именно как отрицание того, что напомнила мать, но из тона, из выражения лица было ясно, что словами «нет, нет» девочка хотела сказать, что больше никогда не будет бить брата или что она не хочет вспоминать об этом. Конечно, если девочка хотела своим «нет, нет» сказать, что не хочет больше вспоминать об этом случае, а окружающие, поняв это как отрицание факта, стали бы укорять девочку в том, что она отрицает факт, то возможно, что этот неожиданный для нее социальный резонанс направит течение ее мыслей именно в сторону отрицания факта. Держась за слова «нет, нет» во имя вложенного в них сначала смысла, она будет держаться за них, если в них видят и другой смысл.
Итак, у ребенка довольно рано выступает нечто близкое ко лжи (с внешней точки Зрения), но по субъективному своему смыслу вовсе не являющееся ложью. Непонимание этого со стороны окружающих, обидное приписывание ими дурных целей ребенку, когда их не было, как бы толкают дитя в сторону настоящей лжи, тем более, что оно на каждом шагу замечает, как люди обманывают друг друга. Мы, взрос-
219
лые, настолько привыкаем ко лжи, что даже уже не замечаем ее; сколько п самом деле «условной лжи» в наших общественных и семейных отношениях! В такой обстановке тот момент, когда дитя в процессе игры прибегает к лукавству и к намеренному введению в заблуждение в целях игры, является несомненно опасным поворотом в душевной жизни ребенка. Дитя без злого умысла может начать играть тем, чем бы не следовало играть: во имя удовольствия игры оно может нарочно не говорить того, что «пошутило». Кто не знает весьма обычной детской игры, когда дитя спрячется за дверь, за кресло, и няня или мать или кто-либо другой должен «искать» дитя? Если вы «находите» дитя очень быстро, то это вызывает досаду у ребенка — он жалуется, что вы «не умеете» или «не хотите» играть: для самого ребенка желательно, чтобы вы продолжили «обман»… Переход от таких игр к случаям, когда дитя уверяет, что не знает, где ваша вещь, которую оно само же спрятало, а затем к случаям, когда дитя, увлеченное результатами такой игры, попробует в другой раз солгать по настоящему ради этих результатов, — совершается незаметно. А мы нередко разглашаем другим о первой констатированной у ребенка лжи, часто выговариваем ему, словно он продолжает лгать. Первое падение, к сожалению, имеет, как раз благодаря нашей бестактности, часто фатальное влияние на дитя. Оно сознанием своим еще не переходило границу, которая отделяет игру от настоящей лжи, но мы своими речами, своим подчеркиванием заставляем его сознать себя перешедшим эту границу. Сознание себя отошедшим от недавней правдивости имеет нередко самое ядовитое влияние на моральную самооценку; я думаю, что в огромном числе случаев превращение случайной настоящей лжи в привычку беззастенчиво лгать совершается как раз под влиянием неумелого социального отзвука на «проступок» ребенка. А мы как нарочно ужасно любим подчеркивать неудачи и грехи детей, не замечая, что этими речами мы как раз закрепляем то, что было случайным, создаем постоянное свойство, постоянную привычку там, где ее не было. Не только в отношении детской лжи, но и в отношении других пороков часто является педагогически целесообразным не придавать им большого значения, не подчеркивать и не закреплять их тем. В отношении борьбы с детской ложью положение создается тем более трудное, что к известным условным формам лжи дитя должно привыкнуть, но при этом не утерять общей своей правдивости. Тот путь компромисса, к которому мы ведем дитя, сам же и создает опасности для морального развития ребенка, и мы часто лишь увеличиваем эту опасность своими неумелыми замечаниями.
Я был бы неправильно понят, если бы мои замечания были истолкованы как выражения сентиментального и идиллического взгляда на детскую душу. Я не гляжу идиллически на душу ребенка, считаю, что в глубине ее есть не мало темного, а порой и злого, но знаю и то, что и мы своими неправильными замечаниями не только не помогаем ребенку стать лучше, а лишь удаляем его от сознания своих ошибок. Ведь и мы, взрослые, слыша упреки и выговоры, часто делаем нарочно напротив, словно эти укоры раздражают нас, — раскаяние, поворот к луч-
220
шему требуют от нас свободного порыва и не нужно мешать свободно сознать свою ошибку. Там же, где навязывают это сознание, охрана своей свободы лишь удерживает и укрепляет злое движение в душе. С этой весьма своеобразной динамикой морального процесса в нас необходимо всегда считаться, — в отношении же детей, быть может, даже больше, чем в отношении взрослых. Чистота детской души есть лучший страж ее: дайте простор глубоким и чистым движениям, развивайте творческие порывы, творческую активность, сохраняйте всегда уважение к детской личности и веру в нее, -ив этой доброй социальной атмосфере незаметно излечится детская душа не только от лжи, но и от других пороков. Велика эта тайна человеческой души — не только зрелой, но и совсем юной, что мы хотим остаться свободными не только в своих грехах, но и в своем раскаянии. Раскаяние невозможно по приказу, по совету, но за то как глубоко и плодотворно протекает оно, если мы оставим дитя свободным в этих нежнейших движениях его души.
Заканчивая на этом характеристику «псевдо-лжи» и не останавливаясь на перечисленных выше формах настоящей лжи, вернемся к психологической проблеме лжи.
Если дитя делает невольно ошибку, то о лжи не может быть и речи; в случаях же «псевдо-лжи» и настоящей лжи мы имеем дело в ребенке с Annahmen, которые принимаются нами за действительные суждения. Если дитя играя вводит нас в заблуждение, то для него известное положение не имеет силы настоящего суждения, есть некая фикция, — в наших же глазах эта фикция приобретает серьезное значение. Псевдоложь — из которой собственно дитя научается опыту настоящей лжи — связана таким образом с фатальным недоразумением, основанным на слишком большой близости Annahmen и настоящих суждений. Как мы сами можем всерьез принять свои собственные выдумки и «поверить» в них, — так еще легче превращение Annahmen в серьезные суждения происходит в социально-психическом взаимодействии. Различие между Annahmen и настоящими суждениями слишком тонко, — и когда в нас самих или особенно в других сознание этого различия бледнеет, тогда возможен подмен одного другим. На этой психологической почве возникает ложь (сначала в форме «псевдо-лжи»), но на этой же почве возникает и плодотворнейшая форма «гипотетического» мышления. Когнитивное и эмоциональное мышление слишком близком подходят одно к другому…
На этом мы заканчиваем анализ детской эмоциональной сферы и психической работы, с ней связанной, и переходим теперь к изучению детского интеллекта.
ГЛАВА XII.
Развитие детского интеллекта. Детские восприятия. Восприятие пространства и времени. Особенности и развитие детского внимания. Детские представления. Процессы памяти у детей. Ассоциация образов у них.
Интеллектуальное созревание ребенка в течение раннего детства значительно яснее, чем его эмоциональное развитие, так как интеллектуальная сфера прозрачнее по самой своей сущности, как обращенная к внешнему миру. Конечно, мы часто не можем точно проследить развитие той или иной психической функции, но внешнее наблюдение детей может все же много дать в этом направлении. Здесь применим даже экспериментальный метод, — среди других примеров укажу на недавно появившееся исследование очень тонкой интеллектуальной функции — абстрагирования — у двух детей 1,4 г. и 1,6 г.1. Хотя интеллект и не занимает центрального положения в детской психике, хотя важнейшие процессы внутренней жизни ребенка мало связаны с его интеллектом, однако нельзя отрицать того, что именно постепенное развитие интеллекта открывает перед ребенком дальнейшие ступени в его созревании. Вернее сказать: рост интеллекта не столько является здесь главным фактором, сколько важнейшим симптомом перемен в ребенке. Если бы интеллект развивался слишком рано, он мешал бы ребенку оставаться ребенком, развивая в нем ранний и потому ненужный, а иногда и пагубный критицизм. С другой стороны, чем дальше развивается дитя, тем яснее выступает могучее влияние интеллектуального роста его на ряд функций.
Начнем с изучения детских восприятий, как того материала, который образует основной интеллектуальный фонд ребенка. Мы уже знаем, что в течение грудного периода жизни дитя овладевает органами чувств, органами движения, проходит подготовительные ступени в развитии языка, в развитии выразительных движений вообще. У ребенка развиваются основные его функции, развивается сознание этих функций — конечно, в той зачаточной форме, какая необходима, чтобы уметь пользоваться ими.
Обратимся сначала к внешним восприятиям — и прежде всего к зрительным. Можно считать совершенно бесспорным2, что различение
--
'М. v. Kuenburg — Ueber Abstraktionsfahigkeit beim vorschulpflichtigen Kinde. Ztschr. f. angew. Psych. B. XVII. H. 4—6 1920. § 7.
2 См. исследование W о 1 1 e у — Some experiments on the colour perception of an infant and their interpretation. The Psych. Rew. 1909.
Valentine —The colour perception and colour preferences of an infant. Brit. Journ. of Psych. 1914.
222
цветов начинается еще в первом году жизни — на пятом — шестом месяце жизни; популярное мнение, что дитя долго не различает цветов, основанное, как думает Штерн3, на ошибках детей в назывании цветов, неверно. Мы не хотим сказать, что дети рано запоминают цвета, легко могут их узнать, воспроизвести в памяти, наконец правильно назвать их, — все это развивается действительно медленно; но самое различение цветов, как точно установили исследования, доступно уже на первом году жизни. Дети рано проявляют особый интерес ко всем окрашенным предметам, которые возбуждают в них чрезвычайное удовольствие. Спорным является вопрос о том, в какой последовательности дитя интересуется различными цветами (первенство оспаривается главным образом желтым и красным цветом), но вне всякого сомнения стоит самый факт особого интереса детей к окрашенным предметам. Странным представляется, однако, то, что правильное называние цветов начинается лишь на четвертом году жизни (в шкале Бине правильное называние 4 основных цветов отнесено к 7 годам!). Штерн объясняет это тем, что при сильном эмоциональном действии цветов они не играют существенной роли в познании и употреблении вещей; быть может, здесьиграет особую рольито, чтов осязательном познании предметов, долго остающимся главнейшей инстанцией в познании действительности, цвет как раз не играет роли. При исследовании того, как воспринимают дети картины, выяснилось4, что цвет играет здесь столь ничтожную роль, что, можно сказать, цвет стоит ниже порога внимания. Оченьлюбопытныитеданные. которыеопубликовал В. Штерн всвоем исследовании — Die Aussage als geistige Leistung und als Vorhorsprodukt (1904): правильные показания (в %) относительно цветов распределялись так;
Девочки Мальчики
Младш. возр. (7 л.) 27V Младш. возр. (7,3 л.) 3272
Средн. » (10,2 л.) 34'Л Средн. » (11л.) 47
Старш. » (14,7 л.) 4872 Старш. » (13,7 л.) 572/3
Если соединить данные, касающиеся и девочек и мальчиков, то получаем такие цифры:
Младший возраст — 30% (правильных показаний) Средний » 403/4 » »
Старший » 53 » »
Согласно этим данным, можно сказать, что самостоятельный интерес к цветам к концу раннего детства все еще не настолько высок, чтобы сделать более точным восприятие. Впрочем, весьма возможно, что и у взрослых намять на цвета стоит не на очень большой высоте. Вот еще цифры других авторов. Исследование Энгельшпергера и Циглера показало, что из детей 6—7 лет только 30% мальчиков и 28% девочек правильно называют четыре
--
'Stern — Psych, d. fr. Kindheit. S. 121."Ibid. S. 122.
223
| |
Девочки |
|
Мальчики |
|
| Младш. |
возр. (7 л.)» (10,2 л.)» (14,7 л.) |
277, 34'Л 4872 |
Младш. возр. (7,3 л.) Средн. » (11л.) Старш. » (13,7л.) |
327, |
| Средн. |
|
|
|
47 |
| Старш. |
|
|
|
572/3 |
Если соединить данные, касающиеся и девочек и мальчиков, то получаем такие цифры:
Младший возраст — 30% (правильных показаний) Средний » 403/4 » »
Старший » 53 » »
Согласно этим данным, можно сказать, что самостоятельный интерес к цветам к концу раннего детства все еще не настолько высок, чтобы сделать более точным восприятие. Впрочем, весьма возможно, что и у взрослых намять на цвета стоит не на очень большой высоте. Вот еще цифры других авторов. Исследование Энгельшпергера и Циглера показало, что из детей 6—7 лет только 30% мальчиков и 28% девочек правильно называют четыре
'Stern — Psych, d. fr. Kindheit. S. 121."Ibid. S. 122.
основных цвета, хотя все дети правильно называют белый и черный цвет. Не следует, впрочем, забывать, что все это касается названий цветов, самое же различение цветов, как было указано выше, начинается очень рано. Бесспорным, остается то, что в психическом развитии ребенка правильное различение цветов долго не имеет особого значения — только этим и можно объяснить медленное запоминание названий цветов.
Для изучения развития детских восприятий очень ценны материалы, добытые Ван-дер-Торреном по так называемому «методу серий» (Heilbromer'a). На рис. 48 (а, Ъ, и с) приведены образцы этих «серий», которые постепенно показываются детям, причем отмечается ступень, где достигается узнавание рисунка.
Согласно В ан-дер-Торрену, развитие правильного восприятия рисунка идет так (вычислено в %):'
| Год |
Мальч. |
Дев. |
| 4 |
38 |
20 |
| 5 |
34 |
25 |
| 6 |
48 |
34 |
| 8 |
57 |
36 |
| 10 |
70 |
52 |
| 12 |
76 |
55 |
Смысл этих цифр таков, что, например, девочки 5-ти лет узнают рисунки только в последних 25% серии. Из приведенных цифр, между прочим, ясно обрисовывается значительное отставание девочек в узнавании рисун-
ков. Любопытны и другие результаты того же исследования. — До полного узнавания рисунка дети, однако, отчетливо различают соседние рисунки. Вот цифры, касающиеся этой способности различения (в %):
Годы
5 6 8 10 12
Мальч.
89 95 97,5 96,5 98
Дев.
91 92 95 96,5 96
8 Психология детства
225
Умение словом выразить замеченное различие все же очень слабо развивается; вот данные, касающиеся этого (в %):
Рис. 48с.
Что касается развития слуховых восприятий, то оно идет еще медленнее, чем в отношении зрительных. Произвольное внимание к тонам г-жа Шинн наблюдала лишь на 18-м месяце жизни; по ее же показаниям правильное воспроизведение тона возможно лишь к 4 годам. По другим авторам дети уже к 2 годам способны воспроизводить мелодии и даже вставлять в них собственные слова, как это отметил еще Egger. Надо, впрочем, отметить, что как раз в области слуховых и особенно музыкальных восприятий наблюдаются резкие индивидуальные различия. Известно, что и у взрослых «музыкальный» слух нередко бывает чрезвычайно слаб.
226
Относительносреднего возрастания тонкости слуховых восприятий приведем цифры Гильберта (у него «единицей» различия между звуками принята У тона); дети различают звуки лишь при разнице:
| в 6 лет |
12.3 (принятых единиц) |
| 7 |
9.1 |
| 8 |
6,8 |
| 9 |
4,8 |
| 13 |
3,7 |
| 19 |
2,4 |
Очень любопытно недавно (1917) опубликованное исследование Вер-нера о развитии у детей способности к мелодическому пению5. Вернер проследил это развитие между 27 и 5 годами. Особенно любопытно в этом исследовании тщательная характеристика развития отдельных сторон в пении ребенка6.
Обратимся к изучению восприятия пространства у детей. — «Завоевание пространства», как метко выражается Штерн, в своих важнейших моментах происходит еще в течение первого года жизни, — но и после этого еще долго длится процесс овладевания различными сторонами пространственного восприятия. Для психологии детства известные споры между нативистами и эмпиристами не могут не предетавляться в значительной мере искусственными, —настолько здесь ясна ошибочность всякого одностороннего решения вопроса. Восприятие пространства не является у ребенка готовым, оно развивается — и притом при непрерывном взаимодействии между чистым восприятием и действованием. С другой стороны, развитие пространственного восприятия происходит с такой легкостью и быстротой, что роль унаследуемых «предрасположений» никак не может быть отрицаема.
В развитии пространственного ориентирования различают три фазы: 1) пространство губ. 2) пространство рук, 3) «далекое» пространство — пространства глаза (первые две фазы характеризуются иногда, как «пространство хватания»). Указанные три фазы самим названием подчеркивают, как познается пространство ребенком. —Уже в течение первого года жизни дитя видит перед собой известный пространственный порядок, особенно по мере того, как оно овладевает глазом, как органом зрения. Но это «видимое» пространство еще не объединено с тактильным пространством; долгое время это два разных пространства. «Понятно» и «ясно» лишь то пространство, в котором дитя может всего коснуться — это то пространство, в центре которого находится личность ребенка, образующая его исходную основу. Первоначально, при слабом развитии осязательного опыта, дитя особенно доверяет осязательным ощущениям губ — и оттого окончательное ознакомление с предметом возможно лишь тогда, когда предмет попадает в «пространство губ». Кто не знает этой
--
'H. Weme г —Die melodischeErfindunginfr. Kmdesalter(Sitzungsber. d. Wiener Akad. Phil. -histor. Klasse. 1917).
6 См. у Бюлера интересную таблицу HJ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕРНЕРА (OP. CIT. S. 152—153.)
s»
227
привычки детей, порой очень долго продолжающейся у них, тащить все в рот? Отсюда «система» хватания вещей у малых детей, — поистине здесь мы имеем труднейший и важнейший этап в «завоевании» пространства ребенком. «Видимая» перспектива, открытая взору ребенка— относительно ее развития несомненной должна быть признана «непроизвод-ность» зрительного восприятия пространства — эта «видимая» перспектива лишь ставит перед детским сознанием проблему пространства. Можно сказать, что «настоящим» пространством для ребенка является лишь та часть «видимой» перспективы, в которую проникает тактильный опыт ребенка. Конечно, и здесь есть свои ступени, но для ребенка долго является совершенно необходимым взять в рот всякую отдельную вещь, точнее говоря, — поместить ее в «пространство» губ. Однако необходимое при этом хватание, отводящее большое место действию рук, постепенно раздвигает эту область знакомого и ясного пространства — и дитяти достаточно бывает коснуться предмета рукой. Не следует, однако, забывать, что все это время «далекое» пространство существует для ребенка, однако оно существует, как какая-то темная и неясная глубина. По мере того как развитие памяти облегчает узнавание различных частей того пространства, в котором носят дитя, «далекое» пространство, пространство глаза все чаще попадает в сферу ясного и познанного тактильного пространства, — так медленно подготовляется слияние тактильного и зрительного пространства. Можно сказать, что пространственный порядок, взаимные отношения предметов, тем более их расстояния, познаются лишь при помощи осязательною опыта. К тому времени, когда дитя начинает самостоятельно двигаться (второй год жизни), дитя уже достаточно хорошо разбирается в целом ряде пространственных отношений вблизи себя. Настоящее изучение «далекого» пространства связано именно с двигательным опытом ребенка.
Любопытно, между прочим, то, как дитя научается различать правую и левую сторону вокруг себя. Сами названия «правый» и «левый» настолько медленно запоминаются детьми, что в шкале Бине только для 7-летних детей вполне доступно решение такой простой задачи, как «показать правую руку и левое ухо»! Но это касается лишь названия, практически же дитя научается различению правой и левой руки очень рано. Любопытно, что у детей очень рано начинает проявляться предпочтительное употребление правой руки, — приблизительно лишь 2% оказываются левшами.
Оценка расстояний дается только в двигательном опыте и развивается очень медленно. Известно, как дети тянутся клуне, как тянутся они к лампе. Оценка близких расстояний, связанных с простейшими движениями, дается очень рано — здесь острота глазомера, правшгьная оценка близких расстояний имеет громадное практическое значение и развивается очень быстро. Совсем иначе складывается дело при оценке дальних расстояний. Впервые Штерн7 точно обследовал известный давно факт ошибок при оценке длин, протяжений. Он нашел (при опытах над взрослыми), что есть «оптимальное для оценок» протяжение — между 1 и 4 метрами; при
--
7 Stern — Ueber Schatzungen, insbesondere Zeit- und Raumschatzungen. Beitr. zur Psych, d. Aussage. F II. H. I.
228
низших протяжениях ошибки заключаются в более высокой оценке их, при протяжениях выше 4 метров — ошибки имеют обратный характер. Интересно отметить наблюдение Штерна8 о наличности «личных тенденций в оценках». Мне кажется, что в детском возрасте этот индивидуальный коэффициент сказывается даже сильнее.
Бине делал опыты с детьми от 27, до 4 лет, ставя им задачу, сравнивая две нарисованные на бумаге линии, определить, какая из них длиннее. В 4 года (см. шкалу Бине) дитя нормально не делает ошибки, сравнивая две линии в 5 и 6 см. Сравнительно с тонкостью оценок у взрослых, чувствительность детей в 4—5 раз меньше.
Узнавание различных форм дается детям, по-видимому, легко, однако в этой области отсутствуют более точные исследования. Известно, что Пес-талоцци считал простейшей по доступности для детей формой четырехугольник, а Гербарт признавал такой формой треугольник. Новейшие исследования говорят за то, что простейшими формами являются круг и шар, затем четырехугольник, а затем лишь треугольник. Очень интересный материал для суждения о восприятии форм у детей дает изучение того, как они воспринимают картины. Уже на втором году жизни дети узнают в фотографиях известных им людей. Собственно говоря, для детей очень долго картины являются такими же «реальными предметами», как и то, что они изображают. Как, видя себя в зеркале, дитя очень долго считает свой образ чем-то реальным и заглядывает за зеркало, словно там скрывается то существо, которое оно видит, — так и картина в книге или отдельно взятая представляется ребенку реальностью, хотя бы и ослабленной но непонятным причинам. Самое узнавание картины, как выяснил Штерн, основывается на восприятии контура, и это бросает интересный свет на вопрос о развитии у детей чувства формы. Весьма любопытной особенностью детских восприятий формы является «независимость узнавания от положения картины в пространстве», как выражается Штерн'. Дело в том, что для детей является довольно безразличным, воспринимают ли они картину в правильном положении или «вверх ногами». Штерн думает, что это связано с тем, что восприятие формы и восприятие положения являются двумя различными функциями.
Скажем несколько слов о развитии у детей восприятия времени.
Для ребенка долгое время существует ясное сознание настоящего, какая-то неопределенная, надвигающаяся перспектива будущего, к которому относятся желания и планы, и, наконец, темная глубина прошлого. Лишь в середине третьего года дитя начинает употреблять слова «сегодня, вчера, завтра», но безнадежно их путает. 4-летняя девочка Штерна задавала такие вопросы: «теперь сегодня?» Еще в возрасте 4,3 эта девочка путала вчера и завтра — что чрезвычайно типично для детей («мы завтра гуляли», «мы вчера пойдем?»). Лишь в начале шестого гада (5,1) Штерн отмечает впервые правильное сознание временных отношений между «вчера», «сегодня» и «завтра». Наблюдения над языком детей убеждают и в том, что обозначения прошлого (в глагольных формах, в наречиях) выступают приблизительно на
--
8S tern— Op. civ. S. 70.
9 S t e г n — Psych, d. fr. Kindheit. S. 123.
229
полгода нозже, чем обозначения настоящего и ближайшего будущего. То, что перспектива «будущего» раньше требует более точного обозначения, объясняется, конечно, практической ценностью правильного ориентирования в будущем, — прошлое же бессильно в практическом отношении, не имеет практического значения. Надо иметь, однако, в виду, что лишь ближайшее будущее и ближайшее прошлое более или менее расчленены: здесь наблюдается полная аналогия с тем различием близкого и далекого пространства, о котором мы упоминали выше. В шкале Бине различие утра и вечера признается доступным нормально лишь для 6 лет! Дать ответ на вопрос, какой сегодня день (число, месяц, год, день недели) — нормальнодети могут, по Бине, лишь в 8 лет; я же должен сказать из своих опытов со шкалой Бине, что это одна из труднейших задач для детей не только 8, но и 9 лет (несмотря на то, что на детях уже сильно сказывается в это время влияние школы). 8-летние дети, с которыми занимался Циген, на вопрос о числе часов в дне давали ответы: 19,21, 23 и 60; на вопрос о числе дней в году отзывы в среднем не шли дальше 160 дней (19, 21, 23, 60… 160); наибольшая названная цифра была— 300. При занятиях с детьми по шкале Бине, когда задаешь 9-летнему мальчику вопрос — назови месяцы в году, — сплошь и рядом дети называют 4—6 месяцев и по характеру ответа ясно видно, что это обрывки школьных занятий. Один отсталый мальчик на вопрос, какие знаешь месяцы, ответил мне: «весна, лето…». В упомянутых уже нами опытах Штерна с оценкой пространственных и временных протяжений выяснилось, что ошибки (в сторону увеличения) у детей школьного возраста значительно больше, чем у взрослых: у взрослых ошибка выражается цифрой +133 %, у детей +175%. В связи с восприятием времени у детей коснемся вопроса о развитии у детей понятия числа10. Числовые отношения распознаются в небольших пределах довольно рано, но они еще слишком связаны с определенными качествами предметов: так, одно дитя 4,3 лет на вопрос своего деда: «сколькоу меня пальцев?» ответило: «я этого не знаю, я могу считать только мои пальцы»11. Хотя имеется целый ряд указаний (Decroly et Degond, Ргеуег, Binet, Scupin) на то, что дети очень рано распознают числовые отношения, — есть наблюдения, что уже на втором году жизни дитя, игравшее с тремя монетами, сразу замечает, если исчезает одна монета, — но психологическое истолкование этих наблюдений очень трудно. Вопрос в том, имеем ли мы здесь дело с настоящим восприятием числовых отношений (хотя бы и не вполне расчлененным) или же здесь выступают некоторые качественные особенности отдельных предметов, которые и обусловливаютреакцию детей на исчезновение из группы одного предмета. Есть данные предполагать, что скорее выступает второй момент. В высшей степени типично одно наблюдение Штерна: когда его девочка (3,7) посчитала верно свои пять пальцев и ее спросили: «так сколько у тебя пальцев?», она снова начала считать сначала: числовыеотноше-
--
10 Современная характеристика восприятия включает в его состав сознание числовых отношений в предмете восприятия. Ср.: Ebbinghau s-B u h 1 е г — Grundz. d Psych. В. I. 4-ое изд. 1919. S. 464 ff.
"Stern — Kindersprache. S. 250.
230
ния все еще тесно связаны с своим субстратом и то, что Штерн назвал «дематериализацией» в развитии понятий об отношениях12, идет очень медленно.
Подводя итоги всему сказанному о внешних восприятиях ребенка, мы должны сказать, что они являются очень неточными, что дифференциация того содержания, которое имеется в первоначальном акте восприятия, идет медленно. Как раз на развитии детских восприятий особенно тесно выступает то положение общей психологии, что восприятие в своем целом является своеобразным организмом, развитие которого ведет к вьщелению и обособлению его составных частей. Восприятие не есть сумма того, что в нем открывает анализ. — восприятие есть целостное содержание, при дифференциации и развитии которого вьщеляются и специфицируются отдельные моменты. «Точность» восприятия отдельных сторон действительности более позднего происхождения, чем самое выделение этих сторон из целостного восприятия, чем их обособление. К тому же «точность» восприятий — в нашем смысле слова — и не нужна ребенку, ибо расчленение действительности на отдельные стороны, выделение отдельных и независимых предметов достаточно для того, чтобы вступить в те или иные отношения к этим предметам. «Предметное сознание» развивается у ребенка медленно, и в этом развитии играет огромную роль выделение неизменного, независимого от воли «порядка». Нельзя не согласиться с той характеристикой детской апперцепции, которую дает Мейман13: «детская апперцепция, — по его словам, — является преимущественно фантастической и эмоциональной, более вчувствующей (einfuhlend) и персонифицирующей, чем анализирующей и познавательной». Конечно, было бы преувеличением сказать, что задачи познания совсем чужды детям, но они стоят на втором месте, включены в другие процессы.
Что касается восприятия своей внутренней жизни, то оно зреет очень медленно в детской душе; самое главное — отсутствует тот интерес к самому себе, который определил бы собой внимание к своим переживаниям. Естественный эгоцентризм, сосредоточенность на своих переживаниях отнюдь не предполагают такого интереса к самому себе. Нам уже приходилось говорить, при изучении развития самосознания у детей, что впервые социально-психическое взаимодействие заставляет детей выделять самого себя из потока переживаний, из того целого, в которое они включены, в котором «преднаходят» себя. Однако за проэктивной фазой самосознания наступает фаза субъективного самосознания, создается привычный внутренний фокус. Дети не могут еще высказывать того, что уже осознается ими в потоке внутренних переживаний, но это связано как с общей медленностью в развитии у них речи, так в особенности с нерасчлененностью внутренних переживаний. Обычный термин «самосознание» включает в себя два момента, обычно следующих один за другим, но у детей еще неодинаково развитых: с одной стороны, здесь есть «самопереживание», непосредственное переживание своих чувств и стремлений, восприятий и мыслей, с другой стороны, расчленяющее их «самонаблюдение». Это две
--
12 S t е г n — Psych d. fr. Kindheit. S. 249."Meumann — Vorlesungen. I… S. 332.
231
ступени, две фазы в самосознании, — и если у детей есть первое, то второе дается им медленно и с трудом. Есть попытки (Binet, Katz) подойти к детям так, чтобы в их высказываниях получить материал, касающийся именно самосознания —и эти попытки надо признать удавшимися. Однако, наличность самовосприятия еще не достигает в раннем детстве, в отчасти и во втором детстве той стадии при которой возможно адекватное высказывание другим того, что открыто внутреннему взору ребенка.
Обратимся к развитию внимания в раннем детстве. Уже в течение первого года жизни наблюдается развитие эмоционального и зачатков волевого внимания, — как раз в играх, в управлении органами чувств, органами движения дитя пробует управлять своим вниманием. Обычно детское внимание характеризуется подвижностью, легкостью перехода от одного предмета к другому. Это свойство детского внимания несколько ослабевает к концу раннего детства, дитя не так уже легко поддается нам, если мы хотим отвлечь его от чего-либо. Однако даже во втором детстве внимание все еще остается, сравнительно с устойчивым вниманием взрослых, подвижным и неустойчивым. Нельзя, впрочем, отрицать того, что у некоторых детей, по крайней мере в некоторых случаях, очень рано проявляется способность к устойчивому вниманию. — Вторая отличительная черта детского внимания — это его премущественно внешний характер: внимание ребенка почти сплошь занято внешним миром, дитя не «прислушивается» даже к своим болям — и только когда эти боли достигают известной силы, дитя плачет. Оттого в плаче от болей нет обычной непрерывности, а какие-то взрывы плача… Но, будучи преимущественно обращено к внешнему миру, детское внимание имеет сенсуальный, а не интеллектуальный характер; другими словами, внимание ребенка больше обращено к поверхности явления, чем к его смыслу, —дитя как бы скользитпо поверхности явления, не углубляясь внего. Мыувидим, однако, дальше, что функция абстракции, являющаяся психическим предусловием интеллектуального внимания, хотя и медленно, но все же развивается у ребенка, И объем и интенсивность детского внимания еще очень слабы; как пример этого, приведем следующие цифры —дитя в один момент времени может заметить:
в 6 лет 2—3 объекта
«12» 3—4 » «14» 5 »
взрослые 6 »
Коснемся еще развития у детей способности к абстракции, функции, внутренне связанной с деятельностью внимания. В 1913 году Katz опубликовал работу — Studien zur Kindespsychologie, в которой изложил свои исследования функции абстракции у детей дошкольного возраста. Сначала Katz показывал три окрашенных в красный цвет треугольника и три белых круга; затем он показывал белый треугольник или красный круги говорил ребенку: «дай мне один предмет из первой группы, который выглядит так же, как этот». Новый предмет по форме был схож с одной группой, по цвету — с другой, — дитя поэтому должно было отвлечься либо от цвета,
232
либо от формы. Общий результат исследований Katz' а тот, что цвет привлекает к себе больше внимания, чем форма. По словам исследователя, «сосредоточение на одной и той же форме представляет такую психическую работу, о трудностях которой мы, взрослые, просто не имеем представления». Бюлер думает14 — и, быть может, он прав — что главные трудности лежат здесь не в самой задаче, а в том, чтобы понять ее. Другие данные —особенно то, чтоможнонаблюдатьвтак называемых «п ос троитель-ных» играх детей — не позволяют думать, что восприятие формы слабо у детей. Прежде чем мы коснемся еще одного исследования развития абстракции в раннем детстве, я хочу сообщить результаты исследования Бюлера над детьми школьного возраста15. Не буду входить в подробности, скажу, что детям экспонировались группы фигур, среди которых две были одинаковых; в течение 3 секунд дети должны были найти одинаковые фигуры и запомнить их места. Рост способности абстракции хорошо иллюстрируется цифрами удачного решения задачи (в %):
| Классы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| % решении |
у мальчиков |
22 |
33 |
41 |
50 |
53 |
59 |
62 |
* 64 |
у девочек |
25 |
33 |
38 |
48 |
57 |
60 |
61 |
63 |
До пятого класса наблюдается довольно быстрое развитие, начиная от 5-го, оно становится слабее; девочки и мальчики работают почти с овершен-но одинаково. Иные результаты получились, когда была подсчитана вся психическая работа (кроме главной задачи, были даны еще побочные);
| Классы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Мальчики |
150 |
241 |
363 |
389 |
523 |
538 |
743 |
628 |
| Девочки |
106 |
175 |
223 |
243 |
345 |
331 |
379 |
441 |
Вот диаграмма, воспроизводящая те же результаты.
На диаграмме отчетливо виден различный успех мальчиков и девочек: девочки выполняют приблизительно 2/3 побочных задач, сравнительно с мальчиками, что говорит об узости внимания у них.
Недавно появилось исследование гр-жи Кюнбург16, которая имела дело с детьми от ЗУ, до 6 л. (20 детей) и
--
14 В u h 1 е г — Die geistige Entwick. d. Kinder. S. 161.
15 Ibid. S. 162 ff. См. также: Koch — Experimentelle Untersuchungen uberdie Abstrak-tionsfahigkeit von Volksschulkindem. Ztschr. f. angew. Psych. В. VII; H a b r i с h— Experimentelle Untersuchungen uber Abstraktionsiahigkeit von Schulerinnen. Ibid. B. IX.
16 Graf, von Kuenburg — Ueber Abstraktionsiahigkeit und die Entstehung von Relationen beim vorschulpflichtigen Kinde. Ztschr. f. angew. Psych. B. XVII. 1920. H. 4—6.
233
сверх того исследовала двух детей в возрасте 1, 4—2 и 1,5. Интересно отметить, что на основании своего исследования г-жа Кюнбург могла установить наличность четырех фаз в развитии понимания задачи. Приведем несколько цифровых данных из исследования г-жи Кюнбург:
| |
Возраст |
3 года |
4 года |
5 лет |
6 лет |
| % правильно решенных задач |
у мальчиков |
4,9 |
6,7 |
19,9 |
18 |
у девочек |
5 |
7,5 |
31 |
17 |
Как видим, пятый год отмечен ярким развитием функции абстракции. Интересны цифры, касающиеся совершенно нерешенных задач (в %):
| Возраст |
3 года |
4 года |
5 лет |
6 лет |
| Мальчики |
15 |
25 |
9,7 |
13 |
| Девочки |
21 |
12,6 |
4 |
5 |
Здесь любопытно отметить вывод г-жи Кюнбург, что, чём больше удачных решений (которые как бы забирают всю умственную силу), тем большее число и совершенно нерешенных задач приходится на этот возраст17.
Интересны данные, касающиеся решения побочных задач; они дают иную картину, чем мы видели у Бюлера:
| |
Годы |
3 |
4 |
5 |
6 |
| % решен, задач |
у мальчиков |
— |
1,5 |
6,8 |
1 |
у девочек |
— |
2,9 |
7 |
9 |
Девочки, как видим, не стоят здесь ниже мальчиков, а, наоборот, лучше справляются с побочными задачами. Относительно преимущественного интереса к цветам и формам исследование г-жи Кюнбург разошлось с тем, что мы видели у Katz'a. Выводы г-жи Кюнбург любопытно сопоставить с интересной работой Декедра18, который установил, на основании своих интересных опытов, что интерес к форме с ростом возрастает и только между 10—18 годами у девочек наблюдается более высокое внимание к цветам, чем к формам, до 10 же лет девочки и мальчики стоят очень близко друг к другу. Вот в % данные Декедра:
---
17 К u e n b u r g — Op. cit. S. 283, 285.
18Descoeudres — Couleur, Forme ou Nombre? Archive de Psychologic T. XIV. 1914.
234
| Возрастная группа |
3—6 л. |
7—8 л. |
10—13 л |
Юнош. возр. |
| Преимущ. выбор цвета |
Мальчики |
20 |
13 |
10 |
0 |
Девочки |
17 |
13 |
23 |
23 |
| Преимущ. выбор формы |
Мальчики |
10 |
30 |
43 |
53 |
Девочки |
7 |
50 |
43 |
53 |
На этом мы закончим вопрос о развитии функции абстракции у детей19 и обратимся к изучению детских представлений.
Детские представления имеют некоторые своеобразные особенности, — но все же в этой области дети, пожалуй, стоят ближе всего к нам, ибо главные различия в интеллектуальной жизни между нами и детьми лежат в другой области. — Прежде всего, когда в сознании ребенка выступает различие восприятий и представлений? Болдвин полагает, что это различие не является первым в ряду тех дуализмов, оформлением которых заполнено детское сознание. Так или иначе, но приходит час, когда дитя осознает различие восприятия, обращенного к «наличному» предмету, и представления, как чисто субъективного процесса, — и когда это различие обрисуется, хотя бы в неясных чертах, перед детской душой, оно дальше все углубляется, мир объективный и субъективный расходятся все дальше и дальше. Долгое время дитя сознает это различие так, что оно не очень затрагивает материал, с которым оно имеет дело: сфера субъективного противостоит сфере объективного по участию фантазии в первой, по ее бессилию во второй. Установка на игру в первой, «деловая» установка во второй дают ребенку сознание различия в смысле двух перспектив, перед ним раскрытых, а не в том содержании, которое тоже различно в них. Но приходит момент, когда различие субъективного и объективного осознается именно в том материале, из которого построены обе сферы.
Бюлер20 рассказывает интересный случай с одной девочкой 172 лет, которая, вернувшись после пр01улки домой, неожиданно в чрезвычайном возбуждении стала говорить «daten lalala», что должно было обозначать пение солдат. Девочку отвлекли от этого возбуждения, но вечером в тот же день, на другой и третий день она время от времени приходила в сильное возбуждение и говорила «daten lalala». Бюлер полагает, что воспоминание о пении солдат всплывало, как свободный образ, в душе девочки, которая, как толкует Бюлер, первый раз схватила различие чистого образа и восприятия — и отсюда, по его мнению, возбуждение девочки. На основании внешних наблюдений мы можем установить наличность образов воспоминания у детей уже во второй половине первого года жизни. Узнавание, которое Штерн без особых оснований считает Vorstufe der Erinnerung21,
--
"Интересные подробности в исследовании г-жи Кюнбург, касающиеся детей до 2 лет (Ibid. S. 297—312), опускаем, чтобы не затягивать изложение.
20Buhler — Op. cit. S. 295.
21 С. u. W. S t e г n — Erinnerung und Aussage in der ersten Kindheit. Beitr. гит Psych, d. Aussage. F. П. Н. II. S. 34ff.
235
можно наблюдать очень рано: дитя одного года, сообщает Штерн, узнано отца после двухнедельной разлуки; Пере сообщает аналогичный факт узнавания у однолетнего ребенка после месячной разлуки. С дальнейшим ростом узнавание возможно после все более долгих промежутков; так. по Штерну, для ребенка 4 лет возможно узнавание после промежутка в одни год. Интересно отметить, что людей дитя узнает скорее, чем веши. Легче запоминается также все то, что окрашено чувствами22, но все же можно думать, чго лишь на четвертом году жизни образы становятся настолько психически «крепкими», что вообще не выпадают из системы души. Если мы оставляем место, в котором все время жили, еще в конце первого года, то в памяти не останется никаких следов; если то же сделать в конце второго года жизни, то в памяти остаются следы, что может сказаться в большей, сравнительно с другими, легкости изучения языка, на котором дитя говорило до отъезда. Если же выехал из данного места на четвертом году жизни, то память сохраняет с большей или меньшей ясностью определенные воспоминания.
Вообще говоря, мысохраняем мало воспоминаний израннего детства, — мы говорили уже о том толковании этого факта, которое дает Фрейд и его школа. Может быть, верно, что причина малого количества сохраняющихся у нас от раннего детства воспоминаний заключается в психическом переломе, как бы отодвигающем нас от раннего детства, но, конечно, толкование этого перелома в терминах сексуального монизма Фрейда лишено убедительных оснований. Во всяком случае, причина данного явления лежит прежде всего в ином соотношении психических сил у детей и у взрослых; стать взрослым — это значит отойти от той общей эмоциональной установки, которая связана с детством. В нас исчезает в связи с этим симпатический отзвук на ранние воспоминания — они, собственно говоря, ненужны, непонятны и неинтересны. Вместе с тем наше отношение к миру, к людям совершенно меняется, — мы навсегда теряем былую беззаботность, в душу нашу внедряется трезвое чувство действительности, и только в шрах мы на время снова становимся детьми. Теория Фрейда представляет дело, с одной стороны, более сложным, чем оно есть в действительности, с другой стороны, слишком уже гипотетична, слишком мало имеет опоры в фактах.
Впервые Анри23 пытались путем анкеты выяснить количество воспоминаний от первых лет жизни. Из 123 полученных ими ответов только 118 были точны датированы; распределялись они следующим образом;
| Годы |
1 |
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Количество воспоминаний |
7 |
9 |
23 |
20 |
19 |
14 |
12 |
6 |
5 |
2 |
1 |
--
"См. лучшее исследование но этому вопросу В. Петерса (Psychologische Arbciten. В VI), также этюд A. Peters — Gefuhl und Wiederkennen. Fortschr. d. Psych. B. IV. 1916. H 2
23 V. etC. H e n г i —Enquetesurlespremiers souvenirsdeГenfance. An. psych. III. 1897. Ср.: D u g a s —Mes souvenirs affectifs d enfant. Rev. philos. 1909; S с h in u t z — Wieweit reicht das Oedachtniss Erwachsener zuruck1 1910.
236
Из приведенной таблицы можно заключить, что наибольшее число ярких воспоминаний идет от третьего года жизни. В интересном исследовании Каммеля24 главные воспоминания учеников в возрасте 12—20 лет относительно ко времени 3,9 и 4,3 годам. Мейман"держится взгляда, что число воспоминаний от раннего детства совершенно незначительно, — и это верно, но это связано не с слабостью детской памяти, а с наличностью психического перелома, отодвигающего вглубь воспоминания ихраннего детства и пропускающего действительно небольшое их число в сферу сознания.
Настоящие свободные образы воспоминания. — что стоит уже выше простого узнавания — встречаются у детей в начале второго года жизни. Отдельные события, чем-либо обратившие на себя внимание детей, вспоминаются детьми на втором году жизни лишь в течение нескольких дней, — в течение третьего года жизни ширинадействия воспоминаний подымается до нескольких месяцев, а иные, как мы видели, запоминаются на всю жизнь. Полного развития функция свободных воспоминаний достигает уже на четвертом и пятом году жизни26, — и к этому времени яснее становится и сознание времени, «Активные» воспоминания, связанные с стремлением что-либо вспомнить, по Меджору27. имеют уже место в возрасте 27, лег; на четвертом и пятом году жизни они развиваются и достигают во втором детстве полного расцвета.
Всем известна легкость, с какой малые дети могут запоминать стихи. Штерн дает примеры из практики со своими детьми. 3-летняя девочка без ошибки могла воспроизвести 146строк стихотворения; четырех-, пятилетние дети без труда заучивают стихотворения в 200 и больше строк. Конечно, заучивание здесь имеет моторно-с духовой характер, оптические впечатления не играют еще никакой роли. Должен же добавить, что по основаниям, которые здесь не место приводить, я не разделяю общепринятого взгляда, что память развивается. Я думаю, что развивается не память, как сила удержания, атсхниказа поминания и воспроизведения. Известные исследования Болт она, Бурдона, Нечаева и других психологов нужно толковать именно так.
Скажем несколько слов об ассоциации образов у детей, — исследования по этому вопросу были сделаны Цигепом, Ламброзо. Мейманом и Винтелером и др.2* Среди результатов, добытых этими исследованиями, некоторые имеют интерес и для нас.
Отметим прежде чрезвычайную слабость чисто словесных ассоциаций у детей: за исключением отдельных случаев число словесных ассоциаций у детей бывает не выше 2%, в то время как у взрослых они занимают очень
24 К a m m е 1 — Ueber die erste Einzelerinnerung. 1913,
"Meumann — Vorlesungen… S. 432.
J6 См. интересные подробности уШтерна (Psychologie. S. 157—164).
"Major — First steps in mental growth.
: K T h. Ziehen —Die Ideenassociationdes Kindes 1898—1899; PaoloLambroso — Das Leben der Kinder; Winteler und Meumann — Exper. Beitr. zu einer Begabungslehre. Ztschr. f. exp. Padag. B. II; Wreschner— Die Reproduktion und Association der Vorstellungen. 1907—1909; Rusk — Experiments of mental association in scool children. Brit. Joum. of Psych. 1910; P о h 1 m an n — Beitrage zur Psychologie des Schulkindes. Padag. Mag. 1912.
237
значительное место. Еще интереснее сравнение между детьми и взрослыми в отношении к содержанию образов ассоциации: у взрослых обыкновенно (80%!) всякое слово понимается в его общем смысле; возникающий по ассоциации образ обыкновенно всплывает в своем общем содержании, а не в конкретной форме. Между тем у детей слово, которое они слышат, понимается ими в совершенно конкретной форме, равно как ассоциативно всплывающий образ тоже имеет конкретный характер. Это, конечно, стоит в теснейшей связи с тем, что мышление детей носит предметный (а не словесный) и конкретный (а не общий) характер. Согласно исследованию Польманна, у 4000 детей —при изучении их представлений —70% оказались конкретными, 80% — предметными. Любопытно тут же отметить, что при исследовании одаренных детей в возрасте от 6 до 13 лету них оказались доминирующими (сравнительно с образами менее одаренных) конкретные представления29. Мы можем поэтому считать типичной и нормальной эту особенность образов, всплывающих в душе детей, именно их конкретность. Впрочем, у отдельных детей, как показало сравнительное изучение двух интеллектуальных типов в работе Бине'°, могут встречаться достаточно часто абстрактные представления. Тут же отметим, что «скорость ассоциации» у детей сравнительно очень невелика и возрастает лишь с годами и в этом смысле могла бы быть симптомом интеллектуального развития, — впрочем, последнее оспаривается некоторыми авторами (например. Rusk).
Что касается изучения «круга представлений» у детей, то, к сожалению, все эти исследования имели дело с детьми после 6 лет и для нас не дают ничего существенного.
На этом мы заканчиваем анализ сферы представлений и переходим к изучению мышления у детей.
--
29 В связи с этим М е u m a n n (Vorlesungen… S. 500) высказывает правильную мысль, что не могут иметь ценности слишком ранние определения типа представлений у детей, — лишь к 14 годам формируется тот тип представлений, который сохраняется в дальнейшем.
50 В i n e t — L'etude exptrimentale cle ['intelligence. 1903.
ГЛАВА XIII.
Мышление детей; его общие черты. Мышление по аналогии; развитие индуктивного и дедуктивного мышления у детей. Условия развития мышления у детей. Психология детских вопросов; их место в интеллектуальном созревании. Недостатки детских выводов. Образование суждений и понятий. Вопрос об измерении интеллектуального уровня по Вине. Результаты исследований в этом направлении.
Вопрос о процессах мышления у детей имеет большой не только теоретический, ной практический интерес. Прежде всего — имеет ли у них место настоящее мышление, владеют ли они теми формами мышления, как мы, взрослые? Если дети и обладают настоящим мышлением, то какие фазы проходят они в своем развитии? Какие формы мышления имеются у детей и в какой связи стоит развитие процессов мышления с развитием языка?
Все эти вопросы и важны, и трудны, особенно первый. Может быть, то, что можно признать мышлением у детей, в своей сущности является чем-то другим? В психологической литературе даже последних лет нередко можно встретить мнение, что настоящего мышления нет у детей1. С таким же собственно правом можно было бы говорить, что «настоящего» мышления нет у простых людей, первобытных народов, а есть оно только у культурных людей; есть даже мнение, что и среди культурных людей только ученые обладают «настоящим» мышлением, так как только у них наблюдается логическая законченность и точность в работе мысли… Но в том-то и дело, что признаком настоящего мышления совсем не является «точность» и «истинность», — ведь тогда мы имели бы во всех науках, кроме математики, лишь крупицы настоящего мышления, так как во всех науках с течением времени меняются основные понятия, основные идеи. Признаком мышления является наличность тех актов, которые характерны для мышления, а совсем не логическая и реальная ценность самого содержания мышления. Если кто-либо строит понятие, то мы имеем дело с «настоящим» мышлением, хотя бы построенное в данном случае понятие было бы неточным и неудачным; равным образом, если кто-либо высказывает нечто, претендуя на истину, веруя в объективную значимость высказанного, мы имеем дело с суждением, а не системой образов, хотя бы это суждение было «ложным»; наконец, если из одного или двух суждений мы извлекаем
--
' Таково, например, мнение Меймана, который думает, что до 14 лет дети не владеют настоящим мышлением, а мыслят «другими путями» — именно с помощью ассоциации (Vorlesungen… В. I. 2-ое изд. S. 548).
239
новую мысль, мы имеем дело с процессом вывода, хотя бы вывод был неудачным, неверным. Для мышления характерна его интенция, задача, его направляющая, акты, его составляющие; поскольку дело идет о познавательном мышлении, в нем осуществляется наше искание истины, как таковое. И, конечно, одно дело — искать истину и другое — найти ее; одно дело — ставить задачу, возвысится (в понятиях) до идеальной сферы, и другое дело —в самом деле усвоить нечто из идеальной сферы.
В свете этих размышлений ясно, что детское мышление, хотя очень далеко от истины, является настоящим мышлением. Чем далее проникаем мы в работу детского интеллекта, тем более начинаем мы понимать сложность, глубину и напряженность детского мышления. С известным правом можно было бы сказать, что дети мыслят больше, нежели мы, взрослые: мы слишком много знаем, имеем слишком много готового знания, готовых мыслей, слишком много места в нас занимают привычки, общие установки. Дитя же находит себя в совершенно незнакомом мире, в котором все еще непонятно, все занимательно и интересно, — и дитя с чрезвычайным возбуждением и жаром стремится все узнать, со всем познакомиться. Конечно, детская мысль долгое время находится в «оковах» мифологизма, — но разве естествознание XVI—XVIII веков не представляется ныне тоже мифологией? Детские восприятия неточны и поверхностны, внимание неустойчиво и поверхностно, память работает слабо, словесные образы еще слабо развиты и не экономизируют духовной работы, — все это верно; но за то мысль детская работает непрерывно и напряженно. Правда и то, что вначале, как указывал еще Селли, познавательное мышление развивается из свободной ифы фантазии; само различие познавательного и эмоционального мышления определяется, как различие двух разнородных путей работы, очень медленно. Как особая форма психической работы, как особый путь ориентирования и понимания, познавательное мышление дифференцируется медленно, постепенно освобождаясь от влияния эмоций и желаний. Все это верно, все это кладет свою печать на детское мышление, делает его «слабым» сравнительно с нашим, — но это своеобразие детского мышления разве не имеет своих выигрышных сторон? Детский интеллект является только орудием, инструментом, которым пользуется детская душа; детям еще совершенно чуждо то всецелое погружение в «чистое» мышление, которое так часто встречается у взрослых, гордящихся тем, что они превратили себя в какие-то интеллектуальные аппараты, что они утеряли целостность и полноту духовной жизни. Мы, взрослые, прежде всего — мыслим, мыслим даже тогда, когда это не нужно; для нас мышление не есть средство, а цель, можно даже сказать — самоцель. У детей все это совершенно иначе: напряженное, творческое мышление детей никогда не бывает «чистым», оно всегда подчинено общим жизненным задачам, которыми живет дитя. Центр психической работы у ребенка лежит не в его интеллекте, а в эмоциях, но это вовсе не ослабляет работы мышления, а только придает ей другой характер. «Чистое» мышление чуждо ребенку, который никогда не мог бы понять идеи «чистого познания»: вся познавательная работа ребенка направляется теми целями, которые выдвигаются эмоцио-
240
нальной сферой и сферой активности… Этими замечаниями я не думаю исчерпать общую характеристику своеобразия детского мышления, а хотел бы лишь отметить основное отличие его от мышления взрослых.
Отметим еще несколько особенностей детского мышления, — оно является, с одной стороны, предметным, с другой стороны — конкретным. Мы видели уже слабое развитие у детей словесных ассоциаций — и это, конечно, неслучайно: в то время как мышление взрослых имеет словесный характер, что имеет огромное значение в экономии психической работы, так как при словесном МЕлшлении интеллектуальная работа становится более легкой и быстрой, — в детском мышлении имеют огромное значение предметные образы. Процессы мышления, если так можно выразиться, стеснены этими предметными образами, ограничены ими и насыщены. С другой стороны, задача мышления, в полной связи с указанным характером его материала, не выходит за пределы данного конкретного материала. Конечно, вполне возможно — и в детском мышлении тоже имеет место —такое предметное мышление, которое не ограничивается данным конкретным материалом, а мыслит о тех или иных общих идеях. Предметность мышления, характеризующая его материал, не осуждает его непременно на конкретность, т. е. на ограничение задачи мышления данным материалом, но, разумеется, эта конкретность вполне естественна для детей. Мы видели уже, что функция абстракции очень рано доступна для детей, — но видели и то, что она очень медленно зреет у них. В сферу абстрактного мышления особенно легко и хорошо входим мы благодаря словам, — не буду подробнее выяснять это сейчас, так как связь абстрактного мышления с словесным его материалом ясна сама собой. Во всяком случае, в своеобразии процессов абстракции удетей лежит едва ли не один из труднейших порогов, которые нужно переступить, чтобы приблизиться к пониманию детского мышления. Когда дитя усваивает от нас какую-либо общую идею, то эта общая идея находится у него в слишком тесной связи с тем конкретным материалом, который мы приводили в качестве «примера». Тут получается своеобразный парадокс — идея сознается как общая, но в пределах лишь однородного конкретного материала; стоит даже немного изменить этот материал, придать ему иную форму, как в нем дитя не распознает этой идеи, к нему уже не применяет ее. Это своеобразие процессов абстрактного мышления в полной мере можно наблюдать и в школьном возрасте: нужнадлительная и всесторонняя тренировка для того, чтобы дитя в сознании общей идеи не было ограничено данным конкретным материалом, чтобы оно без особых затруднений смогло ее применить к новым вариациям. Нет никакого поэтому противоречия, нет никаких симптомов слабости мышления, если дитя «знает» общую идею и тут же нарушает ее на материале, к которому не привыкло ее применять: одно дело владеть общей идеей, а другое — освещать ею весь тот эмпирический материал, который должен быть ею освещен. Наличность крыльев, необходимых для того, чтобы подняться на высоту общей идеи, еще не дает духовным очам той силы, которая нужна, чтобы видеть в свете идеи весь соответственный эмпирический материал.
241
Детское мышление имеет все те формы, какие имеют место у взрослых, — поэтому в нем должно различать интуитивное и дискурсивное мышление. Элементарное интуитивное мышление вместе с Бенно Эрдманом2 можно характеризовать, как «несформулированное» мышление, как мышление, еще не могущее пользоваться словесной формой — это «дологическое» интуитивное мышление, от которого Эрдман отличает «надлогическую» интуицию. Элементарное интуитивное мышление, не владеющее адекватным словесным выражением, может реализоваться в предметных образах, но может быть (как и дискурсивное мышление) и без всяких образов3. Эти «акты внечувственного знания», как отметил Бюлер4, имеют место у ребенка задолго до того, как детям становится доступно дискурсивное мышление, связанное с языком. Как говорит Бюлер, поведение детей полносубъективногосмысла, —для ребенка его действия внутренно связаны, внутренне мотивированы, подчинены известной последовательности. Если допустить, как это делают некоторые5, что такое «мышление» (дословное) можно найти и у животных с их инстинктивным ориентированием, с подвижностью, создаваемой здесь опытом, — то это нисколько не ослабляет «мыслительной» природы таких процессов у детей: у животных «дологические» процессы мышления являются предельной ступенью, для детей, наоборот, — начальной, за которой открывается широкая и плодотворная перспектива дискурсивного мышления. Надо только отметить, что сфера «дологической» интуиции у ребенка, по мере его интеллектуального развития, становится все богаче и глубже — благодаря постоянному взаимодействию с дискурсивным мышлением, продукты которого отлагаются и в процессах дологической интуиции, — особенно это надо сказать об апперцепции. Дологическая интуиция становится постепенно носительницей категориально-синтетических функций, пропитывающих собой уже восприятие, как это особенно подчеркивал, переходя, впрочем, в крайность, Шопенгауэр.
Переходя к формам дискурсивного мышления у ребенка, укажем на то, что и у взрослых и у детей мышление является связным. Не отдельная мысль вспыхивает в нас, но мышление развивается как связный, целесообразный процесс, определенный своей задачей — его одушевляющей и двигающей. Это «детерминирующее»6 влияние задачи мышления на его ход еще не до конца обследовано современной психологией7, но оно имеет
--
2B. Erdmann — Logik. B. I.
3 Это твердо установлено экспериментальным изучением дискурсивного мышления. Лучшую характеристику современного состояния психологии мышления см. у Гейзера (Gey se г — Lehrbuchd. allgem. Psychologie. 3-е изд. В. II), yOpe6eca(Frobes — Lehrbuch d. experim. Psychologie. В. П. Кар. IV). См. также книги: В i n e t — L'etude experimentale de ['intelligence; Messeг — Empfindung und Denken.
4 В u h 1 e г — Die geistige Entwickelung des Kindes. S. 80—81, 342. To, что находим в этом направлении у Гроса (Das Seelenleben des Kindes. S. 196—199), к сожалению, неудачно.
5 См. у Бюлер a (Die geistige Entwickelung des Kindes. Passim), также у Коffка (Die Grundlagen d. psych. Entwickelung. Кар. V и VI).
6 Термин Н. Аха.
7 Влияние «задачи» особенно выяснено в работах Аха и Иотта (Watt). См. также книги: Koffka —ZurAnalyzeder Vorstellungen и О. Selz — Ueber die Gesetze des geordneten Vorstellungsverlaufes.
242
фундаментальное значение в динамике мышления. При изучении психологии и детского мышления и мышления взрослых необходимо поэтому исходить не от отдельных процессов мышления, а именно от связных форм его.
Простейшая, а вместе с тем и основная форма мышления у детей -— это мышление по аналогии; иначе говоря, первая общая идея, которая направляет и регулирует работу мышления, — это идея сходства, идея аналогии между всеми частями действительности. Нам уже приходилось говорить о том, что принцип аналогии определяет собой работу фантазии у детей; познавательное мышление, вырастающее из эмоционального мышления, идет тем же путем, каким работает фантазия, примыкает к той форме, какую она выработала. Любопытно тут же отметить, что новые перспективы в познавательном мышлении и у взрослых открываются через проведение аналогии, через сближение того, что раньше было раздельно: творческое движение вперед намечается всегда в формах «допущений»… Детские аналогии, конечно, очень часто являются поверхностными, иногда даже бессмысленными, но это не должно ослаблять в наших глазах значения той огромной работы, которая осуществляется в мышлении по аналогии: дитя стремится найти единство в действительности, установить важнейшие сходства и различия. На этой как раз почве и развивается детский мифологизм — для ребенка все полно жизни, все образует единую и целостную систему. Процессы эйективации, о которых нам не раз приходилось говорить, связаны тоже с мышлением по аналогии. «Мир мысли ребенка, — замечает Селли, — включает в себя так много бессвязного, незакономерного, что было бы непонятно, как дитя может справиться с задачей мышления и постижения, если бы в нем не было живого и неугасимого импульса к тому, чтобы связывать и упрощать; здесь отчасти лежит пафос детства». Так вырастает у ребенка, по меткой характеристике Селли, «прекрасная и простая теория космического порядка».
В прекрасных главах, посвященных Селли характеристике детского мышления, можно найти много примеров детских аналогий, в которыхясно выступает основное направление, основная перспектива детского мышления: мертвые вещи являются для них живыми, машины и механизм — существами. Вот несколько примеров детских аналогий — по Селли: девочка 13 месяцев протягивает бисквит паровозу, чтобы покормить его и хочет приласкать его «голову» — вот движение, продиктованное аналогией. Одна пятилетняя девочка, объясняя, что обруч — живой, что он «все понимает», защищает свою мысль так: «он идет туда, куда я хочу, чтобы он шел»; движение обруча возводится девочкой к «внутреннему двигателю», к воле. Девочка 1,11 «собирает руками солнечные лучи», несколько позже она выражает желание помыть черный дым. Мальчик, беспрестанно двигавшийся и почувствовавший, что находившаяся под ним на стуле подушка скользит, решил, что она живая. Когда Пьер Лоти увидал в детстве в первый раз море, он решал, что это живое чудовище…
Все эти примеры детских аналогий показывают, как стремится напряженно детская мысль охватить со своим слабым запасом понятий безмерный мир, открывающийся перед ним; аналогия является для ребенка ключом к пониманию действительности, всеобщим принципом объяснения
243
мира. Явления природы и человеческое поведение дитя толкует по аналогаи с тем, что ему известно.,. Вот еще один яркий пример этого, заимствуемый тоже у Селли. В одну школу пришел новый учитель; один малыш обратился к нему сословами: «я боюсь, что вы будете ворчливым учителем». Учитель спрашивает дитя: «почем ты так думаешь?». «Но вы такого невысокого роста». Дело в том, что предыдущий учитель, очень ворчливый и суровый, был маленького роста — и по аналогаи с тем, что дитя наблюдало у прежнего учите пя, оно задумаюсь над тем, не будет ли и новый учитель ворчливым…
«Дети — малые философы в настоящем смысле слова», говорит Селли, — ив этой мысли его есть то верное и существенное наблюдение, что. дитя не ограничивается восприятиями действительности, но стремится кнониманиюиобъяснениюее. Дитя, не сознавая этого, исходит из предпосылки, что в мире царствует порядок и единство, что все в нем подчинено известным законам. —Одним из важнейших продуктов мышления по аналогии является у ребенка мысль, что всякий предмет имеет свое имя: всякий предмет кажется ребенку сходным с живым существом, с человеком и, следовательно, должен иметь свое имя. Наименование предметов является первой ступенью в знакомстве с миром, первой фазой в стремлении подойти ближе к действительности. Для понимания этой психологии ребенка не следует забывать, что у нас, взрослых, наблюдается аналогичное явление: когда мы встречаемся с чем-нибудь новым и незнакомым, мы прежде всего справляемся о названии этого предмета. Кто не знает того, как становится легче родным больного, когда доктор сообщит им название болезни — хотя бы они и не понимали, в чем сущность болезни! Почему? Потому что знать название вещи все-таки значит кое-что знать о ней; вещь, о которой мы не знаем даже ее названия, мучит нас. Корень этого явления — конечно, в создающейся во время детства установке, в убеждении, проникающем детское мышление, что всякая вещь имеет свое имя. Не случайно первые вопросы ребенка имеют именно такой характер: дитя спрашивает — «что это такое?», «как это называется?» и т. д.
Процесс наименования вещей имеет, несомненно, большое значение в интеллектуальном развитии детей. Всякая вещь получает свое имя — и рядом с предметным образом появляется словесный образ, предмет как бы удваивается в детском сознании. То, что всякий предмет имеет свое имя, наполняет сознание ребенка особым «вчувствованием» в жизнь мира: все, что имеет имя, имеет и жизнь, имеет свое место в действительности, в ряду явлений. Наличность общей идеи о том, что всякая вещь должна иметь свое имя, и превращает процесс наименования вещей в работу мышления: не простая привычка движет дитя ассоциировать предметный образ со словесным, а общая идея требует дать имя новой вещи: самая задача выдвигается не привычкой, а процессом мышления.
Из мышления по аналогии развиваются постепенно у ребенка другие формы мышления. Но позвольте перед этим сказать еще несколько слов о роли мышления по аналогии в интеллектуальной жизни взрослых. —Логическое значение выводов по аналогии, как известно из элементарной логики, очень незначительно, так как эти выводы дают не достоверное, а
244
только вероятное знание. Но если логическое значение выводов по анало-гииневелико. тосовсемдругоедолжносказатьо психологическом значении их: можно утверждать, что в основе всех научных обобщений лежала первоначально аналогия. Известный рассказ о том. что Ньютон пришел к идее всеобщего тяготения, наблюдая падение яблока, если исторически и легендарен, то психологически в высшей степени вероятен. Более достоверен исторически рассказ об Уайте, пришедшем к своему изобретению паровой машины из наблюдения над действием пара на крышку чайника… Аналогия как бы прокладывает дорогу для мышления, подбирает материал для его работы, проводит первые сближения и различения. — и это придает мышлению по аналогии огромную эвристическую ценность. Поэтому то обстоятельство, что в детском мышлении доминирует аналогия, нисколько не ослабляет ее внутреннего, творческого значения в духовном созревании ребенка; не столько важно, что мыслит дитя, как важно то, что оно вообще мыслит.
Как развиваются новые формы мышления из его первой формы? Нетрудно вскрыть тот логический путь, который открывается перед ребенком при разложении созданных им аналогий. Для понимания этого укажем, что в логической схеме выводы по аналогии могут быть изображаемы так:
Предмет А имеет признаки а, о, с, d, e, предмет В имеет признаки а, Ь, с, — значит, гласит вывод по аналогии, весьма вероятно, что предмет В имеет признаки и d, е: будучи сходным с предметом А в трех признаках, он, вероятно, сходен и в остальных. Возьмем конкретный пример детской аналогии.
Я мал, — говорит дитя, — и моя палка мала.
Я вырасту, и палка моя тоже вырастет.
Если дитя выскажет со свойственной детям чрезвычайной уверенностью эту мысль, то у него самого могут затем зародиться сомнения — так ли это? Но еще чаще такие сомнения могут быть высказаны другими людьми — как сверстниками, так и взрослыми. В случае возникновения сомнений, наступает неудовлетворенность высказанной мыслью, — и прежде всего дитя может попробовать защитить свою мысль. Конечно, оно может под влиянием сомнений просто отказаться от своей мысли, но тогда мысль логически не зреет, а обрывается. Если же этого не происходит, то укрепление или проверка мысли может пойти двумя путями: или дитя может заняться, в целях проверки мысли, наблюдением соответствующих фактов, или же оно может опереться на какую-либо общую идею. В первом случае дитя может справиться у взрослых, наблюдался ли рост их детских палок, может время от времени делать измерения свой палки и т. д., — все это открывает перед ним путь индуктивного мышления, т. е. извлечения из фактов идеи. Во втором случае, не прибегая к установке фактов, дитя может искать укрепления своей мысли в какой-либо общей идее, — например, но такому типу:
Все, что мало, со временем становится большим.
Палка моя сейчас мала; значит, со временем она станет большой.
Удачно или неудачно подберет дитя общую идею, это не важно сейчас, — важно то. что дитя становится на путь дедуктивного мышления. Таковы два пути, на которые ступает детская мысль при разложении
245
первоначальных аналогии, — и это позволяет нам сказать, что роль аналогии в мышлении заключается главным образом в том, что она ставит проблему. Заключение по аналогии есть типическое Annahme, проверка, укрепление или устранение которого требует новых процессов мышления — индуктивного или дедуктивного.
Каковы причины того, что дитя не удовлетворяется первоначальными аналогиями? С одной стороны, причины этого лежат в социально-психическом резонансе, который вызывает высказываемая вслух аналогия; с другой стороны, здесь действует и внутренний фактор — та внутренняя тревога ума, та работа, которая находит свое выражение в детских «вопросах». Начиная с конца третьего года жизни, дитя действительно вступает в период вопросов, которые и служат выражением той внутренней работы, которая подымает дитя над его первоначальными аналогиями и вводит его в настоящее мышление.
Конечно, детское мышление могло бы развиваться и без влияния социальной среды, — но в этом случае оно развивалось бы очень медленно и односторонне. Фактически же всякое дитя находится в постоянном взаимодействии с окружающими его людьми, с их вопросами и их ответами на собственные вопросы ребенка. Дитя не развивается в пустоте, —его мысли вызывают тот или иной отзвук, иногда встречают одобрение, иногда вызывают смех, иногда взрослые подтверждают и истолковывают мысль ребенка, иногда показывают ее ошибочность, задают ребенку вопрос, «почему ты так думаешь?». Особенно стимулирующее влияние имеют отзвуки — одобрительные и отрицательные — со стороны сверстников, от которых ребенку особенно неприятно слышать ироническое отношение к его мыслям. То обстоятельство, что всякая мысль, будучи высказанной, становится социальным фактом, как бы приобретает самостоятельность и отделяется от сознания, в котором она возникла, — ведет к тому, что дитя не мыслит только само в себе, само для себя — оно привыкает к тому, что всякая мысль его может быть усвоена другими, а следовательно, должна иметь форму, которая отвечает этой задаче. Мысль выходит за пределы индивидуального события, приобретает социальную силу становится средством социального общения. Можно без преувеличения утверждать, что этот момент имеет несомненное значение в самом процессемышления, в генезисе мысли; сознание, что мысль может быть сообщена другим, имеет стимулирующее влияние на ход мышления, равно как необходимость защищать мысль при ее высказывании влияет на ее форму. Если бы мы мыслили сами для себя, сами в себе, наша мысль fie облекалась бы в ту форму, в какой она выступает в условиях социального взаимодействия. Мысль наша, развиваясь в этих условиях, получает такую форму, чтобы стать способной быть усвоенной другими, — на этой именно почве оформляется и закрепляется «логическая» структура мысли. Психологический анализ мышления действительно убеждает, что логическая структура мышления, impliciteeft присущая, развертывается и оформляется именно в целях убеждения других людей: для нас самих важны мысли сами по себе, свет, бросаемый ими на те или иныеявления, но не «доказательства ее». Доказательства психологически оформляются лишь тогда, когда мы сообщаем свою мысль другим, ибо мы в себе приходим к сознанию истинности или
246
неистинности мысли, ее ценности или бесплодности — «внелогическими» путями.
Рядом с чисто внешней стимуляцией работы мышления, исходящей от социального взаимодействия, в нас действует, как мы говорили, и внутренний фактор в движении мышления к более высоким формам — именно та внутренняя работа, которая происходит в душе и симптомом которой являются вопросы. В развитии «вопросов» сказывается вну1реннее движение детской мысли, ее внутренний рост.
При более подробном изучении детских вопросов можно наметить в них несколько фаз, точнее говоря — несколько направлений, в которых происходит работа мысли. Простейшими являются вопросы: «что это такое?» или «как это называется?»; более сложными являются вопросы: «зачем?», «почему?», — здесь, с одной стороны, пробивается причинное мышление, с другой стороны— телеологическое, ищущее разгадки той цели, для которой существует вещь. Кроме этих типических вопросов, дитя, конечно, задается еще целым рядом вопросов, определяемых размышлениями детского интеллекта над различными явлениями. Раньше казалось, что можноустановитьизвестныйпорядокв развитии у детей вопросов (сначала вопросы: «что это такое?», затем «для чего?» —телеологического характера — и затем: «почему?», «как?» —причинного характера). Многочисленные наблюдения, однако, убедили в том, что во всяком периоде можно найти у детей все формы вопросов; если и можно говорить о некотором порядке в развитии детских вопросов, то только в смысле преимущественного развития вопросов определенного типа в известное время.
Для понимания значения вопросов в развитии детского мышления необходимо освободиться от одного очень обычного недоразумения в отношении кдетским вопросам: при непосредственном наблюдении может иногда создаться впечатление, что за детскими вопросами не скрывается никакой интеллектуальной работы. Возникает поэтому вопрос — каково участие интеллекта здесь, каково вообще место вопросов в нашей интеллектуальной жизни? Это необходимо выяснить, так как не раз приходится наблюдать, что дитя задает вопросы один за другим и даже не ожидает ответа на них, не слушает этого ответа, словно вся интеллектуальная энергия ушла в самый вопрос, так что наш ответ не нужен и не интересен. Когда дитя торопясь говорит вопросы один за другим, эти вопросы выскакивают, как мыльные пузыри, тут же лопающиеся, — создается впечатление, что для ребенка дело идет не о самом содержании вопроса, которое непременно требует ответа, сколько просто о самом процессе спрашивания, быть может даже об игре своими вопросами. Селли приводит хороший пример именно таких вопросов: один мальчик 3,9 лет спрашивал свою мать: «а что есть лягушка? а мышь? а птица? а бабочка? Как называется их дом? Их улицы?..».
Не кажется ли вам, что ответ и не нужен мальчику, что он спрашивает ради самого процесса спрашивания, а следовательно, в
--
8 «Das Kind ist leidenschaftlicher Namengeber» (G г о о s — Das Seelenleben des Kindes. S.201).
247
глубине этих вопросов нет никакого интеллектуального содержания?
Мы уже говорили о вопросах типа «что это такое?», что в основе их лежит общая мысль о том, что всякий предмет имеет свое имя, — и, интересуясь тем, как называется какая-либо вещь, дитя идет путем познанияее. Грос справедливо говорит, что дитя «страстно» стремится давать всякой вещи имя8, — и это лишь подчеркивает, что это не бессмысленный, не бессодержательный процесс, но процесс, который увлекает и наполняет дитя, как первая ступень в познании вещей. Любопытно, что если вы малышу 4—5 лет зададите вопрос: «знаешь ли, что такое вилка?», то дитя с полным убеждением, что оно знает, что такое вилка, ответит вам: «вилка? это — вилка!». В шкале Бине лишь к 7 годам дитя способно давать настоящие определения — правда, характеризуя не состав, не природу предмета, а его употребление («вилка — это для того, чтобы есть», «стул — для того, чтобы сидеть» и т. д.). И лишь к 10 годам дитя подымается над такими телеологическими определениями до определения предметов по их составу и сущности.
Как в Библии Адам нарек имена всему существующему, так дитя, знакомясь с миром, должно дать имя всему — частью запоминая имена, которые оно слышит от взрослых, частью само сочиняя названия вещей. И тут важно то убеждение ребенка, что всякий предмет, «имеет» свое имя; дитя меньше всего могло бы быть названо номиналистом, ибо имя находится в интимной связи с самим предметом. Известное «волшебство слова», о котором нам приходилось говорить в главе о сказках, стоит во внутренней связи со всем «миропониманием» ребенка.
Но если в вопросах дитя выражает работу своего интеллекта, почему же оно, задавая вопросы, нагромождает их так, что на них невозможно ответить, почему оно часто не слушает наших ответов на его вопросы? Но свойственна ли эта психология только детям, не встречаемся ли мы с таким же явлением у взрослых? Да, и у взрослых вы достаточно часто (а может быть, и чаще даже, чем у детей) можете наблюдать, что двое собеседников, разговаривая друг с другом, не слушают один другого, ставя вопрос, выражая сомнения, совсем не слушают того, что им отвечают, а продолжают свое. Но позвольте сказать несколько слов о психологии вопроса вообще.
Мы часто проходим мимо предметов, которых не знаем, но к которым привыкли, — и самая эта привычка как бы понижает наше внимание. Но если нам встречается что-то новое, неожиданное, это возбуждает наше внимание, поселяет известное беспокойство, вообще пробуждает работу интеллекта, которая и находит свое выражение в вопросе: «что это такое?» Вопрос поэтому стоит не в начале интеллектуальной работы, а является ее продуктом: возбуждение внимания, его остановка на необычном — сами по себе еще не включают интеллектуальной рабо ты9, атолько стимулируют ее; вопрос поэтому возникает
--
9 Ср.: Gr о os. Op. cit. S. 197.
248
не от простой остановки внимания, а при пробе мыслить. Вопрос есть формулировка затруднений нашей мысли и связан в своем содержании с тем, как и над чем работает наша мысль. Известно, что правильная постановка вопроса имеет огромное и продуктивное значение в дальнейшей умственной работе, ибо уже в вопросе предрешается логическая дорога, которой будет двигаться мысль. Часто даже в научном творчестве удачная постановка вопроса означает больше, чем искание ответов на него, потому что с правильной постановкой вопросов связана дорога во всей дальнейшей работе мысли. Если вопрос формулирует проблему, то он должен умело отделить известное от неизвестного в данном направлении и поставить их в правильные взаимоотношения. Вопрос является поэтому продуктом интеллектуальной работы, в нас происходящей, ее симптомом. И не только дети, но и мы, взрослые, часто ставим больше вопросов, чем это по силам нашему уму, часто больше задаемся вопросами, чем ищем на них ответов. И так как формулирование вопроса есть известный успех в умственной работе, то самая постановка вопроса несет с собой уже некоторое удовлетворение, как выражение чувства уже несет с собой некоторое его разрешение. Конечно, интеллект, который всегда только ставил бы вопросы и никогда не искал бы на них ответов, был бы странным, но ведь мы же сейчас говорим не о такой сплошной массе вопросов, выскакивающих один за другим и не ждущих ответов, — мы говорим о тех отдельных случаях, когда вопросом как бы заканчивается умственная работа. Как отдельные случаи, такие «безответные» вопросы встречаются и у детей и у взрослых и нисколько не опорочивают умственной работы, стоящей вообще за вопросами.
Вернемся к детским вопросам. — Не следует забывать, что перед детским сознанием открывается бесконечный, безграничный мир, в котором еще так много неведомого, неизвестного. Одно дитя хорошо выразило это состояние поглощенности души миром, ее обремененности им в характерном восклицании: «как Бог может знать все предметы в мире — их так много!». Дитя начинает с того, что видит возле себя, затем внимание его переходит к более отдаленным предметам, — и всюду первым шагом в приближении к ним является вопрос о названии.
Не следует забывать, что в это же время происходит развитие речи; потребность в особом слове для названия нового предмета заостряется и с этой стороны. Еще одно. При всех тех ограничениях, какие вводит Штерн в свое учение о трех ступенях в развитии интеллектуальных функций, бесспорно, это сначала внимание детей обращено на предметы, как таковые, — а затем уже переходит к действиям и в^имодействиям, к связям вещей, к их цели, к их происхождению. Очень любопытны три фазы при рассматривании картин, какие установил Бине в своей шкале: если вы покажете детям 3 лет гравюры, то они могут дать лишь «перечисление» предметов, изображенных на картине (тип ответа при вопросе: «что видишь на картине?» таков: «господин, дама, дерево…»). Лишь к 7 годам достигается следующая фаза — «описание», в котором характеризуется то, что «делают» люди («господин и дама сидят на скамейке») и лишь к 15 годам достигается фаза «истолкования», когда восстанавливается содержание картины, не только в предметах, на ней нарисованных, не только в
249
действиях и связях этих предметов, но и в том смысле, который хотел, по мнению испытуемого, выразить художник10. Эта последовательность в развитии высказывания о картине показывает, что интерес к предметам как таковым есть известная ступень в развитии интеллекта. Лишь постепенно от предмета в его наличности, в его внешней обособленности, закрепляемой особым названием, дитя переходит к интересу о значении этого предмета, о его месте среди других предметов (телеологический вопрос: «зачем?», «для чего?»), а затем и к вопросу о строении и о происхождении предмета (интерес к причинному пониманию). Что касается вопросов последних типов, то их связь с работой мышления, конечно, стоит вне всяких сомнений. Еще Юм хотел связать причинное понимание, со сферой представлений, а не мышления — в частности, с процессами ассоциации. Штерн справедливо замечает по этому поводу, что изучение детского мышления категорически принуждаетнас признать идею причинности независимой от сферы представлений". Причинность есть категория мышления, которая пробуждается благодаря опыту, но не рождается из опыта.
Как типическая форма детского мышления, вопросы особенно характерны в возрасте от 272 до 572 лет; хотя самое содержание вопросов постепенно меняется, но, как форма интеллектуальной работы, они сохраняют тот же характер. Если даже детские вопросы кажутся нам порой поверхностными и случайными, то мы все равно должны добродушно и внимательно относиться к ним12.
Вернемся к анализу детского мышления вообще. Мы видели, что первая и основная форма детского мышления — это мышление по аналогии. Но дитя не может удержаться на этой ступени — вопросы и сомнения других людей, собственная интеллектуальная работа, проявляющаяся, между прочим, в детских вопросах, выводят дитя из этой первой стадии, дитя стремит-
--
10 Другие авторы указывают немного иные ступени в развитии высказываний о картинах. Так, Bobertag устанавливает 4 ступени: 1) перечисление отдельных предметов — 3 г., 2) описание — б л., 3) объяснение при помощи наводящих вопросов — 9 л., 4) объяснение — без вопросов — 12 л. О различных формах исследования этого см.: S t e г п и. Wiegmann — Methodensammlung zur Intelligenzprufung von Kindern und Jugendlichen. 1920. S. 83-92. См. также: Stern — Psychologie der fruhen Kindheit. S. 128—135.
"Stern — Psychologie… S. 258 ff. Любопытно указание Штерна и на то, что причинное мышление у детей, как можно судить по дневникам, связано не с обычным, а как раз с необычным (Ibid. S. 260).
12 Лучшие анализы детских вопросов см. у Селли, у Штерна, у Бюлера. Интересны выводы, к которым пришел Грос при изучении причинного мышления в более старшем возрасте. Грос изучал «причинные вопросы» в зависимости от того, направлены ли они на причины («регрессивные» вопросы) или на следствия («прогрессивные» вопросы). Вот как меняется отношение регрессивных и прогрессивных вопросов (вначале у ребенка преобладают регрессивные вопросы, а затем постепенно выступают на первый план прогрессивные):
Годы Отношение регрес. вопросов к прогрес.
12—13 9,8
14—15 7,4
15—16 4,7
16—17 3,9
Студенты 1,3
250
ся к более внимательному изучению фактов для получения общих выводов, или ищет общих идей, с помощью которых оно могло бы оправдать свои выводы. В первом случаемы имеем дело с индуктивным мышлением, во втором — с дедуктивным13.
Детская индукция имеет всем известные недостатки. Детские обобщения, те общие идеи, которые дитя строит на основании «изучения» фактов, носят характер «нетерпеливой импровизации», говоря известными словами Тургенева («Рудин»). Ребенку нужно очень немного фактов, чтобы на основании их сделать вывод; некритичность, естественно присущая ребенку, ведет к тому, что случайное и временное кажется ребенку существенным и постоянным. Все это обрекает детские обобщения на постоянные ошибки. Но здесь как раз очень уместно было бы напомнить главы в «Логике» Милля, посвященные анализу ошибок в выводах — это было бы полезно, чтобы удержать нас от поспешных и несправедливых упреков по адресу ребенка. Конечно, мы, взрослые, не делаем таких ошибок, как дети, но мы имеем свои ошибки, которые являются тоже грубыми и тяжелыми.
Детская дедукция, как и у взрослых, больше является редукцией: психологически процесс идет не от посылок к выводу, а от вывода к тем посылкам, которые его обосновывают. Для детских дедукций очень типичны две ошибки: 1) дитя, в поисках общей идеи для доказательства своей мысли, пользуется идеей, которая действительнодает обоснование мысли, но которая сама по себе является неистинной, или 2) дитя высказывает, в доказательство своей мысли, такую идею, которая сама по себе истинна, но имеет слишком слабую связь с выводимой мыслью. Конечно, в детском мышлении ошибки занимают очень большое место, — но важно то, что интеллектуальная работа укладывается в логическую форму. Штерн, который дает в своей книге не мало хороших примеров развития индукции и дедукции у своих детей (начиная от 3 лет), находит, что дедукция сравнительно редка у детей. Мне представляется этот вывод Штерна не отвечающим действительности.
На этом мы можем закончить анализ «связного» мышления у детей. Прежде чем мы обратимся к анализу отдельных логических процессов у детей, подчеркнем еще раз высокую интенсивность интеллектуальной работы у детей. Дитя мыслит обо всем, мыслит напряженно и творчески; в итоге этой работы, часто не отделившейся от работы фантазии, у ребенка слагается своеобразное «миросозерцание». Селли говорит, что всякое дитя — метафизик, и это верно в том смысле, что всякое дитя далеко переходит за границы опыта. Детское мышление содержит в себе зачатки настоящего философского мышления.
Обратимся к процессам суждения и образования понятий у детей.
--
13 Было бы более правильно, следуя Карийскому (Классификация выводов), говорить в первом случае о выводах от отдельных предметов к группе, а во втором случае — от группы к отдельным предметам.
251
Современная психология мышления учит, что с понятиями мы встречаемся лишь в их включенности в суждения, — даже больше: самый генезис понятий связан с суждениями. Никогда понятие не мыслится в потоке мыслительной работы самостоятельно и отдельно: понятия формируются лишь в живом процессе мышления и только включенными в него и существуют. Но если с психологической точки зрения реально существуют лишь суждения, а понятия не обладают самостоятельным бытием, то с логической точки зрения именно понятия и тот духовный «взлет», который в них осуществляется, вводят в наше сознание «трансцендентальное» начало. Здесь не место развивать эту идею, достаточно указать на нее.
Гуссерль, современный платоник в логике и психологии логических процессов, с убедительной ясностью показал, что образование понятий, хотя и исходит от образов, но не заключается ни в их преобразовании, ни в сгущении (как это, например, предполагала теория «родовых образов», построенная Рибо); образование понятия есть дело особого и непроизводного акта нашего духа, который мы можем, вслед за Гуссерлем, назвать «идеацисй». Благодаря идеации мы поднимаемся над образным материалом до «логоса» явления, до его «идеи» и «сущности». Будучи непроизводным актом, идеация не может развиваться из актов представления, хотя она и опирается на образный материал: действительно, образы являются материалом, в котором нам, благодаря идеации, открывается идеальная сторона в явлении, и мы восходим к сфере идеального, вечного, неизменного. Мы должны ожидать, что и у детей функция понятий развивается не из образов, но н а образах, — и притом, конечно, как уже было указано, понятия развиваются в суждениях. К детским суждениям сначала мы и обратимся.
Уже первые «односложные предложения» (см. главу о развитии речи у ребенка)являются настоящими суждениями [аиногдаAnnah-men — когда они выражают только чувства; но со стороны содержания, как былоужеуказано, Annahmen не отличны отсуждений и тожевключают акты идеации]14. Но еще раньше, чем мысль детская воплощается в словах, дитя обладает формой суждения — хотя и не развитой еще. То психологическое расчленение, которое конституирует сущность суждения, можно вместе с Геффдингом выразить психологически так, что в суждении выступает terminus a quo («подлежащее» суждения) и terminus ad quem («сказуемое» суждения). Его можно найти собственно и в интуиции, но только там оно не выражено, не оформлено. Потому язык и играет такую роль в развитии дискурсивного мышления: оформляя и закрепляя расчленение единой «мысли», он помогает тому, чтобы логическое расчленение мысли могло быть осознанным. Интуитивные акты, психологически связанные с дуализмом terminus a quo и terminus ad quem, логически еще едины; в дискурсивном мышлении психологическое расчленение, оформленное и как бы объективированное с помощью языка, становится логическим. Однако язык все же играет здесь внешнюю роль — он только оформ-
--
14 Сложных и трудных вопросов, затрагиваемых в этих строках, я, разумеется, не могу здесь касаться.
252
ияет и закрепляет то перерождение психологического расчленения в логическое, которое созидается другими силами, именно тем. ч т о terminus ad quem становится понятием. Этот акт есть акт идеации и только в том случае, если он имел место, если terminus ad quem психологически дорастает до понятия; возникает логическое расчленение. Известно, что в суждениях (познавательных!) сказуемое всегда является понятием; с логической стороны суждение является сознанием идеи в явлении — это не есть просто сознание понятия, но именно сознание понятия в явлении. Понятие возникает благодаря акту идеации. но, чтобы возникло суждение, необходим акт синтеза (явления и понятия). Конечно, акты идеации имеют в нас место до появления слов, но слова, в силу символической функции их, присущей им по самым условиям их возникновения, особенно легко становятся носителями понятий.
Различные наблюдатели (Шинн, Прейер, Штерн) находили первые высказывания во второй половине второго года жизни. Насколько могу судить по своим наблюдениям над. детьми, они встречаются уже в первой половине второго года жизни. Вот пример, приводимый Прейером: «на 23 месяце жизни дитя высказало первое суждение: оно пило молоко, поднося чашку обеими руками ко рту; так как молоко было горячо, то дитя быстро поставило чашку на стол и сказало громко и решительно, глядя на меня широко открытыми глазами — «горячо!». Приведя несколько аналогич ных восклицаний ребенка, Прейер замечает, что это не было простой' ассоциацией слова с ощущением горячего — а было «настоящим суждением». Конечно, такому опыт ному наблюдателю, каким является Прейер, нельзя не поверить. Бюлер справедливо полагает, что целый ряд однословных выражений ребенка уже в стадии наименования предметов имеет характер настоящих суждений15, которые он называет «суждениями называния».
Еще несколько частностей о развитии суждений у детей. — Первые суждения детей являются «утвердительными» —они констатируют какой-либо факт. Сравнительно позже выступают отрицательныесуждения, и это тем более любопытно, что, как отмечает это Штерн, «отрицание в форме волевого выражения выступает очень рано»16. По наблюдениям Штерна17, первое «нет» выступает в возрасте 1,6 и сначала имеет аффективно волевой характер и лишь месяца через три оно получает значение «констатирующего» отрицания. «Констатирование недостающего» настолько трудно дается, что в шкале Бине лишь 7-летним детям предлагается указать, что отсутствует на картине. Интересно отметить то грамматическое своеобразие детских отрицательных суждений, что «нет» ставится обыкновенно в конце преддожения, как бы отвергая все то, что было до этого сказано (но типу «я сегодня пойду гулять нет»). Это является любопытным подтверждением известной теории отрицательных суждений, впервые формулированной Зигвартом18.
Что касается развития понятий у детей; то хотя они, появляются до
--
15 В u'h 1 е г — Die geistige Entwickelung des Kindes. S. 381."Stern — Psychologic… S. 253."Ibid. S. 244.
18 См. историю проблемы отрицательных суждений в известном очерке Виндельбанда в его «Прелюдиях».
253
появления слов, но, несомненно, язык имеет огромное влияние на развитие детских понятий, причем некоторое время, благодаря малому числу слов у ребенка, отдельные слова нередко означают не одно, а несколько близких понятий. Рост детских понятий идет довольно быстро, но это не означает, что понятия детей истинны и точны, — наоборот, они очень неточны и поверхностны. Много прекрасных примеров фантастичности и неточно сти детских понятий дает Селли в своей книге, куда и отсылаем интересующегося этим читателя. Но при оценке детских понятий важна интенция, т. е. психический акт, функция, а не содержание: именно содержание детских понятий очень неточно, неудачно, тогда как по акту детские понятия являются настоящими понятиями. За развитием отдельных понятий мы не будем здесь следить и отошлем читателя к книгам Штерна, Бюлера и Гроса. Отметим только особенно важный процесс —эторазвитие детских определений. Впервыеэтим вопросом занялся Binet, в шкалу которого исследования определений вошли существенным элементом. Мы закончили наш беглый обзор главных вопросов, касающихся развития детского интеллекта, и теперь можем обратиться к очень важному — не только в практическом, но и в теоретическом отношении — вопросу об измерении интеллектуального уровня. Впервые этот вопрос был выдвинут и разработан известным французским психологом Бине, который, вместе со своим сотрудником Симоном, искал методов установления ступеней в интеллектуальном развитии отсталых детей. После целого ряда предварительных исследований Бине пришел к мысли, что для всякого возраста должен существовать типический объем интеллектуальной работы, которую дитя данного возраста может выполнить. Но как найти те задачи, решение которых вполне доступно и характерно для «нормальных» детей определенного возраста? Бине пошел следующим путем: составив группу задач, он пытался определить, какие задачи для какого возраста вполне доступны: если какая-либо задача, еще не вполне доступная, скажем, для пятилетнего. возраста, доступна 75% детей 6 лет, то он признавал ее нормальной для ребенка 6 лет. Таким чисто эмпирическим путем — что особенно ценно в этой работе Бине — он установил шкалу, в которой были расположены вопросы для возрастов от 3 до 15 лет. Бине три раза исправлял свою шкалу, — это касалось и содержания задач и, главное, числа их. Первоначально для разных лет у Бине было различное число задач, — и, может быть, точная характеристика интеллектуального уровня каждого возраста и в самом деле не допускает одинакового числа задач для каждого возраста. Но тот метод использования материалов, добываемых при исследовании, который применил Бине, требует одинаково! О числа задач в каждом возрасте. Другой существенный дефект шкалы Бине, не выправленный им самим и доныне никем не устраненный, несмотря на огромнейшую литературу, порожденную этим исследованием Бине, касается самого содержания задач, предлагаемых Бине. Отдельные задачи, составленные им, хороши и удачны, другие же, к сожалению, не таковы. Некоторые важные функции совсем не затрагиваются шкалой Бине; очень много отведено места в шкале Бине «знаниям» ребенка, т. е. тому, что характеризует не столько интеллектуальный уровень, сколько школьные успехи детей. К сожалению, все те
254
Рис. 49.
поправки и модификации, которые предлагали различные авторы, не вносят существенного усовершенствования в шкалу Бине. La critique est facile, mais Г art est difficile. Бине многие критиковали и критикуют, и все же его шкала, несомненно требующая поправок, остается в своих основах единственной19.
Приведем в последней редакции Бине эту шкалу:
Задачи для 3 лет
1) Покажи нос, ухо, рот.
2) Повтори две цифры (73)20. (например, 2—8, 3—5, 4—9).
3) Что нарисовано на картине? (си. рис. 49, 50, 51).
4) Имя, фамилия.
5) Повтори фразу (6 слогов) (например, «посмотри на меня»).
Задачи для 4 лет
1) Ты мальчик или девочка?
2) Что это такое? (показывается 3 предмета, например, ключ, ножик,
монета).
19 См. лучшую монографию по вопросу о шкале Бине: Stern — Die Intelligenz der Kinder und Jugendlichen. L. 1920.
20 (V3) означает, что если из трех предлагаемых задач дитя правильно решит одну, то вся задача считается решенной.
255
3) Повтори три цифры (1/3). (например: 3—0—8, 7—1—5, 9—2—6).
4) Какая линия длиннее? (см. рис. 52).
5)…………………………………………. 2'.
Задачи для 5 лет
1) Сравнить 3 и 15 грамм («что тяжелее?»).
2) Срисовать квадрат.
Рис. 50.
3) Повторить фразу из 10 слогов
(например: «Я люблю ласточек. Мы все люди»).
4) Сколько здесь монет? (предлагается 4 монеты).
5) Игра в «терпение»22.
Задачи для 6 лет
1) Утро сейчас или вечер?
2) Дать определения:
Что такое вилка?
---
21 У Бине для 4-летнего возраста указано лишь четыре задачи.
22 Надо взять обыкновенную визитную карточку и разрезать ее по диагонали. Ребенку предлагается целая карточка и два треугольника, из которых предлагается составить такую фигуру, какую представляет целая карточка.
256
Что такое стол? Что такое стул? Что такое лошадь? Что такое мать?
Рис. 51.
3) Срисовать ромб.
4) Сколько здесь монет? (предлагается 13 монет).
5) Кто тебе больше нравится? (см. рис. 6, 7, 8).
Задачи для 7 лет
1) Где у тебя правая рука, левое ухо?
2) Что видишь на картине? (той же, что предлагается 3-летним детям).
3) Исполнить каких-либо три поручения.
4) Назвать четыре цвета (показываются отдельно — красный, желтый, синий и зеленый цвета).
5) Сколько денег на столе? (показывается 3 простейших и 3 двойных монеты, например, 3 простых и 3 двойных су).
У Психология детства
257
Задачи для 8 лет
1) Сравнить два предмета по памяти (2/3).
Если дитя знает указанные ниже два предмета, то спрашивают, какая между ними разница: 1) муха и бабочка, 2) стекло и дерево, 3) бумага и картон.
2) Считать от 20 к 0.
3) Чего не хватает на картине? (3/4) (см. рис. 9).
4) Какой сегодня день, число, месяц, год? (3/4).
5) Повторить 5 цифр (Ч}).
(например: 8—0—3—5—1, 7—6—2—9^, 3—5—2—1—7).
Рис. 52.
Задачи для 9 лет
1) Дать сдачи (если, например, даю 1 франк, а купил на 20 сентимов, то дитя должно дать сдачи).
2) Назвать монеты (предлагаются все мелкие — до 20 франков, например, — монеты).
3) Определения в «высшем смысле» (см. задачу № 2 для 6 лет).
4) Назвать месяцы ("/12).
5) Так называемые легкие вопросы (2/3). Например:
1) Если вы заметили, что опоздали на поезд, что нужно делать?
2) Если вас случайно кто-либо ударил, что нужно делать?
3) Если вы разбили чужую вещь, что нужно делать?
Задачи для 10 лет
1) Расположить по порядку 5 коробочек различного веса (3,6,9,12,15
грамм).
2) Нарисовать на память чертеж (экспозиция 10 секунд) (см. рис. 53 и 54).
3) Составить фразу из 3 слов
(например: Париж, богатство, река)23.
4) Критика абсурдных фраз (вопрос: «какая ошибка в фразе?»):
23 Для 10 лет типично составление из этих слов двух фраз, для 11—12 — одной фразы.
258
Рис. 53. Рис. 54.
1) Один человек, ехавший на велосипеде, упал, разбил тлову и умер; его отнесли в больницу и боятся, что не смогут вылечить.
2) Вчера произошел несчастный случай на железной дороге, но не тяжелый: убито всего 48 человек.
3) У меня три брата: Иван, Николай и я.
5) Так называемые «трудные» вопросы (3/5).
1) Если вы замечаете, что можете опоздать в школу, что нужно сделать?
2) Почему легче прощаем мы дурной поступок, если он совершен в гневе?
3) Если вы принимаете участие в каком-либо важном деле, что нужно делать?
4) Если вас спрашивают о человеке, которого вы мало знаете, что вы ответите?
5) Почему мы больше судим о человеке по его делам, чем по его словам?
Задачи для 11—12 лет
1) Сопротивление внушению (2/3)24.
2) Составить фразу из 3 слов
(см. задачу № 3 в возрасте 10 л.).
3) Сказать 60 слов в течение 3 минут («говорите все слова, какие вы знаете»).
4) Определить абстрактные понятия
(например: Милосердие, Справедливость, Любовь).
5) Что это значит (поставить те же слова в правильном порядке) (2/3):
1) Хозяина храбро собака своего защищает.
2) Рано вышли на мы прогулку.
3) Учителя я работу своего исправить просил25.
Я не буду входить здесь в дальнейшие подробности техники этих экспериментов26. Кроме приведенной нами шкалы Бине, есть еще несколько модификаций ее, но здесь не стоит приводить их, так как в основном они повторяют Бине. Исследование отдельных психических функций поставлено вообще очень недурно, но задача, которую поставил и решил
24 Детям предлагается сравнивать линии, сначала различной длины, а затем одинаковой; под влиянием внушения дитя признает последние различными.
25 Задач для 15-летних и юношей не привожу, так как они выходят совсем за пределы исследования детей раннего детства.
26 См. очень удобное издание: Binet et Simon — La mesure de de'veloppement de Г intelligence chez les jeunes enfants. Paris. 1917.
259
Бине — найти шкалу для измерения интеллектуального уровня, — имеет принципиатьно другой характер27. В настоящей книге мы не можем входить в обсуждение и в подробную характеристику методов изучения детского ума. Обратимся поэтому к результатам исследований по методу Бине2*.
Первый важный результат этих исследований заключается в том, что интеллектуальное развитие не идет равномерно: только половина детей определенного возраста стоит на том интеллектуальном уровне, который соответствует их возрасту, четверть детей — ниже своего «нормального» уровня, четверть — выше. Если свести воедино данные, полученные различными авторами, то цифры получаются такие:
Ниже уровня На уровне Выше уровня
27,2% 48,4% 24,4%
(цифры охватывают 2334 детей). Если вслед за Штерном взять отношение жизни, то это отношение (его называет Штерн IQ — Intelligenzquotient) распределя ется так: (http://arhiv-knig. ucoz. ru/img/zenkov/pd/r33. jpg)
«интеллектуального возраста» (т. е. ступени, на которой находится интеллектуальный уровень данного дитяти) к годам Ниже 0,77 3%
0,77—0,93 22%
0,94—1,07 50%
1,08—1,24 22%
Выше 1,24 3%
Выразим тот же вывод иначе:
«Неспособных» детей 3%
Малоспособных » 22%
Нормальных » 50%
Одаренных » 22%
Высоко одаренных» 3%
| Если взять не |
суммарные цифры, а вычислить распределение детей на |
| |
Ниже уровня На уровне Выше уровня |
| Дети 5—7 лет |
9% 53% 38% |
| Дети 8—9 лет |
28% 48% 24% |
| Дети 10—12 лет |
41% 42% 17% |
21 Очень интересен, хотя охватывает мало!1сихических функций, метод д-ра А. В. Владимирского (см. его книгу —Методы исследования личности). Идея «психологических профилей» Россолимо, по моему, не верна; см., впрочем, использование этого метода у Клапареда — Profits psychologiques. Arch, de Psychol. Т. XVI. 1917.
28 При вычислениях в работах со шкалой Бине поступают так: исходят от года, задачи которого все были решены; число задач, решенных из испытаний других годов, делится на 5, и полученное число «лет» прибавляется к исходному году.
260
три группы (отсталых, нормальных, одаренных) для разных возрастов, то получается чрезвычайно интересная картина:
Картина поразительная! Число отсталых детей возрастает с 9 до 41%, признаки одаренности падают с 38 до 17%! Ранние годы отличаются напряженностью интеллектуальной жизни, дети быстро движутся вперед — почти 2/5 детей далеко впереди нормального уровня, — а затем после 7 лет (школьный возраст!) начинается ослабление интеллектуальной жизни, отсталых появляется все больше, одаренность как-то растворяется.
Другой важный результат, найденный Бине и подтвержденный другими исследователями, заключается в том, что школьная оценка интеллектуального развития часто сильно расходится с той оценкой, которая дается психологическим исследованием. В школе часто не замечают, что среди детей, например, 9 лет есть 11-летние — и считают «успехи» последних настоящими успехами, между тем ясно, что если 11-летнее дитя справляется лишь с задачами для 9-летних детей, то оно, конечно, отсталое. В связи с расхождением школьной и психологической оценок Бине подымает
| |
|
Психологическая оценка |
Всего |
Ниже уровня |
На уровне |
Выше уровня |
| |
Слабые |
14 |
9 |
1 |
24 |
| |
Нормальные Очень способн. |
16 0 |
33 |
16 |
65 12 |
| |
|
|
5 |
7 |
|
| |
Всего |
30 |
47 |
24 |
101 |
вопрос, которого мы слегка коснемся еще ниже — о наличности «двух» умов у нас («школьного» и «жизненного»).
Обратимся к сравнению школьной и психологической оценки. Вот цифры Бине:
Из 30 отсталых (с психологической точки зрения) школа признает таковыми только половину — остальная половина отсталых удачно справляется со школьной работой. Из 47 нормальных (с психологической точки зрения) школа 9, т. е. 20%, переводит в категорию слабых, 5 (10%) считает выдающимися, а относительно остальных оценка школы и психологического исследования совпадает. Наконец, из 24 одаренных (с психологической точки зрения) школа все-таки 1 вносит в категорию слабых, 16 (65%!) в категорию средних. Если вычислим расхождение и совпадение школьной и психологической оценки, то это представится в таких цифрах:
Школьная оценка:
Ниже психол. Совпадает Выше психол.
25,5% 54% 20,5%
Тут как раз кстати вспомнить вредное влияние на развитие ребенка недооценки его со стороны окружающих людей. В исследовании Бобертага из 55 слабых (в психологическом испытании) детей школой зачислены в
261
категорию слабых 29, а 26 (47%) признаются нормальными (у Бине, мы видели, эта ошибка школы достигает 54%). Из 109 нормальных (в психологической оценке) школа относит 17 (15%) в категорию слабых, а 13 (12%) — в категорию одаренных, в остальных 73% оценка совпадает; из 52 одаренных (в психологической оценке) школа недооценивает (относя к числу нормальных) 21 (40%). Таким образом, по Бобертагу школа лучше оценивает детей; если свести его данные, то получится:
Школьная оценка
Ниже психол. Совпадает Выше психол.
17,5% 64% 18,5%
Не входя в дальнейшие подробности, отошлем читателя к книге Штерна29. Укажем еще лишь на интересные результаты исследования Морле о влиянии социальных условий на ход интеллектуального развития. Вот его цифры:
| |
Ниже уровня |
На уровне |
Выше уровня |
| 30 детей очень бедных |
12 |
13 |
5 |
| 30 детей не бедных |
4 |
10 |
16 |
Из бедных детей ниже уровня стоит 40%, а из тех, которые живут в сносных материальных условиях, — 13%; из первой группы быстро разви-
| |
|
/V |
Мальчики |
|
|
| Годы |
Ниже уровня |
|
На |
уровне |
Выше уровня |
| 4—6 * |
33 |
|
|
|
50 |
17 |
| 6—8 |
41 |
|
|
|
42 |
17 |
| 8—10 |
38 |
|
|
|
43 |
19 |
| 10—12 |
100 |
|
|
|
0 |
0 |
| |
|
В |
Девочки |
|
|
| А—6 |
0 |
|
|
|
67 |
33 |
| 6—8 |
58 |
|
|
|
42 |
0 |
| 8—10 |
72 |
|
|
|
17 |
11 |
| 10—12 |
85 |
|
|
|
15 |
0 |
ваются — 17%, а из второй — 53%! В интересном исследовании Шмитта30 получаем несколько иные данные; в виду общего значения затрагиваемой темы приведем и эти данные. Но сначала укажем на интересное различие
--
29 S! е г п — Intelligenz der Kinder. S. 194—225.
30 M. S с h га i 11 — DerEinflussdesMilieusundandererFaktorenauf daslntelligenzalter. Fortschr. d. Psych. B. V. H. IV. 1919.
262
мальчиков и девочек в их интеллектуальном развитии, насколько это освещает Шмитт31. Цифры даны в %.
Вот сводная таблица для возраста 4—11 лет.
| |
Ниже уровня |
На уровне |
Выше уровня |
| А. Мальчики |
42 |
42 |
16 |
| В. Девочки |
50 |
30 |
20 |
В общем девочки стоят ниже мальчиков, но до 6 лет, как показывает предыдущая таблица, значительно превосходят мальчиков.
Вот цифры, касающиеся влияния моральных и материальных уcло-
| |
А. Влияние моральной среды |
| Мальчики |
Условия Ниже уровня На уровне Выше уровня |
| |
Хорошие 45,7 41,8 12,5 Дурные 42,3 38,5 19,2 Хорошие 62,5 25 12,5 |
| |
|
| Девочки |
|
| |
Дурные 77,8 22,2 0 |
| Мальчики |
В. Влияние материальных условий |
| |
Скверные |
| |
40 20 40 |
| |
Очень скверные |
| |
42,5 47,5 10 |
| Девочки |
Скверные |
| |
68,8 18,7 12,5 |
| |
Очень скверные |
| |
67,7 26,5 5,9 |
вий, — они довольно неожиданны (цифры даны в %, относятся к возрасту 4—11 л.).
Приведенные цифры очень любопытны. Не входя в их подробный анализ, укажем лишь на то, что на девочках сильнее сказывается влияние среды, девочки обладают меньшей сопротивляемостью.
Данные, полученные Бине относительно частого расхождения школьной и психологической оценок интеллектуальной силы ребенка, заставили его придти к мысли, что, быть может, мы имеем дело здесь с разными функциями ума, с разными его формами. «Школьный ум», «школьные способности» не только не совпадают с жизненным умом, но часто действительно очень расходятся. Мысль Бине представляется мне плодотворной; не входя в подробности и обоснование, скажу лишь, что мне представляется, что в нас есть не две, а четыре функции ума, работа которых независима одна от другой. В четырех различных направлениях, в четырех функциях ум работает неодинаково; сочетание высоты работы ума во всех направлениях бывает действительно не очень часто. Вот эти «четыре ума»: 1) «школьный ум», который проявляется в процессах
--
31 К сожалению, число обследованных Шмиттом детей было невелико — 46 мальчиков и 54 девочки.
263
усвоения чужих мыслей, науки; 2) «творческий ум», который проявляется в самостоятельной работе в новом (теоретическом) направлении; 3) «технический или практический ум», который сказывается при воплощении в жизнь какой-либо идеи, и 4) «социальный ум», проявляющийся в социальных отношениях, в такте, в умении быстро ориентироваться в людях, в умении себя держать. Может быть, есть и еще какие-либо независимые функции ума.
На этом мы заканчиваем вопрос о развитии детского ума и переходим к изучению детской активности.
ГЛАВА XIV.
Активность ребенка. Игры детей, их классификация и анализ. Инстинктивная, импульсивная и выразительная активность. Развитие воли, ее позитивной и негативной функции. Типы воли. Развитие привычек.
Мы знаем, что раннее детство занято преимущественно играми, — игры являются главной и основной формой детской активности. Конечно, «серьезная» активность тоже имеет место в жизни ребенка, но не нужно забывать, что в нормальных условиях дитя, в течение раннего детства не знает никаких забот, совершенно чуждо «борьбе за существование», даже не представляет себе, в чем она состоит. «Серьезная» активность ребенка не имеет перед собой «деловых» задач и ограничивается некоторыми отношениями к людям, к вещам. Наоборот, игры являются в это время универсальной формой детской активности — в том смысле, что все формы активности (импульсивная, инстинктивная, выразительная и даже волевая) принимают участие в играх. Поэтому прежде чем мы войдем в изучение различных форм детской активности, нам необходимо остановиться более подробно на детских играх.
Общий анализ игры, развитой нами раньше, показал нам, что всякая игра связана с работой фантазии, так как объект игр, в значительной своей части, соткан воображением. Однако, игра требует хоть капли реальности, как исходной основы для работы фантазии, ибо играют дети всегда sub specie realitatis: дети играют так, как если бы они имели дело с настоящими, а не вымышленными предметами. Дети глядят —-в процессе игры — на объект игры, как на настоящий предмет — на деревянном коне дитя едет с таким же увлечением и одушевлением, как если бы оно ехало на настоящем коне. Без этого преображения исходной реальной основы с помощью воображения игра невозможна: дитя в процессе игры обращается с предметами игры так же, как обращается оно с реальными предметами в деловом отношении к ним. Эта иллюзия настоящей и полной реальности является необходимым предусловием, чтобы благодаря игре могли пробуждаться дремлющие силы, чтобы они могли зреть и развиваться. Нет игр, в которых решительно все было бы создано воображением — некоторая «доза» реальности необходима как исходная основа для работы воображения.
Этот именно момент и создает универсальность игр: всякая серьезная и деловая активность легко может перейти в игру, если только работа фантазии присоединится к психической установке, незаметно, но
265
существенно изменяя эту установку. Переход от серьезной активности к игре совершается легко и незаметно; можно было бы сказатьТчто сфера игры является как бы своеобразной оранжереей, в которой распускаются цветы активности, которые не могли бы иначе распуститься в слишком холодной атмосфере «серьезной» жизни. Самые тяжелые условия существования меняются и смягчаются в переходе к играм; самая неприглядная обстановка не мешает развернуться преображающей и творческой силе фантазии. Дитя не могло бы развиваться без этой поэтизации, без этого преображения всей своей жизни, всей обстановки своей — во все вносит дитя нечто свое, новое, дорогое — благодаря работе фантазии, все переводит легко в подвижную и увлекательную сферу игры. Было бы очень интересно проследить с этой точки зрения, какое место занимает тот же процесс у нас, взрослых. Я держусь мнения, что и мы, взрослые, очень часто переводим нашу серьезную и деловую активность в некоторую тонкую и прикрытую игру1, привносим почти всюду начало игры. Конечно, эта связь серьезной активности и игры имеет у нас более закрытый характер, — во всяком случае, при известном навыке к самонаблюдению, нетрудно бывает подметить, как от «серьезной установки» мы переходим к «установке на игру». Особенно сильно пронизаны психологией игры наши социальные взаимоотношения.
Что касается детей, то все же должно сознаться, что мы находимся сейчас лишь в начальной стадии в разработке психологии игры и ее роли в жизни ребенка. Хотя современная психология и видит в играх основной и главный фактор детской жизни, однако мы совершенно не могли бы изложить развитие ребенка с этой точки зрения. Конечно, это связано и с тем, что современная психология имеет преимущественно аналитически-морфологический характер — она описывает отдельные психические явления, отдельные процессы, но не умеет еще подойти к тому, что можно было бы назвать «физиологией» души — к ее целостной, органически развивающейся, единой жизни ее. Душа есть организм, а не внешняя система; как организм, душа живет — в настоящем и полном смысле этого слова; но мы, к сожалению, не умеем еще охватить эту жизнь души в ее целостности и органической непрерывности. Мы выделяем, искусственно извлекаем отдельные, часто лишь на поверхности кажущиеся существенными моменты, а затем строим синтез из этих моментов, утерявших свою жизненную полноту еще в момент их извлечения.
Господство морфологического анализа, слабость наша в понимании жизни души особенно сильно сказываются в анализе такого явления, как детские игры, которые прежде всего и больше всего являются моментами, событиями в жизни ребенка, в его живом движении вперед. Конечно, дети, играя, упражняют свои силы — но они играют не для упражнения — для них самих игры полны смысла, полны внутреннего содержания, они увлекают их своей радостью, творческим напряжением; игры непосредственно интересны, нужны и дороги детям. Игры для детей — это часть их жизни, стоящая
--
1 Очень интересна в этом отношении книга Фрейда — Der Witz. 266
в связи с их опытом, с их переживаниями — с радостью и горем, с страхами и надеждами, с их социальными отношениями. Тайна детской души не так поверхностна, как это часто нам кажется; чем глубже входим мы в изучение детских игр, тем яснее выступает перед нами роль индивидуальности в играх, интимная связь игр с жизнью, чувствами и замыслами ребенка. Грос только проложил путь для изучения детских игр, но не прошел им до конца; он дал морфологический анализ игр, но проблема детских игр в их конкретной связи с типом психической жизни, с определенной индивидуальностью еще стоит перед нами неразрешенная.
Коснемся вопроса о классификации детских игр2. Грос делит все игры на две больших группы в зависимости от того, какие влечения выступают в них. Там, где выступают влечения «первого порядка», дело идет о развитии сил организма ребенка — это «индивидуальные» игры, это своеобразное экспериментирование в форме игр (spielendes Experimentieren). Во второй группе действуют влечения высшего порядка, — в них идет дело о подготовке к существованию не в биологическом, а социальном смысле, — это игры социальные.
В играх первой группы мы встречаемся прежде всего с играми, развивающими органы движения. Хорошо говорит один психолог, что лишь благодаря играм мы достигаем двигательной ловкости, умения совершать те или иные движения: «руки человека не могли бы хватать, ноги не могли бы ходить, бегать, скакать, если бы человек не упражнялся в этих движениях много раз в раннем детстве»3. Поистине, дитя ищет лишь повода, чтобы двигаться, — чем больше затруднений встречает оно на этом пути, тем приятнее преодолевать их. Всякая новая форма движения требует специального в ней упражнения; хотя мы и не замечаем этого, но в непрерывных движениях отдельных органов, всего тела мы незаметно упражняемся в этих разнообразных формах движений. Дитя как бы имеет тайную цель — овладеть своим телом, овладеть всеми доступными для его тела движениями. Не только раннее детство, но все детство — в широком смысле слова — занято этим развитием двигательной мощи и ловкости, — всякая фаза детства имеет свои формы игр, приобретая все более широкую власть над телом. Нужно ли вспоминать, что в таких играх развивается и воля — как функция регуляции наших движений? Конечно, в моторные игры в значительном объеме входит импульсивная, выразительная и инстинктивная активность, но особое участие в этих играх, — и чем дальше, тем больше, — принимает воля. Дитя научается ставить себе те или иные цели и быстро и легко достигать их, — оно овладевает всеми двигательными силами, познает, что оно может и чего не может достигнуть, познает границы своей воли и ее мощь. Современная психология воли хорошо показала огромное значение «сознания своей мощи» в психологии волевой активности — и мы должны признать, что главнейший моторный опыт в этом направлении дитя проделывает как раз
---
2 G г о о s — Die Spiele des Menschen. О других типах классификации игр см.: С о-1 о z z а — Psychologie und Padagogik des Kinderspieles S. 51—54.
3 В u h 1 с г — Die geistige Entwickelung des Kindes. S. 443
267
в играх. То, что игры часто имеют сложную фабулу, как будто бы указывает, что цель научиться разным формам движения чужда ребенку; да, — как стимулирующая сила, эта цель чужда, но именно она определяет разнообразные формы движения. Ведь когда дитя учится ходить, оно тоже не подозревает всей огромной ценности движений, — оно в сущности играет— для него способность ходить без поддержки взрослых привлекательна по своей непосредственной ценности — без учета всего огромного значения этих навыков в дальнейшем развитии. Хотя оно подражает взрослым, а все же учится оно ходить, играя, и тем не менее эта игра дает ребенку огромную и важную силу в его дальнейшей жизни.
Кроме игр, в которых дитя развивает свою двигательную систему, имея объектом движения свое собственное тело, есть игры, в которых дитя научается приводить в движение не свое тело, а те или иные предметы, находящиеся вне тела.. Руки, ноги становятся здесь уже «орудием» ребенка, с помощью которого дитя может овладеть теми или иными предметами. В этих играх выступает почти исключительно регулированная активность, связанная с постановкой цели; в связи с тем, что сущёстауют"ТрШТрЧ)рмы~ целёсознания — эмоциональное и волевое — регуляция движений может иметь тоже либо эмоциональный, либо волевой характер. Среди игр, относящихся сюда, особый интерес представляют деструктивные и конструктивные игры: в первых дитя, взявши те или иные предметы, ломает вскрывает их, разделяет на составные части, во вторых, наоборот, оно стремится создавать новые предметы. Первые игры можно наблюдать очень рано — и вкус к ним держится приблизительно до 6 лет; они обыкновенно очень раздражают родителей, воспитателей, так как в результате этих игр ломаются и портятся различные предметы домашнего обихода — ибо дети не могут быть равнодушными к вещам, которые они видят. Нередко и во втором детстве еще можно встретить у отдельных детей вкус к деструктивным играм — какая-то беспокойная потребность взять в свои руки и заняться «исследованием» не оставляет ребенка. Это, конечно, очень неприятно, а порой и опасно, но никогда не следует забывать, что все же это игра, а не серьезное стремление портить вещи, — между тем мы обыкновенно укоряем детей так, как если бы их движения оп ределялись «злой волей». Для того, чтобы ослабить это стремление к I деструктивным играм, необходимо направить детскую активность на что-либо созидательное, чтобы дать ищущей выхода энергии другое направление. Не раз уже было отмечено, что в деструктивных играх раннего возраста проявляется, между прочим, и познавательный замысел — дитя хочет проникнуть в скрытый «механизм» вещи, в ее внутреннее строение. К 4—5 годам эта познавательная тенденция в деструктивных играх выступает с полной силой. Можно сказать, что «любознательность», как психический стимул, как известная установка огромной творческой силы в дальнейшей жизни, развивается как раз из таких игр. -
Что касается конструктивных игр, то всем известно, как дети 21/2—5 лет любят забавляться песком, кубиками деревяшками. В раз-
26S
витии детской фантазии эти игры имеют огромное значение — равно как в развитии технической ловкости, умения пользоваться рукой, как орудием творчества. Иные дети любят складывать из кубиков, из кусочков дерева фигуры, постройки соответственно какой-либо картине, но, конечно, нельзя в этом видеть идеала — наоборот, те дети которые в постройках проявляют свою собственную фантазию, стоят выше первых. Известный нам уже вид детского творчества — лепка особенно ясно показывает, как велико значение этих игр в развитии творческой силы, творческой инициативы в ребенке. Всякое творчество в высшем смысле предполагает свободу в использовании элементов, из которых что-либо созидается; поэтому не только не следует мешать свободным конструктивным играм детей, но даже следует поощрять и провоцировать их. Нам незачем развивать в детях подражание, — эта сила велика в детях и без содействия воспитателей. В конструктивных играх все равно проявится то или иное подражание — между тем развитие творческой инициативы требует нашего внимания и помощи.
Штерн, опираясь на свои наблюдения, высказывает мнение, что участие подражания в конструктивных играх сильнее проявляется у девочек, чем у мальчиков, у которых сильнее сказывается изобретательность и творческая фантазия4. По его наблюдениям это различие в продуктивности у девочек и мальчиков находит свое выражение уже на втором году жизни: мальчики начинают конструктивные игры уже в. конце второго года и особенно много «строят» на четвертом и пятом году жизни, между тем у девочек начало конструктивных игр значительно запаздывает сравнительно с мальчиками5. Должен отметить, что обобщения Штерна, основанные лишь на его наблюдениях над собственными детьми, представляются мне мало обоснованными и не отвечающими другим наблюдениям. С моей точки зрения, различия, которые нашел Штерн, покоятся, вероятнее всего, на различии психологического типа детей и совсем не связаны с полом.
Кроме моторных игр в их формах, в первую группу игр (по Гросу) входят еще две формы игр — в одних развиваются органы чувств, в других — высшие психические силы. Когда дитя 6-ти месяцев берет в свои руки яблоко и поворачивает это яблоко во все стороны, легко убедиться, что мы имеем здесь дело тоже с игрой, благодаря которой развиваются зрительные и тактильные восприятия. Когда дитя, захватив в руки ложку, нож и ударяя им по разным предметам, производит звуки, то и здесь достигается упражнение в акустических восприятиях, хотя стимулирующая сила этих движений исчерпывается тем чувством удовольствия, которое они вызывают. В играх такого типа дитя научается все лучше различать цвета, формы, звуки. В других играх дитя развивает высшие психические силы — внимание, память, интеллект, фантазию. Отметим среди этих игр те, в которых дитя развивает свою фантазию: когда дитя «играет роль» отца или матери, кучера или офицера, то помимо проникновения в чужой духовный мир — что имеет, как мы видели, огромное значение в социальном созревании ребен-
--
4 S t e r n — Psychologic… S. 220.
5 Ibid. S. 219 ff.
269
ка, — дитя развивает фантазию. Это, конечно, не простое копирование, не простое подражание тому, что дитя видит — это столько же первое робкое проникновение в мир переживаний, которые впоследствии будут занимать созревшего человека6. Любопытно отметить, что именно в этих играх проявляются различные инстинкты. Ст. Холл именно отсюда сделал заключение, что в играх дети кратко проходят стадии развития, пройденные человечеством: вступая в свет с инстинктами, дитя дает им полный простор в играх, а затем эти инстинкты слабеют. Нам приходилось уже говорить об этой теории, что она неверна ни в смысле понимания инстинктов, ни в смысле понимания игр. Инстинкты не исчезают у нас после того, как мы перестаем быть детьми — достаточно указать на родительский инстинкт. С другой стороны, в детских играх проявляются не одни только инстинкты, но и другие психические силы.
Перейдем к анализу социальных игр ребенка. Грос разделяет их на четыре группы: игры в борьбу, игры в любовь, игры подражания и чисто социальные игры. Скажем сначала несколько слов вообще об этих
! играх. — Первые социальные игры ребенка связаны с участием в них няни, родителей, кого-либо их старших братьев и сестер. Конечно, иногда в этих играх принимают участие и дети подходящего возраста но к этому участию сверстников в игре дети некоторое время остаются равнодушны и даже больше любят играть со взрослыми, которые лучше умеют забавить их. Однако, постепенно у детей пробуждается интерес к детям близкого к ним возраста — когда они видят знакомое или незнакомое дитя, они приходят в возбуждение, глядят с чрезвычайным вниманием, как бы стремятся вступить в общение. На третьем и особенно на четвертом году жизни эта социальная отзывчивость развивается с полной ясностью, и дитя невольно вносит в свои игры социальные мотивы. Нам уже приходилось говорить, что почти все игры являются «играми во взрослого человека» — и это относится даже к тем играм, которые не имеют в себе ясного социального содержания. Дело в том, что в играх дитя хочет быть таким, каким оно видит взрослых, невольно подражает им, невольно видит в них пример и образец. С другой стороны, игры, в которых дитя играет какую-либо роль, расширяют круг переживаний ребенка. С полным правом можно было бы провести аналогию между «завоеванием физического пространства», о чем нам приходилось уже говорить, и завоеванием социального пространства, что осуществляется в играх. В играх и благодаря играм дитя «эйективирует», т. е. входит в чужой душевный мир, в новые социальные позиции. Социальные игры имеют поэтому явную познавательную функцию; может быть, здесь лежит причина того, что и у нас, взрослых, социальные игры имеют то же, а может быть и большее значение. Не только актеры, но и все мы постоянно «играем», постоянно держимся в «позе». Любезность, вежливость, лицемерие, интриги, равно как и другие формы социаль-
--
6 Эту мысль удачно выражает Штерн в словах: «Das ist keine blosse zufallige N а с h ahmung, das ist eine «V о г achmung» der kunftigen Be stimmung». (Psychoiogie… S. 225).
270
ных взаимоотношении имеют значение маски, которой мы пользуемся в тех или иных случаях, которая помогает нам играть одну или другую роль. Иногда социальная жизнь требует от нас такого приспособления, которое для нас трудно, и тогда мы «играем роль», не входя в нее. Конечно, Джемс был прав, когда говорил, что мы имеем не одну, а несколько социальных личностей, что в различных направлениях социальной жизни мы выступаем различно. Здесь лежит ключ к уяснению роли социальных игр у взрослых. Как видим, роль игр велика в социальной жизни вообще — и особенно значительная она в социальном созревании детей."
Штерн считает, что в социальных играх дитя проходит три фазы: сначала дитя играет рядом с другим ребенком, затем вместе с ним и, наконец, против него (neben-, mit-, gegen-einander). Если я не ошибаюсь, это различение есть не что. иное, как перенесение Штерном в психологию детства более широкого различения в социальной философии, установленного впервые Койгеном7) — согласно Койгену социальные отношения распадаются на три крупных группы — власти (Ueber-), сотрудничества (Neben-) и борьбы (Gegen-einander). Как видим, Штерн несколько модифицирует деление Койгена, не сообщая оснований этого, мне же представляется, что деление Койгена должно быть перенесено в психологию детства в своей чистой форме — без модификации. В детских отношениях в игре мы встречаемся с отношениями 1) властвования и подчинения, 2) сотрудничества и 3) борьбы. Всякое дитя должно познакомиться со всеми этими формами социальных отношений, со всеми социальными позициями — и мы это в действительности и наблюдаем. Нет, однако, никаких данных думать, что в усвоении различных социальных позиций наблюдается какой-либо неизменный порядок, скорее последовательность в изучении различных социальных позиций определяется типом человека.
Скажем несколько слов о различных формах социальных игр и прежде всего об игре в борьбу. Прежде всего мы встречаемся у детей с настоящей физической борьбой — особенно у мальчиков. Конечно, физическая борьба у детей имеет несколько иное значение, чем физическая борьба у молодых животных, но и для детей она в известное время является приятной. Высшего своего развития физическая борьба достигает во втором детстве, когда соперничество между мальчиками достигает высшего своего напряжения. Однако, и в играх малых детей момент физической борьбы имеет известное значение, особенно в соединении с другими, социально-психическими моментами. Надо, однако, иметь в виду вообще, что истинный интерес всякой игры в борьбу, истинный ее центр лежит в социально-психической ее стороне; физическая борьба в этом смысле имеет больше символический характер. Известный интерес (как у детей, так и взрослых) к запрещенному стоит в глубокой связи с социальной борьбой; дело в том, что интерес к запрещенному имеет своей тайной целью — не овладеть запрещенным, а победить тех, кто наложил запрещение. Не признавать, что нам может что
--
D. К о i g e n — Ween zur Philosophie der Kultur.
271
либо быть запрещено, значит не признавать, что нам кто-либо может нечто запрещать. Отсюда ясно, что в интересе к запрещенному выступают мотивы социальной борьбы.
Что касается игр в любовь, то, хотя эта тема очень хорошо разработана Гросом, в ней все же есть много неясного. Мы говорили уже о том, что, не признавая сексуального монизма Фрейда и его школы, мы должны, однако, признать, что пол в человеке есть настоящая ось его личности, что пол в нас есть некоторый подземный огонь, который всегда горит в глубине нашей личности. Кокетство, так рано появляющееся у девочек, материнский инстинкт, проявляющийся в играх с куклами, свидетельствуют о том, что влияние пола сказывается задолго до формирования сексуального сознания. Весьма вероятно, что приведенная нами однажды мысль Штерна о «Prepubcrtatsperiode» имеет более широкий характер, чем думал Штерн. Во всяком случае, несомненно, что у детей имеют место игры в любовь, хотя и физически и психически половая жизнь в них еле брезжит. Необходимо тут же отметить, что момент игры никогда не исчезает в переживаниях любви, — и на это должно обратить внимание, чтобы правильно понять игры детей в любовь. К сожалению, мы нередко толкуем эти игры детей в наше м смысле, нередко укоряем детей в том, что совершенно чуждо детской душе — и таким образом вносим невольно яд в детскую душу. Может быть, внешнее содержание детских игр приближается к тому, что имеет место в наших играх в любовь, но смысл их — совсем другой.
Пройдем мимо игр, в которых действует подражание, ибо их психология достаточно ясна, и скажем еще несколько слов о чистых социальных играх. Эти игры имеют огромное значение в социальном созревании детей, так как они являются главным источником социального опыта— ведь взрослым дитя лишь подражает, собственный же реальный социальный опыт оно имеет лишь от сношений со сверстниками. В играх выступают те или иные социальные отношения, действуют различные социальные чувства — и это расширяет и обогащает дитя.
^' На этом мы закончим характеристику игр, как общей формы детской активности, и теперь можем перейти к отдельным формам детской активности.
Нам незачем останавливаться на изучении рефлекторных движений у детей в раннем детстве, так как расцвет этих движений приходится на первый год жизни. Что касается инстинктивной активности в раннем детстве, то надо признать, что оно очень богато ею. Хотя мы и не держимся теории Ст. Холла о связи игр и инстинктов, но должны признать, что в раннем детстве инстинкты занимают очень большое место. Дитя в это время слишком мало «рационализирует» свое поведение, слишком мало думает над своими поступками и больше действует согласно своим инстинктивным влечениям, чем согласно своим мыслям. Мы говорили уже о том, что именно из инстинктивной активности развивается волевая регуляция движений, точнее говоря, раз-
272
личные инстинктивные движения становятся постепенно волевыми — но это не стесняет свободы для инстинктов.
В течение раннего детства очень сильно развита импульсивная активность. Дитя постоянно испытывает потребность дать выход энергии, скопляющейся в нем — оно не может сидеть долго на одном и том же месте, не может долго заниматься одним и тем же делом; всякое однообразие, монотонность сильно утомляет дитя, дитя нуждается в перемене. Благодаря этому дитя и кажется таким подвижным, как бы скользящим по поверхности всего — но это последнее впечатление ошибочно, ибо подвижность ребенка объясняется богатством внутренней жизни, а не тем, что в нем быстро истощается «поверхностный» интерес к чему-либо. Монотонность утомляет дитя, — и импульсивная активность как раз имеет то значение, что она компенсирует это утш1ение. Но дитя постепенно становится способным к более длительной концентрации внимания — и тогда импульсивная активность перестает играть существенную роль и уже не является столь характерной, как раньше.
Мы пересмотрели все формы нерегулированной активности и можем перейти к обзору регулированных движении — и прежде всего выразительной активности Эта форма активности в течение раннего детства развивается очень быстро и богато, как это мы видим в детском творчеством можно было бы сказать, что творчество никогда не достигает такой напряженности, как во второй^юловине раннего детства. Л. Толстой в своем описании Яснополянской школы, говорит, что один мальчик проявил большую силу творчества, чем Гете, так как дитя само создавало все, тогда как Гете творил на основе определенной художественной и культурной традиции. Верно здесь то, что у детей мы находим огромную силу творчества; чувства окрашивают всю личность ребенка и обусловливают высокое напряжение творческой активности. Не только мышление детей, но и регулированная активность детей имеют свой главный источник в эмоциональной сфере. Конечно, в активность детей привходит и серьезная, деловая сторона, но место такой «деловой» активности в системе движений ребенка невелико. Воля развивается, но не она доминирует в ребенке; воля больше развивается на побочных, чем на основных путях активности, больше на мелких задачах, чем на крупных и главных, слишком окрашенных эмоционально. Чем дальше развивается дитя, тем больше растет в нем выразительная активность, — и игры как раз являются особенно благоприятными для развития выразительной активности. И рисование, и лепка, и другие формы творчества долгое время"имеют характер подлинной игры. Конечно, дитя в развитии своего творчества подходит к путям, которые выводят его за пределы простой игры — мы говорили об этом при изучении детских рисунков; не нужно забывать в то же время, что в глубине всякого чисто художе-ственшзт-Творчества действует стимулирующая сила эстетического чувства, так что даже в зрелом художественном творчестве мы имеем дело отчасти с выразительной активностью.
Переходя к волевой регуляции движений, укажем на следующее.
273
Волевое внимание, как мы знаем, развивается уже в течение первого года жизни, и это есть ясный признак того, что воля уже развивается в это время. Штерн отмечает, что его сын, имея 1 год 3 месяца от рождения, уже ставил себе некоторые задачи8 — и это, конечно, свидетельствует о наличности волевого целесознания. Чем далее, тем более ясным становится участие воли в активности детей; сознательная регуляция движений достигает такой силы, что дитя может уже разрешать «волевые конфликты». Эти «конфликты» заключаются в том, что дитя в одно и то же время испытывает влечения, зовущие его совсем в разные стороны; разрешение таких конфликтов в работе сознания образует процесс «выбора» — и это есть высшая форма в проявлении воли. Штерн указывает примеры такого выбора между различными мотивами в возрасте 1,8. I Воля имеет две функции — одна состоит в регуляции активности, другая — в задержке активности; назовем эти две функции воли — позитивной и негативной функцией. Негативная функция проявляется позже и развивается медленнее, чем позитивная, однако симптомы ее с полной ясностью выступают в раннем детстве, — по наблюдениям Штерна, на третьем году жизни9.
Для правильного понимания волевой активности имеют огромное значение индивидуальные особенности, лучше говоря — типы в о л и. Не входя подробно в этот трудный и мало разработанный вопрос, укажу лишь, что всем известная классификация темпераментов есть не что иное, как проба классифицировать типы воли. Яснее всего это выступает в характеристике различных темпераментов у Вун-дта, который положил в основу классификации быстроту или медленность, силу или слабость движений. Исходя из старых терминов (холерический, сангвинический, меланхолический и флегматический темпераменты), Вундт вкладывает в них новый психологический смысл. Надо, однако, пожалеть, что изучение типов воли слишком часто терминологически примыкает к учению о «темпераментах».
Четыре типа, о которых говорит Вундт, следующие:
Быстрые движ. Медленные движ.
Сильные холерический т. меланхолический т.
Слабые сангвинический т. флегматический т.
Эти четыре типа сказываются во всех формах нашей активности, — но, конечно, с особой силой в сфере воли.
Волевая активность всегда предполагает два момента: сознание цели и 2) р е пГёТГиЪ. Здесь не место входить в подробности, скажем лишь несколько слов о втором моменте — о решении. Когда формируется «решение», тогда имеет место установление глубокой и интимной связи нашего «я» с сознанием цели: в решении своем я сознаю цель активности, как мою цель, и потому в действии, выполняемом мною, я чувствую себя субъектом, автором этого действия.
--
«Stern — Psychologie… S. 280. 9 Ibid. S. 287.
274
Именно здесь и формируется настоящий центр нашей эмпирической личности, вокруг которого кристаллизуется работа самосознания; здесь собирается материал, в котором находит выражение моя личность, так как эмпирическая моя личность прежде всего слагается из того, что я делаю, из того, что -во мне было активного. Только то, в чем я чувствуя себя действующим субъектом, на что распространяется моя «ответственность», только то является «моим», остальное же все не «мое», а только находится «во мне».
Решения доступны детям раньше, чем у них создается понятие «я»: дитя чувствует себя активным существом, чувствует в себе «автора» своих действий, но пока не сформировалось в нем сознание «я» (см. описание этого процесса в гл. III), волевое самосознание не является ясным и расчлененным. Некоторые дети переживают чрезвычайную потребность чувствовать себя «свободными», т. е. переживать сознание своего «авторства», своей самостоятельности, они хотят «самостоятельно» решать свои маленькие проблемы и не любят вмешательства в их «дела» других, — другие же дети совсем не испытывают такой потребности. Первые дети дают нам различные типы активности, различные характеры, о чем мы говорили уже, излагая классификацию детских типов у Лесгафта. Но есть дети второго типа, — которых можно было бы назвать апатичными, равнодушными, — у них более слабо формируется «решение», нет и вкуса к тому, чтобы «принимать решения». Именно у таких детей особенно хорошо можно видеть, в какой глубокой связи стоит волевая активность с эмоциональной сферой; я думаю, что тайна апатии у детей связана совсем не с дефектами воли, а с дефектами и ущемлениями эмоциональной сферы. Однако, эта тема слишком сложна, чтобы здесь углубляться в нее.
Обратимся к вопросу о развитии привычек у детей. Известно, что привычки развиваются из волевых движений, — хотя повторение движений могло бы создавать привычные движения и в других формах активности; однако, важнейшими привычками являются те, которые образуются из выразительной и волевой активности. Развитие привычек в этих двух направлениях идет по-разному, равно как и влияние возникающих здесь привычек на психическую жизнь различно. Дело в том, что развитие привычек из движений выразительных (т. е. связанных с эмоциональной регуляцией) имеет самое отрицательное и пагубное влияние на эмоциональную жизнь, — чего совершенно нельзя сказать о привычках, образующихся из волевой активности. Чем объяснить такое различие в влиянии привычек? Тем, что возникновение привычки ослабляет и отодвигает участие сознания в движении — чем создается механизация и автоматизация активности. Если привычка развивается из волевой активности, то та интеллектуальная энергия, которая была необходима при волевой регуляции движений, становится свободной и уходит в высшую духовную работу. Чем больше в нас «волевых» привычек, тем больше движений совершаем мы без участия сознания, тем более энергии остается в нас для высшей духовной работы. В этом смысле развитие привычек имеет самое благоприятное влияние на наше психическое созревание. В свете этого ста-
275
новится понятным огромное значение привычек в психологии детства; чем больше есть у ребенка удачных и ценных привычек, тем легче и экономнее, тем быстрее идет его психическое развитие. Положительно неоценима эта благотворная роль хороших привычек в развитии ребенка! Хождение, j)C4b должны стать привычными, чтобы стать орудием развития. Этим образованием привычек, их развитием заполнено детство; с известным успехом детство можно было бы характеризовать теми привычками, которые образуются в разных его периодах.
Но кроме очень ценного влияния привычек на психическое развитие, они могут иметь и отрицательное влияние. Я говорю не только о дурных «волевых» привычках, но особенно имею в виду «эмоциональные» привычки, привычные эмоциональные «установки». В этом случае само чувство бледнеет, становится психически бессильным, как бы выцветает, выветривается, теряет свою творческую силу. Здесь совсем не получается сбережения психической энергии, как в первом случае, а, наоборот, получается связывание психической энергии. Как ни относиться к теории «комплексов» в объяснении душевных заболеваний, но не подлежит отрицанию, что устранение чувства из сферы сознания не только не освобождает присущей ему энергии, но, наоборот, связывает эту энергию. Чувство, которое не может раскрыться в эмпирической сфере личности, как бы «падает» в глубину души и, связанное, оно может лишь сотрясать психическую «почву», «уходя» в болезнь. Мы знаем закон двойного выражения чувств, согласно которому чувство может нормально развиваться лишь в том случае, если оно находит свое телесное и психическое выражение. Если телесное выражение чувства — благодаря установлению «привычных» форм движения здесь — реализуется раньше, чем появилось в душе психическое выражение чувства, раньше даже, чем зазвучало во всей своей «мелодии» чувство, — то чувство так и не зазвучит, не разовьется: выражение те^ лесное совершается почти автоматически, но оно является «пустым», за ним не стоит ничего внутреннего, никакого переживания. Примеров этого можно сколько угодно найти в нашем быту. Как видим, развитие «эмоциональных» привычек задерживает развитие чувств и отодвигает их в глубину души. Слабеет не только чувство, с ним слабеет и творческая сила, ему присущая; возникновение привычек в эмоциональной жизни является опасным для творческой свежести, для творческой жизни. Когда затрагивают эту тему, то развивают ее преимущественно на психологии творчества у взрослых-----особенно на психологии художественного творчества10, — но этот вопрос имеет не меньшее, а, может быть, даже и большее значение в истории психического созревания ребенка. И дитя, обрастая «эмоциональными» привычками, — хотя этот процесс у ребенка, к счастью, очень сложен и тягуч, — теряет свою творческую силу: формы выразительных движений механизируются, благодаря образованию привычек источник творческой силы замутня-ется и даже истощается — и дитя из живого, активного, одаренного становится пассивным, неспособным, апатичным. Как часто приходится
--
10 С чрезвычайной силой изображено иссякание творческих сил под влиянием механизации движений в «Портрете.» Гоголя.
276
наблюдать у детей резкий надлом, потускнение их творческой жизни, выцветание их личности! Очень часто этот надлом хронологически (и здесь, конечно, нет ничего случайного) совпадает с общим психическим переломом, происходящим во втором детстве. Семейное, дошкольное и школьное воспитание должны были бы употребить все усилия к тому, чтобы сохранить творческую силу в ребенке от пагубного влияния привычек.
Различие в влиянии двух форм привычки имеет не только практический, но и теоретический интерес, так как явление привычки совсем не так просто, как это кажется, однако в эту тему входить здесь невозможно.
От общей характеристики привычек перейдем к отдельным чертам ее. Мы говорили уже, что у детей легко и быстро возникают привычки; мало этого, они очень легко «укореняются» — и если, например, приходится вступить в борьбу с «дурными» привычками, то трудности, которые здесь нас встречают, хорошо характеризуют особенности детей в этом направлении. Из прямых наблюдений, из воспоминаний, из автобиографий хорошо известна сила рано сформировавшихся дурных привычек. С этой точки зрения вопрос о с и л е привычек, об условиях борьбы с привычками приобретает первостепенный интерес для воспитателей, для родителей. Здесь, конечно, не место говорить о педагог ике привычек, мы ограничимся лишь тем, что сообщим некоторые данные из психологии привычек, как она была изучена на взрослых и на детях школьного возраста. Конечно, для раннего детства это все сохраняет полную силу.
Укажем прежде всего на типы «привыкания». Классификация типов воли, которую мы дали выше, сохраняет свою силу и для привычек: и здесь необходимо отличать между быстрым и медленным образованием привычки; это различие впервые установил Мейман11. Но и другой момент у приведенной выше классификации тоже имеет значение в характеристике привычек: сила или слабость привычек. Сочетание этих двух моментов выдвигает четыре типа в отношении привычек: медленный и глубокий тип, медленный и слабый тип, быстрый и глубокий тип, быстрый и слабый тип. Для понимания судеб привычек, для педагогического влияния и педагогического вмешательства это имеет огромное значение. Отметим тут же, что все четыре типа могут быть найдены и в детстве.
Интересны данные о первых фазах в образовании привычек у разных типов. В своих экспериментах (Киев 1912, Белград 1920—1921) я констатировал, что те, кто начинают работу с известным напряжением и подъемом, быстро теряют силу, так что повторение однородных движений имеет у таких лиц очень слабое влияние на образование привычки. Наоборот, те, кто начинают работу без всякого подъема, почти вяло, — под влиянием упражнения быстро овладевают движениями и делают большие «успехи». Есть, наконец, и третий тип, который стоит между первым и вторым типом, на котором почти не сказывается ни упражнение, ни утомление — как будто соответственные движения со-
--
11 Meumann — Oekonomie und Technik des GedachtnisSes 1918.
277
вершенно уже организованы у него. В недавно появившемся исследовании12 находим подтверждение установленных выше типов.
В этом исследовании даны также любопытные данные относительно темпа в формировании привычек. Argelander (автор указанного исследования) делит время, в течение которого он наблюдал влияние упражнения на работу, на несколько ступеней13; вот цифры, характеризующие прирост в движениях благодаря упражнению:
На первой ступени прирост 16,9%
На второй » 5,7%
На третьей » 3,5%
На четвертой » 2,8%
На пятой » 0,4%
Наибольшая «податливость», согласно этим данным, наблюдается лишь в первые дни. Если перевести это на педагогический язык, то можно было бы сказать, что самым «опасны м» периодом в формировании привычек являются первые дни.
Вот цифры, касающиеся прироста под влиянием упражнения на первой ступени у разных испытуемых:
| исп. лицо |
I |
а |
Ш |
IV |
V |
VI |
| Цифры, характеризующие работу вначале |
1647 |
1609 |
1043 |
942 |
839 |
601 |
| % прироста |
10,9 |
9.2 |
14 |
22,2 |
20,2 |
23,7 |
Из этих цифр видно, что те, кто с большой энергией начинают работу, не испытывают от упражнения столь большого прироста в движениях, как те, кто начинают работу вяло.
В своем исследовании (оставшемся неопубликованным) я наткнулся на любопытное различие девушек и юношей в отношении влияния упражнения (мои эксперименты проводились над учениками и ученицами последних классов гимназии и над студентами и студентками).
Юноши более поддаются влиянию упражнения, — движения девушек меняются с большей медленностью. Если, однако, распределить их по типам, то получается несколько иная картина:
| |
Юноши |
Девушки |
| 1) Слабый прирост |
6,25% |
0% |
| 2) Средний прирост |
31,25% |
36,6% |
| 3) Большой прирост |
31,25% |
45,44% |
| 4) Очень большой прирост |
31,25% |
9,1% |
| 5) Падение |
0% |
9,1% |
12 А п. Argelander— Beitrage zur Psychologie d. Uebung. (Ztschr. f. angew. Psych. B. XIX. H. 1—3. 1921). Argelander устанавливает три типа — с большой, с средней и с малой способностью к привычке. Типические различия находит и Argelander в том, как начинают работу (Ibid. S. 27).
13 I ступ —2-й—5-й дни, II - 6-9, III - 10-13, IV -14-17, V -18-20.
278
В среднем и большом приросте девушки не уступают юношам, но в очень большом приросте они сразу оказываются значительно ниже юношей. К сожалению, мои опыты касались лишь юношеского возраста, и я не могу судить, существует ли такое же различие между мальчиками и девочками в раннем детстве — в образовании у них привычек, в влиянии на них повторения однородных действий.
Заканчивая на этом наш беглый обзор привычных движений у ребенка, мы подводим итоги изучению всей сферы активности. Нам остается теперь сказать несколько слов о личности ребенка в течение раннего детства.
ГЛАВА XV.
Личность ребенка. Понятие о личности в общей психологии; метафизический корень личности. Общие черты детской личности. Иррационализм ее; развитие эмпирической стороны в личности. Духовная содержательность детства.
Что такое наша личность во всей своей целостности? Является ли она простой суммой, внешним единством психических процессов, имея, по выражению Рибо, «колониальный» характер? Или наша личность не является простой суммой, внешним единством психических процессов, но есть своеобразный организм, как то утверждает Вундтовская актуальная теория личности в противовес первой, чисто номиналистической теории? Или, наконец, есть нечто истинное в метафизическом понятии личности, в том метафизическом персонализме, который впервые строил Платон, а в новое время Лейбниц, Гербарт, Лотце, Ренувье, Тейхмюллер, Лопатин, Штерн?
Для психологии детства этот вопрос о природе личности не является маленьким второстепенным вопросом, но имеет глубокий интерес. Детская личность (впрочем, как и наша личность во многом) н е только дана, но и задана. По известному выражению Гербарта, детская личность вначале является «хамелеоном», так как она не имеет еще определенности в своей внутренней жизни, может не раз пережить глубокие перемены: личность детская только формируется, только ищет своего особого, индивидуального пути развития. И как путает дитя само себя в этом искании своего индивидуального пути развития, сколько вносим путаницы и мы! И в популярном и в научном педагогическом мышлении все еще не преодолен универсалистический мониз, все еще недостаточно учитывается индивидуальность ребенка не только в ее исходной основе развития, но и в ее путях и в ее идеале: этический плюрализм, совершенно обязательный для педагога1, все еще слабо проникает в педагогическое сознание, и мы все еще хотим воспитать из наших детей «человека вообще». Должно помнить, что люди не идут в своем развитии одним и тем же путем, что личность не принимает у всех одной и той же формы, но всякая личность должна найти свой путь, свою идеальную форму. Но этот эмпирический учет многообразия личностей, многообразия путей и конечных итогов развития, конечно, не решает еще вопроса: что такое личность с психологической точки зрения.
--
1 См. мой этюд— Принцип индивидуальности в психологии и педагогике. Вопр. Фил. и Псих.
280
Чисто номиналистическая (иначе говоря, ассоциативная) теория личности, согласно которой личность является простой суммой психических процессов, простой их координацией, причем единство создается здесь анатомо-физиологическими, а не психологическими моментами, — эта теория глубоко ошибочна. Она не замечает того, что личность есть организм, в котором всякая отдельная сторона, отдельная функция получает свое значение и свое направление от целого; она не замечает того, что единство личности гораздо глубже и больше определяется психическими, чем анатомо-физиологическими моментами. С другой стороны, внутренняя связь между различными процессами ясно свидетельствует о том, что отдельные психические процессы не существуют, не развиваются отдельно и независимо от других: если бы какая-либо психическая функция имела самостоятельность и независимость (что и является предпосылкой номиналистической теории личности), — каким образом эта функция могла бы войти в живое единство психической жизни, войти в внутреннюю связь с другими процессами?
Но и теория Вундта, которая стоит значительно выше ассоциативной теории личности, не может нас удовлетворить. Личность, по Вундту, есть организм, — и с этим должно согласиться; но по Вундту, как психический организм, личность исчерпывается своим эмпирическим составом. Как раз потому, что в теории Вундта понятие психического организма исчерпывается эмпирическим его составом, он и называет свою теорию «актуальной», сознательно про-тивоставляя ее метафизической теории. Я считаю это построение Вундта в корне ошибочным: всякая личность (а о детской личности это должно быть сказано с особой силой) слагается не только из того, что уже нашло свое эмпирическое выражение, но и из того, что может быть названо «внеэмнирическим», что еще не вошло в систему эмпирической жизни, еще находится в темной «глубине» души. Эти внеэмпири-ческие силы зреют и действуют то или иное время в «глубине» души — и только, когда они входят в состав эмпирической психики, они находят свое место в «организме» д>аш, как его понимает Бунд.
Теория Вундта слишком узка — она не охватывает всего того материала, который входит в состав души. Не только должно признать «вне-эмпирический» слой в душе, но должно признать, что между внеэмпи-рической и эмпирической сферой души имеется внутренняя глубокая связь. То, что в известное время находится вне эмпирической психики, в процессе развития становится эмпирическим, — и как раз благодаря этой внутренней и глубокой связи двух сфер мы должны характеризовать «внеэмпирическую» сферу в психологических терминах, так как в ней приходится признать то же влияние содержания2, те же принципы связи отдельных функций, как и в эмпирической сфере. Как раз потому и недопустимо истолкование этой метафизической стороны в душе в терминах анатомо-физиологических. Но, может быть, актуальная теория Вундта могла бы быть модифицированной в
--
2 О «содержании», как основном признаке психического бытия, см. мою книгу — Проблема психической причинности.
281
том смысле, что понятие психического организма охватывает как эмпирическую, так и внеэмпирическую сферу психики? Но разве такая модификация не изменила бы самый смысл теории, которая основана на устранении всего метафизического? Если мы назовем психическим организмом живое единство эмпирической и внеэмпирической сферы, то, конечно, в этом случае мы будем иметь дело с переходом к психологической метафизике.
Реальное бытие внеэмпирических психических процессов удостоверяется тем, что из них вырастают доступные изучению эмпирические процессы, в корнях своих уходящие в метафизическую глубь души. Можно, конечно, сказать, что реальность внеэмпирической стороны в душе не может быть «показана», что мы здесь имеем дело с гипотезой; но разве, по логической своей природе, метафизические представления не являются вообще гипотетичными? Выходя за пределы опыта, мы можем двигаться, конечно, теми путями, какие уже наметились при изучении эмпирической психики, но как бы не были сильны и убедительны логические мотивы при этом движении, момент гипотезы неустраним. Поэтому упрек в гипотетичности метафизических построений отнюдь не может быть с какой-то особой силой выдвигаем против психологической метафизики — тем более, что благодаря фрагментарности и запутанности внутреннего опыта приходится обращаться к гипотетическим построениям уже в плоскости эмпирической психологии. Учитывая только тот материал, каким располагает эмпирическая психология, мы должны признать, что эмпирическое понятие личности не дает возможности объяснить развитие психической жизни. Поэтому и возникает вопрос — можем ли мы ограничиться эмпирическим понятием личности? Актуальная теория Вундта и есть не что иное, как попытка показать, что строго эмпирическое понятие личности вполне удовлетворяет психологию. Поэтому, модифицируя эту теорию введением в состав личности внеэмпирических моментов, мы просто оставляем эту теорию и переходим — робко и осторожно — к метафизическому пониманию личности.
Надо прямо сказать — актуальная теория личности Вундта не может удовлетворить психологию. Нам нечего бояться, что это заставит нас выйти за пределы опыта и обратиться к метафизическим гипотезам, — ведь без гипотезы и эмпирическая психология не может быть построена. Если мы не можем ограничиться одним эмпирическим материалом, если эмпирическое понятие личности является недостаточным, то вытекающая отсюда необходимость гипотетических дополнений отнюдь не понижает их ценности тем, что они обязаны своим существованием недостаточности эмпирического материала.
Психология нуждается в таком понятии личности, которое могло бы объяснить развитие психической жизни, ее особенностей, источник индивидуального своеобразия личности, всего в ней неповторимого, единственного. Строго эмпирическое понятие личности, которое исключает все то, что находится вне системы опыта, что не вошло в состав эмпирической психики, не позволяет говорить о личности, как о комп-
282
лексе данного и скрытого, действующего и дремлющего в глубине, эмпирического и внеэмпирического, — а между тем только такое понятие личности и могло бы нас удовлетворить. Развитие психической жизни нельзя понять без гипотезы скрытых психических движений, не доходящих до уровня эмпирической психики, но сообщающихся с эмпирической сферой и влияющих на нее. Проявляющиеся у личности ее индивидуальные особенности могут меняться, но они никогда совсем не выпадают, не исчезают; их источник, конечно, лежит в внеэмпирической стороне личности, так как все то, что мы находим в опыте, есть уже выявление, объективация, говоря общее — есть продукт, а не источник индивидуальности. Именно потому чисто эмпирическое понятие личности и не может нас удовлетворить; в состав необходимого для нас понятия личности должно войти и все то, чего мы не находим в опыте, но что действует в «глубине» души и направляет процесс жизни. Теория Вундта, которая полагает, что для понимания психического развития достаточно того, что дает эмпирический материал, должна быть оставлена нами, — в сущности эта теория не идет дальше номиналистического понятия личности, с тем лишь различием, что последняя теория имеет ассоциативный характер, а актуальная теория — органический; обе, однако, теории не видят в личности основу и источник психического развития. Личность и в актуальной теории не имеет в себе никакого самостоятельного начала, питающего и поддерживающего своеобразие личности, — в ней нет ничего кроме того, что уже успело выразиться, она есть тоже сумма (правда, органического характера) «своих» (?) проявлений — и никакой особой реальностью личность, как таковая, не обладает, она является лишь именем. Между тем изучение психической жизни на каждом шагу убеждает в том, что кроме того, что находим мы в опыте, есть еще органическая (в психологическом смысле) осно!.;-., из которой развиваются явления эмпирической психики, от которой они получают свое своеобразие.
Когда мы вступаем в непосредственное общение с людьми, мы никогда не принимаем во внимание только то, что дано в их эмпирической личности, но всегда чувствуем, что в «глубине» ее (т. е. до всякой объективации) живут те или иные силы, как бы дремлют те или иные психические особенности, которые пока слабо окрашивают личность, но которые могут «пробудиться» и проявиться в эмпирической личности. Эта скрытая, иррациональная сторона личности, как фон освещающая всю жизнь, всю активность ее, должна быть признана чрезвычайно влиятельным и существенным началом в психической жизни. В нашем непосредственном опыте, в нашей интуиции чужой души всегда имеет огромное значение учет этой скрытой, внеэмпирической стороны личности; чем больше мы живем, тем больше понимаем значение иррациональной или метафизической стороны личности. Тайна нашей индивидуальности никогда вполне не раскрывается в жизни, — даже в тех, чья индивидуальность достигает, казалось бы, полного своего раскрытия и расцвета, мы не можем не ощущать того, что их лич-
ность не исчерпала себя, что в темной глубине ее таятся еще новые силы. Личность всегда глубже своего эмпирического выражения, ее жизнь есть непрерывное движение вперед, непрерывное искание более полного и адекватного своего выражения. Где же та основа, тот динамический центр, детерминирующая сила которого определяет это движение вперед? В чем лежит тайна индивидуальности, как таковой, ее своеобразия, неповторимости, всего того, что отличает данную личность и делает ее незаменимой, единственной? На все эти вопросы можно найти ответ только в том случае, если мы признаем, что личность есть комплекс эмпирического и внеэмпирического, данного и скрытого, выраженного и еще дремлющего. Это-то и заставляет строить метафизическое понятие личности, заставляет признать, что в глубине нашей души лежит метафизическая сторона, которая определяет и направляет эмпирическое развитие души. Человек никогда не бывает только дан, он никогда не закончен, он всегда и «задан», перед ним всегда раскрыта бесконечная перспектива духовного развития. Человек и глубже и богаче своей эмпирической личности; из глубины души его подымаются все новые и новые движения, новые силы, новые установки, — и все это заключено в границе данной индивидуальности, носит на себе ее печать.
Метафизическое понятие личности, открытие метафизической стороны в личности (что впервые находим у Платона) определяет и новый взгляд на весь мир, который характеризуется как персонализм, — в основе его лежит резкое различие «личности» от «вещи». Философия христианских народов, которые в своем религиозном сознании обладают необычайно широким и глубоким пониманием личности, не смогла, однако, до сих пор философски овладеть этим понятием, быть может и вследствие ядовитого влияния имперсоналистических систем, шедших к нам с Востока. Впрочем, после Лейбница в философии христианских народов все сильнее и ярче сказываются успехи персонализма3.
Если от этих общих размышлений мы обратимся к детской личности, то здесь для нас не может быть никаких сомнений в истинности метафизического понятия личности. Детская душа так медленно развивается, так постепенно выявляет различные силы, ей присущие, черты своеобразия личности определяются в столь сложном процессе, что здесь еще менее, чем в общей психологии, мы могли бы удовольствоваться эмпирическим понятием личности. Детская личность настолько еще лишь задана, настолько еще закрыта, не оформлена, как бы окутана каким-то туманом, сквозь который едва-едва проступают черты будущей личности, что важнейшая сторона детской личности остается невыраженной, внеэмпирической. Когда мы глядим равнодушно на детей, мы даже не замечаем их индивидуальности, не чувствуем их мета-
--
3 Отмечу некоторые новые книги, посвященные этой теме: В е г g е г — Menschen-und Seelenformen. 1919; Muller— Konstitution der Individualitat. M., 1920; Schneider — Das Studium der Individualitat. 1919; W. S t e r n — Die menschliche Personlichkeit. 2-е изд. 1919 (продолжение книги— Person und Sache); Muller-Freienfels — Philosophic der Individualitat. 1921.
284
физической стороны; мы обыкновенно смеемся над матерями, которые уверяют, что их дети представляют нечто необыкновенное, единственное. Мы смеемся над матерями, но должно признаться, что их чувства — истинны и верны. Всякое дитя есть новое, неповторимое событие в мире; всякое дитя содержит в темной глубине своей души много разных сил. Пусть детская личность вначале является еще «хамелеоном» — но материнская любовь видит дальше равнодушного взгляда; сквозь скорлупу эмпирического материала для любящего взора матери видно самое ядро, виден тот образ Божий, который у всякого из нас свой, особый и неповторимый. Любящий взор, как это превосходно истолковал Влад. Соловьев4, провидит идеальную сторону в личности, которая заключена в глубине души и направляет процесс созревания детской личности. Любящий взор матери видит в своем ребенке то, чего не видят другие люди, — и потому можно сказать, что матери, в общей оценке детской личности, ближе к истине, чем те, кто глядит на детей равнодушно.
Личность ребенка есть живое и органическое единство, основа которого лежит в внеэмпирической сфере; от первых дней жизни личность уже окрашена чем-то индивидуальным, что сначала выступает слабо и неясно, но ищет своего более полного и адекватного выражения и что с годами находит его в большей или меньшей степени. Эмпирическая личность ребенка еще полна внутренних противоречий, полна дисгармонии — она не развивается во всей полноте своих сил равномерно: одни развиваются быстро, другие медленно. Но позади этого эмпирического «хаоса» стоит живой и творческий центр индивидуальности, ее творческая основа, ее метафизическое ядро, которое постепенно вносит гармонию и порядок в личность, формирует и объективирует индивидуальность и ведет процесс психического созревания к той идеальной форме, в которой данная индивидуальность сможет раскрыть всю себя. Дитя становится личностью — оно медленно раскрывается само для себя, — медленно развивается и вбирает в себя все из сферы самосознания. Приходит час, когда дитя научается отделять себя от других людей и становится личностью не только для других, но и для себя. Эмпирическое «я», которое становится центром эмпирической психической жизни, не совпадает, однако, ср! альным, творческим «я», а является лишь эмпирической объективацией его. Мы знаем, что в это время дитя не имеет к себе особого интереса; и раннее детство и второе детство не знают большого и напряженного интереса к своей личности. Дитя в это время ничего не делает из себя, оно живет только тем, что поднимается из глубины души; лишь позднее начинается процесс рационализации личности, сознательной работы над собой, и это меняет многое в человеке, во всяком случае создает глубокий перелом в человеческой душе.
Чем лучше познаем мы какое-либо дитя, тем яснее выступают перед нами черты его своеобразия, тем лучше мы видим, как глубоко заложена в нем его индивидуальность. Конечно более полного раскрытия своего индивидуальность достигает лишь в зрелом возрасте,
---
Влад. Соловьев — О смысле любви. (Соч. т. VI)
285
но опытный взгляд может уже у ребенка подметить формирующиеся черты индивидуальности, может убедиться в том, что уже в раннем детстве проступает своеобразие данной индивидуальности. Однако, детство имеет и некоторые общие черты; личность ребенка, кроме ее индивидуальных особенностей, имеет много сторон, которые типичны для всякого ребенка. После того, как мы пересмотрели развитие отдельных психических функций у ребенка, мы можем нарисовать общую картину детства, дать общую характеристику детской личности.
Из этих общих черт детской личности остановимся прежде всего на изменчивости ребенка, которая сказывается как в отдельных чертах, так и во всей личности. Дитя, в течение раннего детства, сильно меняется и физически и психически, — быстро и легко проходит то, что бьшо в детском существе, и дитя незаметно становится другим. То, что казалось глубоким, неизменным и основным, исчезает нередко без всяких следов. Дитя быстро обрастает привычками, но быстро и бросает, забывает о них; легко дитя приходит в восторг, но легко становится и равнодушным. И в отдельных, мелких сторонах личности, и во всем ее целом эта удивительная изменчивость чрезвычайно характерна для ребенка. Мы никогда не можем, не смеем ставить крест над ребенком, который в данный момент кажется совершенно испорченным; детская душа может неожиданно и незаметно перемениться и совсем отойти от всего, что угнетало нас в ней. Как тает снег весной от лучей солнца, так исчезают и в детской душе темные движения, когда свет и тепло смягчат детскую душу, — и как часто встречаем мы такие удивительные перемены в детской душе! Где-то Диккенс с неподражаемой, ему одному присущей теплотой рассказал о том, как озлобленное, забитое, тупое дитя под влиянием неизменной доброты и ласки глубоко переменилось и расцвело — и таких случаев в жизни совсем не мало. И не нужно думать, что в такой подвижности проявляется поверхность, — нет, изменчивость ребенка свидетельствует лишь о том, что не застывает еще в нем творческая сила; дитя глубоко чувствует, но легко и отходит, легко загорается новыми чувствами. Если дитя развивается в нормальных условиях, оно незаметно переходит с одной ступени на другую — и никто не может наперед сказать, что будет с ребенком через год-два. Мы характеризовали, вместе с Гербартом, личность детскую, как «хамелеона», но не следует этого понимать в дурдом смысле. Дитя непрерывно развивается, непрерывно переходит с одной ступени на другую в развитии своих физических и психических сил — и это является вполне нормальным, ибо детская личность не имеет в себе ничего законченного. Целостное в своей метафизической сущности, в своем реальном «я», дитя не имеет одного и того же эмпирического характера за время своего детства. В этом смысле можно было бы даже сказать, что дитя вообще не имеет характера, если понимать характер не как простую совокупность особенностей, но как комплекс глубоких, постоянных и ярких особенностей. Формируется не только эмпирическая личность ребенка, но формируется и его характер, — и этот процесс не движется по прямой ли-
286
нии, но идет более сло: кным путем. Соотношение психических сил постоянно меняется благодаря неравномерности, несходству в развитии отдельных функций.
Все это имеет огромное значение для понимания детской личности, для правильной оценки происходящего в ней. Никакие исследования не могут определить «тип» ребенка — просто потому, что такой тип и не существует (если только мы говорим серьезно о понятии типа). Сейчас дитя имеет черты одного типа, но через несколько месяцев, через несколько лет дитя может иметь черты уже другого типа. Это связано с тем, что взаимные отношения разных психических движений все время меняются; эмпирический центр личности не остается одним и тем же, но перемещается. Конечно, я говорю сейчас о личности ребенка в целом, а не об отдельных психических функциях, из которых каждая развивается по своему особому закону. Из наблюдений, из биографий различных людей хорошо известно, какие контрасты отличали различные периоды их жизни: в личности ребенка нет раз навсегда определенного развития, нет одних и тех же интересов, одних и тех же установок.
В внутренней связи с упомянутой особенностью раннего детства стоит вторая типическая черта его — хрупкость и нежность его. Личность ребенка очень хрупка и требует к себе внимательного и бережного отношения, так как иначе она легко может согнутся под действием внешних сил, может искривиться, приостановиться в своем развитии, приобрести черты извращенности. Эта легкая податливость ребенка, малая сопротивляемость, чрезвычайная хрупкость детской души ведет к тому, что ей чрезвычайно легко нанести глубокую рану. Само дитя может скоро забыть эту рану, но ее объективное действие на детскую душу может быть очень длительным, словно яд забирается в самую глубину души и оттуда отравляет различные психические движения. Легкая изменчивость детской души не должна поэтому закрывать глаза на то, что за эмпирической с ороной личности стоит ее темная основа, которая вбирает в себя различные движения и не растрачивает их. В эмпирической сфере личности ребенка, с ее подвижностью, слабой памятью, малым опытом, легко сменяются одни движения другими, легко забываются раны и боль сменяется легко радостным возбуждением, — но в глубине души скопляются все невысказанные, невыраженные обиды — и они живут там темной жизнью, ожидая своего выхода и выражения. Дитя как бы слепо в отношении самого себя; его сознание не освещает, не захватывает того, что происходит в глубине, и дитя не замечает того, что находится там. Если бы дитя больше жило интеллектом, может быть оно легче понимало бы свою душу и легче могло бы дать выход материалу, скопляющемуся в глубине души, но, со свойственным детству преимущественным развитием эмоциональной сферы, дитя вбирает в глубину души тяжелые переживания, не понимая своих конфликтов, не умея их разрешить. Потому-то раннее детство и имеет такое огромное значение в том, как разовьется в будущем данная личность; жизненный опыт в это время имеет исключительное влияние на душу. На поверхности дитя легко меняется, там
287
же, в глубине души, скопляются и задерживаются тяжелые переживания.
Как видим, детская личность имеет две стороны в себе: одну — ясную, поверхностную, изменчивую, а другую — темную, глубокую, мало меняющуюся. Таким образом уже в раннем детстве подготовляется трагический дуализм, который всякий из нас, в том или ином объеме, должен пережить и преодолеть. Эмпирическая личность долго развивается в известной независимости от этой темной стороны души, — но придет час, когда этот дуализм, это раздвоение становится невыносимым, и тогда начинается период борьбы с самим собой…
Указанный дуализм в детской личности имеет сторону, на которой необходимо несколько остановиться, — я имею в виду существование двух центров личности. Рядом с метафизическим центром все крепнет и разрастается эмпирический центр личности; этот последний, однако, только формируется и имеет слабую власть над активностью, которая определяется главным образом тем, что подымается из глубины души. Мы все понимаем, что в раннем детстве дитя не отвечает за свои поступки, — но отчего? Оттого, что эмпирическая личность лишь слагается еще, что направляющие лучи исходят из глубины души; дитя в своем маленьком эмпирическом просторе еще не владеет всей своей активностью, еще не управляет ею. Никто не может вменять ребенку то, что он делает, и если мы все же часто наказываем дитя, то либо совершаем это в гневе, либо думаем таким образом отучить дитя от скверного и приучить к хорошему. Конечно, воля развивается в раннем детстве, и дитя в целом ряде своих движений сознает себя «автором» их; однако, главные двигательные силы, основные влечения, желания, все то, что определяет активность ребенка не в отдельных мелочах, а в целом, — не исходят от волевого, от эмпирического центра личности, но уходят своими корнями в иррациональную глубь души. Дитя, в самом деле, не владеет своей активностью и потому, согласно общему убеждению всего человечества, не отвечает за нее ни перед людьми, ни перед Богом. «Невинность» детской души выражает то, что дети в своей эмпирической личности не являются настоящими субъектами своей жизни, их сознание не смущено еще моральной самопроверкой; лишь в чувствах стыда и совести, как чувствах, восходящих своими корнями к внеэмпирической стороне души, — залагаются первые эмпирические основы самооценки, первые зачатки отнесения именно к эмпирической личности своих «поступков». Упомянутый нами дуализм, еще неосознанный, имеющий только объективный характер, не ставший еще субъективным, как видим, имеет более широкий характер.
Развитие самосознания и моральной самооценки чрезвычайно затрудняется двумя обстоятельствами. С одной стороны, самосознание оказывается двойственным (мы называли эти два полюса самосознания, вслед за Болдвином — проективным и субъективным самосознанием) — благодаря этому взаимное оплодотворение внутреннего опыта и социального резонанса чрезвычайно замедляется. Материал в обеих формах самосознания настолько различный, что взаимное влияние,
288
взаимное освещение очень трудно. С другой стороны, рядом с усвоением действительности и ориентированием в ней, перед душой ребенка в играх открывается бесконечная перспектива фантастического, куда дитя уходит какой-то частью своего существа. Чувства, желания, замыслы ребенка — разве они не реальны, разве они не растут из глубины души? Но вместе с тем они уводят дитя в тот мир, где так легко все меняется, где открывается такой безграничный простор для фантазии, где нет ничего невозможного. И в этой сфере игры реальное перепутывается с воображаемым, действительное с надуманным; и если мы, взрослые, даже привыкшие себе не лгать, постоянно открываем в себе — в своих, казалось бы, искреннейших движениях души — тайную игру, то во сколько же раз запутаннее это сплетение реального и воображаемого в детской душе! Так легко желание отождествляется с реальностью, мечта становится неожиданно воспоминанием о будто бы пережитом реальном событии… Эмпирическая личность ребенка— это светлый мезонин, держащийся на стойких и прочных основах нижней постройки; там, внизу, главные двигатели — а наверху легкими движениями встают уже созревшие, уже властные чувства и увлекают дитя. Очень медленно развивается круг того, что начинается в • эмпирической же сфере — мы говорили уже о том, какое огромное значение принадлежит здесь волевой психологии, в частности — психологии решений. Хотя мы никогда не становимся действующими по чисто эмпирическим мотивам, хотя с духовной зрелостью нам становится изнутри ясной картина власти над нашей личностью внеэмпирических сил в нас, но между ранним детством и духовной зрелостью есть период, когда мы до того проникаемся напряженным чувством своего эмпирического «я», что считаем себя полными властителями своей личности. В этом процессе только то и важно, только с -ин продукт и нуждается в своеобразной обстановке отнесения к своей эмпирической личности всей активности: я имею в виду чувство ответственности. Когда это чувство разовьется и окрепнет, оно не нуждается в той «гипотезе», которая туманом обволакивала личность: чувство ответственности глубже и шире эмпирической личности, в нем есть метафизическая глубина, как это хорошо понял Кант. Но нежные ростки этого чувства, восходящие в душе робкими движениями стыда и совести, нуждаются в отнесении к себе, к эмпирическому «я» своему, всей своей активности, — чтобы чувство ответственности покрыло всего человека, выпрямилось в своей идее.
Вот еще любопытный пример того, как действуют в нас внеэмпири-ческие силы и как трудно сознанию охватить и расчленить эмпирическое и внеэмпирическое в нас, — я имею в виду пол в человеке. В раннем детстве пол, как эмпирический двигатель, как стимулирующая сила, почти ведь не существует, — и тем не менее действия пола могуче сказываются чрезвычайно рано. По Липману5, который написал книгу, сводящую воедино данные о различии полов в тех или иных психических процессах, 46% этих различий развиваются вместе с возрастом
--
5 О. Lipmann— Psychische Geschlechtsunterschiede. Ergebnisse der differentiellen Psychologie. T. I—II. 1917.
289
(т. е. вместе с эмпирическим формированием пола), 33% слабеют вместе с возрастом (т. е. по мере эмпирического выявления пола, как такового, отступают на задний план), 7% остаются независимы от возраста. Эти цифры хорошо показывают, что некоторые психические отличия полов не только не зависят от эмпирической половой жизни, но даже тускнеют по мере того, как энергия пола, ее творящая сила уходит в половую жизнь. Не ясно ли, что пол, как действующая сила в человеке проявляет свое действие еще до своего эмпирического выявления, что пол есть метафизическое, а не чисто эмпирическое начало в нас? А вместе с тем как слабо охватывает наше сознание это участие пола в наших внутренних движениях! Метафизика пола глубже, таинственнее, чем это думал Шопенгауэр, — и сколько трудностей, провалов и страданий рождается на почве того, что мы к эмпирической стороне пола, к половым движениям в узком смысле неумело относим то, что даже не связано с половой жизнью, хотя полно того огня, которым горит пол в внеэмпирической стороне личности…
Когда наступает период развития интеллекта, когда дитя начинает «рационализировать» свое поведение, — эмпирическое «я» стремится тогда стать настоящим центром всей личности, стремится овладеть всей активностью. Конечно, и раннее детство дает не мало места интеллекту, но оно обращено не к внутреннему, а к внешнему миру. Эмпирическая личность ребенка определяется главным образом ее эмоциональной жизнью, — и власть эмоциональных движений сказывается не только в активности, но даже в работе мышления. Раннее детство можно было бы с известным правом охарактеризовать как преимущественно иррациональный период жизни. Детская личность носит на себе печать этой иррациональности, которая иногда толкуется, как дефект, хотя, конечно, это неправильно. Детская иррациональность есть обратная сторона того, что в детской душе доминирует эмоциональная сфера: интеллект и воля занимают второе, чисто служебное место, настоящий же центр личности лежит глубже их. Нам приходилось уже упоминать о детском эгоцентризме в раннем детстве, но как раз его и нельзя «вменять» ребенку, так как его корень не в эмпирической личности, а в реальном «я»; потому-то детский эгоцентризм совсем не обозначает культа своей личности. Имея свой источник в реальном «я», эгоцентризм означает только то, что дитя живет прежде всего своей жизнью, своими задачами…
Преимущественное развитие эмоциональной сферы, которое определяет дуализм реального и эмпирического центра личности, создает необычайную целостность и красоту детства, создает его поэзию и грацию. Всякое дитя прекрасно в своей непосредственности и чистоте, всякое дитя в настоящем смысле слова — грациозно. Господство реального «я», слабая власть эмпирического «я» ведет к тому, что в детях нет ничего искусственного, намеренного, нет никакой позировки; дитя непосредственно следует своим влечениям и чувствам и как раз благодаря этому детство полно настоящей духовной свобо-д ы. Нет и быть не может для ребенка тех внутренних преград, которыми так заполнена душа взрослого человека; психические движения в
290
своем действии не стеснены вторичными движениями, не сдавлены этим бесконечным набором привычных, окостеневших, неизменных форм оценки и реакции. Духовная свобода, внутренний простор, открытый перед душой, слабость сопротивления тонкого слоя эмпирического материала, — все это дает каждому глубокому движению развернуться во всем его объеме. Эта внутренняя органичность и целостность придают детям то очарование, которое с детством навсегда отлетает от нас. Дети так милы и прелестны, так трогательно прекрасны, что они вызывают нежные чувства в самых огрубелых сердцах, действуют на тех, кто никого уже не любит, кто душевно зачерствел. Есть что-то ангельское во всяком ребенке; лучи высшей красоты исходят от детей, и это делает детство идеалом человека. Слова Христа— не можем мы войти в Царствие Божие, если не станем как дети — имеют тот смысл, что мы снова должны достигнуть того душевного строя, в котором господство принадлежало бы внеэмпирическому центру личности. Если прав Делакруа6 в своем прекрасном исследовании по психологии мистицизма, — то психический результат мистического созревания заключается в том, что внеэмпирический (= мистический) центр личности вновь получает то же значение, которое он имел в раннем детстве. Различие двух типов иррационализма (детского и зрелого) заключается в том, что в раннем детстве формируется тот дуализм, то раздвоение двух центров личности, которое определяет психическое развитие, его задачи, его силы, тогда как мистическое созревание, по Делакруа, предполагает уже разрешение всех внутренних конфликтов в душе: иллюзия «авторства» своей личности и своей активности окончательно рассеивается.
Говоря о преимущественном развитии эмоциональной сферы в раннем детстве, не следует забывать, что дитя упоено и настойчиво ищет во всем смысла. Дитя не глядит беспристрастно на мир, не относится к нему пассивно, но ищет в нем смысла. Правда, это искание смысла связано больше с задачами эмоционального, чем познавательного мышления; мы отмечали уже, что будущее познавательное мышление развивается из работы фантазии. Первая форма познавательного мышления есть мышление по аналогии, — и это хорошо свидетельствует о том, что познавательное мышление детское развивается из эмоционального, где, как мы видели доминирует принцип аналогии. Дитя всюду вносит смысл, всюду его ищет, и это есть ясный признак того, что дитя живет вовсе не сенсуальными интересами, как это нашел Nagy7 (а за ним повторяют и другие авторы)8 —но что оно живет настоящей духовной жизнью, ибо в чем же ярче может сказаться духовная жизнь, как не в искании смысла, в связывании раздельного, в познании единства в различном? Мы, взрослые, с гораздо меньшим пафосом относимся к своим духовным задачам, чем дети, которые с таким одушевлением и подъемом хотят
--
6Delacroix — Etudes d'histoire et de psychologie du mysticisme.
7 Nagy— Die Entwickelung des Interesses des Kindes. Ztschr. f. exper. Padagogik. 1907.
8 Например, Meumann — Vorlesungen… B. I. S. 660 ft".
291
во всем найти какой-либо смысл. И может быть, дитя больше живет духовной жизнью, чем мы, взрослые, со всем нашим богатством знаний, навыков, всего того, что заполняет эмпирическую сторону души и создает иллюзию ее единственной силы в нас.
Мы заканчиваем на этом наш анализ детской личности, детской души в целом. Мы видели, что детская душа в своей важнейшей и влиятельнейшей стороне имеет внеэмпирический характер. Но развитие детской личности движется в сторону расширения и усиления эмпирической стороны, которая становится постепенно (в сознании) настоящим центром активности, настоящим субъектом психической жизни. Развитие воли и интеллекта — слабых в течение раннего детства — подготовляет будущую власть эмпирической личности. Этот процесс, конечно, имеет положительное значение, так как сознание является настоящим орудием доступного для нас творчества, становится истинной сферой доступной для нас свободы. Детство должно уступить свое место другим фазам в развитии человека, но тем важнее для нас, чтобы всякий из нас пережил свое детство, как «золотое время» жизни. Поэзия детства не повторяется, не повторяется и та свобода психического развития, которая дает возможность всякому найти свою индивидуальность, данную нам в детстве. Тем важнее поэтому дать возможность всем детям пережить нормально свое детство, — такова должна быть задача нашего времени, если оно хочет в самом деле быть «веком ребенка».
Приложение. СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, ЕГО ЗАДАЧИ И ПУТИ
(1918)
Текст публикуется по изданию: Зеньковский В. В., проф. Социальное воспитание, его задачи и пути. М.: Моск. просвет, комис, 1918. 94 с.
В конце текста книги автор поместил краткий список избранных работ по психологии детства и социальной психологии. В настоящем издании этот краткий список опущен. См. подстрочные примечания в «Психологии детства». (Примеч. состав.).
ГЛАВА I.
Задачи социального воспитания.
В новых условиях русской жизни призываются к широкой активности те слои населения, которые не принимали до сих пор большого участия в строительстве нашей жизни. Высокая ответственность возлагается теперь на русских граждан, судьба России отныне всецело в руках самого народа. Но если революция сразу вознесла народ на высоту политической свободы, то разумеется она не могла и не может сразу устранить ту темноту, в которой пребывал народ при старом строе. Народное невежество является самым тяжелым наследством, полученным от старого строя, и от него больше всего страдает наша родина в эти светлые дни своего возрождения. Вопросы народного образования выдвигаются поэтому на первый план и приобретают широкое государственное значение. Народное образование должно стать всеобщим и обязательным, народная школа должна быть общедоступной, должна открывать дорогу для продолжения образования; ступени школьного образования должны быть непрерывны и постепенно переходить одна к другой. Рядом с развитием школьного дела должно быть поставлено на должную высоту также дошкольное и внешкольное образование, как необходимые вспомогательные факторы школы.
Все это так бесспорно, что едва ли нуждается в доказательстве. Но далеко не бесспорным, далеко не всем ясным является то, что этим одним не исчерпываются задачи народного образования, как и. ставит ныне жизнь. Демократизация жизни требует не только расширения образования, но она резко и настойчиво ставит вопрос об его углублении; образование должно не только организовывать ум, не только прививать знания и навыки к умственной работе: оно должно также подготавливать к той гражданской самодеятельности, какой требует теперь от всех нас жизнь. Образование должно способствовать не только расцвету личности, но и сделать ее способной к социальной жизни, должно подготовить ее к социальной деятельности. Пока единство государственной жизни организуется сверху, отдельные люди не испытывают той острой потребности е солидарности, какой от них требует демократический строй. При демократическом строе прогресс государственной жизни может покоиться только на развитии внугреннего единства, только на росте внутренней солидарности в народе. В этом и слабость и сила всякого демократического строя: это — слабость его, потому, что в нем нет места для той сильной внешней власти, какая возможна при
295
другом строе; но в этом же и величайшая сила демократического строя, — потому что государственная жизнь скрепляется не извне, а изнутри. Никакие внешние потрясения не могут быть страшны для того народа, единство которого обеспечивается силами внутреннего сцепления. В развитии внутренней солидарности заключается могучий фактор народного прогресса; развитие внутренней солидарности, с другой стороны, служит важнейшим средством для осуществления тех социальных идеалов, в стремлении к которым заключается правда и ценность демократического строя.
Но солидарность не есть нечто, само собой возникающее в процессе жизни. Она не была чужда нашей жизни и при старом строе, прорываясь в общественной и индивидуальной деятельности, но она всегда была уделом немногих натур, либо от природы тяготеющих к социальной работе, либо по возвышенному складу своего духа ставящих себе социальные задачи. Взгляните на то, что делается даже теперь во всех уголках России: вы найдете всюду некоторое число активных, одушевленных общественными идеалами деятелей, которые переобременены работой, надрываются от массы дела, на них возложенного. А за ними стоит целая масса «обывателей», которые умеют только пользоваться результатами чужой работы, пожалуй не прочь критиковать ее, но палец о палец не ударят, чтобы помочь. Слабое развитие общественной самодеятельности тем более поразительно у нас, что жизнь сейчас стала невыносимо тяжкой. Продовольственный, квартирный, финансовый кризисы давят всех нас, и несмотря на все это все же на арене общественной работы выступают одни и те же лица. Этот факт следует признать грозным, он таит в себе большую опасность для нашего общества, для всего народа. Завоеванная политическая свобода, широкая демократизация жизни не приведут к обновлению России, к расцвету ее, если общественная самодеятельность будет стоять на том же уровне, на каком стоит она ныне. Я не говорю уже о тех позорных фактах, которых оказалась такая масса, — о той нечестности, небрежности, преступном попустительстве, равнодушии к интересам общества, какие обнаруживают многие деятели нашего времени. Эти пороки, отравляющие весь наш народный организм, растут тем сильнее, чем меньше у нас сознания своего общественного долга, чем меньше у нас духа солидарности.
Нынешнее состояние русской общественности грозно и страшно. Не будем останавливаться на том, откуда у нас такое слабое развитие духа солидарности, а спросим себя, что можно сделать для подъема его и для борьбы с отрицательными сторонами нашей общественности? Для этого открывается только один серьезный и действительно много обещающий путь, — действовать через реорганизацию воспитания. Воспитание должно отвечать на запросы времени, должно пойти навстречу нуждам жизни и подготавливать людей нового склада, с иными навыками, с иными понятиями. Это углубление воспитания заключается в том, что школа (как и другие органы воспитания, конечно) должна взять на себя задачи социального воспитания, должна готовить не только образованных людей, не только дельных работников, но и
296
граждан, способных к общественной работе, воодушевленных идеалами солидарности. Мы ждем поэтому не только расширения школы, не только тех реформ, которые обеспечат общедоступность и единство школы, но мы ждем и внутренней реформы школьного дела, его углубления и приближения к жизни. Школа должна стать органом не только умственного образования, но и органом социального воспитания, стать носительницей высших идеалов общественности и истинным орудием социального прогресса.
Задачи социального воспитания выдвигались давно. Еще Платон в своем «Государстве» набросал идеал общественной жизни и на нем основал свой план воспитания, в котором развитие социальных способностей стояло на первом месте. Эти идеи Платона нашли себе должное признание лишь в конце XIX века, когда идеалы социального воспитания вновь привлекли к себе внимание педагогов.
Весь XIX век в педагогике шел, как известно, под знаменем индивидуализма; он боролся с тем течением в педагогической мысли, которое стремилось к установлению одного общего идеала человека, общего плана образования. Рост педагогической мысли привел к признанию того, что всякая программа должна приспособляться к личности ребенка, должна вообще индивидуализироваться. Но помимо этого принципа индивидуализации образования и воспитания, педагогическая мысль все более уясняла то, что нет и не должно быть одного общего идеала в воспитании, что каждая личность имеет свои индивидуальные особенности, свой путь индивидуального развития. Культ индивидуальности, развиваясь все дальше, доходил уже до крайности и ставил под вопросом необходимость самой школы, как общей организации образования, одинаковой для всех питомцев школы. Индивидуализм в педагогике неизбежно переходил в педагогический анархизм, имевший большой успех у нас в России благодаря обаянию Л. Н. Толстого.
Но это индивидуалистическоге течение в педагогике, ставившее в центре всего ребенка и его индивидуальные запросы, неизбежно вызвало реакцию, — и среди различных педагогических течений, которые были обусловлены этой реакцией, одним из наиболее интересных было направление, известное под названием социальной педагогики. Это течение, развивавшееся серьезнее всего во Франции, Германии и Америке, отдавая должную дань индивидуальности ребенка и считаясь со всеми его особенностями, отказывалось видеть в ребенке центр тяжести, но переносило свой взор на ту социальную среду, в которой развивается дитя. Индивидуальность никогда и нигде не развивается изолировано, и если мы искусственно сосредоточимся на ребенке, то воспитаем его не изолировано от социальной среды (что совершенно невозможно), но воспитаем в нем эгоиста, пользующегося всеми благами социального развития, всецело погруженного в свои собственные задачи. Не говоря о том, что правильное моральное развитие предполагает не эгоистическую замкнутость в себе, а одушевленное служение другим людям, обществу, но и помимо этого, видеть центр педагогического дела в ребенке, — это значит искусственно уходить от жизни. Жизнь
297
всегда и везде социальна, она знает не отдельных людей, а их живую и целостную совокупность, и только в этой живой и целостной совокупности развивается отдельный человек. Организация воспитания должна соответствовать действительности, — ведь смысл сознательной организации воспитания означает только одно, — что то бессознательное, случайное воздействие общества на детей, которое имеет место в обществе, должно стать сознательным и планомерным. Следовательно, организация воспитания должна исходить не от отдельного ребенка, а от социального целого, от того социального взаимодействия, которое лежит в основе всего развития ребенка. Но это значит вместе с тем, что идеалы воспитания относятся не к отдельной, искусственно изолированной личности, но к социальному целому. Личность никогда не может достичь идеала вне общества, идеальная действительность, к осуществлению которой стремится воспитание, включает в себя совокупность людей, социальное единство. С другой стороны социальный смысл воспитательного воздействия обнаруживается в том, что мы готовим дитя для жизни, а не для какой-то искусственной, оранжерейной обстановки, а это значит, что мы должны прежде всего способствовать развитию в ребенке социальных сил его души, развитию в нем духа солидарности. Это нисколько не устраняет и не отодвигает задач развития индивидуальных способностей и особенностей ребенка, но только придает этой задаче новый смысл. Развивать силы и особенности ребенка нужно не для него самого (кто вообще живет только для самого себя, тот жалкий человек), но для социального целого. Ведь только в обществе, в социальном общении каждый из нас становится человеком, и только живя для общества, мы развиваем свои индивидуальные силы. Мы увидим дальше весь конкретный смысл этого положения.
Таким образом развитие педагогической мысли пришло к постановке той самой задачи, неотложность и важность которой выдвигается современной русской жизнью. Вопросы социального воспитания должны поэтому привлечь к себе самое деятельное внимание русского общества во всех его слоях.
Но прежде, чем мы перейдем к этим вопросам, нам необходимо еще немного остановиться на самом понятии социального воспитания и отграничить его от нескольких близких, но не совпадающих с ним понятий.
Иногда задачи социального воспитания видят в том, чтобы приучить личность уже с детства к политической активности, видят в социальном воспитании средство «борьбы с политической апатией и политической развращенностью». Нельзя отрицать и таких задач в социальном воспитании, но совершенно ясно, что они являются частными, а не общими его задачами. Основная задача социального воспитания заключается в развитии социальной активности, в развитии «вкуса» к социальной деятельности, в воспитании духа солидарности, способности подыматься над личными, эгоистическими замыслами. Политическая деятельность, участие в политической жизни страны является одной из форм социальной активности, и только в подъеме последней можно видеть средство для борьбы с политической инертностью. Разу-
298
меется, бывают случаи, когда политическая инертность является результатом политического невежества, непонимания всей системы политического строя. Но это редкий случай, большею же частью политическая апатия является продуктом, общей социальной апатии, того равнодушия к общественной жизни, которое так удачно охарактеризовал еще Гоголь в «Старосветских помещиках», когда писал что их желания не перелетают через частокол их забора. У нас, как народа, едва только начинающего жить политической жизнью, это явление социальной апатии очень сильно. Не нужно обманываться тем возбуждением, какое ныне держится в обществе, в связи с революцией, войной и внутренней разрухой. Это возбуждение не удержится само по себе, если оно не будет укрепляться снизу, — в молодом поколении.
Но социальное воспитание нельзя смешивать также с национальным воспитанием, как это часто имеет место в Германии. Национальное воспитание заключается в том, что мы возможно глубже проникаемся национальным творчеством, проникаемся историческими заветами прошлых поколений и одушевляем нашу деятельность ими. Национальное воспитание наполняет нашу душу национальным содержанием, главным образом через язык и литературу, вводить нас в понимание природы, экономической жизни, всех форм культурной жизни нашей родины и делает нас способными быть сознательными и полезными гражданами своей страны. Таким образом социальное воспитание приближается по своим задачам к национальному воспитанию, но оно стоит выше его и захватывает душу ребенка шире и глубже. Национальное воспитание ограничивает кругозор ребенка границами национальности и приучает дитя видеть в его национальности не только самое дорогое, но и самое лучшее явление в мире. На этом пути (как это красноречиво говорят нам результаты национального воспитания в Германии) очень легко возникает опасность привить душе ребенка узкий национализм и даже шовинизм, презрительное и пренебрежительное отношение к другим национальностям, национальное самомнение. Любовь к родной стране — великое, но не высшее чувство. Там, где любовь к родной стране стоит выше всего, даже выше любви к истине, к добру, так растут те ядовитые цветы, которыми отравлена современная Германия, в своем узком национализме стремившаяся к порабощению других народов. Уберечься от опасности узкого национализма национальное воспитание может только в том случае, если оно будет опираться на правильно поставленное социальное воспитание, если любовь к своей стране, знание ее современного состояния и истории будет соединяться с воспитанием духа солидарности, с пониманием ценности человеческого общения. Дух братства, дух солидарности, идеально одушевляющий социальное воспитание, единственно способен оградить национальное воспитание от опасности, стоящей перед ним. Воспитание должно быть национальным, оно должно приобщать человека к исторической работе его страны, должно связывать его с родной страной и развивать сознание его долга перед своей родиной, но именно потому, что национальное воспитание необходимо, еще более необходимо социальное воспитание, которое развивает более высокие силы
299
человеческой души — дух братства и взаимопомощи. Вместе с тем ясно и другое: социальное воспитание не должно быть космополитическим. Воспитывая те черты личности, которые в конце-концов должны привести к братству народов, социальное воспитание не устраняет национального момента в личности человека. Космополитизм заключается в отрицании национальности, между тем как братство народов как раз предполагает сохранение каждым народом его национальных свойств и особенностей и разрушает только те перегородки, которые мешают народам встать в братские отношения друг к другу. Если когда-нибудь человечеству будет суждено достигнуть братства народов, то это может быть только результатом широкой постановки социального воспитания, развивающего дух солидарности. Не случайно, что идея социального воспитания нашла свой надлежащий смысл как раз в той стране, которая больше всего была одушевлена идеями и общечеловеческой культурой и больше всего послужила ей, — во Франции. Во Франции же идея солидарности, как политический и социальный принцип, нашла наиболее яркое свое выражение. Хочется надеяться, что и в России, которая всегда одушевлялась идеалами всечеловеческого братства и которая ныне стала на путь самодеятельности народа и так нуждается в социальной активности, — задачи социального воспитания найдут себе приют и оплодотворят собой нашу жизнь.
Идеал социальной активности, осуществимый лишь через посредство социального воспитания, должен быть уяснен еще с одной своей стороны. При развитии социальной активности у детей имеет значение не одно создание психической склонности к активности, не одно создание навыков социального взаимодействия. Это усвоение техники социального общения и умения действовать социально, само по себе ничего еще не говорит о содержании этой социальной активности, а между тем оно вовсе не безразлично для общества. Можно смело утверждать, что есть формы социальной активности, от которых общество оберегает себя всеми способами, — такова преступность. Преступность есть тоже форма социальной активности. Одно это показывает, что, говоря о развитии социальной активности, мы не должны обходить вопрос о содержании ее, тем более, что в наши дни пользуется большим распространением учение о так называемых классовых противоречиях. Согласно этому учению общество в целом не может быть охвачено одним понятием, так как оно разбивается в экономическом отношении на классы, борющиеся друг с другом. Учение о социальной борьбе классов, о так называемых социальных антагонизмах лежит в основе идеологии столь влиятельной в наше время партии, как партия соц. -демократов. Не входя здесь в подробное обсуждение вопроса о социальной борьбе, следует сказать, что нет никаких серьезных оснований слишком заострять социальные противоречия различных классов. Не говоря о том, что ход социального и политического развития благодаря так называемому социальному законодательству смягчает борьбу классов, не говоря о том, что государство, вмешиваясь в борьбу классов, тем самым создает политическую почву для их соглашения, — сама наличность социальных противоречий не отрицает бытия общества,
300
как целого. Социальные противоречия лежат не в основе общества, а являются продуктами его развития, следовательно предполагают существование общества как такового. В силу этого социальная активность приобретает свое содержание главным образом из тех сторон общества, в которых оно выступает как одно целое. Люди, принадлежащие к различным социальным классам, никогда не перестанут быть друг для друга, прежде всего, людьми! В социальном воспитании мы должны подготавливать детей именно к такому социальному общению, в котором основное место принадлежало бы чисто. человеческим, а не классовым отношениям. Но должно прямо и определенно сказать: доколе социальные противоречия будут оставаться острыми, доколе социальный строй наш не выйдет из современной проклятой полосы социальной борьбы, до тех пор социальное воспитание будет натыкаться на глухое противодействие самой жизни, которая ограничивает социальное взаимодействие и заостряет социальные противоречия. Но вместе с тем именно социальное воспитание, развивая в детях дух солидарности, может и должно способствовать прогрессу социального строя. Одушевляя активность идеалами солидарности и братства, социальное воспитание будет подготавливать тех, кто возьмет на свои плечи бремя социального вопроса и приблизит человечество к его разрешению. В этом отношении, быть может, не случайно, вопрос о социальном воспитании ставится теоретически и практически как раз в ту историческую эпоху, когда социальный вопрос близится к своему разрешению.
Таким образом социальное воспитание должно развивать социальные силы ребенка, подготавливать его к социальной жизни не с точки зрения социальной техники, а с точки зрения социального идеала. Вне этого идеала, вне духа солидарности и братства, социальное воспитание может быть даже опасным, — поскольку оно будет на буксире у жизни. Общество нуждается не в заострении классовой борьбы, не в усилении борьбы различных социальных групп, но в поднятии духа солидарности, в развитии социальной взаимопомощи. Социальное воспитание должно быть согрето социальным идеалом, в котором не только таится творческая, преображающая сила, но в котором проявляется та цель, к которой стремится человечество. Лишь в свете социального идеала может быть правильно поставлено социальное воспитание, может быть осмысленно то живое влечение человека к социальному общению, которое присуще ему с самого начала его существования.
Один социолог высказал мысль, к которой нельзя не присоединиться, что во всех почти социальных организациях можно найти четыре группы: социальную, несоциальную, псевдосоциальную и антисоциальную1. Деление это настолько удачно, что на нем нельзя не остановиться. Действительно, в каждой социальной организации есть класс людей, которые отличаются яркой социальной активностью. От природы имея яркое социальное влечение, эти люди отдают себя всецело социальному целому, думают о его благе, заботятся о его интересах. Этими людьми живет и держится социальная организация, без них она не
Гиддингс. Основания социологии.
301
могла бы развиваться. Рядом с ними всегда имеется другая группа, со слабым социальным чувством, инертная масса, равнодушная к интересам социального целого. Эта инертная масса составляет как бы тот материал, над обработкой которого трудятся представители первой группы, составляют тот социальный фон, на котором выступает их деятельность. Своей массой, одним своим числом, инертные люди являются очень существенным элементом социальной жизни; это те средние люди, уровень которых характеризует общество. Будучи инертными, они мешают более деятельным, образуют естественную консервативную силу общества, являются носителями социальной традиции, но и они способны к движению, если сильное социальное течение подхватит их. Они слишком инертны, чтобы самостоятельно идти вперед, но они достаточно инертны и для того, чтобы не сопротивляться. Как сырые дрова, они загораются медленно и лишь тогда, когда рядом горят уже сухие поленья… Псевдосоциальная группа — это люди, которые не имеют даже того слабого социального чувства, какое присуще второй группе. Это люди, которыепользуются общественными отношениями в своих целях, которые проявляют большую активность, но чисто эгоистического характера. Они не думают об интересах целого, но они и не посягают на целое; наоборот, они пользуются им для себя. Это — паразиты общества; большая часть преступников тоже входит сюда. Общество тем более страдает от них, что оно же в сущности их порождает, так как их глубокий эгоизм, холодное использование общественных отношений в личных целях является следствием главным образом тех социальных раздоров, которые воспитывают в личности равнодушие к целому и служение самому себе. Наконец, четвертая группа — антисоциальная — включает в себя людей, которым душно и тесно в той социальной среде, с которой они почему-либо связаны, все помыслы которых направлены на тайную или явную борьбу с обществом. Часто к этой группе принадлежат носители высокой социальности, которые задыхаются в мелочной и низкой общественности, и во имя социального идеала, ими созданного или тайно к себе их влекущего, они борются с обществом. Но в антисоциальную группу входят и те, кому трудно и тесно в обществе не в силу повышенных требований их к обществу, а в силу природной или развившейся благодаря тяжелой жизни угрюмости, стремления к одиночеству. Общество тяготит таких людей, тяжело им и ненужно, и вся энергия таких людей часто уходит на разложение социальных связей. Мизантропы, меланхолики, люди с разбитой личной жизнью, скептики — вливают в социальную жизнь свой яд и отравляют социальный организм. Часто эта борьба с обществом доходит до настоящих преступлений.
Задачи социального воспитания выступают во всей своей конкретной сложности именно перед лицом только что развернувшейся картины. По отношению к первой группе задача социального воспитания заключается лишь в том, чтобы наличную социальную энергию направить на должные цели и придать ей ценное содержание. Много есть людей, обладающих высокой социальной энергией, но бесплодно растрачивающих ее в разных пустяках и мелочах за отсутствием серьезного
302
содержания. Подхватить социальное дарование и придать ему ценное содержание— вот задача социального воспитания по отношению к представителям первой группы людей. Не то приходится сказать о задачах социального воспитания по отношению к инертным людям, — здесь выступает самая трудная работа социального воспитания. И если правильно сказано, что не здоровые имеют нужду во враче, а больные, то можно сказать, что основная задача социального воспитания может быть правильно поставлена, во всей сложности ее проблем, как раз по отношению к социально инертным людям. Здесь возникает основной вопрос — как пробудить социальную активность, как зажечь огнем те натуры, которые в силу своей вялости и равнодушия не принимают живого участия в общественной жизни. Должно отметить, что социальная инертность вовсе не основывается на общей инертности и легко может соединяться с яркой индивидуальной активностью; равным образом в социальной инертности нет непременно эгоистической основы, а есть именно равнодушие к интересам и благу целого, есть психическая замкнутость. У нас в России, при прежних условиях общественной жизни, когда сурово преследовалось всякое искреннее и честное служение общественному благу, естественно выдвигался самой жизнью и исторически закреплялся тип социально равнодушного и социально инертного человека. К этим чисто русским условиям, благоприятствовавшим всем нашим Обломовым, надо присоединить и тот фактор, который оказывает свое действие всюду, — именно влияние экономического индивидуализма нашей эпохи. Экономическая структура нашего времени раздвигает людей, заставляет каждого думать о себе, ведет к культу своих интересов. Самый прогресс экономический во многом основывается на эгоистическом служении личному интересу. В силу этого экономического фактора как-то слабеют, отодвигаются вглубь естественные социальные влечения, гаснет интерес к социальному целому. Было бы наивно не учитывать этот фактор в вопросе о причинах распространенности социально инертного типа. Тем настойчивее выдвигается как задача социального воспитания — борьба с этими факторами. Не менее серьезно стоит проблема социального воспитания и в отношении третьей группы, выше нами охарактеризованной, как псевдосоциальная группа. Здесь дело уже идет не о равнодушии, не об инертности, а о прямом и холодном использовании общественных отношений для эгоистических целей. Нет никакого сомнения, что социальные влечения здесь подавлены жизнью, размышлениями, условиями развития, но все же они не отсутствуют вполне, как то показывает нам наличность своеобразной социальной организации у преступников, наличность у них своей особой морали и чести. С известной точки зрения (хотя здесь и есть спорные пункты) всех тех, кто входит в состав третьей группы, можно считать жертвами тех или иных условий; холодное использование общественных отношений является как бы результатом какого-то излома в душе, лишившего данные натуры нормального душевного развития. Так или иначе, но преодоление тех психических вывихов, которые отбрасывают человека в ранние его го-
303
ды2 от общества и подавляют его социальные влечения, всегда будут составлять одну из труднейших, но вместе с тем и благодарнейших задач социального воспитания.
Что касается, наконец, последней (антисоциальной) группы, то задача социального воспитания в отношении к ней состоит не в том, чтобы уничтожить в корне антисоциальный фактор, но в том, чтобы облагородить и возвысить его. Поскольку борьба с обществом, с рутиной и казенщиной одушевляется высшими идеальными стремлениями, — эта борьба должна быть признана одним из важнейших и влиятельнейших факторов социального прогресса. Задачей социального воспитания здесь является использование часто очень глубоко заложенного антисоциального настроения путем одухотворения его высшими идеальными началами.
Социальное воспитание должно стать могучим фактором прогресса, если только мы отрешимся в своем педагогическом воздействии на детей от того крайне индивидуалистического жизнепонимания, которое является господствующим в настоящее время. Человек никогда не может быть понят вне его социальных связей, вне социальной среды, но и педагогическое воздействие не может быть удачным, если оно будет трактовать ребенка как замкнутую индивидуальность. В самом педагогическом воздействии имеется своя социально-психическая стихия, которая должна быть выдвинута на первый план, чтобы педагогическое воздействие было более продуктивным. Таким образом социальное воспитание имеет свое значение не только для выработки в каждом из нас социальной активности, но оно может стать главной и основной формой педагогического воздействия, через посредство которой другие формы воспитания становятся более достигающими своей цели. Мы увидим в дальнейшем, как общие искания современных педагогов логикой вещей подводят их к той идее социального воспитания, к обоснованию которой мы пришли, отправляясь от современной жизни.
Но здесь перед нами возникает трудный и серьезный вопрос: возможно ли социальное воспитание? Мы видели, что оно нужно, что потребность в нем растет по мере того, как широкие слои населения выступают вперед и призываются к самодеятельности. Из пересмотра тех классов, на какие распадается общество, вообще всякая социальная организация, мы видели, что состав общества (в отношении к социальной активности) является неоднородным, видели, что особенно нуждается в социальном воспитании тот социальный слой, который выражен численно наиболее сильно и который обнаруживает социальную инертность. Если возможность социального воспитания бесспорна, то по отношению к тому лишь социальному слою, который в силу своих особенностей, как раз наименее нуждается в социальном воспитании. Там же, где необходимость социального воспитания не только бесспорна, но и очень остро выдвигается жизнью, — по отношению к социально
--
2 Некоторые авторитетные криминалисты высказывают мысль, что те изломы в душе, которые создают преступника, всегда восходят к каким-нибудь событиям в детстве.
304
инертному слою, а равным образом по отношению к социальным «паразитам», — именно здесь совершенно неизбежно сомнение в возможности социального воспитания. Только разрешивши этот вопрос, мы можем правильно подойти к выяснению путей и средств социального воспитания.
Чтобы найти данные для решения вопроса о возможности социального воспитания, мы должны заняться выяснением того, что говорит нам социальная психология и психология детства о социальных силах в душе ребенка. Мы должны углубиться в этот вопрос вследствие того, что общераспространенные мнения об этом (даже у педагогов) совершенно не учитывают социальной стороны в личности ребенка. Сами науки, на которые мы будем опираться, слишком мало известны у нас, — особенно это надо сказать о социальной психологии.
ГЛАВА II.
Социальные силы в душе ребенка.
Для выяснения той основы, на которой может быть построена социальная педагогика, нам нужно обратиться к анализу социальных сил в душе ребенка. Задача эта в достаточной степени трудная, тем более, что обе науки, которые могут здесь нам помочь, и психология детства и социальная психология — еще очень молоды. Тем не менее та картина, которую рисуют эти науки в интересующем нас вопросе, все же очень поучительна. Мы обратимся сначала к некоторым общим вопросам социальной психологии, а затем перейдем к основной теме настоящей главы — к вопросу о социальных силах в душе ребенка1.
Прежде всего нам необходимо уяснить себе, на чем держится социальное взаимодействие. Должно сразу же сказать, что мы обычно совершенно не задумываемся над вопросом, только что поставленным: мы движемся в социальной среде, вступаем в социальное взаимодействие, совершенно не отдавая себе отчета, как это происходит. Отчасти это объясняется тем, что мы с детства привыкаем к социальному общению, — а то, что привычно, совершается нами без контроля сознания. С другой стороны, двигаясь в социальной среде, мы так же не ощущаем социального давления, как не ощущаем мы давления воздуха, что объясняется равномерностью этого давления. Мало того, что мы не замечаем давления социальной среды, — мы сознаем себя и действуем так, как если бы мы были совершенно независимы от социальной среды. Это чувство независимости от среды есть продукт новейшего социального развития, — и мы увидим дальше, отчего прогресс социальный ведет к развитию индивидуализма. Как бы то ни было, нужно некоторое усилие мысли, чтобы задуматься над вопросом о сущности социального взаимодействия, и еще большее усилие мысли нужно, чтобы разрешить этот вопрос.
При обсуждении вопроса о социальном взаимодействии у многих возникает мысль, что оно объясняется всецело тем, что у нас есть речь; в беседах и разговорах один человек сообщает другому то, что он думает или чувствует, к чему он стремится. Нельзя, конечно, отрицать огромное значение речи в социальном общении, но не трудно убедиться и в том, что само пользование речью предполагает уже социальное
--
1 Картина, которая развертывается в дальнейшем, не может быть, по условиям места, ни обоснована, ни детализирована.
306
единство, предполагает какой-то иной способ социального сближения. Если бы мы, являясь в свет, владели бы уже речью, так что слова «сами собой» лились бы из наших уст, когда нам это оказалось бы нужно, тогда другое дело, — но ведь не только все человечество очень медленно и с большим трудом развивало речь, но главное — каждый из нас должен заново усвоить родную речь; каждый маленький успех в усвоении речи—в усвоении слов, форм языка, особенностей сочетания слов, — все это должно быть завоевано упорным и настойчивым трудом. Очевидно, если бы дитя, не владеющее еще речью, не могло преодолеть преграду своей индивидуальности и не могло вступать помимо языка в социальное общение, — то оно не только не усвоило бы языка, но даже и не нуждалось бы в нем, потому что не вступая в более простое социальное общение, оно не подозревало бы о более сложном и удобном средстве общения. Поэтому, как ни велика роль языка в социальном общении, но, очевидно, что речь сама предполагает уже установившееся социальное общение и делает это имеющееся уже общение лишь более совершенным, так сказать более призрачным. И не только у дитяти это простое социальное общение предваряет пользование речью, но и у нас взрослых пользование речью, как средство социального общения занимает сравнительно небольшое место в системе социальных связей.
Социальное общение имеет разные формы. Если мы едем с кем-нибудь вместе в вагоне, то простое физическое соседство не подымается до социального общения; для того, чтобы последнее имело место, нужно, чтобы что-нибудь нас объединило. Пусть, например, в вагоне произойдет с кем-нибудь несчастье (обморок, падение, припадок болезни); вокруг этого центра мигом образуется социальная среда, — все пассажиры, находившиеся до сих пор в физическом соседстве, объединяются в своем интересе (все спрашивают: «что случилось?» «почему?» и т. п.), быть может, объединятся и в некоторых общих действиях. Существенной особенностью всякого социального факта является, таким образом, некоторое единство, сближающее отдельных людей. Единство это может быть случайным (как это бывает, например, в толпе) и легко поэтому распадающимся. Все неслучайные единства мы, вслед за одним социологом, будем называтькорпорациями, противопоставляя им толпу. Но и среди корпораций мы должны различать такие, которые создаются нами, по нашему почину (например, «комитет по устройству областного музея» или более постоянные — потребительское общество, партии, секты и т. п.), — такие корпорации, которые имеют прочное историческое существование. Среди последних опять-таки следует различать корпорации, которые охватывают только определенное время нашей жизни (учебное заведение, военная служба и т. д.), и такие, которые охватывают всю нашу жизнь (государство, нация, церковь, семья и т. п.).
Все эти различные виды социального общения, как мы видим, отличаются друг от друга устойчивостью и глубиной того единства, которое в них устанавливается. Подчеркнем еще раз: язык является могучим фактором социального общения, но не создает социальное единство, а его только выражает. Между тем нам необходимо себе уяснить,
307
как создается социальное единство, начиная от самых простых и кончая сложными формами его.
Ясно само собой, что социальное единство имеет психический характер, что оно есть там, где есть ясное или слабое, но все же определенное сознание этого единства у участников социального целого. Сознание принадлежности моей к социальному целому единственно служит признаком того, что это единство прежде всего для самого себя, для своих членов, и пока этого нет — хотя бы в самой глухой форме, до тех пор нет и общества, а есть просто сумма людей. Как выражается один социолог, общество есть там, где есть социальное взаимодействие; сумма людей становится обществом с того момента, как психика каждого человека будет втянута в общее социальное чувство, движение или настроение.
Конечно, действуя в социальной среде, как мы уже указали, мы совершенно не отдаем себе отчета в социальном давлении, — это значит, что мы не сознаем отчетливо различия между социальным и так сказать досоциальным взаимоотношениями людей. Но это не мешает нам очень глубоко переживать это различие, считаться и пользоваться им. Если я сажусь в трамвай, то я очень ясно переживаю (хотя редко осознаю это) переход от простого физического соседства с людьми к социальному общению с ними — при каком-нибудь поводе, превращающем массу людей, едущих в трамвае, в социальное единство (в данном случае — в толпу).
Есть много попыток объяснить, как возникает социальное единство; ясно заранее, что в виду психического характера социальной связи, для объяснения социального общения может быть использована любая из основных сфер душевной жизни, — ум, чувство или воля. Первая теория, исторически наиболее влиятельная и связанная с именами французского социолога Тарда и русского мыслителя Н. К. Михайловского, признает, что социальное единство создается вследствие того, что движения и действия одного человека повторяются другим. Это повторение называется подражанием и заключается оно в том, что волевой аппарат людей обладает способностью отзываться на чужие движения. Назовем эту теорию (пользуясь известным явлением в физике, когда звуки одного инструмента вызывают ответное звучание других инструментов) волевым резонансом. Эта теория имеет большой успех, тем более, что подражание играет, действительно, большую роль в социальной жизни. Французский социолог Тард, упомянутый уже нами, в своих различных сочинениях пытался свести к подражанию все факты социальной жизни. Но; разумеется, с ним нельзя согласиться. Помимо того, что подражание, хотя и часто встречающееся в жизни, не может охватить все случаи социального общения (есть много случаев, когда социальное единство вовсе не выражается в одинаковых действиях — без чего нельзя и говорить о подражании), — помимо этого нетрудно убедиться, что подражание само по себе означает только сходство в действиях людей, но ничего не говорит о том, как это сходство устанавливается, вообще оно обозначает факт, но не объясняет его. В самом деле. Если бы подражание объяснялось волевым резонансом, т. е. если
308
бы мы при виде чужих движений испытывали бы непреодолимую потребность повторять эти движения, то все бы мы напоминали общество душевнобольных, а не здоровых людей. Повторение имеет у нас место, но оно бывает не так часто, и повторяем мы, подражаем не всем вообще движениям, которые мы видим, а только тем, которые почему-нибудь интересуют нас, вообще задевают наши чувства, нашу эмоциональную сферу. В силу этого теорию волевого резонанса нужно отвергнуть, чем конечно вовсе не устраняется подражание, которое является фактом. Подражание не может только объяснить нам социального общения (потому что там, где нет подражания, все-таки может быть социальное общение), — оно наоборот, само требует объяснения.
Даже те, кто защищал изложенную теорию, не могли ею сами вполне удовлетвориться и признавали, что установление социального единства не может быть вполне объяснено и сводили его к тем загадочным фактам влияния одного человека на другого, которые известны под названием внушения, гипноза. Здесь привлекается к объяснению социального общения сфера ума, потому что действие внушения и гипноза заключается, по общему признанию, в том, что в сознании другого лица может возникнуть под влиянием гипнотизера, вообще производящего опыт лица, известный образ — и лишь затем может последовать то или иное движение.
Внушение часто имеет место в социальном общении, этого нельзя отрицать; исследования внушаемости, показывающие впрочем, что наиболее чутким к внушениям является детский возраст и, что внушаемость с годами падает, убеждают, что в известных пределах внушаемость всегда присуща нам. Однако все же внушение не может служить основой социального сближения именно потому, что оно имеет ограниченные пределы. С другой стороны наблюдения показывают, что внушение происходит тем сильнее и быстрее, чем глубже социальные связи между данными людьми. Так например, в семьях внушение имеет место очень часто; взаимная симпатия усиливает внушаемость, наоборот, враждебные отношения, раздвигающие людей, ослабляют внушаемость. Все это заставляет признать, что внушение само вырастает на почве социального общения, предполагает его и только, если так можно выразиться, реализует, осуществляет то единство, которое установилось до него, проявляет его во влиянии ума одного на ум другого человека. Скажем в более общей форме, — умственный (интеллектуальный) обмен вообще являетсяпродуктом социального общения. Психология детства устанавливает даже, что благодаря лишь социальному общению вырастают и крепнут высшие формы мышления (так называемое дедуктивное и индуктивное мышление). При отсутствии социальной близости наше стремление воздействовать на ум другого лица часто остается бесплодным. Всем известная бесплодность чтения всяких нравоучений объясняется как раз невозможностью через посредство ума воздействовать на личность, — наоборот там, где существует известная близость, где уже установилось единство и доверие друг к другу, там выслушиваются с глубоким вниманием чужие речи и мысли. Если мы интересуемся человеком, как жадно мы ловим каждое
309
его слово и стремимся проникнуть в его мысли! Как мало влияют на нас, наоборот, чужие мысли, если мы равнодушно относимся к тому, кто их высказывает! Тайна авторитета, играющего большую роль в жизненных отношениях и особенно в педагогическом деле, сводится как раз к установлению таких социальных связей, на основе которых приобретают вес и значение наши слова. Малейшее замечание авторитетного для нас человека глубоко отзывается в нашей душе и вместе с тем самые глубокие мысли людей, для нас неавторитетных, скользят мимо нас!
Все это убеждает нас в том, что привлекать интеллектуальную сферу для объяснения того, как устанавливается социальное слияние, невозможно. Но в силу этого для нас выступает необходимость искать тайну этого слияния в сфере чувств, в эмоциональной области. Не трудно убедиться, что мы здесь находимся на истинном пути. Социальные связи устанавливаются или разрушаются в зависимости от эмоциональной нашей близости, — и чем эта последняя глубже, тем сильнее и продуктивнее социальное общение между людьми. На основе эмоциональной близости вырастает и дальнейший психический обмен, создается взаимодействие умов, создается единство в действиях. Тайна социального сближения может быть найдена в нашейэмоциональной отзывчивости или употребляя уже приведенный выше термин — в эмоциональном резонансе. Когда вы идете по улице и увидев собравшуюся толпу присоединяетесь к ней, то вас побуждает к этому эмоциональное движение — любопытство, интерес. Мы вступаем членами только в те корпорации, которые нам чем-нибудь нравятся, чем-нибудь нас привлекают; сила и крепость социальных связей в прямой мере и зависят от силы наших чувств в отношении к ним.
Нам изначально присуща способность эмоциональной отзывчивости. Одно уже присутствие людей влияет на нас. Все мы знаем, что, когда во время интимной беседы с другим человеком входит третий, — интимная беседа становится невозможной. Одно присутствие третьего лица нам мешает, нас волнует, вообще действует на нас эмоционально. Мы не можем быть безразличны по отношению к людям, они эмоционально нас возбуждают. Это особенно ярко сказывается в скоплениях людей. Идите в театр и проанализируйте себя, — могли ли бы вы так женаслаждаться спектаклем, если бы театр был пуст? Нет! Одним из важнейших источников наслаждения в театре является то, что мы переживаем сценическое представление вместе с другими людьми. Помимо того, что Мы, выражая наше удовольствие, переживаем его сильнее, можно сказать заново заражаемся им, когда видим удовольствие написанным на лицах других людей, — помимо этого само присутствие массы людей доставляет нам огромное наслаждение. Люди влекут нас к себе и быть среди людей — огромное наслаждение. Вот отчего так легко образуются всюду толпы; говорит же наша пословица, что «на людях и смерть красна». Все наши чувства переживаются- нами острее, когда переживаются сообща. Вот отчего мы любим делиться не только горем, но и радостью, — в социальных условиях открывается простор для жизни чувств, создаются особенно благоприятные условия для их
310
развития. Некоторые чувства могут получить простор только в социальных условиях; те задержки, которые обычно подавляют наши чувства, исчезают, перестают действовать, когда мы находимся в массе. Отсюда те особенности толпы, которые давно обращали на себя внимание: в толпе возможен такой подъем чувств, какой никогда не бывает под силу отдельному человеку. Вопреки некоторым социологам, которые утверждают, что толпа всегда и морально и интеллектуально ниже каждого из ее участников, мы должны сказать, что толпа вообще живет иной, более яркой эмоциональной жизнью. Она часто падает ниже уровня ее участников, она способна к самой ужасной низости и жестокости, но толпа бывает способна и к такому героизму, к таким высоким движениям, которые никогда не бывают под силу отдельным участникам ее. Причина этого заключается в том, что вообще социальное общение сильнее всего сказывается на эмоциональной сфере (вследствие того, что лишь через эмоциональную сферу возникает вообще социальное сближение). Никогда отдельный человек не бывает способен к той панике, к тому гневу, к тому веселому возбуждению, к такому энтузиазму, экстазу, героическому настроению, как в толпе! Все чувства при социальном общении как бы получают особое питание, становятся более живыми и яркими.
В эмоциональной сфере имеет место один закон, о котором здесь необходимо упомянуть— закон двойного выражения чувств. Дело в том, что всякое чувство требует своего выражения и при том двойного — телесного и психического. Телесное выражение чувства состоит в движениях как всего тела, так особенно мускулов лица (в силу чего лицо наше имеет «выражение»), психическое выражение чувства заключается в той психической работе, которая состоит в прояснении и осмысливании чувства. Эта последняя работа, хотя и имеет характер мышления, но она настолько далека от мышления, занятого познанием, что ее в отличие от познавательного мышления, называют эмоциональным мышлением, или что то же самое— работой воображения. При социальном общении подъем в сфере чувств обнаруживается как в области движений телесных, так и в психической работе. Нигде так не разыгрывается наше воображение, как при социальном общении, — и свойственное главным образом детскому возрасту явление игры, в котором одновременно выступает и телесная активность и работа воображения, занимает всегда значительное место в жизни толпы. Быть может элемент игры в истории толпы является даже решающим.
Итак, социальное сближение впервые происходит на эмоциональной основе. Уже одно присутствие других людей делает меня эмоционально чутким к ним и во мне развивается влечение к людям, стремление слиться с ними в одно целое или наоборот, возникает антипатия, стремление уйти от данных людей. Там, где не устанавливается эмоционального сближения, там, где люди остаются равнодушны друг к другу, там они могут быть только физическими соседями, но не могут вступить в социальное взаимодействие. На ночве эмоционального сближения происходит уже дальнейший психический обмен: прежде всего люди заражают друг друга своими чувствами, что происходит
311
особенно легко, так как всякое чувство ищет своего выражения. При общем эмоциональном сближении вид чужого горя и меня настраивает на грустный лад, чужая радость отзывается во мне; наоборот при эмоциональном отталкивании чужая радость раздражает нас, чужое горе часто вызывает насмешку. За эмоциональным обменом легко устанавливается интеллектуальный обмен, легко возникает подражание чужим движениям, раз они нравятся мне, вообще возбуждают меня.
Социальное взаимодействие прозрачнее всего в психологии толпы, которую мы только что анализировали, но оно остается тем же и в иных видах социальных связей. Не входя здесь в подробный анализ этих фактов, — отметим только одно: чем меньше доля индивидуального участия в социальном целом, тем глуше сознание социального единства. Эта слабая выраженность социального сознания имеет место часто в отношении политического, национального, религиозного единства. В нас живет сознание своей принадлежности к социальному целому, но оно как бы отодвигается глубоко в недра души, и только в случаях какой-нибудь катастрофы мы ярко переживаем ценность родины и другого социального целого. Именно в силу этого и необходимо социальное воспитание: оно должно извлекать из недр души имеющийся там материал социальных связей, должно питать эти в психической глуши остающиеся чувства, давать им простор иоткрывать возможность их выражения. Социальные чувства глохнут ведь только оттого, что для них нет повода к их выражению. Так чувство родины просыпается тогда, когда наступает возможность и необходимость отдать свои силы на пользу родины. Поэтому задача социального воспитания и заключается в том, чтобы раскрыть перед глохнущими социальными чувствами возможность широкого и продуктивного их выражения.
Огромное значение в истории нашего социального самосознания играет тот факт, что мы никогда не принадлежим к одному социальному целому, но одновременно принадлежим к нескольким социальным целым, или как выражаются социологи, к нескольким социальным кругам. Чем ниже стоит социальное развитие, тем к меньшему числу социальных кругов мы принадлежим, чем выше, — тем в большее число социальных кругов мы входим.
В наше время все мы участвуем во многих социальных кругах. У нас есть политическая,. национальная, религиозная жизнь; каждый из нас имеет свою профессию, имеет семью, участвует в различных обществах, читает определенные газеты, журналы, книги, вообще приходит в соприкосновение с различными социальными кругами. В каждом из нас как бы скрещиваются эти различные социальные круги, и в каждом из них мы играем особую роль. Как блестяще выяснил в своих работах известный социолог Зиммель, именно эта принадлежность отдельного человека к различным социальным кругам и освобождает его от власти каждого из них. Принадлежа одновременно к нескольким социальным кругам, я не так уже завишу от каждого из них, и крах в одном не роняет меня в другом.
В силу этого индивидуальное самосознание крепнет именно по мере расширения социальных связей; чем больше этих социальных связи
зей, тем более независим человек от каждой из них, тем более оно обладает свободой в отношении к ним. С усилением социальных связей человек в общем подчиняется гораздо большему числу социальных влияний, — но именно этот самый факт служит освобождению индивидуальности из-под гнета социальных связей. Этот факт исторически выражается в усилении индивидуализма, в повышении у личности ее запросов как раз именно в новейшее время, — а в развитии отдельного человека он сказывается тем, что наша индивидуальность становится разностороннее, богаче и более независимой, чем шире ее социальные связи.
Запомним этот существенный факт! Мы, видим, что благо индивидуальности заключается в усилении и расширении социальной активности. Чем больше отдаем мы себя социальной деятельности, чем многообразнее наши социальные связи, тем выше стоит индивидуальность в своем развитии. Так оправдываются известные слова Спасителя: «Кто потеряет свою душу ради Меня, тот обретется». Живя для ближних, для людей, теряя себя в них мы вступаем на высший, достойнейший путь нашего индивидуального развития.
Если мы обратимся к изучению социальных сил в душе ребенка, то мы убедимся, что с самых ранних лет детская душа как бы насквозь пронизывается лучами социальности. Неудивительно поэтому, что ни один возраст не бывает так склонен к социальной жизни, как детский. Мы взрослые и менее нуждаемся в социальном общении и сознаем себя более независимыми от социальных связей, а вместе с тем эмоциональный холодок, обычно поселяющийся в душе с годами, делает нас социально более тупыми. Детская душа легче и полнее раскрывается для социального сближения, дети легче сходятся, скорее привязываются и в силу этого социально более чутки, чем мы взрослые.
Уже при общем взгляде на период детства становится ясной огромная роль социального общения в формировании детской души. Ни одно живое существо не знает столь длинного детства, как человек. Самые близкие наши соседи по животному царству очень скоро после рождения становятся способными вести самостоятельную борьбу за существование. А человек? Прежде, чем мы созреем физически, прежде, чем мы духовно окрепнем настолько, чтобы быть способными к самостоятельной, ответственной деятельности, проходит много лет. Отчего этот так? Современная наука так отвечает на этот вопрос. Все живые существа получают свои основные силы благодаря наследственности, и им нужен лишь некоторый опыт, некоторая помощь со стороны родителей, чтобы вести самостоятельную жизнь. Если бы человек был существом только физическим, — и его тело могло бы в течение нескольких недель стать способным к выполнению всех движений. Но чтобы войти в общество, дитя должно созреть не только физически, но созреть и духовно. Все, что человечество добывало в течение своей истории, все это передается в сгущенном виде от поколения к поколению. Язык, религия, нравы и обычаи, памятники литературы, результаты науки, — все это нужно усвоить, все это наследство нужно сделать своим, нужно его
313
узнать и им овладеть. Только благодаря тому, что каждое поколение приобщается к тому, что было добыто предыдущими поколениями, человечество не топчется на одном месте, но с каждым поколением идет вперед. Социальный прогресс возможен только потому, что результаты деятельности предыдущих поколений сохраняются и передаются по наследству следующим поколениям. Здесь мы имезм дело уже не с физической наследственностью, с помощью которой дитя от родителей получает те или иные свойства, а с социальной наследственностью. Всю совокупность духовного содержания, накопленного предыдущими поколениями, называют традицией, — и вот для усвоения традиции и нужно столь длинное детство, какое свойственно человеку. Мы не можем стать людьми в истинном смысле этого слова, пока мы не приобщимся к традиции, пока мы не усвоим ее главного содержания. Ни один человек, конечно, никогда не в состоянии усвоить всего содержания традиции, но от поколения к поколению в живом социальном общении, в живом социальном единстве хранится эта традиция. Через одно усвоение языка и слов, его составляющих, дитя приобщается к великой исторической работе человеческого духа, овладевает чудесным орудием мышления. Смысл детства заключается, таким образом, в усвоении необходимого материала традиции2, которое вводит дитя в современную жизнь, в ее искания и стремления, ее устои и обычаи. Через традицию душа ребенка наполняется «чужим» содержанием, но оно очень скоро становится своим, родным, — да и правильно! Ведь общество — это мы сами, и погружаясь в традицию, мы остаемся в родной среде.
Один из выдающихся исследователей детской души3 высказал одну мысль, которой нам нужно коснуться. Имея в виду то, что игры занимают столь важное место в детской жизни и установив, что в играх дети упражняют свои физические и психические силы и как бы начерно подготавливаются к жизни, Грос резюмировал свою теорию в таких словах: «Мы не потому играем, что мы дети, но для того и детство нам дано, чтобы мы играли». Смысл детства действительно заключается в играх; в них дитя развивает свои силы, но развивает их не механически, а в осмысленных играх, в которых содержание взято из окружающей жизни. Если бы однако дитя развивало свои силы на реальных предметах (ездило бы, например, на настоящей лошади), оно при своей неловкости и слабом понимании окружающего могло быЛскоро погиб-нугь. Игры могут быть плодотворными, могут сыграть свою роль лишь в том случае, если дети пользуются при этом невинным, неопасным материалом (веревочки вместо лошадей). На небольшом и невинном материале дитя с помощью воображения строит себе мир, в котором оно может безопасно делать любые движения. Воображение является поэтому главной психической силой, на которую опирается процесс формирования детской души. В воображаемом мире не только легка, но вместе с тем и неизбежна свобода; перед ребенком открывает-
--
2 Заслуга в установлении этого важного положения психологии детства принадлежит американскому ученому Болдвину.
3 К Грос. Душевная жизнь ребенка. Рус. пер.
314
ся широкий психический простор, благодаря чему имеют возможность проявляться все силы детской души.
Но почему рано развивается воображение и как оно обслуживает раннюю активность дитяти? Мы уже видели, что воображение, есть не что иное, как та психическая работа, в которой чувства находят свое «выражение», вообще раскрытие. Всякое эмоциональное возбуждение ведет к работе воображения. Вместе с тем, надо иметь в виду, что наша активность может иметь два регулятора — волевой и эмоциональный. В системе психических сил раньше действует эмоциональный регулятор; активность ребенка (помимо, так называемой, рефлекторной, инстинктивной и импульсивной активности) вызывается эмоциональными переживаниями его. Волевой же аппарат создается позднее и в некоторых своих функциях (в развитии задержек) вообще созревает медленно. Итак, ранняя стадия детской жизни представлена широким развитием эмоциональной жизни и в связи с этим развитием воображения. Интеллект растет пока медленно, равно как и волевой аппарат.
Так психический уклад ребенка соответствует задачам детства: яркое развитие эмоциональной жизни способствует росту воображения, и игры развиваются на материале, наполовину сотканном из воображения. Усвоение социальной традиции (на ряду с развитием телесных и духовных сил составляющее основное содержание детской жизни) тоже облекается в значительной мере в форму игр. Дитя «начерно» — на материале, наполовину сотканном с помощью воображения, — усваивает самые различные социальные отношения. Остроумно говорит по этому поводу один мыслитель, что поэзия с ее вымышленными героями прививает «яд» социальных отношений, чтобы ослабить действительное приближение к запутанной социальной жизни, — подобно тому, как прививка оспенного яда предохраняет от действительной болезни. Играя мы легко и просто усваиваем различные социальные «позы», различные отношения, игра поэтому является очень существенным фактором в социальном созревании ребенка. Все игры, действительно, социальны по своей конструкции; когда нет налицо реальной социальности, дитя создает воображаемую (например, куклы). Одушевляя всю природу, даже мертвые вещи (мебель, игрушки и т. д.) дитя бесконечно расширяет свои социальные горизонты. Оно дышит и живет социальными переживаниями; в социальной среде находит для себя выход и в то же время питание его эмоциональная сфера. Подлинный дух солидарности струится в играх детей, являясь как бы голосом природы, указывающим на существенное значение социальности в развитии человека.
Как превосходно показал в своих трудах американский ученый Бол-двин, самосознание ребенка развивается при непрерывном взаимодействии его с социальной средой. Дитя очень рано, еще до возникновения мышления в его подлинных формах, обнаруживает поразительную способность к социальному ориентированию. Надо сказать, что во внутреннем мире юной души занимают огромное место два переживания — переживание своей силы и переживание своей слабости. Из переживания силы, которое накапливается, растет и концентрируется на
315
протяжении всей жизни, рождается самоутверждение личности, вообще развивается и зреет индивидуальность с ее собственной инициативой, творчеством. Смелость, порой упрямство, сила воли, уважение к самому себе, стремление настоять на своем, добиться осуществления своих планов — таковы те психические факты, в которых обнаруживается рост индивидуальности. Но не менее существенную роль в созревании личности играет и переживание своей слабости, — и оно тоже является центром, вокруг которого всю жизнь собираются однородные переживания. Через эти переживания глядит в индивидуальность социальная среда, к которой ей приходится приспосабливаться, с которой необходимо считаться. Приспособление, послушание, подражание, смирение, стремление к образованию, работа над собой, самоограничение, привычка считаться с людьми, наконец, весь процесс усвоения традиции — все это формы второй активности!/ Индивидуальность и социальная среда как бы воспроизводятся в глубине самой личности, образуя два полюса, вокруг которых вращается весь психический процесс. Дитя с самых первых дней учится социальному ориентированию: оно распускается на руках у матери и сравнительно скоро успокаивается у строгой няни; оно не рискует настаивать на своем в присутствии отца, но нет ему никакого удержу, когда дитя имеет дело с доброй бабушкой. Кто не знает этого, если он имел дело с детьми?
Одновременное существование двух полюсов психического развития имеет огромный смысл. Личность выйдет однобокой, если один полюс будет развиваться за счет другого: личность выходит узко-эгоистичной, любящей только себя, упрямой, деспотичной, если в ней слабо развивается второй психический полюс, если она не считается с социальной средой. Но личность действительно теряет себя, теряет свои силы, творчество, способность к инициативе, становится дряблой и не умеет отстоять свою личность, если в ней преимущественно развивается приспособление к социальной среде. Социальная среда не должна подавлять личность, но личность не должна забывать о социальной среде; лишь одновременное развитие индивидуальной силы и социальных навыков намечает путь нормального развития личности. Задача воспитания, формулированная как развитие личности для нее самой, не только будет односторонней и жизненно опасной, — но она лишила бы личность важнейшего момента в ее созревании, она уродовала бы личность, лишая ее плодотворного социального питания. Личность ребенка может нормально развиться лишь в социальных условиях. Задача воспитания в том и заключается, чтобы эти социальные условия не подавляли, а питали личность, а с другой стороны, чтобы личность проявляла себя не в грубом самоутверждении, но в истинном сотрудничестве с другими людьми. Развитие истинной солидарности не есть только социальный идеал, не есть только требование жизни, — нет— это путь, намеченный природой человека. В развитии солидарности, не подавляющей личность, к связывающей ее в тесном сотрудничестве с социальной средой, заключается лучшее средство создать нормальные условия созревания детской души.
Наличность двух полюсов психических переживаний объясняет
316
нам рост самосознания ребенка. Первоначально дитя не отдает себе отчета в том, что оно есть особое существо, отдельная личность, оно не отделяет, не выключает себя из социальной среды. Наоборот, попробуйте дитя унести из знакомой обстановки, от знакомых лиц, — оно будет волноваться и плакать. Ему легко только среди знакомых лиц, в родной социальной обстановке. Но здесь дитя то смело проявляет себя, то приспосабливается и смиряется. Перед ним мелькают образы родных, — но оно не знает их внутренней жизни, — оно просто воспринимает их, как живые личности. На этой стадии дитя, не выделяющее себя из окружающей среды, к себе относится так, как относятся к нему окружающие. Оно считает себя «Ваней», «Митей», «Надей» и т. п., оно себя расценивает чужими оценками, глядит на себя чужими глазами, думает о себе чужими словами, словом для себя дитя пока только член социальной связи, тот, кого другие зовут «Ваней». Оно думает о себе, потому что о нем думают другие, оно и думает о себе именно то, что слышит от других. Без этих «других», без живой социальной среды дитя не могло бы себя выделить, а в ней оно считает себя таким, каким считают его окружающие люди. Значение живой социальной среды, значение социального общения в этом зачинающемся самосознании — не только огромное, но можно сказать исключительное. Болдвин называет эту стадию «проективной» — от слова «проект». Перед (по латыни «про») ребенком выступают («предлежат») социальные образы («проекты») и на языке этих образов, этих проектов он толкует и самого себя. Забавно слушать, как дети, едва начинающие говорить, говорят о себе словами окружающих. «Тебе говорят уйти, а ты все сидишь и сидишь», — укоризненно качая головой, говорил сам себе, помню я, один близкий мне мальчик…
В проективную стадию дитя уже выделяет себя из окружающей среды, но только глядит на себя чужими глазами, судит о себе чужими словами. Поэтому уже в эту пору начинается подражание окружающим людям, поскольку их действия стоят перед глазами ребенка и привлекают к себе внимание, вообще эмоционально возбуждают его. По мере развития проективных переживаний у образовавшегося центра самосознания начинают группироваться те, бывшие доселе расплывчатыми и неопределенными переживания, которые слагаются из чувств и стремлений, а главное из опыта самостоятельной активности. Глубины души как бы раскрываются для самосознания и тот, кто был для самого себя «Ваней», кто глядел на «себя» чужими глазами, в этой работе самосознания находит материал, притекающий изнутри. Наступает вторая стадия развития самосознания, которую Болдвин называет субъективной. Здесь происходит накопление в самосознании материала, поднимающегося из недр души, дитя находит самого себя, открывает в «себе» интимный, никому чужому недоступный центр внутренней жизни. Здесь полагается новое отделение личности от окружающих людей: до сих пор оно хотя отделяло себя от других, но считало себя «таким же, как они». Это было не отделение своей личности, как отдельного тела(так часто, совершенно неправильно описывают этот процесс психологи, — дитя ведь никогда в эту пору не различает в себе «души» и
317
«тела»), — но отделение себя от подобных же живых существ. Во втором же периоде то внешнее трактование себя, которое характерно для проективной стадии, освещается изнутри, приобретает внутреннее содержание. Самосознание, как бы создает двойной лик человека: один, каким он выглядит для других (о чем дитя узнает из слов и действий окружающих людей) и другой, каким он выглядит для самого себя. Оба эти лика, оба эти рисунка навсегда остаются в нашем опыте и даже немыслимы один без другого; жизнь наполняет их новым содержанием, меняет их смысл, но в нашем самосознании всегда на лицо оба рисунка, — каким мы выглядим для других, каким представляемся самим себе. Это двойное представление о самом себе является следствием того, чтоличность никогда не сознает себя вне социальной среды, но всегда, в самых интимных, в самых задушевных своих движениях сознает себя в социальной среде, в силу чего на каждое наше внутреннее движение мы смотрим двойственно, судим о нем с чужой точки зрения и с точки зрения внутренней. Можно даже сказать, что соответственно тому, что проективная стадия предшествует субъективной, наше суждение о самих себе с чужой точки зрения выступает первым. Часто во многих своих внутренних движениях мы, взрослые, и то не подымаемся над проективной самохарактеристикой. Мы всегда чрезвычайно болезненно считаемся с тем, как будет выглядеть наш поступок; боязнь насмешки, презрительного взгляда, небрежного отношения часто парализует лучшие и благороднейшие наши движения. Именно здесь-то и выступает в полном своем объеме социальное давление, к которому мы очень чувствительны, хотя и не отдаем себе отчета в этом. Наиболее ярким симптомом социального давления является та страшная острота, какой может достигать в нас социальный стыд. Мы боимся общественного осуждения и если бы даже тяжелый общественный приговор, осудивший нас, оказался ошибкой, что потом и вскрывалось бы перед всеми, — все равно эта тень навсегда ложится мраком в душе. Есть упреки, есть подозрения, есть даже слова, которые не выносит личность со стороны окружающей среды. Эта высокая чувствительность к оценкам со стороны окружающих людей показывает, что проективная форма самосознания никогда не исчезает из души, но будучи первой во времени, она остается первой и по своему значению. Нужен длительный рост личности, нужна выдающаяся сила индивидуальности, чтобы сохранить уважение к самому себе в то время, как общество, поверив клевете, обрушивается на личность упреками и презрением. Немногие могут выдержать этот конфликт с социальной средой.
Личность может вырваться из цепких объятий социальной среды, имеющей такое страшное влияние на самооценку человека лишь одним путем — в сознании идеала, стоящего выше как личности, так и общества. Не говоря здесь о том, как возникает это представление об идеале4, скажем, что когда дитя возвышается до сознания идеала, то этим создается психическая опора в конфликте личности со средой, в конфликте двух течений в самосознании. Давление общества, непос-
--
4 Попытку обрисовать происхождение его можно найти у Болдвина в его трудах, хотя она не безупречна.
318
редственно очень сильное и никогда не падающее очень низко, очень ослабляется однако тем, что над ним возвышается некоторая идеальная сфера, с которой теперь приходится больше всего считаться личности. Возникновение нравственности, как таковой, открывает для личности новый и плодотворный путь ее индивидуального созревания, укрепляя ее независимость. Чем чаще расходится среднее социальное суждение с этой идеальной сферой, тем легче личности противопоставлять себя социальной среде. В итоге часто личность не только не считается с социальной средой, но вступает с ней в напряженную борьбу. Однако не трудно заметить, что при этом в сознании личности создается образ идеальной социальной среды — и проективная самохарактеристика сохраняется в душе, только человек судит теперь о себе не по действительным к нему отношениям, а по отношениям воображаемой идеальной среды.
Здесь перед нами выступает во всем своем значении отмеченный уже факт освобождения личности при скрещивании в ней различных социальных кругов. Каждый социальный круг создает в нас свою особую проективную работу мысли. На службе я гляжу на себя глазами моих начальников, сотрудников и подчиненных, в церкви другой материал привлекается для самохарактеристики, вообще каждый социальный крут дает новый, свой материал для проективной самохарактеристики. Разумеется, никто не станет утешать себя, — если на службе глядят на него неодобрительно, — тем, что в другом обществе он играет большую роль и ценится высоко: одно не устраняет и не заменяет другого. Однако все же, когда в самосознании человека его самооценка на основании отношений социальной среды слагается из многообразного материала, то в этом материале всегда найдутся данные, более или менее благоприятные для личности, чем все же ослабляется тяжесть неудач в другом направлении. Это открывает нам свободу в социальном ориентировании, освобождает от социального рабства, потому что мы не теряем к себе самоуважения, если в каком-либо одном социальном направлении мы потерпим крах. Если, например, я воображаю, что могу быть хорошим артистом, то самый жестокий провал в этом направлении, как бы ни был он мучителен, смягчается, если в другом направлении моя деятельность успешна. Чем к большему числу социальных кругов принадлежит личность, чем следовательно больше ее социальные связи, — тем свободнее становится личность от социального гнета. Конфликты с социальной средой разрешимы поэтому и в таком направлении, что мы можем просто уйти из той социальной среды, в которой нам тяжело. Но разумеется все это справедливо лишь отчасти. Порывать те социальные связи, с которыми мы срослись, которые окружали нас с детства, — нелегко. Мы должны, порывая те или иные социальные связи, чувствовать правду свою, — и это дается только в том случае, если в данном конфликте с нами вместе и правда идеала. Обращение к идеалу, возвышающемуся над средой и личностью, делает разрыв социальной связи подвигом и тем обращается на благо личности, морально ее укрепляет и возвышает. Но если я бросаю службу, на которой мне трудно работать вследствие того, что своей недобросовест-
319
ностью я вызываю осуждение, — то этот уход не усиливает личность, но расшатывает в сущности уважение к самому себе, так как личность не может опереться на идеал.
С того момента как самосознание личности приобретает внутреннюю, субъективную сторону и личность существует для самой себя в двух сторонах, в двух ликах, — это удвоение невольно переносится нами и на других людей. Мы приходим неизбежно к сознанию, что и в каждом человеке, кроме лика, открытого для всех, обращенного к социальной среде, есть еще внутренний лик, есть внутренняя жизнь, в которой выступает человек таким, каким он является для самого себя. Мы не можем мыслить эту внутреннюю жизнь других людей иначе, как по такому же типу, как мы мыслим свою собственную внутреннюю жизнь. В этой стадии обогащается и наше самосознание, потому что социальная среда слагается не просто из живых существ, но мы сознаем в них и внутреннюю сторону, так сказать вне социальную сторону их личности. Каждый человек в наших глазах слагается из двух различных сторон — социальной и внесоциальной, открытой для всех и интимной, открытой только для самой личности. Только с этого времени наше понимание социальной среды достигает полноты, наше самосознание приобретает законченную форму. Конечно, мы не знаем или слабо знаем внесоциальную жизнь каждой личности, — но мы неизбежно представляем ее себе по типу нашей внутренней, внесоциальной жизни. Если в первой проективной стадии личность судит о себе на основании того, как к нему относится среда, то в этой третьей стадии (которую Болдвин называет эйективной) мы судим о среде, о людях, ее составляющих на основании своей внутренней жизни.'Наши «эйекты», — т. е. образы той внутренней жизни, которую мы приписываем людям («вкладываем» в них), могут быть и неудачны, — тогда поведение этих людей расходится с тем, что мы предполагаем у них «внутри». Взаимодействие с людьми, общение с ними вносит свои поправки в наши «эйекты», в наше понимание чужой душевной жизни. Таким образом правильность нашего понимания других людей зависит только от богатства нашего социального опыта; наоборот, чем ограниченнее наш социальный опыт, тем неправильнее и фантастичнее будет наше представление о чужой внутренней жизни. Как справедливо отметил знакомый уже нам социолог Зиммель, наше отношение к людям зависит не столько от понимания социальной стороны этих людей, сколько от понимания их внесоциальной стороны. Нечего удивляться, что ошибочное понимание последней создает не только почву для недоразумений, но создает и настоящие столкновения людей. Уже в семье большинство конфликтов определяется взаимным непониманием, — тем более это надо сказать о широкой социальной жизни. Истинная солидарность всегда будет тормозиться взаимным непониманием, — но взаимное понимание вообще не может быть добыто ни путем образования, ни путем размышлений; только живой социальный опыт, его богатство и многообразие делают нас так сказать социально зрячими, способными к правильному социальному ориентированию.
Мы познакомились с ростом индивидуального сознания и видим,
320
что оно развивается лишь при взаимодействии с социальной средой. Человек никогда не мог бы подняться до отчетливого самосознания, будучи одинок, — потому что представление о самом себе, составляемое на основании внутренних переживаний, предполагает всегда представление о самом себе, как оно слагается из отношений к нам других людей, из их оценок. Социальная среда является необходимым фактором в развитии индивидуального самосознания; подобно тому, как вся активность личности имеет двойственный характер, то развивая личность, то приспосабливая ее к социальной среде, подобно этому наше самосознание слагается из двойного материала.
Личность двойственна в своем самопонимании, она двойственна в своей активности; она служит себе лишь постольку, поскольку служит социальной среде, она понимает себя постольку, поскольку понимает живую социальную среду.
Таковы данные социальной психологии и психологии детства, равно как и психологии взрослого человека. Социальная жизнь не есть нечто добавочное к индивидуальной жизни, — она естьслагаемое в цельной жизни личности. Личность образуется при неисследимом сплетении индивидуального и социального в ней, — и ни один элемент никогда в ней не отсутствует. Это не значит, что во всякой личности мы находим нормальное соотношение этих сторон, но во всяком случае в каждой личности обе стороны входят неизбежно. Перевес, преобладание одной стороны над другой, подавление одною другой ведет к изломам в личности, является источником «худосочия» морального, ведет к недоразвитию личности, равным образом болезненно отзывается и на социальной среде. Остановимся несколько на этом пункте: нам станет здесь ясным возникновение в каждой социальной организации тех четырех групп, о которых мы говорили выше.
При нормальном развитии личности, при нормальном развитии ее индивидуальной и социальной стороны мы имеем первую группу истинно социальную. Такие люди живо интересуются социальной жизнью, находят в социальной деятельности необходимое питание для себя (для социальной стороны своего существа), двигают социальную жизнь вперед и тем сами идут вперед. Впрочем, такие натуры могут силой обстоятельств очутиться и в 4-й группе (антисоциальной), — поскольку в данной социальной среде, застывшей, окаменевшей или нездоровой и узкой, трудно ужиться здоровому и морально крепкому человеку. Он вступает в борьбу со средой именно потому, что сам является здоровым и сильным человеком. Иногда такие люди попадают временно и случайно в антисоциальную группу — просто в силу закона контраста, которой играет вообще огромную роль в социальной динамике.
Но надо отметить, что в первую группу (истинно социальную) не всегда попадают люди здорового и нормального уклада. В нем часто встречаются натуры, у которых социальная активность развилась на счете индивидуальной, у которых их индивидуальность подавлена и не развилась. К таким, например, принадлежат те, кого с такой художественностью описал известный наш педагог Лесгафт под названием мяг-
1 Психология детства
321
ко забитых людей5). Это люди, которые с детства были подавлены, не могли развить свою личность, потому что их родители, окружив их ласковой заботой, делали для них все, не оставляли их личной инициативе никакого простора, предупреждая их желания.
Мягкая атмосфера любви, окружающая их с детства, не давала места протесту; за них думали, за них заботились родители, — и от детей требовалось только постоянное исполнение того, что предлагалось родителями. При таком воспитании развивается социальный полюс в личности ребенка, развиваются навыки к приспособлению, послушанию и смирению. Всякое личное желание пугливо прячется вглубь души, — дитя не умеет сильно желать. Ему хорошо только тогда, когда им кто-то командует.
При всей социальной ценности таких натур они все же являются недоразвившимися. Они являются очень благодарным социальным материалом, незаменимыми исполнителями своих обязанностей, но для общества они были бы вдвое дороже, если бы рядом с их прекрасными навыками к социальной активности и их индивидуальная сила была велика. В случаях уклонения общества с правильного пути, такие натуры не в состоянии противопоставить обществу силу морального убеждения.
Эти дряблые натуры социально удобны, но не ими красится, не ими движется вперед общество. Социальная активность, поглощающая личность, лишь там имеет творческий характер, где она является вольной жертвой личности, свободным подвигом ее. Там же, где личность не доразвилась, где в ней слабо пульсирует ее индивидуальный полюс, — там социальная активность неизбежно лишена силы и творчества.
Если подавление личности ребенка в семье вызывает протест в детской душе, то большей частью это наполняет в ней озлобление. Лес-гафт называет такие натуры — злобно забитыми. Когда они созревают — вся заглушённая личная жизнь вспыхивает с огромным напряжением, и им хочется не служить обществу, а мешать, разрушать его. Именно это и подготавливает антисоциальные склонности в людях: разрушительные тенденции часто являются отзвуком того озлобления, которое было вызвано подавлением личности. Нередко на этой именно почве возникают преступные склонности. Подавление индивидуальной стороны в личности приносит обществу сравнительно малую пользу в мягко забитых натурах, но оно, как видим, оказывается положительно опасным в злобно забитых натурах. Дитя должно не только приспосабливаться, повиноваться, исполнять чужие желания; оно нуждается и в том, чтобы жить «для себя», давать простор своим желаниям, осуществлять свои замыслы. В мягко забитых натурах несмотря на ласковое к ним отношение, развивается очень низкая самооценка, что несомненно является результатом того, что с голосом ребенка, его желаниями и замыслами родители не считаются. У злобно забитых натур наоборот развивается неправильная эйективация: они приписывают другим людям злые чувства, не верят добрым порывам, сомневаются в чужой ис-
--
5 См. его книгу: Семейное воспитание ребенка. Ч. I. (Школьные типы).
322
кренности. Неправильное воспитание уродует личность и в ее самосознании и в ее активности. Сколько глубоких трагедий вырастает на этой почве!
Но к таким же печальным результатам ведет и другая крайность — одностороннее развитие индивидуальной стороны в личности засчет социальной. Воспитывая детей в узкой среде и лишая их всяких социальных навыков, воспитывают эгоистов, погруженных в себя и социально инертных. Такие люди часто достигают огромной индивидуальной высоты, но в них всегда имеется дефект, от которого страдает не только общество, но и они сами. Они выходят социально равнодушными, социально тупыми, их мало трогает чужое горе, их не веселит чужая радость. Погруженные в себя они не знают высокой радости социального слияния; в своем равнодушии по социальной жизни они лишаются могучего и здорового источника духовной жизни. В конце концов их личность хиреет, замкнутая в самой себе; в минуты душевных потрясений, ударов судьбы они не могут опереться на друзей, потому что их не имеют; в старости они чувствуют себя заброшенными, никому ненужными, потому что они никого не могли привязать к себе. Равным образом тяготится такими людьми и общество: именно социальная инертность является причиной слабого социального прогресса, источником вялости социального организма. Обществу нужны люди социально активные, и оно видит в социальной инертности порок и грех. Так одностороннее погружение личности в самое себя обеспложивает ее, лишает ее многих радостей, подготавливает унылое и скучное одиночество, сознание своей ненужности обществу. При резком развитии индивидуального полюса, когда отсутствуют или недоразвиваются моральные чувства, эгоист превращается в преступника, который пользуется общественными отношениями для личных целей. Такие натуры образуют третью (псевдо-социальную) группу, прямое зло и язву в социальном организме.
Обнаженный, цинический эгоизм, презрение к морали, ироническое использование всех лучших движений человеческой души в свою пользу ведет часто к тому, что такие натуры надевают на себя маску общественных деятелей, — но вся их работа, в основе которой лежит стремление к личной цели, более разрушает, чем создает. Если социально инертные люди, делающие себя центром среды, имеют о себе преувеличенное мнение и в силу этого часто думают, что окружающие их не понимают, — то преступные эгоисты наоборот имеют совершенно превратное представление об окружающих людях, считают их всех скрытыми эгоистами, подозревают во всех лицемерие и ханжество. Извращения в самосознании являются прямым следствием извращения в активности… Но так как оба типа с односторонним развитием индивидуальной, эгоистической активности в общем все же более служат личности, чем описанные выше два типа, то нечего удивляться, что они составляют численное большинство в обществе. Но с другой стороны нечего удивляться и тому, что современное общество раздирается социальными противоречиями, что оно так далеко от истинной солидарности, что в нем нет правильных отношений между личностью
323
и социальным целым. Общественность не есть нечто навязанное нам тяжкими условиями жизни, — она есть нормальная стихия, в которой впервые развивается и расцветает личность. Но сама по себе наша общественность во многом еще неупорядоченна и неорганизованна. Социальный идеал еще слишком далек, — хотя в осуществлении его заинтересованы были люди всегда. Естественная социальность человеческого существа создает возможность социального прогресса, но не делает его необходимым. Социальная сторона выражена, как мы видели, очень глубоко в человеке, но жизнь редко развивает в идеальном равновесии социальную и индивидуальную сторону личности. Жизнь всегда выдвигает некоторое число социально активных личностей, благодаря которым не распадаются социальные связи, медленно, но неизменно движется социальный прогресс. Но та же жизнь выдвигает социально инертных людей, выдвигает холодных эгоистов, — и главное выдвигает их всегда в большем числе, чем первых. Никогда опасность для общества этих социально негодных натур не становится столь острой, как при демократизации общественного строя, когда в руки именно большинства отдается судьба народа! Вот почему демократизация общественности, как ни соответствует она требованиям социальной справедливости, может оказаться опасной, если естественный порядок не будет дополнен реформой воспитания. Раз массы призываются к социальной активности, то они должны быть подняты до этой активности. Вопросы социального воспитания становятся одними из самых важных в новом строе. Недаром политический мыслитель древности противопоставил демократии (господству народа) — охлократию (господство черни). Социальное воспитание имеет для себя основу в социальной стихии, но оно должно исправить грехи жизни, поднять социальные силы там, где они не доразвиваются, выпрямить личность там, где она подавляется.
ГЛАВА III.
Пути и средства социального воспитания.
Подводя итог тому, что было сказано в предыдущей главе, мы можем утверждать, что в душе ребенка всегда имеются социальные силы, которые связывают его самосознание, его активность с социальной средой. Эта естественная социальность составляет, однако, хотя и неустранимую и глубокую, но всего лишь одну сторону личности, в которой есть кроме того и чисто индивидуальная сторона. Нормальное созревание личности предполагает нормальное развитие обеих основных сил души ребенка.
Чтобы установить правильные пути социального воспитания, нужно уяснить себе, что существуют общие условия развития личности, вне которых не может успешно развиваться ни одна из ее сторон. Личность есть живое, целостное единство, поэтому прежде, чем говорить о путях социального воспитания нужно выяснить общие условия созревания личности.
Общая задача воспитания может быть формулирована, как содействие развитию активности в ребенке. Зрелый человек должен прежде всего быть активным, должен быть деятельным, — не предрешая вопроса о том, в чем должна состоять эта деятельность. Но развитие активности отнюдь не следует понимать, как развитие воли: этого смешения понятий надо тщательно избегать. Мы говорили уже о том, что активность может быть как волевой, так и эмоциональной. «Воля» обнимает собой такую регуляцию нашей активности, при которой сознание цели предворяет нашу деятельность; при эмоциональной регуляции активности выступает не сознание цели, а определенное эмоциональное переживание. Волевая активность требует от нас «усилия», наоборот эмоциональная активность поддерживается потоком чувства и в зависимости от силы последнего может достигать необычайного напряжения. При высоком воодушевлении, при энтузиазме мы решительно не «замечаем» усталости и можем работать почти без остановок. Наоборот ресурсы воли всегда ограничены; один психолог, принадлежащий к тонким знатокам человеческой души, высказал правдоподобную мысль, что вся задача волевой регуляции заключается только в том, чтобы вызвать к жизни и наладить эмоциональную регуляцию.
К сожалению и теоретики педагоги, и практики часто думают, что развитие активности сводится именно к развитию воли. Как ни важен волевой регулятор активности, но он никогда не может заменить эмо-
325
ционального регулятора (что верно, впрочем, и обратно), — и принимая во внимание то место, какое занимает воля в системе психических сил, мы должны сказать, что развитие воли никак не может стоять на первом месте. Жизнь и без того подавляет свободу эмоционального развития личности; оттого так редко и встречается у нас творческая инициатива, творческая активность. Тайна активности лежит в свободе и развитии эмоциональной жизни, — ничто так не отзывается на эмоциональной сфере, как замыкание ее в узкие границы. Одностороннее развитие ума, преимущественное развитие волевой сферы ведут к торжеству рассудочности, к иссушению, измельчанию активности, к торжеству шаблона и рутины.
Таким образом правильно понятая задача воспитания заключается в поднятии активности путем освобождения и развития эмоциональной жизни. Только на основе умелого эмоционального воспитания развитие воли и развитие ума не нарушают равновесия психических сил личности и не ведут к односторонности. Все огромное значение умственного развития может быть сведено ни к чему, если в личности ослаблена эмоциональная жизнь; общая инертность, общий индифферентизм, «безочарование», как говорил Гоголь, делают бесплодным, психически лишним умственный расцвет. Но если умственна жизнь одушевляется живыми чувствами, если эмоциональная сфера богата, упруга и свободна в своих проявлениях, она зажигает в личности, в ее умственной деятельности такой огонь воодушевления, придает такой глубокий и творческий смысл умственной деятельности!
Правильная постановка социального воспитания должна считаться с этими общими условиями педагогической работы. Нельзя думать, что мы подготовим человека к социальной работе, подготовим его к широкому сотрудничеству с людьми и воодушевим его духом солидарности, если мы сосредоточимся (как это к сожалению часто думают) на развитии ума, на сообщении сведений, расширяющих социальные горизонты в детях. Все это крайне важно, имеет огромное значение для социального прогресса, но при том лишь условии, если в личности есть интерес и любовь к социальному общению, есть живое стремление к солидарности. Лишь для тех, кто всем существом стремится к социальной активности, а не выполняет сухо и безжизненно свои социальные обязанности, — действительно важно и полезно обогащение социальными знаниями. К социальному творчеству мы становимся способны лишь в том случае, если мы сознаем ценность социального общения, всем существом стремимся к нему; лишь на основе живого и полного настоящим воодушевлением социального опыта возможно социальное творчество. И тогда нам, конечно, нужно знать, нужно глубоко понимать социальный строй, нужны социальные знания. Нужно определенно и прямо сказать, что в области социального воспитания интеллектуализм, одностороннее развитие ума ничего само по себе дать не может. Центр тяжести в социальном воспитании (как и в воспитании индивидуальной стороны личности) должен лежать в развитии активности.
Но здесь дело идет не о простом сообщении социальных навыков
326
(хотя именно в этой области они имеют исключительное значение), не о дрессировке воли в определенном направлении, а прежде всего о развитии всей гаммы социальных чувств, об общем подъеме эмоциональной жизни. Сообщите какие угодно социальные навыки натуре социально инертной и вы в лучшем случае добьетесь того, что такие натуры механически, бездушно будут исполнять привитые им правила социального поведения. Ценность такого механического, внешнего поведения чрезвычайно ничтожна именно в области социальных отношений, где люди имеют дело друг с другом, не с вещами, а с людьми. Социальная инертность может быть преодолена только изнутри — путем подъема социальных чувств. В живом интересе к социальному общению может быть найдет неисчерпаемый источник социальной активности; и развитие воли и развитие интеллекта нужны, крайне важны, но лишь в том случае, если они имеют над собой живое и свободное развитие социальных чувств.
Первостепенное значение эмоционального развития в социальном воспитании станет нам еще яснее, если мы вспомним, что социальное общение впервые создается именно на основе эмоционального сближения. Эмоциональная отзывчивость есть основное условие всякого социального обмена; эмоциональная тупость, психическая замкнутость в себе, равнодушие к людям все это понижает значение социального общения. О каком же социальном воспитании может идти речь, если не вспахана та почва, на которой могут взойти семена идей солидарности! Первая и основная задача социального воспитания заключается поэтому в широком развитии эмоциональной отзывчивости, в преодолении эмоциональной замкнутости: лишь на основе такого эмоционального преображения личность может преодолеть социальную инертность и равнодушие к людям. Расширение умственной жизни, сообщение социальных знаний и социальных навыков могут иметь серьезное значение, могут быть продуктивными только в этом случае.
Что однако находим мы в современном воспитании? Нельзя, конечно, отрицать, что и оно воспитывает социально; так, самая суровая внешняя дисциплина, как это много раз отмечали, при всех своих недостатках ведет к некоторым социальным навыкам, приучает к повиновению, закаляет характер. Но это только доказывает, что воспитание по самой своей организации является социальным, что школа, даже принципиально отвергающая идею социального воспитания, все-таки включает в себя его. Здесь становится особенно ясным, что правильная постановка социального воспитания совпадает вообще с правильной постановкой всего педагогического дела. Раз социальное воспитание неустранимо, то речь может идти лишь о том, как поставить его на должную высоту.
Но участие современной школы в развитии социальных навыков было бы освещено более, чем односторонне, если бы мы остановились только на упомянутом выше факте. Современный строй школы, оказывая небольшое положительное влияние на рост социальности в детях, вместе с тем оказывает огромное отрицательное влияние в этом направлении. Антисоциальная работа школы выступает в современном
327
педагогическом сознании тем яснее, чем ближе это сознание подходит к вопросам социального воспитания. На первом месте здесь следует поставить тот факт, что социальные стремления и порывы детей загоняются школой в подполье. Школа наша не только не развивает стремления к сближению, но она до последнего времени преследовала всякие попытки детей к социальному сотрудничеству; всякие кружки, общества карались очень строго. Давно ли еще процветали в школах тайные собрания, тайные кружки? Давно ли дети тайно, с чрезвычайным трудом могли издавать свой детский журнал — этот плод социального сближения их? Правда, в последнее время, особенно в больших городах повеяло большой свободой; заговорили даже о клубах для детей. Но все это не смягчает основного греха нашей школы, что она игнорировала социальные влечения и запросы детей и часто угоняла их в подполье. Естественное стремление подростков к организации («главное стремление подростков, — замечает один знаток психологии юного возраста, — заключается в том, чтобы научиться быть взрослыми» — отсюда их стремление «быть, как взрослые») неизбежно создавало хотя и привлекательную, но все же вредную для нормального развития атмосферу тайны, подполья. С другой стороны современная школа построена так, что она противопоставляет одно дитя другому. С совершенной неизбежностью у детей возникают такие антисоциальные чувства, как соревнование, зависть, тщеславие. Система наград и наказаний указывает на то, что наша школа, согласно старому римскому принципу, умеет управлять, лишь разделяя и противопоставляя одних другим (divide et impera!). Один острый критик современной школы справедливо отмечает, что современный «школьник» так же отличается от естественного «мальчика», «как барабан от скрипки». Вот картина, рисуемая этим педагогом. «Школьник, — говорит он, — есть в высшей степени специализированный продукт курьезной и совершенно неестественной среды. Просиживая бесконечные часы в неестественно скорченной позе, принуждаемый к молчанию, если он вздумает заговорить, получая указания, что он должен и чего не должен делать почти в каждом житейском положении, постепенно низводимый на уровень простой машины — он вступает в какой-то искусственный мир, со всеми своими товарищами, подвергающимися такому же обращению. Если он не стал вполне машиной, то будет более или менее возмущаться и устраивать подвохи и заговоры против системы, — но лишь поскольку это касается его… Школьная жизнь навязывает бездействие, за которым следует противодействие; и противодействие есть душа школьника». Никто не будет оспаривать справедливости этих замечаний, ярко рисующих антисоциальное влияние школы. Вместо того, чтобы стать духовной средой, сближающей детей на почве интеллектуального обмена, она укрепляет дурной эгоизм, противопоставляя одних другим, усиливая антисоциальные чувства. Должно впрочем отметить, что школа в этом отношении идет вслед за современной семьей, в которой очень часто дети развиваются в антисоциальном направлении. Не говорю о том, что социальное выделение семьи, житейская борьба за существование, житейский эгоизм дают очень мало материала для развития идеалов
328
солидарности. Но и в пределах самой семьи очень часто мы видим не сотрудничество, а простое сожительство с целой массой мелких раздоров, глубоких расхождений, неуживчивости, неуступчивости и т. д. Получая материал, уже во многом испорченный в отношении социальных переживаний, школа не борется с корнями антисоциальности в душе ребенка (хотя, как мы увидим, она имеет полную возможность для этого), но еще усиливает и развивает антисоциальные чувства. Полным лицемерием, безнадежным непониманием дела следует поэтому считать попытки внести в современную школу, не реформируя всего ее строя, предметы, расширяющие сведения детей по социальным вопросам. Какую социальную продуктивность могут обнаружить те, в ком развивали лишь антисоциальные навыки? Если несмотря на дружное содействие семьи и школы в антисоциальной их работе всегда в обществе имеется хотя и небольшой, но истинно социальный класс людей, — то это объясняется тем, что социальные силы занимают слишком большое место в душе человека. Было бы правильнее говорить, что современная школа воспитывает не антисоциальные навыки, но что она воспитывает дурную социальность. Соревнование, зависть, тщеславие и т. п., это тоже социальные чувства, имеющие свой корень, свой смысл лишь в социальной среде, — но эти чувства не сближают, а раздвигают людей. Грех современной семьи и современной школы в том, что они не считаются с социальной стороной в личности ребенка, игнорируют ее, а часто и подавляют и развращают, порой сознательно (вспомним педагогическую систему иезуитов) опираются на дурные социальные чувства, — вообще развивают дурную социальность.
Я хотел бы в связи с указанным отметить еще и то, что современная школа грешит вообще односторонним интеллектуализмом, т. е. как-то искусственно развивает ум, совершенно однако не развивая общей активности и даже подавляя проявления ее. В этом лежит разгадка одного из наиболее грустных «парадоксов» современной школы: сосредоточивая все свои силы на развитии ума, она не только не добивается своих целей, не только не дисциплинирует ума и не развивает его, но часто даже притупляет и приостанавливает его естественное развитие. Дело в том, что умственная жизнь, есть форма психической активности; нельзя поэтому думать, что заглушая проявления активности и наполняя ум различными знаниями можно, таким образом, подготовить к умственному творчеству. Современная школа должна быть построена на иных началах — она должна стремиться к развитию активности во всех ее видах, — и только на этой основе ее работа над развитием ума будет продуктивной. Но в области активности (напоминаю, что понятие активности не совпадает с понятием воли) имеет огромное значение эмоциональная сфера; лишь открывая простор последней, лишь питая те корни, от которых растет в личности ее активность, можно надеяться на развитие последней. Согласно законам эмоциональной сферы телесное и психическое выражение эмоций не могут заменить друг друга; поэтому свобода эмоционального развития требует свободы телесных движений, равно как и свободы в творчестве. Поскольку эмо-
329
циональная сфера является основой социального сближния, постольку развитие эмоциональной жизни требует свободы и простора в развитии социальных связей ребенка. Реформа школы (и это мы видим в-современных педагогических исканиях) подходит вплотную к тем же задачам социального воспитания, которые мы выдвигали, исходя из других оснований.
Для того, чтобы отдать себе отчет в пугях и средствах социального воспитания, как они намечаются в современных педагогических исканиях, мы сделаем наш обзор в соответствии со ступенями педагогической организации. Мы остановимся на том, какую роль в социальном воспитании должны играть и как должны ее выполнять: семья, дошкольные организации (детские сады и пр.), школы и наконец внешкольная работа с детьми.
Дитя находит себя впервые в семье, которая окружает его в ранние годы тесной социальной оболочкой. Среди родных лиц, обычно связанных между собой взаимной симпатией, растет дитя, — и уже в эту пору социальные запросы ребенка очень велики. Социальное общение имеет, можно сказать, главное значение в эту пору усвоения традиции. Дитя в семье учится речи, приобретает первый социальный опыт, учится социальному ориентированию. Эта роль семьи, которую она играет, не прилагая для этого почти никаких усилий, огромна, — и именно за это мы всегда будем видеть в семье идеал социального сближения, всегда будем называть потом самых лучших своих друзей — «родными». Естественная социальность семьи ведет к тому, что в ней развертываются первые социальные замыслы ребенка, приобретается вкус к социальному сближению, формируется общая социальная способность — способность к социальному обмену. Но семья, если она хорошо построена, может иметь и более глубокое значение в социальном созревании ребенка. Всякая семья есть не просто сожительство, но почти всегда сотрудничество; семья представляет как бы простейший элемент общества, она живет замкнутой хозяйственной жизнью, имеет свое отдельное жилище и т. д. Все это при нормальных условиях ведет к тесному сотрудничеству членов семьи; на почве этой общей жизни, на основе деловой помощи друг другу вырастает забота друг о друге, умение считаться с особенностями каждого члена семьи, взаимная уступчивость, — развивается дух солидарности в его первой и вместе с тем влиятельнейшей форме. Там, где семья подымается до такой высоты, привязанность членов семьи друг к другу со временем не только не ослабевает, а наоборот возрастает. Всякая радость одного члена семьи празднуется всей семьей; не существует никаких непереходимых перегородок между отдельными членами семьи, но есть одна общая жизнь, не подавляющая никого, но подымающая тон личной жизни и усиливающая ее активность. Социальная сила семьи кроется в духе солидарности, во взаимной помощи друг другу; крепость социальной связи поддерживается постоянно общей жизнью, общей работой, подлинным сотрудничеством. Не сентиментальное единодушие, но сближение в активности, общие заботы и думы, общее горе и радости, общий
330
труд, общая жизнь, совместная активность, вот что поддерживает свежесть и силу семейных социальных связей. Нормальная семья является поэтому незаменимым органом социального воспитания, потому что к тесному социальному сотрудничеству присоединяется здесь естественное чувство родственной близости, известная органическая связь членов семьи. Нормальная семья может и не задаваться педагогическими задачами, — она все равно воспитывает самим строем своим, взаимностью социальных связей. Родители возвышаются над детьми своим авторитетом, но они же приближаются к детям в нежной любви к ним. Почти все социальные чувства находят для себя материал в семейных отношениях. Вот отчего идеал семьи кажется высшим социальным идеалом, вот отчего у нас нет ничего выше мечты о братстве: из семей, из семейных отношений струится в душу нашу наиболее полный, наиболее яркий свет социальности. Даже отношения к Вседержителю — Богу мы мыслим по аналогии с семейными отношениями и называем Бога — Отцом.
К сожалению, современная семья переживает глубокий кризис, обусловленный целым рядом причин. Рост индивидуальности, ведущий к повышенным запросам личности, часто не находит себе удовлетворения в семье; муж и жена часто образуют семью лишь внешне, а духовно остаются чуждыми друг другу. В семье нет эмоционального единства, нет эмоциональной близости, — т. е. нет почвы для настоящего социального общения. Семья превращается в сожительство, в физическое соседство. Люди ведут одинаковую, а не одну жизнь, пульс семейственности, внутренней теплоты и близости почти совершенно не слышится. Большей частью в современных семьях чувствуется глубокий надлом, трагическое расхождение, в силу чего сожительство становится часто мучительным. Почва для ссор, взаимного непонимания, для взаимных обвинений всегда готова., от всякого пустяка может загореться настоящая сцена. Взаимных обид становится больше, чем услуг, горечи больше, чем радости. Друг другу надоедают, тяготятся обществом другого, при первом удобном случае уходят к другим, легко увлекаются кем-нибудь на стороне, а то и просто бросают семью. Развал семьи спускается все ниже и ниже в здоровые слои народа и грозит стать всенародным бедствием.
Что выносят дети из такой семьи? Их социальные переживания отравлены ядом раньше, чем они успели познать ценность социальной близости; они не знают настоящего сотрудничества, одушевленного взаимной симпатией. Семья питает их социальные запросы слабо и усиливает неопределенное стремление к какой-то иной социальной обстановке. Бегство из семьи становится всеобщим явлением. Когда дитя поступает в школу, большей частью оно больше всего питается новой социальной средой, живым социальным общением, которого ему не хватало в семье. Справедливо говорит один современный автор о том жутком сиротстве, которое являются уделом многих детей, живущих в семье.
Такое положение вещей наносит самый серьезный удар социальным силам личности и становится угрожающим для общества. Все, кто
331
думает об оздоровлении общества, о социальном прогрессе, неизменно приходят к мысли, что «нравственное оздоровление должно начаться снизу— с забот о силе и чистоте семейной общности». Семья может выполнить свою великую роль в социальном воспитании детей только в том случае, если она внутренне оздоровится, если она осуществит в себе внутреннее единство. Конечно, чрезвычайно полезны внешние приемы социального воспитания — приучение ребенка к сотрудничеству с другими и для других, развитие у него социальных навыков, — но все это так ничтожно, так мало в сравнении с тем, что может дать семья! Именно семье принадлежит решающая роль в выработке и развитии социальной отзывчивости, почти всегда эмоциональная тупость, эмоциональная замкнутость являются свидетелями того, что в детские годы душа ребенка не могла раскрыться навстречу лучам социальности, что она сжималась и морщилась в холодной атмосфере взаимного равнодушия, враждебности, чисто внешних отношений, царивших в семье.
Некоторые мыслители предлагали полное устранение семейного воспитания; Фихте, например, думал, что вплоть до оздоровления семьи (чего в большом масштабе можно ожидать лишь при реорганизации современного социального строя) семейное воспитание должно быть заменено общественным. Но это глубокая ошибка, которой не может разделить ни один педагог, прикасавшийся к детям. Семья решительно незаменима. Ничто не может заменить той единственности и неповторимости взаимной любви, которая может иметь место лишь в семье. Общая жизнь, общие заботы и затруднения — и все это на протяжении многих лет; живое единство семьи с ее родственными связями поддерживающими, как бы обвивающими каждую семью; свои семейные традиции, свои воспоминания, — все это может быть только в семье! И странно — самая дурная семья, оставляющая много ран в душе ребенка, во многих отношениях несоизмеримо лучше самой прекрасной, но не семейной воспитательной среды. Семья решительно незаменима!
Справедливо сказал когда-то Толстой, что всякое воспитание должно начаться с самовоспитания. Семья не может выполнить своей огромной, ответственной роли в социальном воспитании, если она сама не подымется на ту высоту, на какой должна находиться. Каким чахлым, бесплодным, вырастает среди нас чувство человеколюбия, даже если родители «упражняют» это чувство у детей различными способами, — раз их собственная жизнь, их собственная деятельность чужда человеколюбия. И каким свежим, творческим, энергическим чувством вырастает оно там, где жизнь действительно полна им! Странно рассчитывать, чтобы среди пустыни могло вырасти растение, — так же странно рассчитывать, что на сухой почве современной семьи, стоящей столь низко в отношении социальности, могут развиться сильные социальные чувства. Нельзя не отметить впрочем одного чудесного факта. Среди сухих, равнодушных людей, среди узких эгоистов, среди преступных и социально инертных людей часто — в силу чудесного действия закона контраста — вырастают дети с такими глубокими со-
332
циальными запросами, с такой чуткостью и отзывчивостью! Но можно ли на этом строить свои рассчеты?
Все, что может сделать социальное воспитание в его дальнейших стадиях, никогда не может возместить того, чего не дала ребенку семья. Пусть же помнят об этом те, кто входит в семейную жизнь, пусть помнят они о той ответственности, какая на них падает в созревании их детей. Забота о детях, любовь к ним требуют не только «мира и согласия» среди родителей, но они требуют живой и одушевленной социальной близости, потому что на бесплодной почве взаимного равнодушия ничего не может вырасти.
В связи с кризисом современной семьи возлагают очень большие надежды на широкую организацию дошкольных учреждений. Мы уже говорили о том, что семья — в том основном, что она дает ребенку — не может быть ничем заменена; но это конечно не умаляет значения дошкольных учреждений. Даже нормальные семьи при современных экономических условиях требуют своего восполнения в дневных приютах, очагах, детских садах и т. д. Как дополнение к себе, дошкольные учреждения стоят очень высоко, не будучи однако в состоянии совершенно заменить ее.
Современные дошкольные учреждения — это самое радостное, самое плодотворное и живое явление в системе народного образования. Отсюда льется свет в современной педагогике, отсюда идут ее лучшие идеи. Перестройка всей школьной системы в духе принципов дошкольного воспитания — это лучшее, к чему можно стремиться. Незабвенный Фребель, во многом, впрочем, непонятый в свое время, положил начало здоровому и плодотворному направлению в дошкольном деле, — и в настоящее время дошкольное дело распространилось всюду. Много нового и ценного дала Америка в этом деле, на весь свет прославилась своей системой итальянская женщина — врач Монтессори, — у нас в России дошкольное дело тоже стоит довольно недурно, хотя о нем, к сожалению, мало знают. Но зайдите когда-нибудь в хороший детский сад, и вы увидите картину, которую никогда нельзя забыть. Вы увидите веселых, жизнерадостных детей, свободных в своей активности, с живым увлечением участвующих во всех занятиях. В лучших детских садах вводится постепенно трудовой принцип; дети по очереди участвуют во всей работе в дошкольном учреждении, — и это трудовое сотрудничество, осмысленное живыми указаниями руководительниц, имеет огромное значение в социальном воспитании. Особенную ценность имеют летние трудовые колонии — они имеют огромное воспитательное значение в жизни детей именно в отношении социального воспитания. Уже одно вступление в дошкольное учреждение приносит с собой возбуждение всех социальных сил ребенка. При умелом же ведении дошкольных учреждений они прививают не только социальные навыки, но главное — усваивают вкус к социальной близости, к сотрудничеству. Не словом, не в форме идей, — а живыми, незабываемыми воспоминаниями социальной активности, они вносят в душу ребенку свой дар. Не стесненные программой, дошкольные учреждения (в противоположность школе) построены на принципе свободной активности
333
ребенка; в этом тайна их влияния, тайна их педагогических достижений.
Я придаю огромное значение дошкольным учреждениям в организации социального воспитания. Нужно только, чтобы это дело, имеющее огромное, можно сказать, неоценимое значение как раз в деревне, велось лицами, получившими хорошую подготовку. Часто думают, что достаточно любви к детям, чтобы хорошо вести их. Нечего и говорить, что это глубокое заблуждение, чем меньше дитя, тем больше оно требует к себе внимания, тем выше те требования, которые следует предъявлять к воспитателю. Случайная даже ошибка в отношении малого дитяти может нанести непоправимый вред ему. Но если подготовленные лица берутся за дошкольные учреждения, — то обычно они без особого труда добиваются хорошей постановки своего дела. В России есть немало энтузиастов дошкольного дела, — но все-таки их немного сравнительно с нашей необъятной родиной! В последнее время очень усилились в обществе запросы на подготовленных руководительниц дошкольного дела. Отдельные семьи организуются, чтобы сообща пригласить опытную фребеличку; земство, города, даже сельские общества организуют очаги, ясли. Война создала острую нужду в целом ряде учреждений для детей дошкольного возраста. К сожалению, надо отметить, что наша молодежь стремится, главным образом, к общему образованию. Женские курсы, коммерческие институты переполнены, переобременены слушателями и слушательницами, — а педагогические институты с дошкольными отделениями (в Петрограде, Киеве, Москве) едва влачат свое существование благодаря малым поступлениям. Надо однако надеяться, что в новых условиях русской жизни наступят лучшие условия и для дошкольного дела. Возникновение особого министерства государственного призрения обещает нам движение в этом направлении.
Дошкольные учреждения могут сыграть в организации социального воспитания огромную роль. Тип этих учреждений в основном уже сложился, — здесь необходимо только повсеместное распространение этих учреждений. Но должно сейчас же добавить: всуе будет вся работа дошкольных учреждений, если строй школы останется прежним. Все, что приобретут дети в дошкольных учреждениях, может быть уничтожено школой (как это теперь и наблюдается). Школа наша должна приблизиться и в своем строе и в своих руководителях к той широте, к тому простору в выявлении активности у детей, какая имеет место в дошкольных учреждениях.
Неудовлетворительность современной школы не возбуждает споров, но по вопросу о том, в каком направлении школа должна быть реформирована, не все сходятся между собой. Есть педагоги, которые серьезно уверены, что реформа школы может быть создана какими-то изменениями в ее программе, улучшением методов преподавания и т. п. Что и говорить — и улучшение методов преподавания и изменение программ — все это нужно, но все это не может сдвинуть школу из того тупика, в котором она находится. Школа должна отказаться от своего основного греха — от интеллектуализма, она должна стремиться к раз-
334
витию всех форм активности, творчества, — тогда и организация ума, развитие умственных сил могут быть достигнуты в школе. Но вместе с тем школа должна развивать не только индивидуальные силы личности, — но должна дать простор, вызвать расцвет и социальных сил ее. Школа есть форма социального взаимодействия, она всецело подчинена его законам; но она не должна удовлетворяться наличной социальностью у детей — она должна не только утилизировать социальные силы в душе ребенка, но и развивать их. Школа не может отказываться от задач социального воспитания именно потому, что она все равно'служит органом социального воспитания в силу своей социально-психической структуры.
Мы говорили уже о том, что современная школа в большинстве случаев воспитывает дурную социальность; подавляя свободную активность, заглушая социальные порывы она наносит часто очень тяжкие раны личности. Все педагогические искания нашего времени связаны со стремлением вывести школу из ненормального ее положения,. — но основной смысл этих исканий определяется в сущности теми педагогическими достижениями, какие мы находим в дошкольном воспитании. Три идеи привлекают к себе современных педагогов — освобождение личности ребенка и пробуждение в нем инициативы, развитие в нем активности и самодеятельности и, наконец, углубление и развитие социальных сил его личности. Эти три идеи связаны неразрывно одна с другой: освобождение ребенка так же предполагает простор в активности и развитие социальных сил, — как и наоборот развитие социальных сил предполагает освобождение ребенка от навязанного ему режима и пробуждение активности, — как в свою очередь для пробуждения активности необходима свобода ее проявления и социальные условия ее приложения.
Педагогика давно уже призывала к самодеятельности ребенка, но часто она понимала ее лишь как умственную самодеятельность, забывая, что способность к самостоятельному ориентированию формулируется в личности глубже интеллекта. Истинная самодеятельность возможна в том случае, если вообще дитя имеет известный простор в проявлении своих замыслов. В новейшее время в различных педагогических исканиях мы видим стремление предоставить ребенку возможно более широкий простор для его личности. Педагоги начинают проникаться той идеей, что лишь в создании сильного характера, в создании активной личности обеспечивается развитие в умственной самодеятельности. Первым шагом к этому служит отказ от борьбы с социальными запросами детей и предоставление им свободы социальной организации. Пример в этом направлении показала Америка, в школах которой широко развиты различные организации детей. Из европейских стран больше всего это движение нашло отзвук в Англии, но сейчас оно сильно всюду, в том числе и в России. Школа идет здесь правильным путем. В освобождении социальной активности, в удовлетворении социальных запросов детей не только разрешается задача социального воспитания, — но вместе с тем происходит общий подъем активности, самым благодетельным образом отзывающийся на умственной жизни
335
ребенка. Еще Платон придавал (в «Диалектике») огромное значение социальному фактору в возбуждении умственной активности; современная педагогическая мысль все энергичнее выдвигает тот же самый тезис.
Уже игры детей дают повод к развитию их социальных сил; подражая старшим, воспроизводя в своих играх их отношения дети ищут удовлетворения своих социальных запросов. При поступлении в школу они находят массу сверстников, с которыми их связывает школьный процесс; к сожалению однако современный школьный процесс отвергает идею сотрудничества в самом школьном процессе. Если дети прорываются со своими социальными стремлениями, то за отсутствием законной формы их выражения, они неизбежно ступают на путь незаконный и педагогически отрицающий школу. Помощь детей друг другу принимает форму подсказывания, списывания; дети входят как бы в круговую поруку против учителя, образуют часто враждебный лагерь. Дети все делают одно и тоже дело, каждый должен делать свое дело один; при неоднородности детей, при различии их одаренности, памяти, внимания, быстроты умственных процессов неизбежно создается искушение. Слабые нуждаются в помощи сильных — не лучшее ли это место для проявления сотрудничества? Но при современных школьных порядках лишь путем «преступления» можно дать исход социальным чувствам. Есть однако педагоги, которые в наши дни возвращаются к старой идее взаимной помощи детей друг другу в процессе обучения. Этот «метод сотрудничества» пока еще не получил своего полного признания, но если он будет разработан, он обещает нам полную реформу в школьном процессе. Вместо однообразия в школьной работе дети ведут различные работы и путем социального обмена, путем истинного сотрудничества, лишенного той скуки, которая царит при однообразном для всех материале, не только продуктивно работают, но и укрепляются в навыках самого высшего (интеллектуального) сотрудничества6.
Дети испытывают чрезвычайную потребность в взаимопомощи, в интелектуальном обмене, — и когда школа будет организована так, что она даст выход этим запросам личности, она не только будет способствовать росту социальной активности, но она найдет путь к наиболее продуктивтому и увлекательному способу развития умственной жизни.
Но дети вступают в школе не только в педагогическое взаимоотношение. Школа никогда не может вытеснить в них другие стороны личности. Школа никогда не должна забывать о том месте, какое она занимает в социальном развитии ребенка. Большей частью школа является для ребенка первой широкой социальной средой, в которую он попадает после семьи, — и в этой новой социальной среде часто впервые находят себе возможность удовлетворения общие социальные запросы детей. Это внепедагогическое социальное общение детей не только не может быть устранено, но наоборот оно должно стать подспорьем для школьного дела. В современной школе часто косятся на сближение де-
--
6 См. об этом интересную книгу Н. Ман Монна. Путь к свободе в школе. Издательство «Школа и Жизнь».
336
тей вне школы, но от этого нелепого отношения к самым законным запросам детей нужно навсегда отказаться и наоборот стремиться лишь к тому, чтобы использовать тот подъем социальной активности, который здесь получается. Теперь очень в моде — и этому, конечно, можно только радоваться — идея самоуправления детей в школе. Надо впрочем отметить и крайние формы этого течения; так в Америке пользуется большим успехом идея сближения школы с государственным организмом. «Каждую школу, — пишет один из апологетов этого течения, — нужно превратить в государственный организм в миниатюре, который бы родом своих занятий отражал жизнь в обществе». Каждый класс является как бы маленькой самоуправляющейся общиной, все классы вместе образуют «государство». Дети не только развивают социальную активность, но они подготавляются и к будущей политической жизни, приучаются к ответственности, учатся дисциплине, к необходимым самоограничениям свободы. В Америке, отчасти и в Англии это педагогическое направление пользуется большим успехом, за него горячо стоят и такие представители современной педагогической мысли, как Ферстер, Кершенштейнер. Но нельзя здесь же не отметить несомненной крайности этого течения: оно напрасно вводит политические формы в социальные отношения детей. До известной степени это неизбежно в виду склонности детей подражать взрослым, — но в политических формах общения, этого никто не будет отрицать, слишком много юридизма. Полезно, конечно, для ребенка с детства приучаться к общественной ответственности, — но не менее полезно, а по существу и всегда необходимо живое чувство солидарности. Политическая активность есть лишь одна из форм социальной активности, — и педагогическая ценность школьного самоуправления заключается не в политических навыках самих по себе (это всегда еще успеет дитя приобрести), — а в развитии социальной активности вообще. Не следует развивать непременного вкуса к политической профессии, хотя безусловно необходимо развить вкус к социальному сотрудничеству, к социальному обмену. При перенесении в школу политических форм легко может проникнуть элемент партийности, — а это уже решительно должно быть отвергнуто. Отвратительно поступают в наши дни те, кто вовлекает детей в партийную жизнь, заставляет участвовать в партийных манифестациях. Можно (это вполне естественно) желать, чтобы мой сын имел те же убеждения, каких и я держусь, — но пусть же они у него будут плодом его свободных размышлений и свободного выбора! Прежде, чем быть партийным работником, надо быть гражданином, — и именно дети должны воодушевляться идеалом всеобщей солидарности, идеалом братства. Плохую услугу оказывает детям тот педагог, который натолкнет их еще формирующийся только ум на вопросы партийных разногласий. У нас в России, в эти годы слагающейся новой государственности, в годы напряженной политической борьбы, особенно важно зажигать их сердца идеалом солидарности. Поэтому, приветствуя идею школьного самоуправления, я нахожу необходимым предостеречь от тех крайних форм, какие мы встречаем у американских педагогов.
337
Гораздо плодотворнее, на наш взгляд, не только с точки зрения общей педагогики — идея трудовой школы, имеющая тоже очень много защитников, как на Западе, так и у нас.
Идея трудовой школы отвечает прежде всего социальным запросам ребенка: она не на словах, а на деле, учит его заботе о других, действительному сотрудничеству, трудовой помощи другим. Она действительно приближается в своей постановке к семье, где дитя втягивается во всю трудовую атмосферу; в ручном труде требуется не одно подражание, но и самостоятельная инициатива, здесь не к месту суровая неподвижность— но предоставляется свобода активности, здесь нужно не механическое, внешнее участие в школьной работе, но одушевленное сотрудничество с другими. Идея трудовой школы разрешает, таким образом, проблему воспитания как социальных, так и индивидуальных сил ребенка. «Когда я вижу, — пишет Кершенштейнер, — в наших мастерских и лабораториях, школьных кухнях и садах мальчиков и девочек с раскрасневшимися щеками, с веселыми взорами, то в этом я чувствую самое лучшее подтверждение того, что мы находимся на верном пути. Здесь просыпаются и те, кто за школьными скамьями считались ленивыми, тупыми или небрежными учениками». «Наши школы, — говорит он в другом месте, — должны из книжных школ превратиться в школы практической работы путем замены книжных занятий трудом везде, где только это дозволяет данный предмет». Вместе с применением труда, как метода преподавания, необходимо «превращение личной радости работы в общественную радость творчества, иначе говоря, превращение наших школ в союзы совместного труда». Сотрудничество в школе естественно приближается к сотрудничеству в жизни, поскольку оно будет охватывать не только сферу образования, но и практическую сферу. Мастерские, кухня, сад, школьное помещение — всюду дети помогают друг другу и в трудовом сотрудничестве крепнет у них идея общего блага, создаваемого совместным трудом.
Школа не может обойти и идейной подготовки детей к социальной жизни. Беседы на социальные темы, расширение сведений по общественным наукам, по родиноведению является необходимой составной частью социального воспитания, — и здесь школа, конечно, может и должна сыграть свою роль. Необходимо только возражать против ограничения социальных задач школы такими «уроками» обществоведения, как это особенно часто встречается во Франции, — а также против придания исключительно национального характера всему социальному воспитанию, как это мы видим у многих немецких педагогов.
Некоторые авторы подробно учат о различных социальных добродетелях и полагают, что необходимо в школе ввести «преподавание» практической морали. Но это едва ли уместно и целесообразно. Социальные навыки легко развиваются, если не препятствовать сближению и сотрудничеству детей как в школьном деле, так и в их внешкольной жизни; социальные чувства лучше всего могут быть воспитаны при свободе социальной активности и при одушевлении всего дела идеалом солидарности. Вот главные элементы социального воспитания в школе, — к ним нужно прибавить и умственную подготовку в курсах по ро-
338
диноведению и общественным наукам. Нельзя не упомянуть о большой ценности тех школьных организаций, которые содействуют сближению детей. Устройство классных библиотек, классных и общеученических праздников, вечеринок, экскурсий, собирание для школы коллекций, образование школьных музеев, издание классных журналов — все это чрезвычайно полезно для развития социальных сил ребенка. На основании опыта дошкольных учреждений мы хотели бы выдвинуть целесообразность таких школьных праздников, в которых участвовали бы родители с другими членами семьи. Глубокое чувство социальной близости дотоле чужих людей, сближение родителей через детей, имеет самое благотворное влияние на всех участников. В интересах социального воспитания нельзя также не приветствовать совместное обучение полов.
После этого беглого обзора того участия в социальном воспитании, какое может взять на себя школа, нам остается коснуться вопроса о роли внешкольных организаций в развитии социальных сил ребенка. — Я уже говорил о том, что, попадая в школу, дитя часто впервые выступает на широкую социальную арену, впервые разрывает обволакивающую его социальную ткань семьи. Скопление детей близкого возраста действует возбуждающе на социальную сторону детей, вызывает у них взаимный интерес друг к другу. Любопытно, что при этом дети настойчиво охраняют внесемейный характер новых социальных связей, часто тяготятся тем, что родители хотят быть в курсе всех их знакомств, иногда даже предпочитают молчать дома о всем том, что происходит в их новых социальных отношениях. Не следует видеть в этом «разрыв» с семьей, — социально психологический смысл отмеченного явления заключается в том, что дитя дорожит (конечно, не отдавая себе отчета в этом) новым социальным кругом, уберегая его от слияния с кругом семьи. Принадлежность к нескольким социальным кругам не только повышает самочувствие ребенка, но дает себя знать и действительным подъемом личности в силу того освобождающего влияния, какое всегда имеет на личность принадлежность к разным социальным кругам. Чем разнообразнее социальные связи у семьи ребенка, тем незаметнее совершается переход к образованию у ребенка самостоятельных (а не общих с семьей) социальных связей. Как семья, так и школа должны считаться с этим стремлением ребенка к самостоятельным и свободным социальным связям, должны не мешать ему в образовании их, а наоборот использовать это стремление в педагогических целях.
В силу этого школа должна всемерно способствовать образованию всякого рода внешкольных организаций детей, заботясь только том, чтобы участие в них было бы вообще плодотворным, чтобы, с другой стороны, это участие в различных организациях не мешало занятиям ребенка. Особенно полезной и целесообразной формой внешкольного объединения детей является детский клуб, где дети соединяются вместе для общего труда, а не только для общего удовольствия или совместного спорта. Правильная организация детских клубов открывает перед каждым юным существом возможность свободного выбора различных форм деятельности, открывает простор социальным запросам де-
тей. Самоуправление в таких внешкольных организациях представляется мне в высокой степени целесообразным и полезным, тогда как самоуправление в школе имеет свои границы, переходя за которые оно может оказывать уже вредное влияние на ход школьной жизни. Необходимо отдельно упомянуть еще два вида внешкольного объединения детей — это площадки для игр и летние трудовые колонии. Площадки (организуемые главным образом летом, хотя они могут продолжаться при благоприятных условиях и зимой) чрезвычайно привлекают к себе детей; при умелом их ведении физические упражнения и игры чередуются здесь с ручным трудом, часами рассказа и т. д.: это в сущности те же детские клубы, не имеющие только такого определенного состава и открытые для всех. Огромное значение не только для социального воспитания, но и в других отношениях, имеют летние трудовые колонии, в которых дети учатся не только трудовому сотрудничеству, не только различным, очень важным для жизни навыкам, но где они приобретают в высшей степени важный опыт социальной активности, живое проникновение духом солидарности.
Нельзя, однако, не отметить и того, что в современных условиях жизни намечается известный контраст между семейными и внесемей-ными формами социальной жизни у детей. Мы говорили уже о кризисе современной семьи; добавим, что широкое развитие внешкольных организаций для детей, не сопровождаясь большей частью одновременным укреплением семейных связей, ведет к дальнейшему развалу семьи. Теперь не редкость такие факты (особенно в больших городах), когда развитие внешкольных организаций для детей ведет к полному падению семейных связей: дитя совершенно теряет интерес к семье, тяготится, если родители и другие члены семьи интересуются тем, где он проводит время. Семья становится в этих случаях источником ненужных и вредных антисоциальных чувств и становится какой-то обветшавшей ценностью, за которую держатся только по привычке. Такое преждевременное «выветривание» семейных чувств, частое появление враждебного отношения к самым нормальным проявлениям семейного участия, наносит огромный, часто непоправимый вред социальному созреванию детской души. Я не ошибусь, если скажу, что упадок семейных связей, наступление отчуждения в семейных отношениях, вообще разрушение социальных связей в семье, во многом хуже действительного сиротства, действительной заброшенности. В последнем случае всегда живет в душе тяжелая социальная неудовлетворенность; чувство сиротливости говорит о больших социальных запросах души, в недрах которой скопляется, таким образом, большой запас социальной энергии. Но то взаимное отчуждение, которое возникает часто в семье, подрезает самые глубокие и ценные источники социальной энергии, оно изнутри иссушает человека, ведет к социальному безразличию. Поэтому расширение внешкольного объединения детей, поскольку оно происходит на счет семейной социальности, должно быть признано опасным с точки зрения интересов социального воспитания. Семья всегда останется незаменимым органом социального воспитания, и то, что дает семья, не могут дать никакие иные формы со-
340
циального объединения, — никакие суррогаты семьи не должны иметь места.
Об этом тем более уместно напомнить, что многие родители склонны вообще перелагать на школу всю заботу о детях. Сейчас родительские комитеты, возникшие ныне по всей России, усиленно выдвигают идею внешкольных организаций детей. Нельзя не отнестись с горячим сочувствием к этому движению, особенно в интересах социального воспитания, — но нужно определенно и решительно заявить, что все это не только не освобождает семью от ее роли в воспитании даже подростков, но наоборот заостряет эту роль. При слабости внешкольных организаций может кое-как справляться со своими задачами и средняя семья; при развитии внешкольных организаций семья не только должна подтянуться, но она должна напрячь свои силы, чтобы неутерять всякого значения. Тяжело глядеть на семью, в которой ее старшие члены взаимно чужды друг другу, — но не только тяжело глядеть, но надо считать страшным тот факт, когда младшие члены семьи, дети, все глядят в сторону, каждый живет интересами внесемейных своих социальных связей.
Идеалом социального воспитания является, конечно, не соперничество разных органов его, но тесное и жизненно сильное сотрудничество их. Но для этого необходимо одновременное развитие и творческий расцвет всех этих органов. Крайне нужной и неотложной считаем мы реформу школы в указанном выше направлении, широкое развитие дошкольных учреждений, широкое развитие внешкольных организаций. Но не менее необходимой и неотложной считаем мы и внутреннее возрождение семейной жизни, дружную работу общества по обновлению и оживлению семьи. Кто только вдумается в основы социального развития человека, тот не может не согласиться с этим. Мы надеемся, что широкое развитие родительских комитетов поднимет у самих родителей их семейное самосознание и поставит вопрос о возрождении семьи на реальную и жизненную почву.
Заключение.
Задача нашего общего очерка не заключалась в том, чтобы нарисовать перед читателем целый план организации социального воспитания, — а только в том, чтобы привлечь внимание читателя к самой теме, к вопросам социального воспитания. Эти вопросы, как мы видели уже во второй главе, имеют всегда право на существование в силу того, что личность всегда развивается в социальных условиях, что кроме индивидуальной стороны в личности всегда есть ее социальная сторона. Это существенная, изначальная двойственность личности, неизбежность в ней социальной стороны делает вопрос о социальном воспитании коренным вопросом педагогики. Но никогда наша страна не нуждалась так сильно в широкой организации социального воспитания, как в тревожные и ответственные годы перестройки всего государственного организма, ныне нами переживаемые. У нас в России особенно часто встречается социальная инертность, холодное использование социальных отношений для личных эгоистических целей. С этими задатками вступили мы ныне на путь интенсивной, лихорадочной политической и общественной жизни, — и уже первые месяцы новой жизни убедительнее всего показали, до чего мы не умеем социально работать, социально мыслить, до чего нам чужд дух солидарности. Я не говорю о политическом партикуляризме, национальных сепаратистских движениях, об ожесточенной партийной борьбе и партийной нетерпимости, — но и сами недра социальной жизни, сами глубины социальных связей заколебались; потрясен весь социальный организм. Не будем судить себя строго — это ведь наследие старого строя, давившего всякое проявление общественности: как только исчезла внешняя власть, сковывавшая социальный организм, немедленно же обнаружилось, до чего слабы были внутренние социальные связи у нас. Мы расплачиваемся теперь за грехи прежнего уклада жизни и не должны поэтому осуждать себя строго за все, что происходит сейчас в России. Но с тем большей энергией, с тем большей серьезностью мы должны посвятить все свои силы излечению социального организма. Все великие внешние реформы, которые воплощаются теперь в жизнь, не спасут нас, не раскроют перед нами желанной перспективы расцвета и творчества, — если изнутри, из недр социального организма не поднимутся внутренние силы сцепления. Социальный организм должен ожить, должен окрепнуть, достигнуть действительного внутреннего единства, чтобы быть способным воспользоваться благами внешнего освобождения. Среди различных неотложных задач в этом направлении — задача со-
342
циального воспитания занимает едва ли не первое место. Молодое поколение должно войти в новую жизнь подготовленным к той широкой и ответственной работе, какая на него будет возложена: в новые меха должно быть влито новое вино.
Но задача социального воспитания является неотложной и крайне острой и в силу других причин. Мы, старшее поколение, много выстрадали в последние годы, — и если и нас разбил, отравил и ослабил тот хаос, который неизбежно воцарился на некоторое время в России, — то во сколько раз глубже должно сказаться его опасное влияние на неокрепших молодых душах, не могущих оказать сопротивления! Много в свое время говорили о том, что родители и педагоги должны бороться с тем ядом, какой вливает война в детские души, — но еще больше следует думать о той отраве, какая вливается в душу дитяти нынешней жизнью! Нестройному хаосу современной жизни, ожесточенной гражданской войне, встряске всего социального организма, всех социальных отношений, анархическим тенденциям, боязливому замыканию каждого в себя в виду хозяйственной разрухи, расслаблению власти и освобождению преступных элементов общества, наводящих на всех террор, — всему этому яду, отравляющему общество и вызывающему антисоциальные чувства нужно что-то противопоставить, чтобы спасти детей от тлетворного дыхания переживаемого страной кризиса. Социальное возбуждение, передающееся детям, должно найти себе выход; яд, вливающийся в душу, должен быть умело нейтрализован. Все это делает вопрос о широкой постановке социального воспитания не академическим вопросом, о котором еще можно спорить, — но кричащей проблемой жизни. Развитие социальных чувств в трудовом сотрудничестве, воодушевление идеалами социальной солидарности, широкое удовлетворение социальных запросов детей, — все это может не только успешно бороться в детской душе с ядовитыми влияниями времени, но может подготовить их и к тому, чтобы стать достойными участниками новой жизни. О, как не хватает сейчас России элементарных социальных добродетелей! Как мало людей, умеющих подчинить свои личные, партийные, классовые интересы общему благу! Богатая страна, полная молодых, неиспользованных сил, освобожденная от всех внешних пут, имеющая полную возможность свободного самоопределения, смутно сознающая всю свою бесконечную силу, — Россия со дня на день приближается к катастрофе, раздираемая изнутри социально противоречивыми течениями. Пусть же спасут родители и школа детей от страшного растления, которое несет с собой отравленная жизнь и пусть подготовят они в детях любовь к общему благу, способность к социальному сближению, основные социальные добродетели, живое стремление к солидарности, подлинную, а не словесную только любовь к братству! Пусть в противовес всем страшным фактам взаимного озлобления, взаимного недоверия и ненависти пробуждают они в детских душах живую любовь к человеку, как таковому, социальную отзывчивость, сознание гражданского долга, честное исполнение взятой на себя обязанности, любовное отношение к своему делу и искреннее стремление способствовать всеобщему благу!
343
Задача социального воспитания неотложна, она должна быть поставлена решительно и настойчиво. Пусть молодые демократические организации, земства, города, различные союзы поймут, что время не терпит, что надвигающаяся опасность социального самоотравления велика. Но задача социального воспитания не только должна быть поставлена, она должна быть решена! Мы зовем все живые силы страны осознать это и сделать все, что возможно, для спасения детей от ядовитого дыхания современности и для подготовки их к достойному участию в новой жизни.
Русская педагогика в XX веке
Вводные замечания
Изложить развитие русской педагогической мысли в XX веке, при той скудости материалов, которыми может располагать исследователь, находящийся вне России, является делом чрезвычайно трудным. Если я берусь все же дать обзор русской педагогики в XX веке, то меня побуждают к этому два обстоятельства. С одной стороны, не только широкие круги русского общества, но даже специалисты-педагоги зачастую не знают примечательных явлений в русской педагогической мысли последних десятилетий, — а с другой стороны, русская революция, прервав нормальное развитие русской жизни, выдвинула в педагогике ряд хотя и уродливых, но в то же время таких своеобразных и по-своему значительных явлений, что многие вожди западной педагогики склоняются перед ними, как перед «новым словом» русской мысли. Разобраться в этом «новом слове», отделить здоровое от уродливого, серьезное от рекламного, уяснить, что здесь взято из прошлого, а что привнесено нового — невозможно вне исторического изложения. Диалектика в развитии русской педагогики хотя и осложнена всем тем, что внесла «советская мысль» сюда, но в историческом освещении она оказывается не лишена своей закономерности. И опять-таки — только при таком изложении возможно для вдумчивого педагога критически и объективно подойти к той задаче, которая стоит перед русской педагогической мыслью, к уяснению того, в каком направлении должна развиваться эта мысль, чтобы внести свой вклад в грядущее русское возрождение.
При выполнении настоящей задачи автор стремился быть возможно более объективным, хотя и испытывал чрезвычайные в этом затруднения, вытекающие из невозможности найти в Европе все необходимые материалы. Использовав то, что можно было найти в Праге, в Берлине и Париже, восполнив печатный материал сведениями, собранными у различных лиц, ныне пребывающих в Западной Европе, автор сознает, что ему не удалось достигнуть равномерности в изложении всех течений русской педагогики. Некоторые течения изложены подробно и на основании первоисточников, кое-что пришлось изложить бегло и без уверенности в точности тех материалов, которые были под руками. Библиографической полноты было тоже очень трудно достичь. Наконец, последнее и самое важное: в настоящем очерке дана характеристика лишь русской педагогической мысли и сознательно оставлена в стороне тема о русской школе, о ее различных формах и о ее эволюции. Причина этого лежит в том, что с революцией строй русской школы претерпел такие глубокие изменения, для описания которых понадобилось бы написать новый очерк. С этими оговорками автор решается предложить читателям настоящий очерк(1).
Ушинский и Толстой — величайшие педагогические писатели XIX века в России — оказали огромное влияние на русскую педагогику в XX веке. Первый завещал идею органического синтеза в педагогике, второй выдвинул тот мотив, который сыграл такую огромную роль в педагогике XX века, — мотив свободы. Но рядом с ними XIX век выдвинул в России целый ряд выдающихся педагогов-мыслителей, как Пирогов, Рачинский, Лесгафт, Стоюнин, Бунаков и др. Оживленная и вдумчивая работа этих педагогов, развитие педагогической журналистики — все это подготовило почву для работы педагогики в XX веке, создало то наследие, какое XIX век завещал XX веку. Прежде всего окончательно и серьезно впитала в себя русская педагогическая мысль веру в необходимость строгого научного обоснования педагогики. К началу XX века стремление связать педагогический процесс с тем, что дает для его понимания наука, достигает очень высокой силы. Это сказывается на развитии научной психологии в России и на появлении переводов главнейших руководств с иностранных языков на русский. Изучение и развитие экспериментальной психологии становится настолько заметным, что в XX веке определяется даже несколько течений в этой области.
Рядом с этим растет критическое отношение к устоям прежней педагогики и прежде всего во имя личности ребенка, во имя освобождения ребенка от пут, которые мешают его «естественному» развитию. Проблема свободы ребенка становится одной из самых значительных, можно сказать, центральных тем русской педагогической мысли. В то же время начинает все определеннее (при огромном влиянии Зап. Европы) выступать идея трудовой школы — идея, корни которой были уже давно в педагогических исканиях еще в XIX веке. Проблема воспитания отодвигает постепенно проблему образования — ив связи с этим стоит первоначально слабое, но потом все более ярко развивающееся стремление к целостности в воспитательном воздействии на ребенка. Этот мотив целостности имеет огромное значение в русском педагогическом сознании, так как он примыкает к однородному мотиву в русской философии, горячо стоявшей за идею целостности личности. В этом отношении успехи психологии имели тоже большое значение, ибо в самой психологии этого времени все ярче сказывается идея личности, идея единства и целостности душевной жизни. Как раз к началу XX века возникает впервые журнал, посвященный психологии (Вопросы философии и психологии), появляется несколько оригинальных и свежих монографий по психологии. Все это не только освежало педагогическое сознание, не только выдвигало новые основы для педагогической мысли, но и сообщало ей ту силу, какую вообще педагогика нашла в психологии. Рядом с этим увлечением психологией, еще лишь развертывающимся, но уже достаточно сильным, в жизни русской школы намечались новые перспективы, тоже призывавшие к творчеству. Первой ласточкой этой весны была организация — в первые годы XX века — Педагогического музея при управлении военно-учебными заведениями (во главе с генералом Макаровым). Вокруг этого музея постепенно сгруппировалось много специалистов по педагогике (Нечаев и др.). В те же первые годы возникают коммерческие училища, свободные от рутины, объединившие вокруг себя молодые силы. К этим же первым годам относится и возникновение первых общедоступных педагогических журналов, сыгравших большую роль в развитии педагогической мысли, а именно «Русской школы» и «Вестника Воспитания», и несколько позже «Школы и Жизни» и др. В области теоретической педагогики можно отметить появление замечательных этюдов Лесгафта, посвященных вопросам семейного воспитания, организацию в ряде университетских центров педагогических обществ. Русская педагогическая мысль вступила в XX век с богатым наследством, созданным трудами Ушинского, Пирогова, Толстого, Рачинского, бар. Корфа, Бунакова, Стоюнина, — со смутной, но живой идеей целостного воспитания, с глубокой верой в научное преобразование школьного дела, с огромной энергией.
Русская педагогика до 1917 г.
Для того, чтобы разобраться в том, что создала русская педагогика в XX веке, чтобы понять внутреннюю диалектику русской педагогической мысли, столь осложненной страшным потрясением, которое принесла революция 1917 г., необходимо указать сначала на основные направления педагогической мысли, какие развернулись в течение XX века, и на те основные темы, которыми была занята в это время педагогическая мысль.
По существу мы можем различать три направления в русской педагогической мысли:
1) педагогический натурализм в его различных вариантах,
2) педагогический идеализм и
3) религиозно-педагогическое направление.
Педагогический натурализм разными путями связан с философской мыслью предыдущих десятилетий — он весь проникнут верой в природу ребенка, верой в возможность рационализации педагогического дела. Русский педагогический натурализм имеет двойные корни — в просвещенстве, в теории прогресса, в утопической вере в преображающую силу воспитания — ив живом преклонении перед природными дарами ребенка, в вере в чудесные силы детской души, в ненужность и вредность всякой регламентации педагогического дела. Мотив просвещенства и мотив свободы, вера в прогресс и вера в творческие силы в душе ребенка освобождают педагогический натурализм в России от узости позитивизма; скорее он полупозитивистичен, как полупозитивными были многие общие системы, склонявшиеся к натурализму, а порой к материализму (Герцен, Чернышевский, Писарев, Кавелин, Михайловский и др.). Под покровом натурализма зрело у нас всегда много подлинного идеализма, не находившего лишь своего адекватного выражения. Продуманный же и философски осознанный педагогический идеализм — кроме Ушинского (в XIX веке) — мы находим в XX веке лишь у нескольких писателей.
В педагогическом натурализме, в соответствии с его двойными истоками, мы находим два основных направления:
1) научное и
2) связанное с идеей «свободного воспитания».
Мы будем условно называть последнее течение романтическим натурализмом и выделим в нем два направления — полупозитивистское (Вентцель и др.) и религиозное (Л. Толстой и его последователи). В линию натурализма входит и вся советская педагогика, но ее особенности не исчерпываются этим моментом натурализма. Советская педагогика пытается быть синтетической, то есть целостной, и это ей до известной степени удается, но только потому, что, имея в основе марксизм и материализм, она контрабандно усваивает себе черты романтизма и даже идеализма. Из сказанного вытекает следующий план нашего изложения:
А. Педагогический натурализм:
1. Научное течение;
2. Романтическое течение:
а. Полупозитивистическое,
в. Религиозное;
3. Советское течение.
В. Педагогический идеализм.
С. Религиозно-педагогическое течение.
О том, почему мы дважды говорим о религиозном течении в педагогике, будет сказано ниже.
Научное течение в педагогике (Лесгафт, Лазурский, Нечаев, Музыченка и др.)
На первом месте среди деятелей этого направления должны мы поставить П. Ф. Лесгафта (1837—1909). Будучи профессором анатомии, создавшим биологическое направление в анатомии, известный уже к началу XX века своими замечательными лекциями по теории физического воспитания, Лесгафт еще в конце XIX века создал в Петербурге курсы воспитателей и руководителей по физическому воспитанию. В 1905 году эти курсы были преобразованы в «Вольную высшую школу», закрытую через два года. Несколько позже он создает собственные курсы, сохранившиеся до революции. Из педагогических сочинений, прославивших Лесгафта, все главные его сочинения были изданы им еще до начала XX века, но широкое влияние идей Лесгафта относится именно к XX веку. Отметим, прежде всего, замечательную систему физического воспитания, систематически связанного с данными анатомии и физиологии. Высокое педагогическое значение этой системы лежало не столько в научном обосновании ее, сколько в основной педагогической идее, требовавшей рационального, но проникнутого идеализмом и уважением к ученикам, воспитания тела ученика. Все, кто проходил курсы Лесгафта, становился не только удачным практиком, но становился и вместе с тем проводником того идейного, одушевленного служения школе и интересам детей, которое создало из учеников и учениц Лесгафта стойких и преданных проводников его идеи.
В истории физического воспитания в России Лесгафту принадлежит исключительное место в силу указанных причин. Физическое воспитание было, однако, для него не самоцелью: через дисциплину тела он искал того, чтобы сообщить дисциплину духу, вооружить личность для жизненной борьбы навыками к стойкости и выдержке. Эта духовная сторона физического воспитания имеет, по Лесгафту, огромное значение в путях социальной жизни, которая требует от каждого огромного развития задерживающих сил. Целое поколение педагогов, вышедшее из курсов Лесгафта, держалось его направления — и особенно в тяжкие годы революции выявилась идеалистическая природа воззрений Лесгафта. Нельзя не отметить также учения о школьных типах (Лесгафт начисляет их шесть: лицемерный, честолюбивый, добродушный, мягко забитый, злобно забитый и угнетенный). Научное истолкование этих типов слабо и неинтересно, но самые характеристики шести типов Лесгафтом с мастерством, возвышающимся нередко до подлинной художественности. В частности, характеристика, так называемого, мягко забитого ребенка может быть названа художественно-педагогическим открытием Лесгафта.
Лазурский был профессором психологии в Военно-медицинской Академии. Он обратил на себя всеобщее внимание своей первой книгой по психологии, носящей название «Наука о характере». Эта книга занимает в небогатой литературе по теоретической характерологии очень значительное место, в особенности, по тому общему «динамическому» пониманию души, которое во многом близко построениям известного американского психолога М. М. Dougall'а и др.
Лазурский написал еще несколько мелких этюдов, вместе с профессором С. Л. Франком разработал большую, страдающую, впрочем, излишней сложностью, программу изучения личности (очень близко к «психографии», по определению В. Штерна). Но не это заставляет нас упомянуть здесь о Лазурском, а его участие в создании так называемой экспериментальной школы. Сама идея эта связана с понятием «естественного эксперимента», которое Лазурский выдвигал для теоретической психологии.
Суть этой идеи заключается в том, что наряду с экспериментом в точном смысле этого слова, когда мы варьируем условия какого-нибудь явления, искусственно усиливаем или ослабляем какую-нибудь существенную сторону в нем, надо признать «естественный эксперимент», в котором мы имеем дело с таким же односторонним развитием или ослаблением какой-либо стороны в явлении, но только создаваемым не искусственно, а естественно, «само собой», в силу случайного подбора обстоятельств. Идея Лазурского была положена в основу одной небольшой школы в Петербурге, о судьбе которой я не располагаю достаточными сведениями.
Но в духе идей Лазурского была задумана и школа при Педагогической Академии под руководством проф. Нечаева. К сожалению, печатных материалов и об этой школе, как и об огромном, педагогически часто очень ценном, шкальном творчестве в различных школах (за период 1900-х годов), тоже в печати нет никаких данных (кроме того, что написано, например, на страницах «Свободного Воспитания» — см. об этом ниже).
С именем проф. Нечаева связано немало различных начинаний в области научной педагогики. Благодаря энергии и живости характера, А. П. Нечаев, связанный в самом начале своей деятельности с Педагогическим музеем при Управлении Военно-учебными заведениями, сумел объединить вокруг себя целую группу молодых ученых, воодушевленных идеей экспериментальной педагогики.
Нечаев создает большую психологическую лабораторию, в которой проводит целый ряд экспериментальных исследовании, сам очень много работает в этом направлении (его исследование функции памяти в зависимости от возраста — напечатанное в Zeitschrift fur Psuchologie — постоянно цитируется в руководствах по психологии). Можно, пожалуй, даже сказать, что Нечаев создал у нас целое течение экспериментальной психологии, по духу близкое направлению Meumann'а.
К сожалению, у самого Нечаева не было достаточной научной строгости, и на всей его школе легла печать поспешности в обобщениях, поверхностности в постановке вопросов. При участии всей группы, связанной с Нечаевым, возник «Психоневрологический Институт» — высшее учебное заведение, не имевшее, однако, солидной репутации в русских научных кругах. Психология, по существу, оставалась здесь ни при чем, и, быть может, не случайно, что проф. Нечаев перешел в создавшийся после революции Педагогический Институт в Самаре. О научной работе Нечаева в Самаре имеются лишь очень слабые намеки в той литературе, которая из советской России проникает в Европу, но, конечно, самое направление, с которым связано имя Нечаева, живо и будет жить. Гораздо ценнее как школа, серьезнее по постановке дела был Психологический Институт имени Щукина, созданный под руководством проф. Челпанова, Вокруг проф. Челпанова сгруппировалось много молодых психологов, доныне еще работающих энергично в области психологии, хотя и здесь нашлись течения поверхностные и недостаточно глубокие (Корнилов, Рыбаков). Если еще упомянуть проф. Россолимо, известного своим «методом профилей» (отчасти переработанным впоследствии проф. Э. Клапаредом), а небольшую группу лиц, связанных с Россолимо, то мы собственно исчерпаем главные сведения о научно-педагогическом направлении.
Необходимо было бы только упомянуть еще об А. Ф. Музыченко, работавшем в Киеве, издавшем небольшую, но осведомленную книгу «Современные педагогические течения» и об его ученике Даденкове, написавшем небольшой этюд об индивидуалистической педагогике в Германии (Шаррельман).
Мы переходим теперь к тому течению русской педагогической мысли, которое мы назвали выше романтическим и которое связано с именем Л. Толстого.
В развитии педагогических идей Толстого нужно различать два периода — ранний я поздний, между которыми стоит эпоха формирования у него религиозного мировоззрения и суровой, беспощадной критики современной культуры. Мы имеем перед собой, таким образом, два комплекса педагогических идей у Толстого — один может быть с полным правом охарактеризован как крайний педагогический индивидуализм, переходящий в педагогический анархизм, а другой — как обостренный педагогический морализм с религиозным оттенком. В силу этого толстовское влияние в русской педагогической мысли тоже приобрело двойственный характер — оно объединило как подлинных толстовцев, со всеми их типическими чертами, так и тех мыслителей и педагогов, которые разделяли лишь руссоизм Толстого, его пламенную защиту индивидуальности и его критику современной культуры.
Если Кант говорил о «радикальном зле» человеческой натуры, то руссоизм Толстого сводится к учению о радикальном добре человеческой натуры. Этот мотив ранней педагогики Толстого был всегда чрезвычайно близок русскому сознанию. Правда, педагоги 60—70-х годов не считались серьезно с мыслями Толстого, но через несколько десятилетий, когда толстовство проявилось как определенное морально-религиозное направление, — оно создало и для педагогических воззрений Толстого широкую возможность развития и влияния. В самом начале XX века группа последователей Толстого создает (во главе с И. И. Горбуновым-Посадовым) издательство «Посредник»; формирование этой группы совпадало с более широким влиянием моральных и философских идей Толстого. Как пример, иллюстрирующий это течение, приведем историю так называемого «Дома свободного ребенка». В начале XX века при Московском Педагогическом обществе (состоявшем при Университете) образовалась группа лиц, работавшая до того времени в комиссии по вопросам нравственного воспитания, а затем выделившаяся в особую «комиссию семейной школы». Из лиц, работавших в этой комиссии, образовалось две группы — одна создала детский сад, другая занялась организацией «семейной школы», впоследствии «Дома свободного ребенка». Мы не будем следить за работами этой комиссии и ее предприятий, как не будем следить и за практическими шагами третьей группы, создавшей под влиянием американских педагогических начинаний особое общество «Сетлемент».
Судьба педагогических начинаний этих трех групп очень любопытна и показательна для тех идей, которыми одушевлено было самое дело. Но для нас важнее уяснить себе самые идеи, тот педагогический замысел, который лег в основу этих начинаний. При изложении этих идей мы ввиду краткости места объединим вместе несколько течений, живших одной и той же верой в правду свободного развития ребенка. Мы будем характеризовать эти течения тем идейным знаменем, которое было начертано на том печатном органе, который был проводником этих идей — я имею в виду «Свободное Воспитание». Хотя и другие педагогические органы этого времени тоже давали много места идеям свободного воспитания (особенно, журнал «Вестник Воспитания»), однако есть достаточно оснований характеризовать всю группу, о которой идет речь, как группу «свободного воспитания». Мы включаем сюда толстовцев — Горбунова - Посадова, Горбунову-Посадову, близких к толстовству — Вентцеля (наиболее серьезного теоретика группы), С. Н. Дурылина, тогда уже отделившегося от толстовства, а также Шацкого, А. И. Зеленке, Л. К. Шлегер, супругов Н. В. и М. В. Чеховых, Фортунатовых.
Общие принципы «Свободного Воспитания»
Исходной основой педагогических построений всех групп, объединившихся вокруг идеи «свободного воспитания», является вера в творческие силы ребенка, в его внутреннее стремление к раскрытию своих сил и вера в то, что в этом раскрытии творческих сил ребенка всякое внешнее, даже самое благотворное влияние будет иметь тормозящее действие. Освобождение ребенка от всякого внешнего воздействия, устранение всякого авторитетного начала в взаимоотношении взрослых и детей, предоставление полного простора самодеятельности и инициативе ребенка — все это педагогические переложения идей Руссо о «радикальном добре» детской природы и о благотворном значении полной свободы в естественном цветении детской души. Один из педагогов группы свободного воспитания выразился так: «Наклонности у детей всегда вначале направлены к добру, но с возрастом добрые наклонности начинают исчезать: очевидно, виновато влияние взрослых».
Вентцель, который наиболее последовательно и продуманно защищал идею свободного воспитания, пишет такие слова: «Ребенок нуждается в великой хартии свободы; надо уважать в нем ту свободу человеческой личности, которая в нем скрыта… Ребенку в семье должна быть гарантирована та же свобода, какой пользуются и взрослые члены семьи. Если мы хотим воспитать свободных людей, мы должны стремиться к уничтожению и устранению всякого личного авторитета». В другом месте тот же автор пишет:«Современная школа, уничтожив естественную потребность в ребенке, усыпив его интеллект, заменяет потребность принуждением, свободное усилие, сопровождаемое чувством счастья, тяжелым, тягостным трудом». «Школьная жизнь, вся построенная на принуждении, абсолютно противоположна жизни естественной, свободно раскрывающейся и развертывающейся».
Вентцель и другие авторы неустанно воспевают те великие возможности, которые скрыты в детях и которые не раскрываются потому, что им не дают свободы. Поэтому они принципиально изгоняют всякое принуждение в воспитании и исключают всякое наказание. В проекте одного из педагогов такого направления находим такое место: «Какие-либо карательные меры безусловно не допускаются. Единственный способ воздействия на ученика — это убеждение (слушать которое он не обязан) и исключение из школы». В ответ на сомнения в возможности создать школу без принудительного начала Вентцель пишет: «Идеалом школы является полное устранение всякого принудительного начала, и школа тем совершеннее, чем в ней меньше принуждения…» Тут же, однако, Вентцель отмежевывается от принципиального анархизма в педагогике и пишет: «Устранение принудительного начала нисколько не означает отказа воспитателя от активного вмешательства в дело воспитания, нисколько не ведет к пассивности». «Но вместо того, чтобы действовать прямо на воспитанника, воспитатель действует на окружающую среду… пользуясь методом косвенного воздействия».
Понятно, что в систему свободного воспитания может входить лишь та «естественная дисциплина», принципы которой систематически изложил Г. Спенсер. Впрочем, Толстой выдвигал этот принцип еще в своих записках о Яснополянской школе, а в группе «свободного воспитания» его разделяли все. Горбунова-Посадова, однако, признается в брошюре «Дом свободного ребенка»: «Я, как и другие участники Дома свободного ребенка, часто приходила в большое отчаяние от беспорядка, шума, шалостей и ссор детей».
Чрезвычайно поучительна вторая статья в той же брошюре, принадлежащая перу И. В. Кистяковской, одной из руководительниц «Дома свободного ребенка». Здесь необыкновенно убедительно вскрыто разложение того принципа всецелой свободы, на котором был построен «Дом свободного ребенка». При этом очень существенно, что инициатива устранения этого принципа исходила от самих детей. «Вся положительная работа детских собраний, — замечает Кистяковская, — является отрицанием того понимания принципа свободы, которое господствовало вначале: вся она проникнута провозглашением начал обязательности для всех и ответственности каждого перед всеми».
Провозглашение принципа самодеятельности и полной свободы вылилось в отвержение всякой заранее составленной программы школьной работы. Для всего этого направления характерно привлечение детей к активному участию в организации школы. Если одни при этом требуют скромно, чтобы «дети были посвящены в план преподавания», то другие уже требуют, чтобы «детям было предоставлено право высказаться по поводу выбора предметов обучения». Одна учительница высказала убеждение, что, лишь пока дети малыши, они не могут участвовать в выработке программы, но постепенно они должны быть привлекаемы к этому, причем им ничего нельзя навязывать, а можно только предлагать. Поэтому не должно быть никаких обязательных группировок. «Идеал школы был бы достигнут, — пишет Вентцель, — если бы ребенок мог переходить от одного предмета к другому по собственному усмотрению и желанию и брать от каждого предмета, сколько ему понадобится».
Положительная задача школы формулируется здесь, как развитие творческих сил, заложенных в ребенке. В статье, носящей характерное название «Идеальная школа будущего» (Свободное Воспитание. 1908—1909. № 8), Вентцель формулирует положительную задачу школы в таких словах: «Метод работы должен быть методом освобождения в ребенке творческих сил».
Чрезвычайно характерна здесь мысль о необходимости именно «освобождения» творческих сил, которые являются как бы задавленными в обычной школьной жизни. В другом месте Вентцель пишет: «Новая школа должна особенно лелеять творческие силы в ребенке». Все воспитательные задачи должны быть подчинены этой высшей цели — развитию творческих сил, в частности творческой воли в ребенке. Центральное место в школе должно занять развитие воли или сознательной творческой активности.
В самой тесной связи со всем этим строем мыслей стоит крайний социально-педагогический утопизм — вера в то, что через школу возможно преобразить самую жизнь.
В основе педагогического утопизма лежит всегда мотив целостной школы, то есть преодоление тех искусственных перегородок, которые отделяют школу от жизни. Но вместе с свободой для педагогической мечты через педагогический утопизм получает свое выражение и социальная мечтательность, искание путей к осуществлению социального идеала.
В группе педагогов, объединившихся под знаменем «Свободного воспитания», оба эти мотива педагогического утопизма звучали чрезвычайно сильно. Приведем отрывок из вступительной статьи редактора «Свободного Воспитания» И. И. Горбунова-Посадова в первом номере журнала (1907—1908): «Новая школа будет местом для свободного труда, для свободного общения между детьми и теми, кто хочет им помочь. В новой школе не будет места никакому принуждению, никакому насилию над детской душой, во имя чего бы оно ни производилось. В новой школе будут стремиться к тому, чтобы сломать стены,, отделяющие школу от жизни… Реформа жизни и реформа воспитания неразрывно связаны друг с другом и должны идти рука об руку». В упомянутой уже статье «Идеальная школа будущего» Вентцель пишет: «Это будет не школа, а «Дом свободного ребенка», в котором речь должна идти не об учебном плане, а о плане жизни». «Это должна быть маленькая педагогическая община, состоящая из детей, руководителей и родителей. Дом Свободного Ребенка должен быть не только местом учения, но и местом жизни, должен быть мастерской… должен представлять из себя маленькую хозяйственную единицу, маленькую трудовую ассоциацию». Это растворение школы в жизни чрезвычайно характерно для всего цикла идей данного направления, вскрывая основную мысль педагогической утопии.
Защитники «свободного воспитания» упрекают современную школу в том, что она «дрессирует детей в целях приноровления к существующему общественному режиму…» Мы увидим позже, какое развитие получит этот мотив в советской педагогике. Но для группы «Свободного Воспитания» на первом плане все же стояли педагогические, а не социальные мотивы, вернее говоря: правильное воспитание, как его понимает данное направление, есть необходимая база социального переустройства. И. И. Горбунов-Посадов писал в одном месте: «Школа, ставши местом братского общения с детьми новых учителей — друзей их детства, сделавшись местом детского труда и творчества, станет новой ступенью к братству старших и младших». «Истинный ключ к прочной и устойчивой реорганизации общественного строя на новых началах, — читаем мы у Вентцеля, — свободное воспитание и образование всех детей без исключения». «Только в той мере, — читаем у него же в другом месте, — в какой школа в своей организации воплощает идеальный строй общественной жизни, она воспитывает в своих питомцах представителей истинной общественности».
В этой педагогической утопии ее автор отводит большое место детскому производительному труду: высоко ценя трудовое начало, он хочет, чтобы оно не было лишь методическим принципом, не было предметом обучения, но чтобы оно было подобно жизненному труду, то есть вырастало бы из реальных потребностей и имело производительный характер. В одной статье Вентцель пишет: «В школе будущего производительный труд явится основным и главным делом. Детский производительный физический труд является действительно совершенно новым словом в педагогике, и осуществление его в возможно более широких размерах призвано произвести целый радикальный переворот во всей области воспитания и образования. Не мастерские надо переносить в школы, — читаем мы тут же, — а школу надо перенести в мастерские. Производительный труд надо понимать, однако, не в экономическом смысле, но он обнимает те формы труда, которые связаны с удовлетворением естественных нормальных потребностей человека». Кистяковская в упомянутой уже своей статье о «Доме Свободного Ребенка» меланхолически замечает, что «все, что было достигнуто в смысле объединения детского умственного и физического труда, было не то объединение на основе производительного труда, о каком мечтали вначале». Необходимо тут же отметить героические попытки ряда педагогов создать экспериментальные школы для проверки и углубления трудового принципа. Упомянем о двух интересных попытках, отчеты о которых можно найти на страницах того же «Свободного Воспитания».
Первая попытка, начатая Е. Фортунатовой, Л. Шлегер и А. Фортунатовым (см. статьи: «Из опыта одной экспериментальной школы». — Свободное Воспитание. 1910—1911 и 1914—1915), была интересна как «проверка принципа творческой наглядности и трудового начала». Сама школа была основана в 1909 г. именно как педагогическая лаборатория. Другой опыт был проделан г-жей Кондаковой, школа которой просуществовала всего один год (отчет о ней см. тоже в «Свободном Воспитании»).
Как стояли вопросы духовного воспитания в системе идей свободного воспитания?
Здесь очень существенно упомянуть о тех взглядах Толстого, которые высказывались им в последние годы. Если в период яснополянских экспериментов Л. Толстой стоял за принцип всецелой, безграничной свободы, то после происшедшего у него духовного перелома вопросы морального и религиозного порядка стали настолько определяющими во всем его миросозерцании, что это не могло не отразиться и на педагогических его взглядах. Толстой выдвигает в качестве основы воспитания принцип служения Добру и самосовершенствование. Незадолго до смерти он высказался об этом на страницах «Свободного Воспитания»; там же были помещены выдержки из его сочинений и писем, касающиеся вопросов воспитания. Во всех этих отрывках Толстой определенно и горячо выступает в защиту религиозной педагогики, то есть в защиту религиозного ее обоснования и проникновения религиозных начал в постановку всего школьного и воспитательного дела. Последователи Толстого, конечно, шли за ним, но в группе сотрудников «Свободного Воспитания» было и другое направление, наиболее ярким представителем которого является все тот же Вентцель.
Основная мысль нового подхода к педагогическим вопросам у Толстого может быть выражена следующими словами: «В основу воспитания должно быть положено религиозное понимание жизни». «Задача воспитания, — замечает в одном месте Толстой, — в том, чтобы воспитывать детей применительно не к настоящему, а к будущему, возможно лучшему состоянию человеческого рода». Поэтому в воспитании особенно существенно развивать духовные силы ребенка, освобождая его от всего поверхностного, условного: «Все воспитание связано с внушением добра». Как видим, Толстой отступает от принципа абсолютной свободы и требует подчинения всего воспитательного дела высшим религиозным принципам. Тут же Толстой выражает одну из любимых своих мыслей: «Для того, чтобы воспитание было успешно, надо, чтобы воспитывающие люди, не переставая, воспитывали себя. Воспитание представляется сложным и трудным делом только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитывать своих детей или кого-либо другого, а если это понять, то упраздняется самый вопрос о воспитании и остается один вопрос жизни: как надо самому жить». Для «Свободного Воспитания» Толстой написал специальную статью «О воспитании» (Свободное Воспитание. 1909—1910. № 2), проводящую те же мысли и слова, подтверждающую его положение, что «разумное воспитание только и возможно при постановке в основе учения о религии и нравственности».
Религиозное обоснование педагогики совпадает у Толстого с мотивом целостной идеологии, с требованием приблизить школу к жизни так, чтобы движущими силами школы были не особые педагогические требования, а требования самой жизни. Мысль, что воспитывать других можно, лишь воспитывая себя, а воспитывать себя — значит искать для себя правды и воплощать ее в жизнь, эта мысль и образует принцип целостной педагогики, не знающей отделения педагогики от жизни.
Идеи Толстого развивал его последователь И. И. Горбунов-Посадов, а также С. Н. Дурылин, ставший впоследствии православным священником. В пользу религиозного направления в воспитании высказалась и часть приверженцев свободного воспитания, значительная же часть восставала против религиозного элемента в воспитании. «Под флагом современного, так называемого религиозного воспитания, — читаем мы у одного писателя по педагогическим вопросам (Е. Лозинский. Религиозное начало в жизни и воспитании. — Вестник Воспитания. 1907. № 7), — совершается мучительный и до глубины души возмущающий процесс деморализации ребенка». Борьба против религиозного воспитания, главным образом, определялась отвержением церковного религиозного воспитания. С особенной ясностью это видно у Вентцеля, который, в общем, не является противником религии, но защищает и в этой области абсолютную свободу ребенка. Его книга «Этика и педагогика творческой личности» (1912) развивает идею свободного религиозного творчества у детей. «Во имя развития творческих сил в ребенке, — пишет он, — мы должны употребить все свои усилия, чтобы подорвать в человечестве веру в абсолютную истину».
Вместо этого Вентцель (как в свое время Лессинг) выдвигает на первый план искание истины, которое стимулирует творчество и зовет каждую личность идти ее собственным путем в установлении идеала. «Цель нравственного воспитания, — замечает в одном месте Вентцель, — вовсе не во внушении добра, а в пробуждении у ребенка самостоятельной свободной воли, самобытного нравственного творчества, для которого наш идеал является только материалом, свободно и творчески перерабатываемым в более высокие формы». Важны еще следующие слова: «Мы должны остерегаться считать ребенка свободным только потому, что мы отказались от своей власти над ними. Это одно обстоятельство еще не делает ребенка свободным, потому что над ним продолжают тяготеть всякого рода цепи. Наша задача не в том, чтобы объявить ребенка свободным, а в том, чтобы помочь ему фактически и действительно стать свободным ребенком».
В этих словах Вентцель намечает очень важную и трудную задачу воспитания к свободе; из самой этой задачи вытекают такие особенности педагогического воздействия, которые никак не могут быть совмещены с системой всецелой свободы. Но Вентцель не останавливается на этом затруднении.
Вентцель подчеркивает, что его понимание свободного воспитания не связано с крайним индивидуализмом. Трудно, однако, истолковать этот взгляд иначе, как в тонах радикального индивидуализма: это особенно хорошо видно из тех мест, где Вентцель говорит о религиозном воспитании. «Религиозное воспитание, — пишет он, — должно быть свободно, оно не должно задаваться целью внедрять в детей ту или иную ортодоксальную религию, какой бы высокий тип она ни представляла; оно должно помочь ребенку создать творческим путем свою собственную религию. Только личная религия, творчески созданная самой индивидуальностью… может быть названа религией в истинном смысле слова». Вентцель, развивая это, конечно, абсурдное положение (ибо суть и функция религии только и может состоять в том, что она соединяет человека с тем, что выше его, — поэтому «творческое создание религии» есть абсурд), не побоялся договорить до конца свои мысли. Не удивительно поэтому, что в одной статье Вентцель признает за детьми право «выбирать себе ближайших воспитателей и отказываться и уходить от своих родителей, если они оказываются плохими воспитателями».
С. Т. Шацкий и его группа
Педагогическая деятельность Шацкого и группы лиц, примыкающих к нему, может быть условно разделена на два периода — до 1917 г. и после него. По существу особого различия оба периода эти не представляют, но после революции Шацкий стал очень близок к кругам, стоящим у власти, а в 1924 г. он даже зачислился в коммунистическую партию — и нельзя сомневаться, что он сделал это искренно и сознательно. Это как раз и отделяет один период педагогической деятельности Шацкого от другого, ибо второй период целиком принадлежит к «советской» педагогике. В настоящем месте мы имеем в виду коснуться обоих периодов деятельности Шацкого, поскольку это нужно, чтобы охарактеризовать его общие взгляды, о чем речь будет идти ниже при изложении советской педагогики.
Вместе с Шацким мы соединяем небольшую группу лиц, хотя и не сливающуюся с ним во всех его педагогических исканиях, но все же очень тесно примыкающую к нему. Я имею в виду А. И. Зеленко, его жену А. М. Зеленко, Л. И. Шлегер и других.
В журнале «Народный Учитель» (1928, № 12) Шацкий сам рассказывал о своем педагогическом пути, и мы будем следовать в нашем изложении этой автобиографии.
В 1905 г. в Москве возникло общество «Сетлемент», имевшее своей целью развитие детских колоний и клубов по типу американских. Горячим и даровитым защитником этой работы был Зеленко, инженер по образованию, но ставший педагогом по призванию. Шацкий в том же 1905 г. открыл недалеко от Москвы трудовую колонию, в которой оформились впервые его педагогические взгляды; во всяком случае, свою основную идею Шацкий намечает уже в то время, — а именно: задача педагогики заключается в том, чтобы помочь детям найти самих себя, помочь детям в их жизни.
По самому типу работы, по материалу, с которым он имел дело, Шацкий стоял вне школы, но зато он имел возможность реально почувствовать огромные педагогические возможности, заложенные в том типе работы, которую он вел. На следующий год, благодаря одной щедрой благотворительнице, Шацкий получил возможность организовать настоящую детскую общину. В книге «Бодрая жизнь» описаны эти опыты Шацкого с чрезвычайной яркостью и подкупающим энтузиазмом. Не будучи педагогом по образованию, Шацкий, однако, увлекся своей работой и как раз именно идеей трудовой детской общины. Социально-педагогические перспективы, перед ним открывавшиеся, удачные результаты работы, сказавшиеся на детях, обратили на Шацкого общее внимание — и с тех пор русские педагоги всюду с большим вниманием и интересом следят за всем, что делается Шацким.
Его несомненный педагогический талант, новые пути воспитания вызвали общий интерес к нему, хотя не малая часть педагогов отнеслась очень скептически к его начинаниям. В 1908 г. деятельность Шацкого, подпавшего под подозрение политической полиции, была приостановлена, и его незаурядная педагогическая энергия обратилась на литературную, чисто теоретическую разработку интересовавшей его идеи. Лишь после революции Шацкий снова получил возможность интенсивной практической работы.
Основная идея Шацкого в этот период его деятельности связана с воспитанием личности, с раскрытием творческой индивидуальности; вопросы школы в этот период почти совсем его не интересуют. В этом следует видеть ключ к педагогическим воззрениям Шацкого: он не знает школы как таковой, часто судит о ней по воспоминаниям своего детства.
Стоя вне школы и совершенно не интересуясь теми условными и специальными задачами, которыми живет школа, Шацкий все время старался понять свое вмешательство как педагога в жизнь детей с точки зрения интересов их созревания.
Полная независимость в постановке педагогических вопросов от традиций, от требований государства и современной жизни, сосредоточение на имманентной логике созревания личности роднит Шацкого со всей группой «Свободного Воспитания». Но педагогическое своеобразие Шацкого — не только в уяснении служебной (в отношении к жизни личности) роли воспитания; он очень рано вынес из своего опыта убеждение, что совершенно недопустимым является стремление взрослых навязывать детям тип и формы той жизни, какой живут сами взрослые. Дети живут своей собственной жизнью, и если мы в воспитании стремимся приучить детей к нашей жизни, то мы не только занимаемся лишней и ненужной задачей, не только мешаем детям в том, что реально их наполняет, но, главное, мы не помогаем им там именно, где они нуждаются в нашей помощи. Наше педагогическое вмешательство может иметь лишь одно оправдание, один смысл, — если мы помогаем детям в их жизни, помогаем им быстрее и лучше усвоить то, что им нужно.
Превращение воспитания в служебную функцию детской жизни — такова основная линия, по которой все время движется педагогическая мысль Шацкого. По существу Шацкий больше интересуется социальной, чем педагогической работой — преобразованием жизни, а не помощью детям в раскрытии и формировании их личности. Начав с чисто индивидуалистического обращения к ребенку, Шацкий постепенно переходит к темам социального, а не педагогического характера: задача школы, по Шацкому, может быть формулирована так, что школа должна помочь детям в их детской жизни, ускоряя процесс нахождения детьми тех подходящих форм социальной жизни и личного творчества, которые им нужны. «Школа должна стать центром, организующим детскую жизнь», — читаем в одном месте у Шацкого.
«Разрешение детского вопроса, — читаем мы тут же, — не в том, чтобы все дети были грамотны, а в том, чтобы они умели жить». «Школа должна перестать быть учебным заведением и должна стать детским центром». В преодолении идеи школы как «учебного заведения», заключается главный пафос Шацкого в оба периода его деятельности. Он категорически отвергает ту школьную систему, которая совершенно не интересуется окружающей средой, живет своей собственной жизнью. В оторванности от жизни, в мнимом самодовлении самой себе такой школы дано бесповоротное ее осуждение.
«За столетие педагогической работы мы изобрели много средств, — ядовито пишет Шацкий, — отвлечения ребенка от того, что ему действительно нужно». В отвлеченности, нежизненности школы дана самая глубокая ее критика. Но не удовлетворяет Шацкого и та школьная система, которая интересуется окружающей средой, но имеет в виду все те же свои особые школьные задачи: изучение среды здесь является лишь методически удачным и плодотворным приемом, здесь сохраняется убеждение, что школа является единственным местом воспитания и образования детей, то есть взгляд на школу как на «учебное заведение», остается в силе.
Для Шацкого важно, чтобы школа изменила именно эту исходную свою точку зрения: не среда для школы, а школа для среды; школа должна работать в окружающей среде, «должна войти в нее как фактор реорганизации самой жизни». «Организуя детскую среду, школа должна явиться крупным фактором, влияющим на общественную жизнь». «Школа должна стать частью жизни, делающей свое дело в области культуры детского быта каждый момент, каждый час, когда она работает».
В 1924 г. Шацкий вступил в состав коммунистической партии. Многие, кто знал и ценил Шацкого за его педагогический талант, были горестно удивлены этим, хотя никто не усомнился в том, что он совершил этот шаг свободно, по внутренним мотивам. Мы видели, что и раньше искания Шацкого были больше устремлены в сторону социальную, чем педагогическую, а после революции для Шацкого, как он сам пишет в своей автобиографии (Народный Учитель. 1928. № 12), стал необходим «переход от общих смутных (!) целей воспитания к отчетливым, ясным целям, поставленным в жизненную очередь пролетарской революцией». «Прежняя формула, что трудовая школа есть осуществленная организация детской жизни, оказалась теперь неудовлетворительной». «Роль школы, — думает теперь Шацкий, — это роль организатора массового педагогического процесса… Надо работать над такой педагогической системой, которая явилась бы нужной, жизненной для широких масс трудящихся… Я не сомневаюсь, что эта педагогическая система будет одной из наиболее ценных систем. Она явится одним из сильнейших орудий в руках пролетариата в деле создания нового коммунистического общества…»
Школа, как видим, должна служить орудием для преображения общества: социальный утопизм здесь переходит в педагогический. Это, конечно, последовательно и логично…
Педагогическая мысль после революции 1917 г.
Водворение советской власти в России и создавшийся в ней режим лишил русскую мысль всякой свободы, привел к изгнанию и уходу из России значительной части интеллигенции, в самой России всюду выдвинул на первое место лишь тех, кто партийно или идеологически примыкал к коммунистической партии.
Для русской школы, для русской педагогики наступил тяжелый момент — хотя официальное педагогическое творчество приняло, как и в других областях культуры, необыкновенные размеры. Правящие круги стремились сделать школу проводником советской политики, связали с ней свою идеологию, свою антирелигиозную кампанию, начато ими объединение коммунистической молодежи (так называемый комсомол).
Одновременно была провозглашена к обязательному исполнению доктрина трудовой школы, хотя реальных условий для приложения к школе принципов трудового воспитания не было налицо. На старых педагогов был объявлен поход, учащиеся и особенно среди них члены комсомола получили право решающего влияния на школьную жизнь, элементы всякой дисциплины были отвергнуты, а позже появилось требование к учителям о сдаче экзаменов по политической грамоте. Недоверие к учителям как носителям «буржуазной идеологии» диктовало самые невероятные требования к ним, материальное положение школ и учителей достигло крайнего оскудения.
Русское учительство в массе не дрогнуло, осталось на своих постах, чтобы служить молодому поколению, несмотря на невыносимые порой условия, в которые оно было поставлено. Официально и официозно учительству не раз было выражено недоверие, но при невозможности заменить его кем-либо приходилось мириться с ним. Между тем развал в русской школе в течение 1919—1921 гг. достиг таких острых, небывалых форм, что в Центральном управлении по делам просвещения (Наркомпрос) должны были приступить к регуляции школьного дела.
История реформы русской школы 1923 г. (а также реформы 1928 г. и, наконец, 1931 г.), эволюция учебных планов, обязательных методических новшеств необыкновенно поучительна и вне России, — но здесь не место излагать эту историю. Надо, однако, заметить, что для «знатных иностранцев» — всюду в крупных центрах были устроены образцовые школы, находящиеся в прекрасных материальных условиях, с подбором лучших педагогических сил, с простором для педагогической инициативы.
Конечно, только те, кто, приезжая в Советскую Россию, не знает русского языка и находится под контролем специальных советских чичероне, могут дать ввести себя в обман, по существу же, пользуясь материалами только советской общей и специальной прессы, можно категорически утверждать, что внутренне и внешне никогда русская школа не была в таком бедственном положении, как теперь.
И все же, несмотря на все тяжести гнета, обрушившегося на русскую школу, за годы советской власти педагогическое творчество не затихло. В сфере педагогического творчества революция принесла простор и свободу — но лишь для той группы, которая была связана с властью и определяла курс педагогической политики; в этой части существует несомненная и органическая преемственность между дореволюционной и революционной педагогикой.
Вокруг главных вождей довольно скоро сформировалась группа молодых педагогов, — и так создалось большое и своеобразное течение советской педагогики. Очень часто оно просто повторяет идеи, которые раньше выражались на страницах дореволюционных изданий, — в особенности, журнала «Свободное Воспитание», но основной акцент подчинения школы целям коммунистического строительства резко отличает новую эпоху от предыдущей.
На первый план выступили лишь те, кто входил в коммунистическую партию или примыкал к ней. Осталась, правда, небольшая группа беспартийных педагогов, стоявшая на принципе сотрудничества с правящими кругами во имя интересов русского просвещения, но значительная часть должна была умолкнуть, лишь изредка выступая с тем или иным печатным материалом. В русской эмиграции при общих тяжелых условиях ее существования, не заглохла все же педагогическая мысль, существовал долго журнал «Русская школа за рубежом», организованный в 1923 г.
Педагогическое бюро по делам русской школы созвало за это время пять педагогических съездов. Как теоретические направления в эмиграции проявили себя два направления: идеалистическое, представленное С. И. Гесссеном, и религиозное, представленное автором настоящего этюда. О построениях этих двух течений тоже скажем несколько слов.
Обратимся к изучению советской педагогики
Обзор огромной литературы, вышедшей за 10 лет, очень труден; некоторую помощь может оказать работа одного из виднейших представителей советской педагогики А. П. Пинкевича «Советская педагогика за 10 лет: 1917—1927 гг.» (2-е изд. 1927 г.). По признанию автора этой брошюры, «изучение советской теории педагогического процесса еще только начинается…» Пока «существуют лишь элементы целостной системы советско-марксистской и коммунистической педагогики». Вопреки этому мнению, мы думаем, что «система» советской педагогики уже ясно выражена, что теоретические ее основания тоже достаточно намечены. Не будем поэтому преждевременно дать оценку тех претенциозных построений, которыми заполнена советская педагогика. При изложении ее мы не будем отдельно следить за эволюцией взглядов отдельных авторов (например, Крупской, Блонского, Шацкого и др.), но попытаемся, насколько это возможно, дать более законченное и целостное раскрытие советской педагогики.
Первой общей чертой советской педагогики надо признать ее чрезвычайную жадность ко всем «последним словам», какие слышатся в науках, связанных с педагогикой. Рефлексология и бихевиоризм получили в советской педагогике такое пышное применение, пользовались долгое время таким успехом, который сразу необъясним, — особенно из предыдущей эпохи русской психологии, сравнительно с которой надо говорить теперь о настоящем декадансе. Dalton plan, Projet method тоже с необычайной быстротой получили признание в советской педагогике.
Конечно, из новейшей науки избирается лишь то, что в какой-нибудь степени соответствует общим принципам советской философии (то есть диалектическому материализму). Но самая поспешность усвоения и пропагандирования таких идей есть, несомненно, и нечто большее, есть желание представить советскую философему, как наиболее отвечающую строгой науке.
Советские философы и педагоги верят страстно в коммунизм, живут им и не допускают ни малейшей критики; идея коммунистической реорганизации общества есть абсолютная истина для них, о которой непозволительно даже вопрошать. С наивным и грубым фанатизмом они устраняют вопросы, слепо веря в свою истину и лишь ища ее всецелого раскрытия, — это схоласты (в дурном смысле этого слова). Советская педагогика, конечно, есть для них ancilla коммунистической теологии, и в этой своеобразной религиозной установке их творчества лежит объяснение многих черт советской педагогики.
Но, будучи психологически системой «теологии», советская философия боится осознать религиозный характер своих утверждений, ибо исторически коммунизм связан с борьбой против всяких абсолютных начал. Отсюда эта глубокая потребность искать в науке поддержку и обоснование, хотя, по существу, советская философия мыслит себя сверхнаучной. Освободиться от классовых предрассудков можно, по мнению советских мыслителей, лишь связав себя с сверхклассовой коммунистической идеологией.
Все эти черты проникают в самый замысел советской педагогики и придают ей «миросозерцательный» характер. Я не знаю, как можно иначе выразить ту черту советской педагогики, в силу которой она связывает очень последовательно и настойчиво свои педагогические построения со всем своим мировоззрением. Мотив целостности переходит в советской педагогике границы чисто формального или даже идейного согласования — он изнутри выступает как мотив религиозной целостности, как требование не только философского единства, но и жизненной творческой целостности. Это надо иметь в виду, чтобы понимать отдельные утверждения советской педагогики: их нельзя принимать или критиковать вне всей советской философемы, ибо они стремятся быть органическими частями ее.
Но во имя мотива целостности педагогика здесь не только отказывается от своей идейной автономии, но она, по существу, становится чисто технической и прикладной дисциплиной — чрезвычайно важной практически, но совершенно бедной теоретически.
Этот мотив техничности педагогического дела ни в малейшей степени не может быть сближаем с учением о художественной природе педагогики: если педагогика есть искусство, она должна знать вдохновение — и, конечно, свободное вдохновение, ибо иным оно не может быть. Но в советской педагогике ясно чувствуется момент цензуры, строго следящей за тем, чтобы педагогика развивалась в пределах, указанных основными идеями коммунизма.
В этой своеобразной религиозной системе боятся свободы именно потому, что боятся за систему, а потому и педагогика лишается права свободного исследования, права на хотя бы относительную автономию. Возможность быть заподозренным хотя бы в остатках буржуазного сознания создает внутренюю несвободу.
Второй типической чертой советской педагогики является ее утопизм — как это ярко сказывается в учении о целях школы. В программе коммунистической партии мы читаем: «Школа должна стать орудием коммунистического перерождения общества, должна стать проводником идейного, организационного, воспитательного влияния пролетариата на полупролетарские и непролетарские слои трудящихся масс в целях воспитания поколения, способного окончательно установить коммунизм», «должна готовить всесторонне развитых членов коммунистического общества».
Эта официальная программа определяет все направление советской педагогики, отдающей себя на то, чтобы послужить задаче «окончательного» установления коммунизма. Говорится все это, конечно, серьезно и решительно, идеал коммунистического общества объявляется если не близким к осуществлению, то, во всяком случае, могущим быть осуществимым при героическом напряжении всех сил. Школа должна служить преобразованию жизни — такова утопическая установка эта.
Забывается то, что в ином месте утверждается со всей силой, а именно забывается зависимость школы, как и всех форм жизни, от объективных общественных условий. В современном обществе — возможно ли подготовлять «членов коммунистического общества»? Ведь коммунизм есть идеал и мечта для самих коммунистов, — с другой стороны, уйти от влияния среды, согласно другим принципам советской психологии, совершенно невозможно. Пинкевич пишет в одном месте: «…наша педагогика — педагогика материалистическая… ибо она придает решающее значение воспитывающей и образовывающей среде». Но именно при таком понимании педагогики невозможно воспитать «члена коммунистического общества», когда нет налицо этого коммунистического общества.
Таковы типические блуждания всякого утопизма — и понятно, что при дальнейшем развитии педагогики неожиданно выдвигается идея «педагогики переходной эпохи», а целью педагогического процесса становится уже не воспитание «членов коммунистического общества», а воспитание поколения, способного вести борьбу за осуществление коммунизма, то есть грандиозный замысел обращения всего молодого поколения в коммунистическую веру, а всякая забота о детях как таковых заподозривается в «классовой установке».
Прежняя психология детства, учившая о ребенке «вообще», отвергается как раз за то, что она, мол, не сознавала, что нет детей «вообще», а есть дети своей эпохи, своего класса.
С одной стороны, принадлежность к классу настолько фундаментальна, что она заслоняет все, с другой стороны, она оказывается такой незначительной, что с ней можно не считаться и готовить к борьбе за сверхклассовую коммунистическую мечту.
Противоречия в теоретической области у советских педагогов вытекают из того, что, будучи формой утопизма, она вместе со всей системой экономического материализма не хочет сознать принципиальной идеалистичности своей установки и ищет своего обоснования в системе натуралистической философии.
Проследим дальше работу педагогической мысли у наших авторов. Основная педагогическая идея школы в Советской России есть идея трудовой школы. Сам по себе принцип трудовой школы выдвигался в русской педагогике еще в XIX веке у Кривенко (в книге «Физический труд как необходимый элемент в образовании»), у Ушинского, у Л. Толстого. В XX веке в дореволюционные годы идея трудовой школы получила чрезвычайно широкое распространение — особенно много внимания, как уже было отмечено выше, посвятил идее трудовой школы журнал «Свободное Воспитание». Другие педагогические журналы отводили постоянно много места как переводным, так и оригинальным статьям о трудовой школе. Но во время советской власти в России идея трудовой школы стала официальным и обязательным лозунгом. Мы не будем говорить о том, что практически вышло из этого, — наша задача отметить лишь теоретические взгляды по вопросу о трудовой школе.
Первоначально две идеи, принадлежащие разным педагогам (Крупской и Блонскому), определяли теоретические планы в построении трудовой школы: принцип политехничности и идея индустриализации школы, связи школы с производством.
Принцип политехничности требует «всестороннего изучения трудовой деятельности» — этим имеется в виду ослабить момент специализации и профессионализации в школе. Крупская больше других писала именно об «общеобразовательном» значении политехнического трудового воспитания. Блонский первый выдвинул другую идею — непосредственного связывания школы с производством.
«Трудовая школа, — читаем мы в одной его книге, — есть орудие выработки нового человека и новой культуры, культуры пролетариата, основанной непосредственно на условиях общественного труда». «Не труд сам в себе, — пишет Пистрак, — труд абстрактный, заключающий как будто в своей бессоциальной сущности воспитывающие элементы, является основой для трудового воспитания. Труд, затрата мозговой и мускульной энергии, имеет ничтожное значение при наших целях воспитания. Мы не отрицаем некоторого значения принципа моторности в обучении, но это лишь маленькая частичка более общего вопроса о коммунистическом трудовом воспитании. Нет, основа коммунистического воспитания есть труд, взятый в общей перспективе нашей современности, социально освещенный труд, на котором с железной необходимостью вырастает определенное понимание современности».
Ряд книг заняты вопросом участия школы в окружающей среде, жизни, о непосредственном контакте школы и жизни. Один из авторов (Пистрак) в докладе, прочитанном в Лейпциге на педагогическом съезде «Школа и общество» (см.: «Народный учитель». 1928. № 5—7), договаривается до таких положений: «Все «живые» школы, если они не вырождаются и не подчиняются требованиям государства, логикой вещей эволюционируют от педагогических проблем к социальным и начинают понимать, что подлинное педагогическое реформаторство теснейшим образом связано с необходимостью коренной, социальной перестройки общественных отношений».
Основной грех лучших из таких школ, читаем тут же, в том, что они идеалистически мечтают о преобразовании общественных нравов при помощи педагогического и культурного воздействия на ребят. Но лозунг, что надо исходить от ребенка, затушевывает сущность социальных противоречий и подменяет широкую классовую борьбу мелким и бесперспективным реформированием и исправлением человеческих душ без коренной перестройки материального базиса. Два пути лежат перед такими попытками: либо вырождение, либо переход на сторону революции. Выход из положения, в основном, один: социальная борьба вместо реформирования».
Нет ничего удивительного, что некоторые советские педагоги, (больше всего Шульгин) пришли к своеобразной теории «отмирания школы», ненужности ее в будущем. Эта теория была объявлена в последнее время «левым уклоном», была сурово осуждена партией (см. об этом интереснейшую «покаянную» статью сотрудницы Шульгина — Крупениной в журнале «На путях к новой школе» за 1931 г.), но она внутренне связана с идеями советской педагогики, с ее логикой. Идея целостной школы, связывая себя с принципами коллективизма, уходя от проблемы личности (всякая остановка на этой проблеме рассматривается как возврат к буржуазным началам), естественно заканчивается самоупразднением школы.
Чтобы закончить знакомство наше с тенденциями и построениями советской педагогики, скажем еще о нескольких характерных отдельных чертах ее.
«Дальтоновский план», получивши большое распространение и признание в советской педагогике, постепенно вызывал реакцию как «способствующий развитию индивидуалистического уклона у детей». Большим успехом по своему внутреннему сродству с принципами трудовой школы получил так называемый метод проектов, возникший впервые в Америке, а также комплексный метод.
Из других интересных особенностей советской педагогики необходимо отметить, что здесь придается огромное значение физическому воспитанию, которое чрезвычайно развилось и окрепло в советской школе. В связи с развитием физического воспитания стоит милитаризация советской школы, о чем пишут и что проводят все вожди советской педагогики (начиная с Крупской).
В советской России закрыта возможность печатать труды для тех педагогов, которые не сливаются с советским направлением в педагогике. Немногие исключения лишь резче оттеняют; факт, — но с тем большим вниманием необходимо отметить течения в русской педагогической мысли послереволюционной эпохи.
Они преимущественно связаны с педагогами, пребывающими в эмиграции, но среди эмиграции оказалось очень мало лиц, работающих по вопросам теоретической педагогики.
Мы можем отметить, как уже было указано, лишь два направления:
1)идеалистическое и 2) религиозное.
Из пишущих доныне в советской России педагогов первого направления мы можем отметить только одного — проф. М. М. Рубинштейна. Принадлежа к направлению новейшего философского идеализма, без более точной и ясной определенности мировоззрения (насколько можно судить по известным нам работам), Рубинштейн еще до революции выдвинулся как педагог своей книгой «Педагогическая психология в связи с общей педагогикой». Это одна из лучших русских книг по общей педагогике, отличающаяся свежестью материала, ясностью изложения и принципиальным ориентированием педагогики на философии ценностей. В целом ряде работ дореволюционного и послереволюционного периода («Об эстетическом воспитании», «Общественное или семейное воспитание», «Психология учителя» и др.), в новых изданиях своей «Педагогической психологии» (последнее издание вышло в 1928 г. в Москве) Рубинштейн остается верен принципам педагогического идеализма. Для теоретической педагогики его различные утверждения не имеют, однако, очень большой ценности в силу того, что Рубинштейн слишком обще и неопределенно высказывается всюду, не развивая общих идей.
Гораздо большую ценность представляют собой работы проф. С. И. Гессена, пребывающего в эмиграции. Среди ряда его работ принципиальное значение принадлежит его большому и основательному труду «Основы педагогики», в котором принципы педагогического идеализма формулируются с большой четкостью и определенностью. По своему философскому направлению Гессен связан с Риккертом, в духе идей которого написана первая философская работа Гессена, обратившая на себя всеобщее внимание и действительно представляющая из себя большую ценность.
Работа эта «Die individuelle Kausalitat» была напечатана лишь по-немецки и никогда не появлялась на русском языке.
В духе этих же идей трансцендентализма, обогащенного так называемым диалектическим («гетерологическим») методом были написаны его «Основы педагогики», представляющие опыт прикладной философии; затем Гессен написал ряд интересных, а порой и замечательных философских этюдов, а также ряд ценных статей, посвященных проблемам правового социализма. Позднейшее философское творчество Гессена обнаружило большую широту и гибкость, способность к широкому синтезу, но тем самым и затуманило первоначальную точность его трансцендентализма. Насколько можно судить по работам Гессена, для него философски характерным является его гетерологический метод, а не отдельные его построения.
Система педагогики Гессена связана со следующими основными идеями.
1. Ступени воспитательного воздействия должны опираться на ступени духовного созревания ребенка. Основным духовным процессом для Гессена является только моральное созревание, вне которого в духовной жизни нет тем воспитания. Это типично кантианская точка зрения формулируется затем в схеме, которую Гессен берет у Наторпа и которую он не хочет даже проверить в конкретной психологии морального развития ребенка.
Ступени морального созревания у детей таковы, по Гессену, аномия, гетерономия, автономия. В соответствии с этими тремя ступенями духовного созревания и должна быть раскрыта логика педагогического процесса. Задача теоретической педагогики, по Гессену, в том и заключается, чтобы показать и философски дедуцировать совпадения имманентной логики педагогического процесса и эмпирических ступеней в моральном созревании детей.
2. С помощью гетерологического метода Гессен вскрывает, как в каждой ступени воспитательного процесса вбирается ценное содержание предыдущей стадии и «просвечивает», по любимому выражению Гессена, следующая стадия. В анализе этих взаимных связанностей, в разыскании логической подготовки синтеза Гессен проявляет большое философское мастерство.
3. Совершенно понятно, что центральным педагогическим понятием у Гессена является не воспитание, а образование, но не в смысле чисто интеллектуального развития, а в смысле немецкого Bildung. Оформление внутреннего материала, образующая и, если угодно, воспитательная его сила связана именно с тем, что личность ребенка раскрывается правильно, лишь формируя себя в соответствии с законами моральной сферы.
Из этих предпосылок и вытекает вся система педагогики у Геcсена. Она связана с великой идеей личности как носителя духовной жизни — и все, что может сделать школа, и заключается в том, чтобы помочь личности углубить и осознать внутренний (диалектический) закон, которому она подчинена в своем созревании.
В отдельных частях своей педагогики, написанной порой с большим мастерством и очень удачно, хотя порой и слишком схематично (в ущерб реальному многообразию педагогической мысли), располагающей современную педагогическую мысль по ступеням ее диалектического движения, Гессен высказывает много ценных педагогических идей.
Отметим некоторые особенно существенные и ценные части его работы: борьбу с руссоизмом (толстовством), уяснение и раскрытие идеи наказания, разбор принципов дошкольного воспитания (Фребель и Монтессори), начала критической дидактики и т. д. В заключение хотелось бы нам сказать об отношении проф. Гессена к идее целостной школы.
По синтетическому замыслу всей своей педагогики Гессен, конечно, разделяет идею целостной школы, но он мыслит ее все же в соответствии с идеей гетерологии. Миновать диалектику в отношении школы и жизни в развитии социального и индивидуального сознания ему невозможно, и это освобождает Гессена от существеннейших проблем целостной школы, над которыми мучается современная педагогическая мысль. Гессен, к сожалению, слишком поглощен вопросами формальной логики, формальной диалектики школьной жизни и дела; интересы философской gоследовательности в последнем счете удаляют Гессена от тем конкретной педагогики, которыми он интересуется лишь для иллюстрации своих основных философских идей.
Педагогический идеализм Гессена очень высокого качества как идеализм, но он беден именно в своей обращенности к педагогике, что типично для Гессена, а может быть, типично для педагогического идеализма вообще в наше время. Проблемы целостной школы не могут быть поставлены и поняты вне той миросозерцательной борьбы, которая идет ныне. При всех своих уродствах советская педагогика ближе подходит к этим темам, чем педагогический идеализм, не могущий выйти за пределы той проблематики, которая связана с формой педагогического процесса. Религиозное же направление педагогики, к которому мы теперь переходим, по существу, ближе к постановке проблем в советской педагогике, чем у Гессена.
Мы знакомы уже с тем направлением религиозной педагогики, которое было связано с Толстым и его религиозной системой.
Религиозное толстовство не было, однако, сильным и ярким течением, сплошь и рядом переходило в сектантство и вообще толстовство в педагогике должно быть определено как отвлеченный, морализм с религиозным обоснованием. Творческое ядро толстовства, действительно заключено в служении отвлеченному Добру, во имя которого и личность и культура должны быть приносимы в жертву.
В своем этюде об учении о бессмертии у Толстого я показал, что религиозный морализм Толстого имеет имперсоналистический характер — именно отсюда следует объяснять религиозное увядание в толстовстве.
Среди представителей православной церковной педагогики, занимавших, например, кафедры педагогики в Духовных Академиях, нельзя назвать в XX веке ни одного значительного имени.
Идеи Ушинского и Рачинского стали оживать уже после революции, когда вообще была отчетливо и ясно поставлена проблема православной культуры (см. изданный мною сборник «Православие и культура». Берлин, 1922).
Общий религиозный перелом, давно подготовлявшийся в русской философии и литературе (Гоголь, Достоевский, Л. Толстой и Вл. Соловьев), нашедший яркое свое выражение незадолго до революции в возникновении ряда религиозно-философских обществ (Петербург, Москва, Киев), завершился в годы революции глубоким и плодотворным религиозным возрождением в России, которое тем замечательнее, чем более мучительны были внешние условия в русской жизни.
Совершенно естественно, что литературное свое выражение это нашло лишь в эмиграции: возникновение православного Богословского Института создало возможность развития русской богословской науки вне России. Что касается религиозной педагогики, то на долю автора настоящей статьи выпала честь быть ее представителем в Богословском Институте (Париж) и руководить специальным Религиозно-Педагогическим Кабинетом при Богословском Институте, возникшим в 1927 г. Так называемое Русское Студенческое Христианское Движение, православное и церковное по существу, с 1926 г. развило очень значительную религиозно-педагогическую работу и в настоящем уже с полным правом можно говорить о религиозно-педагогическом течении, проявившем себя теоретически и практически.
Кроме автора настоящего этюда с этим течением связаны пррт. С. Четвериков, Л. А. Зандер, И. А. Лаговский, А С. Четверикова, о. Н. Афанасьев, С. С. Шидловская-Куломзина и др. Библиографические сведения даны ниже.
Основные идеи всего этого направления могут быть выражены в следующих положениях:
1. Современная педагогическая мысль, находясь под глубоким влиянием общей тенденции секуляризации, страдает натурализмом. Преодоление педагогического натурализма, то есть признание, что тайна роста человека не может быть понята per se, что в нем и на нем сказывается постоянно действие наднатуральных сил добра и зла, является необходимой теоретической предпосылкой педагогического процесса.
Неверно учение Канта о «радикальном зле» человеческой природы, забывающее об образе Божием в человеке, но и неверен тот натуралистический оптимизм, который имеет начало у Руссо. Учение о детской душе должно совместить оба учения, соподчиненные в учении об образе Божием и в учении о греховности, вошедшей в человеческое существо и подлежащей устранению через раскрытие и укрепление духовных сил человека, что возможно лишь в Церкви и через Церковь. В соответствии с этим цель педагогического воздействия может быть понята как раскрытие образа Божия в детях через подготовку их к жизни в этом мире и к жизни вечной.
2. Основным процессом в жизни человека надо признать не физическую и не психическую сторону в нем, а духовную, которая глубже разделения физического и психического мира и которая носит залог целостности. Изучение различных душевных явлений показывает, что духовный процесс заключает в себе ключ к пониманию всего, что происходит в человеке.
Духовное развитие в ребенке подчинено определенному ритму, в связи с различными возрастами и переменами, и задача воспитательного воздействия меняется в связи с этим. Уяснение духовной жизни в ее ритме должно быть положено в основу педагогики; однако не моральный, а религиозный духовный процесс возрастания образуют истинную и последнюю тему воспитательного воздействия на детей.
3. Школа должна ставить своей целью идти на помощь детям в том, в чем они сами беспомощны. Не образование интеллекта иерархически стоит здесь на первом месте, но содействие духовному росту, в котором дан ключ к общему здоровью души. Необходимо, чтобы в школе раскрывались и укреплялись религиозные силы души, что возможно лишь при правильном подходе к дуализму мира и Церкви и к путям их преодоления через историю. Это ставит вопрос о целостной школе, которая не должна быть самодовлеющей, должна быть функцией жизни и уберегать детей от риторики, от превращения великих тем жизни в темы научного и эстетического или морализующего отношения.
Путь целостной школы должен быть свободным от утопизма, школа не может быть путем к преображению жизни, какой путь дан лишь в Церкви. Поэтому школа может правильно делать свое дело, лишь, если она сама является церковной школой, живущей в Церкви.
Это не означает ни административного подчинения школы Церкви, ни доминирования религиозных предметов в школе, но означает внутреннее проникновение духа Церкви в темы, в строй, в отношения в школе, чтобы не впасть в опасность внутренней секуляризации. Но тогда исчезает опасность утопизма, и вместе с тем становится необходимым, чтобы школы были бы и внутренне, органически связаны с общинами, ищущими не в одной школе, но во всей системе жизни осуществления православной культуры. Освящение всей жизни в духе Церкви, раскрытие целостности христианской жизни во всех формах культуры и творчества должно переходить в школу и развивать в детях ту духовную установку, при которой они сознавали бы себя призванными к борьбе за христианство.
Школа должна вместе с семьей вести детей к тому, чтобы овладеть тайной свободы, чтобы свободно и внутренне искать преображения натурального порядка в благодатном освящении жизни Церковью. Искусство и спорт, семья и социальная жизнь — все должно быть вовлечено в этот процесс победы благодатного начала над натуральным. Поэтому тема религиозного воспитания есть основная тема педагогики, все остальное — развитие интеллекта, накопление знаний, усвоение технических и социальных навыков, развитие характера — является лишь частью этой общей и основной педагогической задачи. К свободе надо идти через свободу, но это совершенно далеко от сентиментального импрессионизма, от покорности «естеству», — наоборот, для свободы необходимо введение в систему воспитания аскетических начал. Следить за ростом и ритмом внутренней жизни в детях, видеть во всем внешнем воспитательном и образовательном материале лишь средства раскрытия и укрепления духовных сил в ребенке — таков путь школы.
Заключение
Мы просмотрели развитие педагогической мысли в России почти за 30 лет — и можем без преувеличения сказать, что в ней выступают все основные темы и искания великих русских педагогов XIX века. Русская революция — событие не только огромного исторического, но и духовного порядка — обнажила и заострила основные проблемы нашего времени — и педагогическая мысль русская сознает себя стоящей не перед частными проблемами школы, а перед основной и первостепенной проблемой истории и культуры.
Связывание педагогических проблем с темами современности и есть та плодотворная сила, которая определяет собой творческое настроение педагогической мысли. Мы стоим ныне всюду, а в России в особенности, перед грандиозной борьбой религиозной и антирелигиозной культуры. Время «нейтральной» культуры ушло — ас этим обнажились и те последние задачи, в уяснении и осуществлении которых через воспитание заключается задача педагогической мысли и практики.
Проблемы педагогики не могут быть до конца поняты «автономно», они должны быть связаны с общими вопросами нашего времени. Идея связывания школы и жизни, раскрытие в теории и живом творчестве пути целостной школы и есть задача нашего времени. Русская педагогическая мысль переживает в самой острой форме борьбу религиозных сил, но есть все основания говорить о том, что эта борьба кончится капитуляцией антирелигиозных сил, сознающих свое бессилие и бесплодность. Но лишь реальная победа над ними, освобождение России, наступление новой органической эпохи даст возможность идейной и жизненной реализации начал, которые развивают религиозное направление в педагогике.
Русская педагогика стоит пока на пороге этого грядущего торжества духовных сил над антирелигиозными, но в ее построениях уже намечены основные предпосылки для того понимания школы, для того ее построения, которое, вобрав в себя итоги исканий русских педагогов, найдет вечные и прочные основы воспитания в единении с Церковью Христовой.
На пороге зрелости. Беседы с юношеством о вопросах пола
© Издательство «Воскресение», Москва, 1991.
Предисловие ко второму изданию
Выпуская в свет второе издание моей брошюры, я слегка изменил ее заглавие. Вместо прежнего заглавия:"Беседы с юношеством о вопросах пола", я поставил иное:"На пороге зрелости". Но не только заглавие претерпело изменение, но и само содержание книжки совершенно переработано, почти целиком наново написано.
Книжка моя обращена к тем, кто работает с подростками и ранним юным возрастом; ее задача дать им материал, который необходим для бесед по столь трудному и ответственному вопросу, как темы пола. Не претендуя на то, чтобы объять эти темы во всей их полноте, я касаюсь только существенного в них. Задача книжки - наметить руководящие указания, опираясь на данные современного знания, а вместе с тем осветить затрагиваемые темы с христианской точки зрения.
Протоиерей Зеньковский Август 1953 г.
Введение
До последнего времени было принято обходить тему пола в беседах с молодежью, т. е. фактически предоставлять молодежи знакомиться с этой темой на основании случайных, часто двусмысленных источников. Между тем уже давно вопросы пола занимают выдающееся место в литературе, в газетах и журналах, в театре и кино. Рекламы и объявления (даже на посторонние темы) стремятся возбудить половое сознание, раздражают его - и от этого не укрыться. Без преувеличения можно сказать, что молодые поколения ныне более, чем когда бы то ни было, осуждены на то, чтобы быть втянутыми в ту нездоровую половую напряженность, которая характерна для нашего времени. Если верно, что пол всегда мучил людей, то ныне он мучит их с особой силой; во всяком случае, без конца беспокоит и давит. Именно потому и важно помочь молодежи разобраться в этой области, помочь найти правильный путь в жизни. Есть единственный способ овладеть игрой бессознательных сил в душе - это осветить их в сознании спокойно и трезво, уяснить себе смысл и скрытую динамику этих явлений. Посильно послужить молодежи в этом направлении и является задачей настоящей книги. Здесь особенно важно усвоить себе мысль, что не все, что в человеке"естественно", т. е. что возникает и зреет независимо от нашего сознания, в подлинном смысле естественно. Ведь и всякого рода извращения появляются тоже"естественно", но тем не менее они не просто извращения, они всегда являются причиной тяжелых и мучительных болезней. В том-то и слепота наша, что мы не сразу разбираем, что следует признать"естественным"в подлинном, здоровом смысле слова, а что, хотя переживается как"естественное движение души", является уже проявлением болезненного уклона, душевного вывиха. Сколько лишних страданий мучат людей оттого, что они не овладели вовремя той борьбой света и тени, правды и неправды, которая начинается уже в раннем возрасте… В последние десятилетия возникла целая школа психопатологии, которая видит главную причину нервно-психических заболеваний (конечно, кроме так называемых органических душевных заболеваний) в неправильностях жизни пола. Если это и преувеличено, то нельзя все же отвергать огромной правды того, что выдвинула указанная школа. Поистине, ничто так не важно знать для суждения о человеке, как то, как сложилась в нем жизнь пола: здесь лежит ключ к самым основным, решающим фактам нашей жизни.
Можно задать себе вопрос, отчего сфера пола в человеке таит в себе столько тяжелого и мучительного? Ведь все остальные функции нашего существа обычно развиваются нормально и не вызывают никаких осложнений именно в нашей душе; только в сфере пола тело и душа так глубоко связаны, так неисследимо, почти таинственно влияют друг на друга, что благодаря этому сфера пола и получает первостепенное значение в правильном устроении нашей жизни. Мы постараемся осветить достаточно подробно этот капитальный вопрос. Пока же подчеркнем, что как раз со сферой пола и связано в человеке и самое темное, и самое жуткое, но в то же время и самое светлое, и самое творческое в нем. Владимир Соловьев когда-то очень правильно сказал, что когда человек находится во власти эроса, тогда"и небо и ад с одинаковым пристальным вниманием следят за ним". Действительно, мы либо возвышаемся и светлеем от того, что разгорается в человеке, когда в нем"играет"пол, либо падаем в настоящую бездну греха и преступлений. Правильное устроение жизни пола является, таким образом, задачей, мимо которой не может пройти ни один человек. Это нужно твердо помнить и не относиться к теме пола легкомысленно, не прибегать к случайным, часто двусмысленным, а иногда просто отвратительным материалам, которыми заполнена в этом отношении современность.
Большим осложнением является здесь то обстоятельство, что жизнь пола во многом как бы закрыта от нас, словно нуждается в психических сумерках, как это верно изображено в античной легенде о Психее и Амуре. В духовно здоровой среде это имеет, между прочим, свое положительное значение, но в условиях современной жизни и особенно в больших городах с их душной, напряженной жизнью, с их отравленностью различными ядами указанное обстоятельство получает, наоборот, отрицательное значение. Это связано больше всего с преждевременным пробуждением интереса к вопросам пола, причем этот интерес неизбежно усиливает работу воображения. Действительно, ни от чего не страдает так молодежь (да и одна ли молодежь?), как от той усиленной работы воображения в сфере пола, от того тайного любопытства и внутреннего напряжения, которые ослабляют всякий самоконтроль. Ничто не кажется мне столь опасным, как это явление - как раз в силу того, что болезненное развитие воображения (французы называют его mythomanie, мифомания), не стесненного здравым смыслом, духовной трезвостью, становится источником всякого рода психических неправильностей. На почве внешнего умолчания, с одной стороны, и острого внутреннего любопытства к теме пола, с другой стороны, часто вырастает в юной душе жажда раздражений и возбуждений в сфере пола, что чрезвычайно подрывает духовное и нервно-психическое здоровье.
Я глубоко убежден в возможности такой духовной установки в молодежи, которая, не подавляя и не уродуя ни одного естественного движения, может вместе с тем обеспечить здоровое развитие всех сил в человеке, может организовать внутреннее равновесие в душе. Путь чистоты, о котором дальше идет речь, не есть утопия, не есть наивность или уход от жизни, а наоборот, есть путь здорового, трезвого"устроения"в нас таинственной и творческой силы пола. Надо иметь в виду, что не только интересы здоровья, но еще больше интересы творчества и раскрытия личностью ее внутреннего мира зовут нас на этот путь чистоты. Задачей настоящего этюда как раз и является показать, что путь чистоты, будучи требованием морального сознания, диктуется вместе с тем всем современным знанием о человеке. В глубоком желании пойти навстречу нашей молодежи в самом трудном и существенном вопросе, встающем перед ней, когда она находится уже на пороге зрелости, я посвящаю эту книгу всем моим молодым друзьям, которым я столь обязан в своей жизни.
Глава I
В прежнее время господствовало убеждение, что человек построен"гармонически", т. е. что естественное удовлетворение его потребностей само по себе создает внутреннее равновесие, определяет внутреннюю гармонию всех функций. Это убеждение (отразившееся в свое время на определении задачи воспитания как задачи"гармонического"воспитания всех сил в человеке) должно быть признано совершенно ошибочным - прежде всего потому, что человек построен вообще не гармонически, а иерархически. Это значит, что развитие одних функций находится в зависимости от развития других, что замедленность или, наоборот, усиленное развитие одной функции гибельно отражается на других. Есть функции первичные, основные, есть функции вторичные, производные. Развитие человека не дает картины одновременного, ритмического развития всех сторон его существа, наоборот, в развитии человека постоянно имеет место аритмия, дисгармоническое несоответствие одних сторон другим. Но, кроме иерархичности, в самом строении человека существует неравномерность и в том значении, которое принадлежит разным функциям в общем ходе развития человека; это особенно ясно выступает в том значении, какое имеют болезни тех или иных органов. Так, болезни нервной системы или сердечной деятельности могут привести к роковым последствиям для человека, а болезни кожи, например, или зубов, за редкими исключениями, вовсе не ставят под опасность нашу жизнь.
Конечно, раз в человеке существует какой-либо орган, имеется какая-либо функция - они должны получать свое удовлетворение, но чем выше орган или функция в человеке, тем сложнее стоит вопрос об их удовлетворении или проявлении. С особой, ни с чем не сравнимой силой это сказывается как раз в сфере пола, которая принадлежит к числу основных и даже центральных сфер в человеке. Чтобы разобраться во всей сложности жизни пола в человеке, надо принять во внимание огромное различие между
энергией пола и
половой энергией - это вовсе не одно и то же. Под энергией пола надо разуметь все то, что рождается от сферы пола (и в теле, и в душе), что, в общем, соответствует понятию творческой силы в человеке
[1], половая же энергия связана с деятельностью половых органов в человеке. Уже из этого определения ясно, что понятие энергии пола шире понятия половой энергии; действительно, вовсе не вся энергия пола переходит в половую энергию. Большая, может быть, самая значительная часть энергии пола, не переходя в половую энергию, как бы минует половую сферу, уходит в другие сферы нашего существа. На этом зиждется все огромное значение полового воздержания, которое как бы освобождает энергию пола для творческого использования ее в высших формах психической жизни. То, что в современной психологии именуется"
сублимацией", как раз состоит в том, что половая энергия может как бы вновь переходить в общую энергию пола и тем освобождаться от связи с деятельностью половых органов. Парадокс сферы пола, среди других функций в человеке, в том и заключается,
что полное половое воздержание, т. е. решительное отсутствие удовлетворения половой потребности, оказывается, вовсе не разрушает жизни человека, а наоборот, часто является предпосылкой настоящего расцвета высшей творческой жизни в человеке.
Все только что сказанное опирается на современное знание о человеке и особенно на данные психопатологии - но то же учение о человеке всегда развивало и христианство. Христианство не только утвердило принцип моногамии, решительно осудив многоженство, не только способствовало гуманизации отношений между мужчиной и женщиной, одухотворило эти взаимоотношения, но оно высоко подняло идею девственности. И в языческих религиях найдем мы культ девственности при некоторых видах религиозного служения (вспомним о"весталках") - но в христианстве самый принцип девственности получил новое значение как раз в силу нового, высокого понимания брака. С самого своего начала христианство осудило всякое гнушение браком, освятило брачные отношения (cр. чудо в Кане Галилейской. Иоан. 2,1-11), а потом создало особое таинство бракосочетания. Поэтому принцип девственности в христианстве вовсе не противопоставляется браку, а является как бы параллельным, хотя и иным путем движения человека к Богу. И на путях семейной жизни, и на путях девственности человек может идти к Богу - но именно потому принцип девственности в христианстве заключает в себе некое особое откровение о человеке. Смысл этого откровения вырисуется перед нами дальше, когда мы займемся вопросом о девственности и о монашестве, сейчас же подчеркнем, что и все современное знание о человеке, в частности, медицина, тоже высоко ценит физическую чистоту (т. е. чистоту в сфере пола). Физическая чистота признается всеми ценнейшим подспорьем для жизненного расцвета личности, является для человека величайшим благом, источником духовной силы и крепости.
Но в христианстве есть еще одно важное откровение о человеке (тоже совпадающее с тем, что дает современная психопатология) - о целительном значении исповеди, в которой отпускаются наши грехи. Если утеря физической чистоты, нарушение девственности невознаградимо, то о потере душевной чистоты надо сказать, что эта чистота восстанавливается через покаяние. Это есть чрезвычайно важный факт с точки зрения духовной гигиены и еще более в интересах морального развития в человеке. Нельзя считать непоправимой утерю душевной чистоты; грехи, совершаемые в юности часто по неведению, часто по легкомыслию, не остаются тяжким бременем для человека. Надо признать глубоко вредным заблуждение, что будто бы нет прощения совершенным грехам. Сколько молодых людей впадают от этого либо в отчаяние и перестают бороться со своими дурными склонностями, либо - и это бывает еще чаще - впадают в цинизм, высмеивают и в себе и в других все светлое и чистое, ибо не имеют надежды на лучшее, не верят в самих себя, ибо не знают того, что дает нашей душе исповедь и отпущение греха. Невосстановима только утеря физической чистоты (почему надо всячески избегать добрачной половой жизни), но чистота души, живая радость творческого движения вперед восстановимы, если только мы покаемся в своих грехах. В этом наше спасение от того, во что вовлекло нас неведение или легкомыслие.
***
Проследим теперь бегло основные ступени в жизни пола, в развитии его.
Первые проявления половых движений в человеке можно заметить очень рано - быть может, даже на первом году жизни (надо только избегать здесь натянутых толкований Фрейда). До полового созревания (у девочек до 11-13 лет, у мальчиков до 12-14 лет) жизнь пола носит, как принято говорить, недифференцированный характер. Телесные органы пола развиты очень мало, все тело имеет"эрогенный"характер, т. е. может служить источником полового возбуждения. Половое же созревание состоит в том, что на первый план выступает так называемая генитальная зона, т. е. зона расположения телесных органов пола. Правда, и до полового созревания эрогенность всего тела нередко создает преждевременную половую жизнь. Говорю о тайном пороке у мальчиков: подростки путем раздражения тела и органов пола стремятся вызвать у себя половые переживания. В действительности это есть глубочайшее извращение пола: ведь смысл пола заключается в соединении с существом другого пола. Но рядом с преждевременным развитием телесных половых движений часто наблюдается и преждевременное развитие половой психики. Порой уже в 9 лет дети разыскивают порнографические картинки, грязную литературу, с нездоровым любопытством присматриваются к жизни взрослых.
Но все это сменяется в годы полового созревания бурными проявлениями новой силы, захватывающей всецело и тело, и душу начинает развиваться сфера пола с такой стремительностью и напряженностью, что это совершенно меняет всю духовную установку подростка
[2]. Особенно важно здесь то основное расщепление в нашем существе в это время, которое находит свое выражение в двух различных полюсах сознания. На одной стороне сосредоточивается сексуальность, которая обнимает чисто телесную сторону пола, а также те психические движения, которые связаны с этой телесной стороной пола, а на другом полюсе обособленно, а иногда в резком отвержении сексуальности выступает эрос, т. е. искание любви, приводящее в движение всю психику, весь духовный мир, озаряющее душу поэтической мечтой о любимом существе. И эрос, и сексуальность одинаково являются цветением пола в нас, но их разъединение и расщепление, а иногда их взаимное отталкивание с достаточной ясностью вскрывают сложность пола как духовно-телесной силы. Пол в человеке действительно есть огонь в нем, питающийся от того пламени, который горит в глубине человека, как сила жизни в нем, и этот огонь горит (хоть и не с одинаковой силой) и в сексуальных движениях, и в тончайших проявлениях эроса. Единство
источникатого и другого ставит поэтому остро и неустранимо вопрос
о единстве этих двух проявлений пола; потребность такого единства заложена именно в том, что источник двух различных проявлений пола - один и тот же. Тут перед нами встает некий закон в структуре человека: это закон цельности, состоящий в том, что неотвратимо и непреодолимо живет в человеке потребность внутреннего соединения сексуальности и движений любви. Действительно, самые развращенные люди, как бы до конца ушедшие в одну чистую сексуальность, испытывают время от времени мучительную тоску о любви.
Итак, единая основа пола при созревании поляризуется - дает временное расщепление сексуальности и эроса. Проследим теперь их развитие в этой первичной раздельности их
[3].
Половое созревание локализует половую энергию в телесных органах, и отныне телесная сторона пола приобретает законченный. определенный характер, выдвигается на первый план. Этим самым как раз и создается сексуальное сознание; то, что мы называли до сих пор"сексуальностью", охватывает поэтому и объективное созревание (развитие органов пола), и самое сознание сексуальных движений. Обе стороны сексуальности связаны очень тесно, можно сказать интимно, но сексуальное сознание может быть при этом расплывчатым и неясным (в чем и состоит психическая"чистота"в это время - преимущественно у девушек, а иногда и у юношей). В силу особенностей физиологическо-анатомического характера в мужском организме сексуальное сознание у юношей всегда ярче и отчетливее. Именно потому работа воображения у юношей гораздо более активна и ярка в сфере пола и если к этому прибавить те разговоры, которые ведут между собою юноши, даже мальчики, то становится понятной опасность"загрязнения"воображения у них. Но независимо от того, расплывчато или более определенно работает сексуальное воображение, само половое созревание вызывает глубокие перемены в юном существе. Духовный сдвиг, который здесь происходит, заключается в том, что подростки, еще недавно с увлечением отдававшиеся разным социальным движениям в душе (подражание старшим, уход от семьи в среду товарищей и подруг, развитие внешнего авантюризма, влюбленность в"героев"и т. д.), ныне уходят в себя, замыкаются в себе, часто чуждаются общества, ищут"друга". Подростки становятся снова, как в раннем детстве, эгоцентричны, они впервые осознают свое"я"в отделении или противопоставлении окружающим, сознают в себе"личность". Исходной основой многих душевных движений является ныне сфера"подсознания", которая завладевает душой, сознание же не справляется с игрой тайных сил, зреющих в юном существе, не овладевает ими - отсюда постоянные противоречия в это время, частая претенциозность, мечтательность, легкая раздражаемость, развитие фантастики. Подростки часто сами не знают, чего хотят.
Развитие сексуальности как таковой, т. е. само половое созревание и развитие сексуального сознания идет в указанной форме в первые три-четыре года, а затем оно принимает более спокойный характер и перестает быть источником противоречивых движений и душевного беспокойства. Но в эти же первые три, четыре года полового созревания развивается - рядом с развитием сексуальности - и потребность любви, зреет эрос. Иногда обе эти сферы (сексуальность и эрос) не слишком отделяются одна от другой (хотя пути той и другой разные), а иногда они очень расходятся друг от друга, как бы мешают друг другу. Как существует чисто сексуальное воображение, так и в сфере эроса воображение становится могучей силой, получающей огромное питание, особенно от искусства. Эрос прорывается первоначально в юной задумчивости, в меланхолической мечтательности, ищет своего питания в чтении романов. Это действие искусства на развитие движений эроса много раз изображалось в литературе, причем должно заметить, что тема эта вовсе не исчерпана - так глубока и значительна она. Во всяком случае, все знают особенности этого периода, в течение которого эрос как бы расправляет свои крылья. Девочки хотят"нравиться", начинают усиленно заботиться о своей наружности, ищут общества мальчиков, вообще становятся"маленькими женщинами", влюбляются, начинают ревновать и т. д. А мальчики напряженно стремятся показаться старше своих лет, подражают тем, кто им кажется ярким человеком, тоже влюбляются (или играют во влюбленность). Вообще движения эроса в этот первый период пугливы, застенчивы, как бы ищут"препятствий", чтобы укрыться в них, закрыть от других движения эроса; они смешны извне, но часто трогательны в своей свежести и почти всегда подлинно поэтичны. Тургенев превосходно изобразил это в рассказе"Первая любовь" - и как раз у него отчетливо показано, как эти первые движения любви чужды сексуальности. Хотя сексуальность и эрос растут из одного и того же корня, хотя позже с чрезвычайной силой проявится потребность слияния эроса и сексуальности, духовной любви и телесной близости, но пока оба тока движутся не только раздельно, но нередко во взаимном отталкивании. Потребность любви нередко переживается в линиях чистой"спиритуальности"; по выражению русского поэта,"только утро любви хорошо". Тут, конечно, нет никакого"гнушения"телесной стороной, вся суть здесь в той могучей потребности идеализации любимого существа, которая является движущей силой эроса и принадлежит к числу основных потребностей нашего духа. В этом и заключается огромное творческое значение переживаний любви - именно в них и через них вырастают эти могучие крылья, которые возносят дух в горний мир. Нет никакого святотатства в том, что любимое существо кажется в это время божеством - это вовсе не риторика, а действительное переживание, характерное для"утра любви"и реализующее в нас жажду бесконечности. Конечно, на этом пути всегда ждет нас опасность"донжуанизма", суть которого заключается в том, что Дон-Жуан ищет именно"переживаний"любви, а не стремится к предмету любви, т. е. не отдается всецело любимому существу, но бросает его, чтобы вновь пережить"утро любви". Эта погоня за новыми и новыми переживаниями любви становится под конец у Дон-Жуана неким проклятием, в ней есть"дурная бесконечность", погоня за призраком, ибо реальная любимая женщина Дон-Жуана не удовлетворяет. Впрочем, в том истолковании донжуанизма, какое дал Алексей Толстой в своем"Дон-Жуане", можно видеть некую (искусственную, конечно) его апологию. Но верно здесь то, что движения эроса действительно диктуются духовной потребностью, т. е. потребностью идеала. Но именно потому и возможно, что движения эроса могут чуждаться всякого элемента сексуальности. Владимир Соловьев на эту тему написал замечательный этюд под названием"О смысле любви" - после платоновского"Пира"это единственная гениальная вещь в мировой литературе по философии эроса.
Шопенгауэр с присущей ему остротой мысли утверждал, что движения эроса суть только"фиговые листочки", которыми наше сознание закрывает от себя истинный смысл любви, который будто бы заключается просто в половом сближении. Это презрительное обозначение движений эроса"фиговыми листочками"не только ложно, но оно как раз совершенно переворачивает соотношение двух сторон в сфере пола. Движения эроса не только не суть"фиговые листочки", но они как раз и образуют истинный корень всего - сексуальность же есть толькотранскрипция в телесной области того, что исходит от исканий любви. Последняя сущность пола как раз и состоит в искании любви, что есть центр и основа того огня, который горит в человеке; сексуальность же есть только выражение в сфере телесной этих внутренних движений. Как тело вообще есть инструмент души (и в этом смысле справедливо может быть названо частью души, а не обратно), так и сексуальность лишь передает и выражает то, что загорается в душе, как инструмент, который своими звучаниями передает мелодию, на нем разыгрываемую. Правда, есть формы влюбленности, которые как бы оправдывают мысль Шопенгауэра, в которых бьется пульс сексуальности слишком сильно, но это менее всего типично для юного возрастаи всегда свидетельствует о нарушении нормального соотношения между сексуальностью и эросом. Пресловутый Sex Appeal есть, конечно, реальное явление, но он всегда связан с нездоровой психологией - для обеих сторон.
Чтобы до конца понять соотношение сексуальности и движений эроса, понять их временное расхождение и вместе с тем глубокое внутреннее единство, надо посчитаться с одним законом психологии, который я называю законом"двойного выражения чувства". Суть этого закона, установленного первоначально
[4] для сферы чувств, но имеющего более общее значение в современном учении о человеке, заключается в том, что все движения чувств и все глубокие волнения, исходящие из самых недр человеческого существа, ищут двойного выражения - телесного и психического (лучше сказать физического и душевно-духовного). Примером этого двойного выражения может служить любое чувство, хотя бы страх - то, что мы переживаем как страх, выражается в ряде телесных сотрясений (общая телесная депрессия, доходящая иногда до сердцебиения, до обморока, бледность, дрожание конечностей, ослабление голоса и т. д.), но
одновременно разливается
по своим законам психическая волна, которая вызывает определенные переживания страха (напряженность, чувство жути, психическая депрессия, доходящая до ослабления памяти и воли, растерянность). Эта психическая волна ищет своего"выражения"через работу воображения (что хорошо подмечено в словах"у страха глаза велики"), а через
воображение влияет и на весь наш духовный состав. Но суть указанного закона не только в констатировании двойного выражения чувств или глубоких душевных движений, а еще в том, что одно выражение (например, телесное)
не заменяет другого (душевно-духовного),
не может и заменяться им. Это выступает с полной силой, когда какое-нибудь одно выражение (например, телесное чувство) стеснено или подавлено: в этом случае его энергия не уходит в другое его выражение (например, душевно-духовное) - подавленность одного выражения определяет подавленность и другого. Фрейду принадлежит честь открытия того, что наше подсознание таит в себе ряд таких"комплексов" - желаний, отодвинутых вглубь нашего существа переживаний.
Обращаясь к сфере пола в свете закона двойного выражения, мы легко поймем, что сексуальность и эрос нормально должны развиваться параллельно, друг друга обогащая, но друг друга не заменяя. Мы говорим о нормальных проявлениях жизни пола, но то"расщепление", та разделенность сексуальности и эроса, о которой шла выше речь и которую можно назвать"естественной болезнью"периода созревания, связана как раз со взаимной незаменимостью и неустранимостью обоих проявлений жизни пола. В следующей главе мы убедимся в том, что естественное для юности расхождение сексуальности и эроса есть все же болезнь, дефект, что как раз в семье, в брачной жизни восстанавливается цельность в этой сфере. В период же юности, когда идет еще половое созревание, с известной самостоятельностью выступает как сексуальность (включающая в себя, как мы видели, и сексуальное сознание, сексуальное воображение), так и эрос выступает самостоятельно, порождая ряд новых, творческих движений, в глубине которых приоткрывается перспектива высоких духовных явлений. На этом стоит остановиться.
Когда в сердце человека разгорается любовь, то тот, к кому устремлено сердце с любовью, весь светится каким-то сиянием. Все в мире отступает на задний план, становится второстепенным - душа всецело, порой до экстаза погружена в созерцание любимого существа, которое отныне занимает как бы центральное место в мире. Самые сухие и черствые люди меняются, когда в них вспыхивает любовь, душа размягчается и радуется, как бы обретает крылья. Человек, который любим кем-нибудь, представляется извне ничуть не лучше, не краше других, но для любящего взора он кажется единственным, несравненным, незаменимым. Это и есть та"идеализация", о которой мы уже упоминали. Смысл этой идеализации в том, что сквозь внешнюю оболочку мы, в свете любви, зрим скрытую для других идеальную сторону, которая есть в каждом человеке, как образ Божий, закрытый, а часто и подавленный внешней оболочкой - "характером"(который всегда есть нечто вторичное в человеке, а не его"суть"). Своеобразие, вся сила зрения любви в том и заключается, что мы как бы прикасаемся через любовь к красоте в человеке, скрытой и невыраженной; мы не можем оторваться от нее - хотели бы всегда и во всем быть с любимым человеком. Когда вспыхивает любовь, все иное становится уже на втором месте одно только и важно тогда, одно только мило и дорого быть с любимым, и все, что отделяет или отдаляет от него, раздражает нас. В этих переживаниях любви, конечно, нет еще вхождения в реальную бесконечность (сколько раз бывало, что огонь любви скоро угасает в душе человека!), но в них открывается перспектива бесконечности; мы как бы вступаем в сферу вечного, полного света и жизни бытия - и вне этого все кажется тусклым и ненужным. Душа, хотя бы раз прильнувшая к этой чаше, навсегда сохраняет это переживание душевного подъема, переживание его преображающей, творческой силы. Поистине душа как бы поет, вся уходит в выразимую только музыкально сладость пребывания в лучах вечности, в живом ощущении абсолютной сферы.
Когда в молодой душе начинает"играть"пол, то одновременно энергия пола переходит, с одной стороны, в половую энергию, а с другой стороны, развивается хотя смутное, но глубокое искание блаженной, счастливой жизни, которая открывается в любви. Одно от другого неотделимо, одно другого не устраняет, но центр тяжести в"игре"пола лежит все же не на сексуальности, а на эросе. Надо до конца понять и продумать это положение, чтобы усвоить себе смысл того, что означает пол в человеке - в его глубине, в его огненной, творческой стихии. Именно в движениях эроса, в порывах любви душа испытывает глубокую потребность выйти за пределы своей личности, чтобы достигнуть всецелого соединения с любимым существом. Потребность именно любви свидетельствует о невозможности замкнуться в себе - в любви преодолеваются естественные рамки индивидуальности, разрывается ее"естественная"оболочка. Оттого в порывах любви человек начинает тяготиться самим собой; замкнуться в себе, именно в свете любви, значит осудить себя на одиночество, оказаться в метафизической пустоте. Душа наша неутомимо ищет потому полюбить кого-либо, чтобы в любимом найти точку опоры, найти смысл своего существования. А та сила поэтического воображения, которая присуща любви, и в силу которой мы"идеализируем"любимого человека, является вовсе не каким-то"придатком", действием фантазии, а наоборот, в ней раскрывается глубочайшая жажда духовного порядка, жажда абсолютного бытия. Тут как-раз уместно заметить, что все виды любви, какие присущи человеческой душе, восходят к единому источнику: любовь-жалость, любовь-благоговение, хотя не имеют ничего общего с любовью, рождающейся из глубины пола, но все эти виды любви не случайно именуются одним и тем же словом: все это есть любовь, есть выход за пределы своего я, устремление к тому, кого мы любим любовью половой или любовью-жалостью или любовью-благоговением. Не развивая этой темы, отметим, однако, что, очевидно, самая жизнь духа человеческого и состоит в любви: тайна каждой личности есть тайна того, как, с какой глубиной ищет любви и любит человек. Любовь к матери, к сестре, к жене - как глубоко различны они - и все же это одна и та же жизнь духа. Так как человек создан по закону"полового диморфизма", т. е. принадлежит либо к мужскому, либо к женскому полу, то этот половой диморфизм и вбирает в себя из глубины духа ту исконную потребность любви, которая есть сущность человека. Именно в этом смысле в сфере пола - любви, эросу принадлежит основное значение, а сексуальность есть лишь телесная транскрипция того же движения любви. Понятно отсюда, между прочим, и то, что чем глубже горение любви, тем слабее сексуальность. Вот отчего любовь так часто спасает (особенно в юные годы) от давления сексуальности: любовь несет с собой какое-то благоухание, которое очищает человека, освобождает его от сексуального беспокойства.
***
Но раздвоение сексуальности и эроса, которое присуще особенно периоду созревания, есть все же переходное состояние: пол в человеке глубже различия тела и души, он связан с той точкой в человеке, где заложена его целостная основа, но пробуждение пола, половое созревание поляризует его. Эта поляризация, это расхождение (на поверхности) сексуальности и эроса есть"болезнь роста"и требует постепенного восстановления изначальной цельности. Поэтому жизнь пола может найти свое настоящее выражение только в семейной жизни, и вне этого нормальная жизнь пола неосуществима. Мы не говорим сейчас о девственности, в частности, о монашестве - это есть особый путь в"устроении"пола, и об этом мы будем еще говорить. Нормальный же, обычный путь человека ведет его к образованию семьи, и всякая добрачная или внебрачная половая жизнь не может не иметь тяжких последствий для нервно психического и духовного здоровья человека. Удовлетворение же сексуальных желаний вне того внутреннего окрыления, какое дается в любви, есть извращение и искажение закона цельности, заложенного в нашей душе. Вообще раздвоение сексуальности и эроса, естественное лишь в период полового созревания, становится дальше тяжким грехом по отношению к самому себе. Перед всеми открыт путь правильного и здорового устроения жизни пола - путь семьи, и чем раньше юноши и девушки вступают в брак, тем легче дается им внутренняя гармония в их существе. Конечно, в браке выступают свои, новые трудности, об этом сейчас мы поведем речь, но поскольку дело идет о том, чтобы дать нормальное разрешение всех тех потребностей, которые вырастают из глубины пола, надо признать, что вне семьи это невозможно.
Глава II
Семья, жизнь в браке дают нормальное разрешение всех тех запросов и стремлений, которые связаны в нас с полом. Правда, в наше время стала очень сложна семейная жизнь - главным образом из-за тех экономических трудностей, которые чрезвычайно тяжело ложатся на семейную жизнь и создают уже давно очень тяжелый и опасный для жизни народов кризис семьи. Однако было бы неверно сводить кризис семьи только к одной экономической стороне - он, к сожалению, гораздо сложнее. Но мы не будем входить сейчас в этот вопрос, так как для нас существенно отметить, что только в браке жизнь пола находит здоровое и жизненное свое решение. Иначе говоря, из этого трудного, а часто и мучительного состояния, в котором пребывают юноши и девушки, единственный верный и здоровый путь открывается в браке. И если он почему-либо невозможен или затруднен, то все же вне брака нет никакого выхода, нет здоровой половой жизни - здесь все будет не только уклонением от нормы, нарушением здоровья, по неизбежно становится извращением, расстраивающим самые основы нашей личности.
Жизнь в браке имеет в себе три стороны - биологическую, социальную и духовную, и все эти стороны не просто даны нам, одна рядом с другой, но при нормальных условиях образуют целостное единство. То раздвоение сексуальности и эроса, которое в юности знаменует собою расстройство в сфере пола в этот переходной период, не только здесь совершенно снимается (говорю, конечно, о нормальной семье), не только дает внутреннюю их соподчиненность, но во всей своей соединенности является источником новых сил, раскрывает новый путь жизни. У апостола Павла есть замечательные слова о браке, из которых приведем сейчас только начальные слова. "Тайна сия (т. е. тайна брака), - говорит апостол Павел, - велика есть". Вот эта"великая тайна"брака только там и выступает, где уже совершенно преодолено раздвоение сексуальности и эроса. Где почему-либо это раздвоение сохраняется или где выступает только одна сторона (конечно, особенно часто именно сексуальность), там не только не открывается"великая тайна"брака, но там и искажается его смысл, топчется самое священное и глубокое в людях и извращается нормальный путь человека. Неправильно отождествлять чистую сексуальность с"животной"стороной в человеке (у животных нет никакого разъединения сексуальности и эроса; эрос у них, хотя и очень элементарен, но как еще Дарвин показал, играет большую роль в жизни животных, однако во внутренней нераздельности с сексуальностью), но поскольку эта терминология утвердилась, мы можем ею пользоваться. Мы можем поэтому сказать: одностороннее проявление пола в его"животной"стороне совершенно не раскрывает то, что есть в браке, обедняет отношения супругов и влечет за собой угасание и ослабление высших сил в человеке. А между тем в браке действительно питаются наши высшие движения, расцветают лучшие силы в нас.
Те, кто вступает в брак чистым, целомудренным, впервые в браке постигает тайну телесного единства, и от этого в душе рождается новое благоговейное отношение к телу другого, которое становится как бы священным и святым. Как показывает жизнь, именно от телесного сближения в браке (в нормальных условиях) расцветает в душе глубокое, светлое и радостное чувство любви друг к другу, нежное поклонение и глубокое чувство неразрывности. Именно здесь, в этой точке, опытно познается правда моногамии (единобрачия), вся неправда разводов. Муж и жена могут принадлежать только друг другу - и это встает в сознании не только как требование социальной морали, сохраняющей семейный очаг, но и как некая повелительная и глубокая тайна, постигаемая в браке. Половое сближение не только не может быть отделено от других видов единения, но оно само создает и формирует законченную цельность всех взаимных отношений. Когда между мужем и женой цветет любовь, она сияет во всем и овладевает всем. Малейшая дисгармония в это время переживается очень болезненно: невнимание, небрежность, равнодушие - даже в самых ничтожных пустяках - вызывает скорбь, тревогу, мучит и обижает. А когда появляются признаки зачатия ребенка, тогда отношения мужа и жены еще более укрепляются в любви к будущему дитяти, в благоговейном трепете перед тайной появления нового человека в свет через близость мужа и жены. Тонкость и чистота взаимной любви не только не стоят вне телесного сближения, но наоборот, им питаются и нет ничего добрее той глубокой нежности, которая расцветает лишь в браке и смысл которой заключается в живом чувстве взаимного восполнения друг друга. Исчезает чувство своего"я"как отдельного человека, и в больших вещах, во внутреннем мире и во внешних делах и муж, и жена чувствуют себя лишь частью какого-то общего целого - один без другого не хочет ничего переживать, хочется все вместе видеть, все вместе делать, быть во всем всегда вместе. Всякая разлука переживается мучительно, как разрыв в этом целостном единстве. Это вовсе не есть торжество сентиментальности, иронически представленной Гоголем в образах Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны ("Старосветские помещики"); здоровая нормальная любовь мужа и жены не только не нуждается в эгоистическом отделении от других, но наоборот, создает особую чуткость к другим людям. Нежная забота мужа и жены друг о друге невольно и естественно создает такую же нежную заботу о других людях: сбросив в семье силу эгоизма, и муж, и жена, каждый сам по себе, становится открытым в своем сердце для всех людей. От благостной связанности друг с другом у обоих супругов рождается социальная чуткость - отсюда величайшее значение семьи в развитии социальных отношений. Для поверхностного и внешнего взора эта огромная сила социально творческой обращенности семьи к миру прикрыта (особенно в наше время) внешней экономической отдельностью каждой семьи. Суровые социальные, экономические условия превращают каждую семью в замкнутый мир, создают подлинный семейный эгоизм. Все это следствие влияния внешних условий, не дающих развернуться тем социально творческим движениям, которые рождаются из глубины семейной жизни. И все же, несмотря на силу экономических и социальных перегородок, источником того тепла, который побеждает холод социальных отношений, смягчает их и движет к"братству"(уподобляя социальные отношения тоже семье), является то тепло, которое накапливается у самой основы семейной жизни.
Тайна семьи, о которой говорил апостол Павел, есть вообще тайна духовного расширения, которое рождается из самых недр семейной жизни. Конечно, глубочайшее значение имеет здесь рождение детей, которое не только несет с собой радость, но и реализует чувство"полноты", которое так ярко выступает тогда, когда муж и жена становятся"родителями": появление в семье детей есть действительно реальное вхождение в сферу бесконечного бытия. От поколения к поколению, от родителей к детям, которым предстоит в свое время тоже стать"родителями", тянется непрерывное единство человечества. Живым свидетельством, живым явлением той бесконечности, которая до преображения космоса во втором пришествии Спасителя раскрывается пока лишь в порядке времени, т. е. в смене одних поколений другими, и является семья. Это вхождение в реальную бесконечность, как она дарована человечеству в его существе, знаем мы все, когда бываем сами детьми, когда, кроме родителей, нас окружают тети и дяди, бабушки и дедушки. Но именно оттого, что это есть бесконечность на земле, она приближает нас к другой бесконечности - к той абсолютной жизни, светом которой светится и сам мир, - к св. Троице. Именно через семью и только через то, что она несет в себе, можно приблизиться к тайне св. Троицы, к тайнам того, что Троичное Бытие Божие есть в то же время Единство. Именно в этом смысле о семье и говорится, что она является"малой церковью": в ней присутствует Бог, семья становится клеточкой церковного организма, т. е. клеточкой тела Христова. Оттого в здоровой, правильной семье расцветает в человеке духовная его сторона; как некая"домашняя церковь"(выражение ап. Павла), семья живет благодатной силой, которая ей дарована Богом. Здесь, кстати, нужно отметить, что несмотря на постоянные трудности, возникающие в семье из-за внешних (преимущественно экономических) условий, Церковь не повторяет для тех же супругов таинства бракосочетания (как повторяет таинство покаяния, св. Причастия). Благодать, даруемая в браке, никогда не может быть исчерпана, она всегда пребывает в семье и с семьей. Благоухание такой христианской семьи, ее непобедимая духовная сила сияют не только внутри семьи, но выходят и за ее пределы. Те, кому не дано было иметь свою семью, духовно согреваются обычно возле чужой семьи, и, может быть, именно таким одиноким людям дано видеть и переживать всю великую правду, всю удивительную тайну семьи - более даже, чем тем, кто имеет свою семью.
Но и в этом высшем своем цветении семья остается цельной. Нет в семейной жизни отдельных сфер - отдельной телесной, социальной, духовной близости; здесь одно откликается в другом, одно отражается в другом, все связано очень внутренне и интимно, и какая-либо боль в одной стороне очень чувствительно дает себя знать и в других сферах. Семья есть нормальное раскрытие тайны пола в нас; для семьи, для семейной жизни дан нам пол, и все богатство, неиследимая полнота и сила его впервые открывается в семье, как своем высшем цветении и выражении. Еще иначе выразим это: вне семейной жизни нет и не может быть жизни пола, она может быть тогда только неправильной, искажающей нашу природу и нарушающей законы жизни. Путь чистоты до брака не есть только требование социальной морали, охраняющий семью, но он диктуется самой природой человека. Добрачная половая жизнь есть просто одностороннее и потому извращенное выражение пола и грозит опустошением души и искажением ее внутреннего строя. Мы коснемся этого пункта далее, но еще вернемся к вопросу о семье, в частности, к социальной стороне ее.
Семья образует некоторую социальную единицу: здесь как раз действует принцип - все за одного и один за всех. Если кто-либо в семье болен, то средства всей семьи тратятся на болезнь одного, и никому в голову не может прийти, что это неправильно. В семье может и не быть"общей кассы"(если зарабатывают несколько членов семьи), но сущность того порядка, который дан в семье, от этого не колеблется. Это социальное единство семьи не устраняет различия ее членов в их типе, в работоспособности, в здоровье: каждый трудится в меру его сил. Семья есть некая трудовая единица, а не просто общая и совместная жизнь. Но социальное единство не исчерпывается этой стороной: достаточно вспомнить о том, что есть"честь"семьи, которую блюдут все ее члены, чтобы понять, что принадлежность к семье, как к социальному единству, захватывает и душу, глубоко входя туда, как живой и питательный источник. Дети в семье не просто предмет забот и тревоги, но они дают семье новый смысл существования, являются источником радости и сил. Любовь к детям дает силы родителям переносить все невзгоды жизни, любовь к родителям светит детям всю их жизнь. Что может быть ближе для каждого человека его матери, его отца? А между тем новая жизнь приходит в мир именно через брак, через сближение двух полов. И это значит, что в семье, и только в ней, в глубине пола, открывается огромная творческая сила, которая вносит смысл в нашу жизнь. Не будь полового сближения, не было бы рождения детей; святость последнего, вся безмерная невыразимая радость от детей освящает по-новому смысл пола. Не следует думать, конечно, что пол в человеке раскрывается только в этом: то, что дают друг другу любящие муж и жена, есть тоже огромная неизмеримая ценность и сила - смысл пола открыт здесь и в эту сторону. Эти два ''конца"пола в нас - образование семьи как социального целого, рождение детей, с одной стороны, и вся духовная содержательность и сила взаимной жизни друг в друге мужа и жены позволяют нам признать в поле начало света и творчества, правды и жизни.
Чтобы закончить рассмотрение этого вопроса, необходимо два слова сказать о монашестве. Монашество есть сознательный уход от жизни пола, и мы чтим монашество за эту его чистоту. Если это так, то не значит ли это, что семья и расцвет пола в семье есть все же низшая форма жизни? Не должен ли тот, кто ищет высшего и лучшего пути, остаться навсегда девственным и жить вне пола? И не значит ли это, в свою очередь, что пол дан человеку в мучение и бремя, а не в жизнь и не в творчество?
Было бы огромной ошибкой так думать, и не только потому, что"гнушаться"полом, презирать его есть великий грех, осужденный Церковью, не только потому, что тайна брака"велика есть", что в браке подается особая благодать (а скверна не может принять благодать), что в семье осуществляется"малая церковь". Уже эти соображения освещают возвышенный религиозный смысл брака, и эта точка зрения потому здесь важна, что и монашество чтится именно за религиозную силу его. Но не только в силу религиозных соображений должны мы чтить святость брака и благоговеть перед тайной пола - но и само понятие о монашестве устанавливает это. Целомудрие монахов не унижает пол, а лишь показывает еще выше его нераскрытую святость, его прикрытость грехом. Не борьба с полом составляет смысл монашества, а борьба с грехом, и целомудрие, воздержание от половой жизни есть не цель, а средство борьбы этой. В монашестве люди ищут наилучших путей преодоления греха, и эта задача, одинаково стоящая перед всеми людьми, решается здесь, на путях отречения от всего мирского, не по презрению к миру, а в силу того, что тяжесть греховности особенно сильно падает на нас через мир. Кто ищет борьбы с грехом на этом пути, тот освобождается от прямого давления мира, но в своем иноческом пути он вступает в суровую косвенную борьбу с миром уже внутри самого себя. Заметим тут же, что пребывание в браке тоже ставит задачу борьбы с грехом, только здесь, при единстве целей, имеются в виду другие средства. В монашестве нет власти мира над человеком, но внутри человека вспыхивает новая борьба с миром. Все, кто ищет правды, вступают в борьбу с миром - одни, оставаясь в миру, другие, уходя из мира. Борьба с миром, вернее с началом греха в мире, есть задача, стоящая перед каждым человеком - и те, кто уходит в монашество, и те, кто вступает в брак, одинаково стоят перед этой задачей, но идут к решению ее разными путями. В частности, в монашестве не снимается тайна пола, не утихает жуткое пламя, которое томит и искушает в монашестве. Быть может, вся жуткая сила и вся глубина пола еще яснее в монашестве, чем в семье. Смысл монашества заключается в подвиге распятия своей плоти не из презрения к плоти (это грех и ересь), а ради торжества духовного начала в человеке над плотью. Но та же задача стоит и в браке только в другой своей стороне. Брак не только половая жизнь - это большой и сложный духовный путь, в котором есть место своему целомудрию, своему воздержанию. Там, где половая жизнь занимает слишком большое место, там семье угрожает опасность ухода в сексуальность, т. е. там снова воскресает та двойственность, которая присуща юному возрасту - задача семьи, как целостной жизни на основе пола, остается нерешенной. Монашество есть борьба за духовную жизнь, но и в семье тоже должно всегда стоять на страже интересов духовной жизни. Как только в семье пустеют духовные связи, она неизбежно становится простым половым сожительством, спускаясь иногда до настоящей проституции, принявшей легальную форму. Искажения семьи, нарушение ее законов есть факт трагического порядка - путь семьи поэтому нелегок, он состоит не в узаконенности одного полового сожительства, но в устроении целостности общей жизни и в охране ее. Пол не может и не должен жить в нас отдельной, самостоятельной жизнью, но должен быть включен в целостную общую жизнь. Путь семьи есть путь восстановления этой общей целостной жизни, завещанной Богом человеку еще при сотворении его, путь же монашества есть не устранение пола, а лишь победа над грехом через подавление жизни пола. Поэтому не перед всеми и открыт путь монашества, а лишь перед теми, в ком нет особой склонности к семье, или перед теми, кто испытал семейную жизнь, лишился в силу смерти того, с кем был связан в браке.
В монашестве, в девственности становится ясным вторичное значение сексуальности: она не просто подлежит здесь затиханию, но в процессе сублимации возвращается к человеку уже в новой функции. В этом смысле надо сказать, что затихание сексуальности, когда оно соединено (как в монашестве) с духовной жизнью, обогащает нашу душу - и те высокие перспективы духовной жизни, то сияние, которое исходит от людей, отошедших от сексуальности, связано обычно с ростом любви к людям. Даже когда затихание сексуальности является вынужденным, оно духовно обогащает человека, - и в свете этого, особенно в свете того откровения о человеке, какое дано в чистоте девственности, становится ясным положение, о котором мы уже говорили: последняя основа пола есть сила творчества. Она проявляется нормально в здоровой духовно семье, еще ярче выступает она там, где сексуальность отгорела, затихла, где девственность не ослабляет личность, а наоборот открывает ей новые пути, новые силы для творчества.
Все это до конца дорисовывает перед нами жизнь пола, путь его устроения, вскрывает всю глубину тайны пола в нас. К полу в себе нельзя относиться легкомысленно, надо беречь его тайну, искать правильного устроения его и бояться всякого извращения или легкомысленной игры с полом. К беглому обзору этих опасностей пола мы и перейдем сейчас, чтобы еще с этой стороны осветить наш вопрос.
Глава III
В предыдущих главах мы говорили о том, как следует мыслить правильное устроение жизни пола: перед нами открыты либо путь чистоты и девственности, либо семейная жизнь. Вне семьи не должно быть никакой половой жизни, она должна вне семьи сжаться и затихнуть - будет ли то уход в монашество или вынужденная одинокая жизнь, неудачи в устройстве семьи. Требования гигиены совпадают здесь с требованиями морали и тем более с требованиями христианского сознания: всякая внебрачная половая жизнь может дать удовлетворение только временно, - если не всегда на путях лжи, то всегда на путях греха. Действительно, внебрачная половая жизнь есть торжество чистой сексуальности за счет духовной стороны, в частности, за счет тех радостей и творческой силы, которая вытекает из переживаний любви. Таковы указания социального знания, психопатологии, таковы категорические указания морального и религиозного сознания.
Но осветив вопрос с принципиальной стороны, мы не можем не спросить себя: а как же дело обстоит в реальной жизни? Оправдывает ли реальная жизнь те принципиальные положения, которые мы развивали до сих пор? Нельзя не признать, что действительность дает нам грустную картину все возрастающего ослабления семейных отношений, упадка семьи, картину такого искажения и разрушения"великой тайны семьи", что неизбежно встает вопрос: куда же движется современная жизнь в этом направлении? Неудачные браки, бесконечно умножившиеся разводы, частое нарушение одним из супругов, а то и обоими чистоты брака, умножение фактов случайного или кратковременного сожительства, тяжкие последствия всего этого на детях, на молодом поколении, все это вызывает нередко отрицание брака, боязнь его. Особенно части встречается это у девушек: наглядевшись в чужой или даже в своей собственной семье на то, что реально представляет семейная жизнь, они чуждаются брака, боятся выходить замуж, готовы идти, пожалуй, на внебрачное сожительство, чтобы при первом, однако, конфликте бросить своего сожителя. Естественно, что в таких случаях избегают иметь детей, идут на аборты, не отдавая себе отчета, к каким тяжким заболеваниям это обычно приводит позже. Та характеристика брака, семейных отношений, которая была дана в предыдущей главе, кажется ныне устарелой сентиментальностью, не соответствующей реальным условиям жизни. Брак все больше дискредитируется в молодых поколениях - и в связи с этим все более возрастает культ внебрачных связей; легкомысленное отношение к половым отношениям порой облекается даже в форму некой"идеи", высшего изящества ("поэзия изящной безнравственности", как говорил русский мыслитель К. Леонтьев). Неудивительно, что на этой почве торжествует тот легкомысленный эпикуреизм, который не хочет ни к чему подойти серьезно, смеется, когда встает речь о"высших ценностях", цинически срывает"маску добродетели", как принято выражаться, чтобы провозгласить безграничную свободу в половой жизни. Все это не клевета на современность, не придирчивое морализирование, а скорее ослабленная характеристика того кризиса семьи, который развивается все сильнее и глубже в современной жизни. Но именно этот кризис семьи не ставит ли под сомнение все то, что говорилось выше о правильном устроении жизни пола, именно в семье? Чтобы ответить на это сомнение, мы должны войти несколько подробнее в анализ тех трудностей, которые давят на семью и искажают семейную жизнь.
***
Прежде всего надо категорически подчеркнуть, что здесь наименьшее значение должно приписать все возрастающим экономическим трудностям. Достаточно указать на то, что чаще всего встречаются еще и ныне здоровые семьи, не знающие никакого кризиса, как раз среди простого народа, экономические трудности у которого, конечно, несравненно сильнее, чем в высших слоях общества (чиновники, интеллигентные профессии и т. д.). Как бы ни были действительно тяжелы экономические условия жизни (которые для семьи особенно тяжелы в случае болезней детей), как бы ни сгибались люди под тяжестью этого креста, но крепкая семья переносит эти испытания как единое целое. Муж, жена, дети - в нормальных условиях - становятся при этом не дальше друг от друга, а наоборот, становятся ближе друг к другу. Все вместе несут этот крест - и взаимная привязанность, сколько бы ни отравляли ее внешние невзгоды, становится лишь глубже и крепче. Все основные трудности семейной жизни, ныне приведшие к глубокому кризису семьи, лежат, очевидно, не вне ее, а в ней самой - в личности людей, соединившихся в семью.
Семейная жизнь, мы уже говорили об этом, имеет в себе три стороны: биологическую ("супружеские отношения"), социальную и духовную. Если"устроена"какая-либо одна сторона, а другие стороны либо прямо отсутствуют, либо находятся в запущенности, то кризис семьи будет неизбежен. Оставим в стороне случаи, где женятся или выходят замуж ради денежной выгоды, где на первый план выдвигается социальная сторона - нечего удивляться, что такие браки"по расчету"(кроме тех редких случаев, когда через общую жизнь все же разовьются здоровые, семейные отношения), увы, постоянно ведут к супружеской неверности. Брак не есть и не может быть только социальным сожительством - он есть и половое и духовное сожительство. К сожалению, и раньше, и ныне при заключении брака социальный момент играет руководящую роль; утешают себя и вступающие в брак, и их родные тем, что"стерпится-слюбится". Да, иногда это оправдывается, но до какой степени ныне это редко! В пьесе Островского"Гроза"очень ярко изображена та трагическая западня, которая создается самими условиями такого брака и которая беспощадно поступает с теми, кто в нее попал. Чтобы нести крест совместной жизни с нелюбимым человеком, чтобы не поддаться искушению сойтись с кем-нибудь тайно и тем нарушить долг верности, нужно много силы. Верность есть великая сила, скрепляющая семейные отношения, но она не может питаться только одним чувством долга, одной идеей верности: она должна иметь опору в живой любви. Еще в Ветхом Завете была выставлена заповедь:"Не пожелай жены ближнего твоего", и эта заповедь должна ограждать брак. Между тем люди позволяют себе увлекаться чужими женами, чужими мужьями - и здесь заповедь верности приходит слишком поздно, звучит отвлеченно и бессильно. Если даже супружеская верность остается ненарушенной, то все равно семейная жизнь уже разбита. Иногда муж и жена блюдут верность (хотя их сердце уже ушло из семьи и прилепилось к кому-то вне ее)"ради детей"; отчасти их жертва в таких случаях оправдана (пока дети не узнают правды), но все равно семейная жизнь здесь уже по существу разрушена, ее живительный огонь потух, в семье холодно, пусто, мучительно. Дети всегда очень страдают в таком случае - им не хватает необходимого тепла, не хватает того, чего бессознательно они ждут от семьи, от родителей. Поскольку кризис семьи возникает здесь на почве того, что люди сошлись в брак, не чувствуя друг к другу любви, постольку выхода нормального здесь быть не может. Распад семьи есть трагедия для детей, глубокая рана в моральной и особенно религиозной сфере в их душе, сохранение же целости в такой семье, где все потому пусто, что и цвести нечему было, тоже трагедия и для детей, и для родителей. Именно об этой охлажденности в семьях хорошо говорил Розанов, характеризуя наше время как время"обледенелой"цивилизации.
Предпосылкой брака должно быть взаимное влечение - таков как будто итог этих замечаний. Итог, конечно, верный, но он не охватывает с достаточной полнотой тайну брака. На каждом шагу мы имеем случаи, когда люди сходятся в браке, потому что"влюбились"один в другого, но как часто и такие браки бывают непрочны! В чем же тут дело?"Влечение"есть явление сексуального порядка, и влюбленность, которая может быть при этом, действительно, является"фиговым листочком". Часто называют такую влюбленность"физиологической", т. е. целиком связанной с сексуальной сферой, и если иногда на этой почве может все же развиться настоящая любовь, то ведь такая"удача"встречается слишком редко в наше время. В прежнее время, когда сознание не было столь насыщено, столь отравлено защитой"свободной"любви, когда вся духовная атмосфера была хоть и более суровой, но и более моральной, тогда в идее креста обе стороны принимали случившееся сожительство всерьез и на этой почве хранили чистоту брака. Это было тускло, бесцветно, но духовно крепко. Ныне же, когда"физиологическая влюбленность"стихает, люди, сошедшиеся в браке, либо нарушают верность, сохраняя внешне брачные отношения, либо разводятся. Распущенность в этом направлении доходит сейчас до невероятных размеров; легкомыслие при заключении брака переходит в легкомыслие при разводе, и в таких случаях надо радоваться, если нет детей. Но если есть дитя или дети - на какие страдания обречены они! В семье, где между родителями не только все опустело, не только царит холод, но подчас развиваются крайне враждебные отношения, переходящие в ссоры, ругательства и оскорбления, дети либо душевно сжимаются, становятся тупыми, ко всему безразличными, либо рано впадают в цинизм, не признают ничего святого, не верят никому и ничему…
Для того чтобы семейная жизнь была не просто"сносной", но и духовно здоровой и питательной, для этого нужно не одно влечение, не одна"физиологическая влюбленность", а настоящее увлечение, переходящее в любовь. Иначе говоря, только сочетание сексуального влечения и движений любви (эроса) обеспечивают нормальную семейную жизнь (говорим сейчас о сфере пола): при отсутствии"влечения"становится трудным супружеское сближение, а при отсутствии любви, когда выступает на первый план (даже взаимно) чисто сексуальное влечение, семья будет непрочной: угаснет"страсть", ослабеет сексуальное влечение - и супруги неизбежно переживут в острой форме их внутреннюю чуждость друг другу.
Тайна брака поистине велика. Два человека, жившие до вступления в брак своей особой жизнью, имевшие уже сложившиеся привычки, взгляды, имевшие каждый в отдельности своих друзей, приятелей, вступив в брак, начинают жить общей жизнью. Это, конечно, не может быть легко сразу - нужно много идущих от любви усилий для взаимного приспособления, для уступчивости и для умения находить пути жизни, не тягостные ни для одной стороны. Когда в сердце есть любовь, тогда, конечно, все становится легче, естественнее, но если налицо не любовь, а"физиологическая влюбленность", чисто сексуальное влечение друг к другу, тогда временно обе стороны идут на уступки, как бы закрывают для себя все трудное в другом человеке - чтобы, проснувшись от"угара страсти"пережить острое отталкивание друг от друга.
Огромным препятствием для нормальной жизни (часто и при искренней любви друг к другу), может оказаться то, что у вступивших в брак была уже добрачная половая жизнь (что обычно и бывает у мужчин, реже у женщин). Трудно молодой женщине, которой муж рассказал, как он жил до брака, без отвращения и ужаса перенести это. Тень добрачных связей никогда не может быть снята; душа того мужчины, который жил добрачной половой жизнью, помимо его воли, несет в себе следы этой добрачной жизни. Я не говорю сейчас о половых болезнях, которыми муж неизбежно заражает жену; все современные средства, применяемые, например, для излечения сифилиса, не могут окончательно устранить из организма тот яд, который в нем осел. Французский психиатр Шарко имел хорошую привычку водить молодых студентов в клинику венерических заболеваний, чтобы они навсегда запомнили те ужасы, на которые часто бывают обречены сифилитики. Об этих тяжких последствиях добрачной половой жизни не буду распространяться, как не остановлюсь подробно и на тех извращениях, которые приобретаются иногда в добрачной жизни и от которых потом страдают жены. Гораздо серьезнее то, что в добрачной половой жизни изнашивается организм: сексуальная жизнь, не связанная с любовью, с семейным очагом, с детьми, берет гораздо больше сил, чем нормальные супружеские отношения в браке. Но самое тяжкое, что несет с собой добрачная половая жизнь, это те раны, которые наносит своей жене муж, живший добрачной половой жизнью. Не очень многие женщины могут простить (по-настоящему) своим мужьям то, что они сближались с другими женщинами до них - это вызывает у них глубокое отвращение, порой озлобление и ненависть. В начале XX века в европейской литературе очень прошумела одна пьеса Бьернстерне Бьернсона ("Перчатка"), пьеса, посвященная этой теме. Несколько позже в австрийской литературе появилась повесть под названием"Одна за многих", где рассказывалось, как одна молодая девушка, будучи уже невестой и узнав от любимого ею (и очень любящего ее) жениха исповедь о его добрачных связях (этой исповедью он искренно хотел покончить со своим прошлым), не вынесла той скорби и тяжести, которая легла на ее душу и раздавила нежный цветок любви. Она покончила с собой, как"одна за многих", чтобы сказать всем молодым мужчинам о том отвращении и ужасе, которые наполняют чистую девичью душу при знакомстве с тем, как мужчины живут до брака. Добрачная распущенность не только ужасна и омерзительна для девушек, но она вызывает глубокий кризис в их восприятии жизни. Они не могут вместить, не могут понять, как можно без любви и увлечения приближаться к женщинам, которых принято называть"продажными"(хотя эти несчастные жертвы современных нравов большей частью не виноваты в том, что стали"публичными"женщинами). Нельзя не разделить того глубокого движения души у Раскольникова, который поклонился в ноги Соне Мармеладовой, оставшейся чистой в душе, хотя жизнь заставила ее"продавать себя"…
Отчего и зачем вступают молодые люди на путь добрачной половой жизни? Чаще всего их завлекают на этот путь дурные товарищи, бывают случаи, когда соблазняют дурные женщины; иногда (может быть, очень часто) падение юношей совершается в состоянии опьянения. Л. Толстой рассказывает где-то, что одна его тетушка советовала ему вступить в связь с женщиной"comme il faut", имея, очевидно, в виду то, чтобы приучить его к деликатному обращению с женщинами при половом сближении… О последнем надо сказать (и это уже много раз указывалось в психопатологии, а также хорошо известно священникам по исповедям), что половое сближение в браке проходит сначала очень трудно для девушки, вступившей в брак, и со стороны мужа нужна действительно сугубая деликатность, чтобы не вызвать тяжелых переживаний у жены. Эти тяжелые переживания часто кладут начало роковому процессу в женщине, которая получает благодаря этому отвращение, боязнь полового сближения. Отсюда (в значительнейшей части) и рождается пресловутая"холодность женщин", мешающая брачным отношениям и нередко ведущая к разрыву. Но если действительно так нужна особая деликатность и чуткость, когда муж и жена впервые приближаются друг к другу, то совет тетушки Л. Толстого дает хороший пример того, как толкают старшие свою молодежь на добрачную жизнь. Постоянно приходится встречаться со случаями, когда отцы говорят своим сыновьям, когда они достигают известного возраста, что им пора"иметь женщину". Особенно странно и даже жутко бывает узнавать, что какой-нибудь молодой человек любит какую-то девушку,"ухаживает"за ней и собирается на ней жениться - и в то же время живет в смысле половой жизни с какой-то другой женщиной. В сущности это есть настоящее воровство - такой юноша крадет у своей будущей жены то, что может принадлежать только ей.
Конечно, огромное значение в том, что юноши вступают на путь добрачной половой жизни, принадлежит здесь влиянию искусства, особенно современного. Искусство словно ставит своей целью раздразнить половое влечение у читателя или зрителя и в то же время соблазнить его на путь внебрачной связи. Искусство давно уже занято этим - и придет ли этому когда-нибудь конец? - Нарушение семейной верности, всякого рода"адюльтеры"изображаются так, словно это"естественно". Даже у Толстого в"Анне Карениной"высокодобродетельный Каренин изображен так, что читатель чувствует к нему отвращение, а нарушившая супружескую верность его жена, помимо воли художника (ибо Толстой все сделал, чтобы подчеркнуть безнравственность Анны Карениной), вызывает к себе чувство глубокой симпатии. Впрочем, эта симпатия относится не к нарушению верности ею, а к тому, что она была глубоко несчастна. Когда Вронский добился половой близости с ней, когда Анна, долго противившаяся этому, наконец уступила, она горько и безутешно плакала - и этого читатель не может забыть.
Да, поэзия"изящной безнравственности"играет роковую и страшную роль в соблазнах, которые со всех сторон поджидают нашу молодежь. Воображение юношей и девушек очень рано уже загрязнено, и на почве того неизбежного уже у подростков расхождения сексуальности и эроса, о котором мы говорили в первой главе, загрязнение воображения становится очень опасным. Да дело и не в одном только загрязнении - воображение вообще слишком глубоко связано со всей нашей эмоциональной сферой, а следовательно, и со сферой пола, оно в этом отношениидвусмысленно, т. е. легко из воображения, подсказанного чистой потребностью любви, оно становится сексуальным воображением. А сексуальное воображение всегда нечистое воображение: оно оголяет и обнажает те сексуальные порывы, которые являются нормальными и здоровыми лишь тогда, когда они включены в целостную семейную жизнь. Отделенные же от этой целостности (благодаря вмешательству воображения) сексуальные порывы нарушают основную норму жизни, а воображение, заполненное сексуальными темами, становится проводником отравы. Между прочим, в развитии тайного порока у мальчиков воображению тоже принадлежит огромная роль, и кто хочет бороться с тайным пороком, тот не должен питать сексуальное воображение, а должен приостанавливать его работу. В этом отношении современная литература оказывает гибельное влияние на молодые души, заполняя их сексуальное воображение разными картинами, раздражающими движения пола.
Не следует ли отсюда, что с воображением нужно бороться вообще, быть может, подавлять его еще в детстве? Такой выход был бы тоже ошибочным, ибо сила и влияние чистого воображения столь значительны и ценны, что без них тоже трудно идти путем устроения своей духовной жизни. В католической аскетике воображение признается одной из главных действующих сил, с чем мы, православные, уже не можем согласиться, так как верховным принципом духовного здоровья признаем мы начало"трезвости", как это у нас называется. Это начало"трезвости", ясность и просветленность сознания ставит границы воображению, без чего в духовной жизни становится очень близка опасность"прелести", как говорят в аскетике, т. е. незаметного поклонения лжи и неправде. Но если православная аскетика наша ставит границы воображению, поскольку оно направлено на горнюю сферу, на сферу святыни, то все же воображение отнюдь не признается опасной и жуткой силой, если оно имеет чистый характер. Как раз сила эроса, действуя на воображение, придает ему этот характер чистоты, быть может, даже некоторой (романтической) отрешенности. Именно у подростков их романтическое воображение не только свободно от всякого налета сексуальности, но и прямо чуждается, отвращается от всякого намека на сексуальность. Одностороннее, безграничное развитие такой романтической отрешенности тоже становится опасным, создавая чрезвычайную мечтательность и фантастичность, которые (особенно у девушек) ведут часто, при прикосновении к реальной жизни, например, при образовании своей семьи, к тяжелым, порой непоправимым трагедиям. Одностороннее развитие романтического воображения имеет свои опасные стороны, как опасно и одностороннее развитие сексуального воображения. Но именно потому и необходимо не отбрасывание силы воображения, а правильная культура ее. Ввиду того распада целостной сферы пола на сексуальность и эрос, который является естественной болезнью юности, необходимо всячески стремиться к тому, чтобы воображение оказалось на стороне эроса, а не сексуальности.
Я придаю такое огромное значение в жизни пола, в устроении или неустроении ее именно воображению, что считаю полезным немного остановиться на анализе его. Для ясности картины я воспользуюсь одним литературным материалом, а именно рассказом Тургенева"Фауст", который очень тонко и глубоко подходит к вопросу, нас занимающему. В этом рассказе идет речь о девушке, которая никогда не читала романов, занимаясь исключительно естествознанием. Она вышла замуж, имела детей, но по-прежнему оставалась чужда всему миру фантазии. Когда ей пришлось впервые познакомиться с"Фаустом"Гете, а потом с другими поэтическими произведениями, она была потрясена всем этим новым миром поэтических образов, в ней проснулись какие-то силы, оставшиеся без движения в ее душе. К этому присоединилась неожиданно вспыхнувшая в ней любовь к человеку, который познакомил ее с миром поэзии. И героиня рассказа, переживая очень глубокую внутреннюю драму, не выдерживает ее, заболевает горячкой и умирает. Смысл этого замечательного рассказа чрезвычайно важен для нас. С одной стороны, мир поэзии, вообще мир искусства заключает в себе несомненный яд, преодолеть действие которого душе очень трудно. Душа Веры (героини рассказа) оставалась бы чистой, не загорелась бы любовью к чужому человеку, не коснись ее ядовитое дыхание поэзии, которое пробудило в ней потребность в таких переживаниях, каких не дала ей жизнь. Так была подготовлена в душе ее"измена"мужу - в ней заговорили те силы души, которые не были использованы семьей, и тот, кто вызвал к жизни эти силы, тот стал для нее дороже мужа. На этом примере достаточно видна не только огромная сила воображения, но и вся его безудержность, неукротимость. Если даже такой чистый человек, как Вера, бывшая уже матерью, пробудившись для жизни в воображении, не смогла выдержать страстного порыва в себе, то что же говорить о тех, кто в юные годы отдается фантазии? Воображение является жуткой, опасной силой в нас не только потому, что мы не в состоянии регулировать ее, но и потому, что для воображения нет границ, что мы теряем чувство реальности, теряем подсознательный контроль инстинкта самосохранения, отдаемся нашим порывам, как бы упиваемся ими. Да, неправильное развитие воображения, отрывая нас от действительного мира, может привести к потере психического равновесия. Эта власть воображения тем более опасна, что она в то же время дарит душе высшую усладу. Эстетические переживания, услаждаясь которыми душа восходит до несравнимых переживаний радости, не могут быть доступны душе, если не действует в нас воображение. С другой стороны, в деятельности воображения есть всегда хоть малая доля этого эстетического упоения: достаточно вспомнить сладость мечтаний.
Воображение есть огромная творческая, но и жуткая, и страшная сила души. Но нет другого способа овладеть им, как только давая верное движение ему. Подавлять работу воображения опасно, а часто и невозможно - его нужно лишь правильно развивать. Надо дать воображению чистое и светлое движение - и как раз искусство, по существу своему, может сообщать воображению эту возвышающую и светлую силу. Еще Аристотель учил об очищающем действии искусства, и это верно в том смысле, что светлые образы, создаваемые искусством как вечные спутники, всегда зовут нас к тому, что чисто, изящно, благородно. Приобщаясь к миру искусства, мы вводим вообще в нашу душу то великое начало ритма, которое облагораживает и тело, и душу, освобождает нас от всего грубого, темного и зовет нас к красоте, к преображению нас. Однако в искусстве, как мы его находим и в современности, и раньше, всегда есть много и двусмысленного - этого отрицать не следует. Именно поэтому и действие искусства в нас двойственное: оно возвышает душу, но оно же вносит и яд в нее. Это надо прямо признать, но надо иметь при этом в виду, что путь человека во всем идет не так, чтобы нам проходить мимо зла (что невозможно, ибо зло входит в самую душу нашу), а в том, чтобы отвергнуть зло, чтобы сознательно и свободно выбрать добро. Зло, струящееся через искусство в душу, легче отразить, чем зло в жизни, и если искусство заключает в себе яд, то в нем же самом дано и противоядие - а душа должна выбрать, что она предпочитает. Поэтому не только невозможно, но и не нужно подавлять воображение - нужно лишь помочь душе преодолеть соблазн зла и полюбить добро.
С культурой воображения очень связана так называемая сублимация, которая подхватывает движения эроса и переводит их в высшие формы. На сублимации основана вся тайна воздержания и, следовательно, и девственности: та"игра"пола, избежать которой не дано никому, может быть трансформирована в высшие движения,"сублимирована"(поднята). Много ценного на эту тему можно найти в книге проф. Вышеславцева"Этика преображенного эроса"где о"преображении"эроса, о путях сублимации сказано много верного. Но если верно, что"прекрасный образ"отрывает нас от сексуальности и может увлечь наш дух на высоты, тем самым переводя половую энергию в энергию пола, т. е. в резервуар творческих сил в человеке, то не нужно забывать, что здесь всегда неизбежен и нужен некий духовный труд - часто очень тяжкий. Отрываться от тех"наслаждений", которые сулят нам сексуальные порывы, всегда бывает трудно и даже мучительно. Аскетика всех веков накопила огромный опыт тех трудностей, с которыми приходится преодолевать сексуальные соблазны: уже простой"помысел", простой образ, таящий в себе возможность сексуального возбуждения, обладает большой силой. Поэтому в борьбе за"преображение"эроса борьба с помыслами получает чрезвычайное значение. Надо только держать в сознании ясно, для чего нужно подавлять в себе помыслы сексуального характера. И конечно, идеал чистоты, воплощенный в святых, помогает нам бороться в себе за чистоту, за"преображение эроса", т. е. за сублимацию сексуальных движений.
Тут снова приходится напомнить, что всякий духовный труд в нас связан (неиследимо для нашего сознания) с крестом. У каждого человека есть свой крест, т. е. есть свой путь восхождения к Богу, к Царству Божию. Крест не означает непременно страдания, но он неизбежно включает их в себя - эти страдания создаются той коренной расстроенностью всего нашего существа, которая именуется"первородным грехом", т. е. грехом не индивидуальным, даже не создаваемым условиями физической и социальной наследственности, а вытекающими из свойства природы нашей; естественно, что сфера пола более других (по связанности в ней тела и души) обречена на то, чтобы быть источником страданий. Никто миновать этих страданий из-за пола не может, но можно и должно их не только переносить, но и обращать их на добро и пользу. И тот духовный труд, который даже в самой благоустроенной семье нужен для регуляции"игры"пола, внутренне и определяется нашим крестом.
Ни в чем не сказывается это с такой силой, как в вынужденном безбрачии. Мы обозначаем этим именем те случаи, когда при всем желании создать себе семью - это не удается. Мужчина, который по сложившимся социальным условиям имеет то преимущество, что он может проявить инициативу и делать"предложения"девушке, которую хотел бы взять в жены, если получит отказ, может перенести это спокойно и мужественно, пробовать искать других путей женитьбы. А девушки, лишенные инициативы (не могут же они предлагать себя в жены!), часто так и остаются в девичестве или потому, что те, кто им по душе, ими не интересуются, а интересуются ими те, кто им не по душе, или по другим причинам. Так или иначе бывает безбрачие вынужденное - без всякой склонности к монашеству, где безбрачное состояние определяется тяготением к одиночеству, к половому воздержанию. Безбрачие, вытекающее из стремления к монашеству, есть некая лестница восхождения к высшему званию, и здесь борьба с полом становится одной из тем духовной внутренней жизни. Сублимация половой энергии, неизбежно накопляющейся в теле, хотя и трудна, но осуществима именно на путях устремленности ввысь. Здесь действительно происходит "преображение эроса"; самый крест борьбы с половыми движениями становится частью общего креста, борьбы с"ветхим человеком"в себе. Все ударение, весь динамический заряд связан здесь со свободным устремлением ввысь, что и заключает в себе огромную духовную энергию. Не говорим уже о том, что, попадая в монастырь с вековым укладом размеренной, ритмически построенной церковной жизни, те, кто вступает на путь монашества, находят в этой церковной жизни, с ее ритмами, правилами, обязанностями огромную психическую поддержку.
Но девственность вынужденная, не добровольная, не находящая никакой поддержки в душе, не создает ли новые мучения - не только не ослабляя давление пола, а наоборот, его усиливая, ибо душа жаждет половой жизни и томится от этой жажды. Вынужденное безбрачие не ставит ли по-новому вопрос о внебрачном сожительстве, не оправдывает ли случайные и неслучайные связи?
Но надо иметь в виду: только в брачной жизни удовлетворение сексуальной потребности не вносит никакой лжи, никакой дисгармонии, а все внебрачные отношения неизменно включают в себя ложь, неизменно вносят дисгармонию. Надо потерять стыд, чтобы не чувствовать тяжесть в душе, когда люди тайком или путем всяких искусственных комбинаций"устраиваются"с чужими женами. Или - что бывает реже, но, увы, все же случается - когда молодые люди сходятся с девушками, на которых по тем или иным причинам не могут, да и не хотят жениться. Вся эта сеть лжи, неправды, всяких искусственных мер и т. д. неизбежно отравляет души, что бы ни говорили себе те, кто становится на этот путь. Из вынужденного безбрачия есть лишь один нормальный выход - брак; даже"неудачная"семейная жизнь, полная разных трудностей и терзаний, для сферы пола дает то, что ей нужно. Если только обе стороны в таком"неудачном"браке несут мужественно свой крест и стремятся скрасить друг другу тяжкую жизнь, открывшуюся им в браке, то бремя такого брака понемногу становится легче и выносимое.
Вынужденное безбрачие обрекает, конечно, на тяжкую борьбу с самим собой, но есть путь, на котором эта борьба действительно облегчается - это сблизиться с какой-либо семьей, где есть дети. Чужие дети становятся для нас нашими, собственными; радости чужой семьи питают душу, ее скорби заставляют прилагать усилия к их ослаблению. Многовековой опыт показал, что на этом пути вынужденное воздержание становится выносимо и создает ту сублимацию половой энергии, которая освобождает и тело, и душу от терзаний и беспокойств.
Как мы видим, нет иного пути в устроении жизни пола, как брачная жизнь или полное безбрачие (монашество или вынужденное безбрачие).
Но есть в жизни пола еще несколько темных сторон, которых мы должны коснуться, чтобы не обойти и эти трудности. Все они являются извращениями, т. е. нарушением естественных норм половой жизни, и среди этих извращений мы остановимся только на двух, неравноценных, впрочем, по своему значению во внутренней жизни. Оба типа извращения возникают только у мужчин, - и это снова показывает особые трудности мужской натуры в сфере пола.
Скажем несколько слов о так называемом тайном пороке, которым страдает подавляющее большинство подростков. В огромной части молодые люди, вступающие на путь полового сожительства с женщиной, обыкновенно освобождаются от такого порока, но бывают случаи, когда, уже находясь в браке и имея нормальную половую жизнь, некоторые мужчины не перестают страдать тайным пороком - такова бывает сила привычки.
При всей неестественности и внутренней отвратительности тайного порока он не был бы слишком опасен, если бы не то, что здесь нет никаких внешних границ в злоупотреблении им, а еще больше то, что, став привычкой, он тянет к себе даже и тогда, когда он непереносимо мучителен и даже омерзителен. Когда окрепнет привычка к тайному пороку, то самая тяжелая сторона в нем заключается как раз в том, что подросток чувствует себя во власти какой-то роковой силы, которую он не может победить. Это создает неуверенность в себе, а потому и подозрительность к другим (подростку кажется, что и другие его не уважают), склонность к меланхолии, к апатии, упадок живой и творческой жизни. Все это, конечно, расстраивает душевное здоровье, а при неблагоприятной нервной конституции подростка это может тяжело отразиться на психическом равновесии, иногда привести к настоящему душевному заболеванию. Вообще же говоря, между тайным пороком и психическими болезнями нет прямой и безусловной связи; надо признать прямо вредным тот, очень распространенный взгляд, согласно которому признается, что тайный порок неизбежно ведет к психическому заболеванию. Этот взгляд, будучи неверным, вреден и потому, что он лишь усиливает описанную выше психическую подавленность и не помогает подростку или юноше освободиться от дурной привычки, а наоборот, закрепляет ее, усиливая подавленность и создавая безнадежное настроение. Между тем тайный порок, как и всякая привычка, может быть побежден лишь при вере в себя, вере в возможность победы над привычкой: здесь особенно сильно проявляется творческое действие веры в нас. Врачи и педагоги часто рекомендуют ряд внешних средств - холодные обтирания, занятия спортом, погружение в умственную работу и т. д. Все это, несомненно, очень полезно, но решающее значение принадлежит готовности бросить порок, внутренней решимости освободиться от него. Как и во всякой борьбе с укоренившейся привычкой, не приходится рассчитывать на быструю победу: привычка, подавленная сегодня, заговорит с еще большей силой завтра или позже - тут нужна длительная, неустанная борьба. В сущности, силы привычки (всякой) не так велика, как кажется. Она создает очень острые точки, наполняющие душу жгучим желанием удовлетворения - но стоит пройти эти точки, как сила и давление этого жгучего желания совершенно пропадает. Сосредоточенность силы привычки в этих острых, мучительных точках показывает, что нужно продержаться лишь несколько трудных моментов - и победа обеспечена. Но для того чтобы устоять в эти мучительные точки, нужно иметь перед собой определенную, одушевляющую, дорогую задачу, ради которой душа действительно готова перемучиться. Искушение в эти мучительные точки так подчиняет себе, так зовет и смущает, что душа подростка часто не выдерживает, говоря себе:"Сегодня я еще не буду бороться, а вот уже завтра". Преодолеть это искушение возможно лишь во имя чего-либо определенного и ясного - и здесь возникает основной вопрос, на который каждый должен уметь ответить, а именно:"Для чего нужна, во имя чего нужна чистота?" - Только во имя отвлеченных законов морали и требований природы трудно бороться с искушениями. Легче всего справиться подростку с этим, найти мотивы чистоты в том случае, если он полюбил кого-нибудь. Он инстинктивно чувствует тогда всю ложь, всю неправду внешнего удовлетворения сексуальной потребности, инстинктивно сознает, что, любя какую-либо девушку, он не только душой, но и телом принадлежит ей. Есть какое-то воровство, какая-то глубокая, но бесспорная ложь в том, что, любя какую-либо девушку, подросток все-таки предается тайному пороку или половой жизни. Во имя любимой девушки, во имя своей любви к ней подросток должен оставаться чистым, и этот мотив чистоты действительно часто помогает молодым людям справляться с налетающими на них искушениями. Но недостаточность этого мотива видна из того, что он может действовать не у всех, а лишь у тех, чья душа охвачена любовью. Любовь нельзя в себе искусственно вызвать, она есть в том смысле"случайность", что не зависит от воли обоих любящих существ. Благо тем, чья душа живет любовью разделенной, не безответной - эта любовь явится для них творческой силой во всех отношениях, в том числе и в борьбе с пороком во имя чистоты. Но неужели для чистоты нет других мотивов, кроме мотива любви?
Вторым основанием чистоты может быть"блюдение самого себя", стремление идти путем правды и добра. Этот мотив сравнительно редко обладает достаточной силой - лишь немногое натуры в силу присущего им дара стремятся к самосовершенствованию во имя самого же себя. Стремление к тому, чтобы стать лучше, подавить свои недостатки, есть, по существу, аскетическое стремление, которое наиболее сильно в нас тогда, когда перед нами сияет идеал, зовущий к себе. Это мы имеем в полной силе лишь там, где есть налицо религиозная жизнь, в которой мотивы чистоты получают особенно сильное выражение. Не во имя себя, не во имя одного самосовершенствования, но из любви к Пречистой Божьей Матери душа стремится сама стать чистой. Правда Божия, подобно лучам солнца, освещает и пронизывает душу, и всякое темное пятнышко в ней томит и тревожит. Величайшее творческое значение для нас религиозной жизни заключено в таинстве покаяния -таинстве полного и действительного снятия с нас грехов, в глубоком очищении души от них. Если мы принесем Богу покаяние в наших грехах и получим через священника отпущение наших грехов - грехи наши отходят от нас, душа вновь обретает утерянную чистоту, обновляется и освобождается от всего, что ее бременило. Поэтому в борьбе с тайным пороком особенно велика помощь, оказываемая нам религиозной жизнью. С одной стороны, мотивы чистоты, заключенные в обращенности души к Богу, по силе своей превосходят все иные мотивы; творческий порыв души питается и согревается всей той святыней, которой мы поклоняемся, и никто не слабеет, а, наоборот, растет вместе с возрастанием в духовной жизни. С другой стороны, очищающая сила покаяния подлинно возвращает нам утерянную чистоту души, дает нам энергию, необходимую для того, чтобы побеждать искушения.
Другим гораздо более тяжким извращением является то, о котором говорит апостол Павел (Рим. 1,27), который теперь называют"гомосексуализмом". Надо бояться того, что порок этот гораздо более распространен, чем думают. Взрослые мужчины, страдающие этим пороком, ищут подростков и юношей, чтобы пользоваться ими для удовлетворения половой потребности. Еще греки страдали очень этим извращением ("педерастия"), которое, увы, достаточно распространено и в Западной Европе. Когда это извращение достигает известной силы, с ним, по-видимому, трудно уже бороться - тем более важно охранять мальчиков от покушений на них со стороны извращенных людей старшего возраста. Есть глухие сведения, что в закрытых мужских пансионах мальчики с развитой чувственностью стараются овладеть невинными младшими товарищами и приучить их к опасному пороку. Задача педагога заключается здесь в том, чтобы предупредить вовремя мальчиков от"ухаживаний"за ними взрослых, извращенных мужчин. Как всякое извращение, так и гомосексуализм, раз"присосавшись", с трудом отрывается, а в то же время медленно, но непременно происходит психическая деформация - именно потому, что гомосексуализм неестественен. От этой беды можно и должно предостеречь наших детей.
Заключение
Пол есть источник творческой силы в человеке, залог его"человечности", отличающей нас от ангелов. Как телесно-духовная функция он не тождественен с сексуальностью - и оттого мы и отличали энергию пола от половой энергии. Половое воздержание, сводящее на нет половую энергию, вовсе не убивает энергию пола, а наоборот, в путях сублимамации переводит половую энергию в высшие, духовные формы. Но воздержание (вольное или вынужденное) всегда трудно и предполагает духовные усилия, без которых воздержание может перейти в нервное заболевание. И наоборот, когда воздержание сопровождается духовными усилиями, оно становится источником новых сил, залогом настоящего расцвета творческих данных в человеке. Вот отчего в девственности есть действительная красота и правда.
Однако девственность не должна покоиться на"гнушении"плотью, если кого влечет семейная жизнь и ее радости, если кто хотел бы иметь детей, такой человек имеет перед собой тоже путь праведности - честный брак. Это столь же законный путь жизни, как и девственность, и монашество. Основное в обоих путях - блюдение чистоты, ограждение воображения от всяких нечистых помыслов.
То"расщепление"движений пола, которое ведет к отдельному формированию сексуальности и переживаний эроса, совершенно законно в период полового созревания. Но эта"поляризация"половой силы не должна закрывать глаза на то, что основное проявление этой силы есть потребность любви, слияния в любви с тем, к кому обращена душа. Поэтому всякий"перевес"сексуальных движений (особенно, если нет налицо"объекта", к которому могли бы быть направлены движения любви) тревожен - и здесь нужно много трезвости в себе, много мужества в воле, чтобы не питать сексуального воображения.
Путь чистоты есть вообще путь целостной жизни, не знающей раздвоения сексуальности и эроса, и это значит, что настоящей чистоты можно достигнуть лишь в семейной жизни. В молодые годы пол бурлит и тревожит душу, то выдвигая на первый план сексуальные побуждения с острой и жгучей силой, то отвращаясь от них и ухода в"отрешенный"эрос, в романтику. Эта юная"неустроенность"пола, создающая неуравновешенность и противоречия в мятущейся юной душе, может быть опасна и даже мучительна. Но важно знать, что есть путь чистоты, и еще важнее знать, что"ошибки молодости"поправимы, если они омыты слезами подлинного покаяния. Пол может стать проклятием для нас, может стать причиной душевных и телесных заболеваний, источником жизненных трагедий, но он же может быть источником высших и лучших радостей, открыть душе возможность расцвета и выявления ее силы, может стать началом спасения и творческого преображения. Путь девственности и безбрачия, с одной стороны, и путь семейной жизни, с другой стороны, оба служат нашему спасению, оба дают простор творческим силам, заложенным в поле. Лишь бы твердо держать руль и направлять ладью жизни к правде и красоте. Лишь бы разуметь всем существом правду и неустранимость для каждого человека его креста - будь то путь безбрачия или путь семейной жизни. В несении креста - в формах, которые диктуются жизнью, т. е. на путях безбрачия или на путях семейной жизни и состоит творческая задача каждого человека.
Избранные статьи
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ
Одноименная глава книги: ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В СВЕТЕ ХРИСТИАНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ М.: Свято-Владимирское братство, 1993
1. Поскольку дело воспитания свободно в постановке своих задач, поскольку оно не стеснено тем, что ему навязывается обществом или государством, оно всецело обращено к личности ребенка, направлено на развитие и раскрытие личности, ее своеобразия, ее даров и сил. В этом смысле понятие личности является основным и центральным понятием педагогики, - и чем больше педагогика руководствуется этим понятием, тем настойчивее она выдвигает его основополагающее значение. Можно прививать детям какие-либо навыки, сообщать те или иные знания, если это требуется жизнью, но с педагогической точки зрения ясно, что любая программа воспитания должна быть такой, чтобы эти навыки и знания не внешне, не механически закреплялись в личности, но связывались с ее внутренним содержанием, с ее внутренней жизнью. Педагогически плодотворным можно признать лишь то усвоение навыков или знаний, которое связывает их с жизнью личности для нее самой. В этом превращении извне приходящего материала во внутренне обусловленные силы и движения души собственно и заключается задача воспитания: извне навязанное должно через воспитание стать внутренне необходимым. Этот процесс"интроцепции", как его называет В. Штерн
[5], вводит в состав личности, во внутреннюю систему ее движений и сил то, что приходит к ней извне: обойти же личность, как-то безлично привить ей что-либо, значит по существу умерщвлять и убивать начало личности. В этом смысле современное педагогическое сознание всецело обращено к личности ребенка; в ее законах, в ритме ее развития, в ее заболеваниях оно ищет руководящих указаний при выработке тех или иных приемов.
Это центральное значение понятия личности для педагогики не означает, однако, что оно является в ней верховным принципом. Ни в метафизике, ни в этике невозможно абсолютирование личности, невозможно это и в педагогике. Личность связана всегда с каким-либо социальным целым, она включена в порядок природы, в своей внутренней жизни обращена к миру ценностей, ищет опоры и восполнения в Боге. Абсолютный характер понятие личности получает лишь в применении к Богу - в человеке же начало личности является умаленным и ограниченным с разных сторон. Метафизический индивидуализм
[6], т. е. возведение принципа личности в человеке в абсолютное, самосущее начало противоречит системности и единству мира, в котором множественность личностей не устраняет их живой связанности и взаимозависимости. И в моральной сфере начало личности не может быть абсолютировано: сфера ценностей не созидается личностью, а наоборот ее созидает и питает. И в педагогике центральное значение понятия личности не дает права приписывать верховное значение принципу личности. Воспитание, конечно, всецело обращено к личностному бытию, оно не знает другого бытия, оно не может ставить себе целью обезличить дитя, ослабить в нем начало личности. Но если начало личности в человеке не абсолютно, не является самосущим началом, то нельзя говорить о воспитании личности в детях вне содержания самой жизни личности. Нельзя превращать начало личности в какую-то самосущую, ни от чего независимую силу, отделять личность от всего того, что определяет смысл ее жизни.
2. В начале личности, не абсолютном самом в себе, есть все же сияние Абсолюта. Мы поймем смысл этого при изложении системы христианской антропологии, - но в поклонении началу личности quand meme сказывается как раз ощущение этого"луча"Абсолютного Бытия, которое почиет на человеке. Так возникло в педагогике течение, возводящее задачу воспитания личности, как таковой, то есть вне вопроса о смысле ее жизни, - в высшую тему педагогики. Смысл воспитания, согласно этому течению, состоит в том, чтобы дать личности ребенка вообще"раскрыться" - в полноте ее сил, помочь ей творчески осуществить то, что заложено в ее глубине, в основе ее своеобразия и особенности. Это и есть превращение центральности понятия личности в верховный принцип педагогики: вся работа воспитания с этой точки зрения заключается лишь в том, чтобы личность могла свободно творить самое себя, чтобы ее творческие силы не были ничем стеснены. Чем бы ни стала личность; но если она свободно избирает свой путь и находит удовлетворение в той жизни, какую она строит - это оправдано в глазах педагогов тем, что верховное значение принципа личности здесь не нарушено. Это превращает воспитание в сущности в бессодержательную задачу, в чистое развитие принципа личности - независимо от того, во что выльется жизнь личности. Слепое преклонение перед началом личности ведет к педагогическому анархизму, к отрицанию объективных принципов воспитания - как это мы и видим в ряде течении, особенно у Л. Толстого и его различных последователей.
Огромное, однако, число современных педагогов свободно от такого формализма в вопросе о воспитании личности. Веря в творческие силы, заложенные в детской душе, в действенность внутренних факторов душевной жизни, они озабочены однако тем, чтобы обеспечить ребенку здоровое, крепкое, творческое развитие в определенных его линиях. Одни заняты тем, чтобы развить те дарования, какие присущи данному ребенку, укрепить и усилить те психические функции, которые дадут возможность личности наиболее полно и ярко выявить себя
[7]. Другие придают существенное значение развитию социальных сил в ребенке, накоплению в нем социальных навыков, способности проникаться теми задачами, которыми живет общество
[8]. В Америке придают главное значение формированию"характера" - умению проводить в жизнь свои идеи, осуществлять свои замыслы. Идея развития творчества в человеке есть вообще одна из любимых и дорогих идей для современной педагогики, можно сказать - высшая цель, к которой стремиться современное воспитание. Но в американской педагогике к этому присоединяется еще очень четкое определение условий развития творческой силы - это и есть"Charakterbildung", формирование силы, необходимой для реализации творческих замыслов человека. Воспитание характера означает здесь воспитание умения достигать
[9] поставленных целей, умения овладевать средой и теми силами, какие находятся в данной обстановке.
Все эти определения задач воспитания отходят от чисто формального сосредоточения на развитии личности"вообще"или на идее"гармоничного"раскрытия ее сил
[10] - они выдвигают на первый план те или иные конкретные цели, в достижении которых усматривают"благо"личности. Нельзя сомневаться в том, что педагогическая мысль движется в этом случае глубокой любовью к детям и чувством ответственности за их будущее, что она стремится дать максимум того, что вообще может дать воспитание. Педагогическое внимание сосредоточено здесь на том, чтобы развить в ребенке те функции, которые сделают его сильным и творческим в условиях современной жизни и освободят его от возможных конфликтов или неверных путей.
В таком педагогическом реализме есть, конечно, много очень ценного. Задача воспитания понимается здесь не так, что нужно вообще помочь ребенку стать"личностью"и"раскрыть"себя, - а так, что принимаются во внимание те стороны человека, в развитии которых обеспечивается"удача"и"благо"личности. Не бесформенный и бессодержательный культ личности, легко заканчивающийся торжеством импрессионизма, имеется здесь в виду, а развитие силы - физической, социальной, силы"характера" - развитие самодисциплины, технических предпосылок творчества, наконец развитие творческих сил в ребенке, насколько они в нем имеются. В таком сосредоточении внимания на крепости, силе, творческой мощи личности есть как раз много реализма, ценность которого особенно велика перед лицом тех многообразных заболеваний личности, которыми особенно страдает наше время. Есть, однако, какой-то невыразимо мучительный контраст между тем, как усиленно выдвигается в воспитании задача развития силы личности, умения ее"найти себя"и"отстоять себя"в сложных условиях современной жизни - и тем, как придавлена, стеснена личность человека в наше время со всех сторон, какой забитой и бессильной сознает она себя. Современная психопатология достаточно разбирается в бесчисленных формах этой угнетенности, - и самое обилие школ, расходящихся в истолковании этой угнетенности, дает возможность глубже и полнее вдуматься в трагедию современного человека. Вот уж когда особенно уместно вспомнить стихи Шиллера, волновавшие Митю Карамазова, -о том, что Церера "В унижении глубоком Человека всюду зрит". "Страшно много человеку на земле терпеть приходится, страшно много ему бед", добавляет к этим стихам Митя Карамазов. Тот же самый мотив реализма, который ставит остро вопрос о развитии социальной, творческой и просто личной"силы"в детях, - он же ставит с чрезвычайной остротой вопрос о том, что та сила, которую воспитание хочет выработать в детях, не предохраняет их от трагедий, от жестоких и мучительных неудач, от безрадостности и даже бессмысленности жизни. То, о чем заботится современное воспитание, конечно, нужно и важно, но оно или не затрагивает основной тайны в человеке, проходит мимо самого существенного в жизни, - или слишком слабо и незначительно, чтобы оказаться способным обеспечить детям"благо". Физическое здоровье, культура ума и чувств, сильный характер, здоровые социальные навыки не спасают от возможности глубоких, часто трагических конфликтов в душе человека, не охраняют его в страшные часы одинокого раздумья. Тема о человеке оказывается шире и глубже, сложнее и запутаннее, чем ее знает современное воспитание.
3. И прежде всего здесь приходится посчитаться со всей той"бездной бессознательного", как выражается Феррьер, в которой таятся различные конфликты, нередко приводящие к душевным заболеваниям, тягостной неврастении или к социальному авантюризму, в который так же порой спасается мятущаяся душа, как она, по выражению Фрейда, спасается от внутренних терзаний в душевную болезнь…
Для педагогики особенно ценно и важно, среди разных современных теорий, учение Адлера - не в том, как он толкует природу человека, а в его учении о психических компенсациях
[11]. Впрочем и работы Фрейда и его школы, если отбросить их односторонность, важны тем, что они раскрыли всю реальность, а главное всю динамичность нашего"подполья". О том, что жизнь души за порогом сознания имеет огромное значение в развитии человека, в ритме (или аритмии) его внутренней жизни, знали давно, но лишь после работ Фрейда, Адлера, Юнга и других психопатологов стала ясна вся напряженность закрытой жизни души, массивная тяжесть того, что"на дне души таится". Конфликты, которые образуют содержание нашего подполья, возникают так"естественно", почти неизбежно, что вся культура душевной периферии, которой обычно занято наше воспитание, кажется просто легкомысленным обходом подлинных трудностей в душе. Если по Адлеру в человеке живет неистребимая потребность социального самоутверждения и если, в силу закона компенсации, накопление опыта неудач развивает в глубине души страстную потребность найти возможность компенсировать этот опыт, не взирая ни на какие препятствия, - то это значит, что в этом направлении должна лежать главная педагогическая забота наша о детях. Можно было бы назвать аксиомой педагогики положение, что мы должны помочь детям в первую очередь тем, в чем они не могут обойтись без нашей помощи
[12]. Конечно, и родители и педагоги чувствуют в тех или иных проявлениях детской души скрытую логику, скрытую напряженность внутренней жизни, -но сосредоточивая задачу воспитания на развитии периферии души, мы словно хотим убежать от серьезных задач, стоящих перед нами. Можно сказать и больше:"периферийность"нашего воспитания, его современных форм сама является часто источником разнообразных осложнений в детской душе. Очень многие конфликты в детской душе создаются нами самими. Мы этого не замечаем, дети тоже забывают об этом, но те раны, те внутренние обвалы, которые совершаются в юной душе, замирание творческого огня и переход линии банальности и обыденщины, - все это остается в детях часто навсегда. Современная психопатология, а за ней и современная криминология побуждают переносить именно на детство возникновение тех внутренних диссонансов, тех сил саморазрушения, вкуса к извращениям (конечно, не в одной лишь сфере пола), тех надломов, которые изнутри губят душу. Нельзя игнорировать всего этого, нельзя не отдавать себе отчета в том, что целостность - столь излюбленная и действительно нужная нам - заключается вовсе не в"гармоническом"развитии души (т. е. ее периферии!), а в установлении условий внутреннего равновесия самообновления души.
4. Величайшей загадкой и в то же время важнейшей темой для воспитания является начало свободы в человеке. Это начало свободы таинственно и глубоко - тут действительно дело идет о центральной"тайне"(mysterium libertatis) в человеке. В сознании этого современное воспитание хочет быть свободным, хочет идти навстречу свободе ребенка. Поскольку оно решительно порывает с тем довольно бесцеремонным навязыванием детям разных требований, правил, которое отличало воспитание прежнего времени, поскольку современное воспитание хочет быть внимательным к запросам и интересам ребенка, к его внутреннему миру, к его желанию самому определять свой путь, - оно угадывает величайшую правду о человеке, о детской душе - правду о том, что все подлинное в человеке может быть только свободным, идущим изнутри. Уважение к детской индивидуальности, признание права ребенка на то, чтобы идти"своим"путем - иметь свои вкусы и интересы, сознание того, что внутренняя динамика души противится всякому принуждению
[13] - все это настолько укрепляет идею свободы в современной педагогике, что вне ее нельзя и мыслить воспитания. Но идиллический, наивный взгляд на свободу давно уже исчез
[14], после тех крайностей, в какие вылилась идея свободного воспитания у Толстого; вообще в течении педагогического анархизма, тема свободы, оставаясь основной и неустранимой, раскрылась во всей ее загадочности. Что значит свобода в детской душе, каковы ее условия, каково место ее в человеке? Идея свободы выражает самое глубокое, самое индивидуальное, неразложимое в человеке, в ней есть не только отсвет абсолютного, что ее делает подлинным божественным даром, - в ней есть что-то призывное и преображающее. Свобода светит человеческой душе, не как реальность, не как данная ей сила, но как возможность, как задание, - и как раз в идее свободы есть начало освобождения человека от власти природы, от своего прошлого, своих привычек и страстей. Свобода дана и не дана. Еще Джон Ст. Милль сознавал, что для воспитания необходим, как он говорил,"предрассудок свободы", - и тут есть то вечное, что свобода не есть нечто изначала данное-ее поистине надо"завоевывать", ее нужно утверждать и находить. Свобода связана в нас с тем, что дух наш смотрится всегда в бесконечное
[15], томится в нем, -и это томление уже само по себе вносит начало свободы. В сознании свободы раскрывается впервые путь творчества; в этом смысле можно сказать, что задача воспитания в том, чтобы зажечь душу идеей свободы, привести к свободе, взволновать и вдохновить душу идеей свободы. Свобода не дана, а задана - но не в смысле чего-то надуманного или выдуманного; она нужна душе, как живая вода, сообщающая ей жизнь, дающая ей крылья. Потому и бессмысленен педагогический анархизм или утверждение, что в ребенке есть свобода. В воспитании дело идет об"освобождении"
[16], т. е. о восхождении к свободе. Однако это утверждение не следует понимать так, что свобода в ребенке лишь потенциальна: она есть и в детской душе, но только она глубже сознания, в силу чего она имеет иной смысл, чем свобода в зрелой душе. Но воспитание работает над эмпирической личностью, над той ее частью, которая связана с миром вещественным и социальным; духовные силы ребенка (в том числе дар свободы) создают возможность и основу воспитания, но они не создаются воспитанием. В этом смысле воспитание имеет задачу помочь ребенку стать свободным, обрести свободу.
Но здесь-то и встает перед нами вся трагическая особенность современного воспитания. Оно верит в свободу, потому что глубоко ощущает ее основное значение в судьбе человека; оно стремится"освободить"дитя, т. е. дать ему силу самообладания, возможность подниматься над случайными, периферическими желаниями, -оно, наконец, хочет сделать свободу творческой. Но дар свободы - великий, но и страшный дар; без него не цветет, не раскрывается личность, но в свободе же источник всех трагедий, всех испытаний человека. Свобода ставит нас неизменно и неотвратимо перед дилеммой добра и зла - и как часто свобода, подлинная, глубокая, блистающая всеми дарами человеческой души-уводит нас на путь зла и разрушения- себя и других! Если нельзя ставить задачей воспитания развитие начала личности вне связи со сферой смыслов, - то еще менее можно развивать свободу, не обеспечивая ее связи с добром. А как это обеспечить? В том ведь и сущность свободы, что она не может быть заранее определена в своих актах: чем глубже наша душа, тем яснее выступает в ней иррациональность свободы, ее хаотичность и аритмия.
Для педагогического сознания все это ставит очень мучительный и роковой вопрос. Вне развития свободы нет смысла в воспитании, - оно превращается вне свободы в дрессировку, в подавление личности и унижение ее. Но развивать свободу - не значит ли углублять в детях право"выбора", возможность ухода в сторону зла? Не нужно быть придирчивым к современности, чтобы признать; что современный человек не умеет отстоять в себе добро, что он чрезвычайно легко поддается соблазнам и искушениям. Зло стало таким открытым, дерзким и часто безнаказанным в современной жизни, что оно легко отстраняет добро в душе. Нельзя уклониться от этой проблемы под тем предлогом, что каждый человек сам ответственен за себя, что наша задача только"поставить на ноги"дитя, - а куда оно пойдет, став на ноги, это уже не наша забота. Такая позиция не только недопустима, но она педагогически преступна: жизнь слишком полна трагедий, сил саморазрушения, чтобы об этом не думать. Идиллия в этом вопросе недопустима - перед детьми слишком рано обнажаются тайны жизни, слишком рано открывается темная сторона ее.
5. Все это ставит очень остро и ответственно вопрос, от которого не смеет отвернуться педагогика, вопрос о том - как обеспечить связь свободы и добра? Для педагога бесспорна правда свободы, но несомненно и то, что эта правда гибнет и топчется, когда свобода ведет к злу. Как же подлинно обеспечить то, чтобы свобода внутренне и подлинно была связана с добром? Как превратить начало свободы в источник творчества, а не произвола, восхождения к добру, а не служения злу? Свобода так часто переживается людьми, как бремя, - и не только в наше время, когда индивидуум жаждет раствориться в массе, в коллективе и спешит отказаться от своей свободы. Вся"тайна"свободы в ее странной антиномичности-в ее глубокой связи с самой основой личности и в ее"неустроенности", в возможности срыва, ухода во власть страстей. Свобода больше смущает, чем помогает, больше обременяет, чем окрыляет:"благие порывы"так легко оказываются смятыми, бессильными, и лишь в горьком раскаянии после совершенного греха сознаем мы всю реальность свободы, которая была в нас и которой мы все же не владели.
В свете этого по-новому освещаются те задачи воспитания, о которых мы говорили выше. Устроение и развитие периферии души, и наличность тяжелых конфликтов в глубине подсознательного заставляет сомневаться в том, что мы правильно понимаем задачи воспитания. Но загадка свободы, ее правда и ее невместимость, ее ценность и возможность зла через свободу ставят еще более серьезную и трудную проблему. Как связать в душе ребенка дар свободы с добром? Как наполнить развитие разных сил в человеке глубоким смыслом, связать душу с миром ценностей - не минуя свободы, а через свободу? Развитие дара свободы в ребенке не может быть понято формально, мы не можем уйти от ответственности за то, станет ли дар свободы источником греха или проводником правды.
Это есть великая проблема зла в человеке - которая предстает педагогическому сознанию, конечно, с большей остротой и напряженностью, чем она ставится в философии, в чистой этике. Мы не только ответственны за дитя, но еще в большей степени вопрос о зле стоит для нас остро потому, что мы имеем дело не с человеком"вообще", в его отвлеченности, а с живыми детьми, благо и счастье которых нам дороже всего на свете. Проблема воспитания добра или направления ребенка к добру есть не частичная проблема воспитания, а главная и основная проблема. В этой-то задаче мы становимся лицом к лицу с загадкой свободы, с невозможностью принудительно привести дитя к добру, с мучительным сознанием того, что вся работа воспитания может быть сведена к нулю этим началом свободы. Глубина свободы в человеке, если угодно, мешает воспитанию, но что бы ни говорили, нельзя воспитать к добру как-то помимо свободы и вне ее. Добро должно стать собственной, внутренней дорогой, свободно возлюбленной темой жизни для ребенка, -и то, что добро нельзя"вложить", что никакие привычки, заученные правила, устрашения не могут превратить добро в подлинную цель жизни - это превращает ранее упомянутые цели воспитания во что-то бесконечно маленькое, вторичное. Есть какая-то непобедимая пошлость в том, чтобы в воспитании забыть о центральности, существенности темы добра, чтобы ее отодвинуть куда-то, сложить с себя ответственность за нее, предоставить ее"свободе"ребенка и отказаться от того, чтобы"вести его"к добру. Когда так говорят о свободе, то в сущности играют словами: ведь вся загадка свободы в человеке в том и состоит, что свобода не связана изнутри в нас с добром
[17].
Можно было бы, конечно, отодвинуть проблему добра, освободить воспитание от задачи развития добра в душе ребенка. Такой аморализм в педагогике означал бы, однако, лишь отсутствие в нас любви к детям, подлинной заботы о них. Спорить о том, входит или не входит тема добра в задачи воспитания, не приходится-скорее надо бояться того, что самую эту тему понимают, отделяя ее от начала свободы, сводят просто к насаждению добрых привычек, к подавлению или ослаблению дурных движений души. Постановка вопросов так называемого морального воспитания вне трагической темы свободы очень часто встречается и в современной педагогике - и как раз там, где есть склонность к педагогическому натурализму
[18]. Трансцендентализм в педагогике свободен от этой ошибки, он отчетливо выдвигает положение, что моральное воспитание есть воспитание к свободе и через свободу
[19]. Но отчетливая постановка этого вопроса выводит нас далеко за пределы той остановки на периферии души, которая так свойственна современной педагогике. Не приспособление ребенка к жизни, а развитие в нем сил добра, обеспечивание связи добра и свободы должно составлять цель воспитания: приспособление (функциональное, социальное и т. д.) к жизни имеет ведь чисто инструментальный характер. Добро в душе не рождается ни от физического здоровья, ни от хороших социальных навыков, ни от развития творческих сил: оно также невыводимо из периферии души, как ныне в психологии мышления признается сознание идей (в актах так называемой идеации) невыводимых из чувственного материала знания.
6. Мы не раз говорили о том, что одна из главных задач педагогики - осмыслить и обосновать, можно сказать - "оправдать"веру в детскую душу. Только та педагогическая система, в которой получает свой надлежащий смысл эта вера, правильно освещает самую"суть"воспитания. Но в свете всего сказанного выше обоснование веры в детскую душу, не отрицая значимости эмпирических сил, явно относится не к ним. Дитя может быть подготовленным к"технике"жизни, оно может даже развить творческие силы в себе, - но как все это будет связано с добром? Есть ли вообще в детской душе некий залог добра, на который можно было бы опереться в стремлении развить в нем волю к добру и тем изнутри связать начало свободы с добром? Если есть некий"залог добра", - не простая"категория духа", формально ставящая тему морали, но живое и подлинное приобщение к Добру, как вечному началу, -то в каком отношении оно стоит к человеку, как его понимает современная мысль? Нам нужна вера в детскую душу, но ее нельзя объявлять"предрассудком"и в то же время на нее опираться; нам нужна вера в человека, но она должна быть"bene fundata", как говорил Лейбниц.
Все воспитание воодушевляется верой в возможность преображения и просветления души человеческой, -но это предполагает некий"залог добра", живущий в душе независимо от естественной диалектики его жизни.
Новый свет, неизбежно осложняющий всю эту тему, бросает на затронутый вопрос то, что жизнь может оборваться раньше, чем воспитание добьется своего. Смерть опрокидывает всякие расчеты, но особенно бессмысленна и трагична она в отношении к тому духовному созреванию, которое идет в человеке. Смерть принижает человека, как торжество природы над ним, - и философия смерти как будто оправдывает натуралистический подход к человеку. Но бессмыслица смерти, возможность того, что весь план воспитания детей в один момент теряет всякое значение, не может зачеркнуть все же того более глубокого подхода к человеческой душе, о котором мы говорили выше. Мы сказали, что смерть"принижает"человека; да, - но и углубляет тайну его бытия, бросая новый свет на смысл жизни, на иерархию задач, разрешаемых жизнью. Свет, идущий от смерти, не делает ли человека как раз более значительным, чем мы склонны думать о нем? Тема смерти настойчивее, чем что-либо другое, ставит проблему отношения к вечности, - и та вера в человека, которая сама освобождает педагога от плена пустякам и мелочам жизни, здесь не получает ли новый смысл? Тайна смерти не может не тревожить педагогическое сознание, требуя такого подхода к детской душе, который не отменял бы смысла в нашей ежедневной работе с детьми. Перед лицом смерти мысль о детях, забота о них, проникновение в глубину того, что в них совершается, ставит вопрос о нахождении внутренней связи между воспитанием к жизни и"воспитанием"к тому, что есть за смертью. Эта тема неустранима для педагогического сознания. Нельзя детей вести так, чтобы тема смерти была чистой бессмыслицей; в нашей педагогической обращенности к ребенку есть глубокое сознание ответственности, есть напряженность заботы о всех ступенях и формах его бытия - и это одно не позволяет выключить тему смерти из педагогических размышлений. Поскольку мы сознаем, что служение добру не ограничено законами жизни, не исчерпывается правилами жизни, поскольку мы приобщаемся началу вечности в самой идее добра, - постольку сама жизнь предстает перед нами, как неизгладимое сочетание вечного и преходящего. Смерть не может зачеркнуть того, что уже здесь сопряжено с вечностью, - и это значит, что в теме смерти углубляется, а не меняется перспектива воспитания. Как лучи вечности пронизывают нашу жизнь и осмысливают ее, так и воспитание должно связать требования жизни с законами вечности. Воспитание должно готовить к жизни во времени, но и к жизни в вечности - к жизни земной и к жизни вечной.
Надо понять, что это все не риторика, не надуманное осложнение педагогической мысли, а наоборот-неустранимая тема ее. Надо понять, что связывание в воспитании проблем земной жизни с темой вечности не вытекает из религиозного обоснования, а наоборот его требует. Потому и необходимо религиозно осмыслить вопрос воспитания, что есть смерть, есть неизбежный разрыв в движении души к ее целям. Как правильная философия жизни должна быть построена так, чтобы в ней был дан ответ на то, что есть смерть и куда ведет она нас, так еще более тема смерти должна быть связана с философией воспитания. Если в свете смерти многое в жизни открывается в своей ничтожности и незначительности, если многое оказывается пустым и ненужным, то еще более ненужным, обидно пустым может оказаться в свете смерти многое их того, чем мы заняты в воспитании
[20]. В теме смерти все вообще светится двойным светом - земного и вечного бытия - в их взаимной связанности. Оставаясь в условиях земной жизни, мы ведь уже здесь живем в вечности - такова основная интуиция религиозного сознания. И только в этой интуиции, в этом сознании соединенности земного с вечным до конца раскрывается основной смысл нашей заботы о детях, нашей педагогической работы с ними. Смысл воспитания раскрывается для нас в свете идеи спасения - и то"благо", какого мы, движимые педагогической заботой о детях, ищем для них, есть частичное или всецелое благо спасения
[21].
7. Воспитание в последнем своем смысле и должно ставить проблему спасения - ставить ее более даже остро и серьезно, чем в другой постановке ее. Родители и педагоги ищут для детей всецелого и всеохватывающего блага, которое устранило бы от них все, что может ослабить или обессилить их. Мы ищем, например, для детей физического здоровья, чтобы спасти их от болезней и страданий; мы ищем развития всех психических сил, чтобы избежать тех ущемлений души, тех неровностей и провалов, которые образуются при подавлении каких-либо склонностей. Мы задумываемся над всем тем, что вскрывает современная психопатология и криминология, чтобы спасти детей от угнетенности, чтобы избавить их от мучительных диссонансов в душе. Мы хотим воспитывать детей в свободе, чтобы спасти их от тех катастроф, которые неизбежны, когда свобода души подавляется или стесняется. И мы хотим обеспечить связь души в ее свободе, в ее подлинной внутренней жизни - с добром, чтобы спасти ее от подчинения злу, от ухода в тьму греха. В свете раскаяния о содеянных грехах мы сознаем всю трагическую неустроенность человека, все бессилие свободы, всю власть искушений - и всю правду и радость жизни в добре. А в суровом свете смерти мы не можем не глядеть на жизнь, на ее содержание и пути с точки зрения вечной жизни.
Как спасти дитя от болезней, скованности законами физической, социальной, исторической жизни, как осмыслить задачи воспитания в свете тех трагедий, какими полна жизнь, в свете смерти, обрывающей жизнь порой в самом расцвете ее? Можно вслед за Феррьером признавать, что все в человеке держится его изначальной обращенностью к духовному миру (elan vital spirituel), но из такой антропологии нельзя объяснить тех обвалов, которые так часто случаются в душе, того непонятного влечения ко злу, которое входит отравой в душу и губит ее силы, нельзя понять, почему наличность elan spirituel не освобождает никого от власти смерти. Проблемы воспитания, если их брать во всей сложности, во всей их глубине, стоят перед нами, как неисполнимые часто задания, которые не вмещаются в те учения о человеке, о его природе, какими мы обычно пользуемся. Темы воспитания, как они ставятся нашей любовью к детям, нашей заботой об их благе, как-то странно несоизмеримы с современной антропологией. Если есть в человеке elan spirituel, которое есть"сам Бог в нас", как понять скованность этой духовной силы природой, психическими трениями, злом? Если в человеке есть дар свободы, право самоутверждения, отчего свобода не связана изнутри с добром? Откуда в человеке влечение ко злу рядом с подлинной любовью к добру? Все это требует иного понимания человека, чем мы его имеем ныне, - и это иное понимание найдем мы лишь в той антропологии, какую развило христианство. В свете христианской антропологии основные вопросы воспитания получают новое освещение, получают иной смысл, чем обычно мы видим в них. Самая задача воспитания в свете христианской антропологии освобождается от той поверхностности, которая присуща самым лучшим течениям современной педагогики, занятой часто поистине пустяками и проходящей мимо основных и страшных проблем жизни. Вера в детскую душу, как основа и"оправдание"всего воспитания, надлежаще осмысливается лишь в том учении о человеке, какое развивает христианство.
ПРИНЦИПЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Одноименная глава книги: ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В СВЕТЕ ХРИСТИАНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ М.: Свято-Владимирское братство, 1993
Подводя итоги всему, что было сказано в предыдущих главах, и формулируя принципы христианского воспитания в духе Православия, мы можем выразить их в ряде общих положении. Конкретные проблемы воспитания в его различных формах мы предполагаем исследовать во второй части настоящего труда.
1. При построении системы педагогики, отвечающей духу Православия, мы должны стремиться использовать все богатство педагогических идей, выработанных как религиозной, так и лаической педагогикой Зап. Европы и Америки. Мы ищем органического синтеза всего ценного, что имеется в современной педагогике, и утверждаем, что этот органический синтез может быть выражен в полноте и сложности актуальных проблем воспитания лишь на основе христианской антропологии, как ее изъясняет православное сознание.
2. Современная лаическая педагогика, при всем богатстве ее творческих исканий, скована узкими рамками педагогического натурализма, отвергающего участие высшего мира в развитии человека. Поскольку педагогический натурализм связан с изжитой уже философией Просвещения, с выросшей в атмосфере секуляризованной культуры идеей"автономии"педагогики, постольку преодоление педагогического натурализма осуществляется в общем повороте современности к религиозной культуре. Необходимо однако освободиться от педагогического натурализма не только в понимании путей и средств воспитания, но и в формулировке его целей. Невозможно всю систему воспитания определять лишь тем, чтобы помочь детям пройти путь жизни в крепости и силе, в добре и творчестве: мы должны готовить детей и к земной, и к вечной жизни. Вечная жизнь или жизнь в вечности входит в нашу обычную жизнь; как жизнь и смерть соединены одна с другой, так время и вечность сопряжены друг с другом. Воспитание не может проходить мимо этого, не может отодвинуть в сторону участие в вечной жизни и отдаться всецело поверхности жизни. Этим определяется существенно религиозная основа воспитания в целом, этим ставится во всей силе вопрос о соотношении натурального и супернатурального в человеке, а, следовательно, и в постановке задач и средств воспитания. Этим выдвигается на первый план то освещение природы человека и динамики его развития, какое дает христианская антропология.
3. В свете христианской антропологии природа человека освещается иначе, чем в натуралистическом ее понимании. Хотя лучшие представители науки о человеке признают духовную жизнь в человеке, как основу его существа (ср. напр. учение Феррьера об elan vital spirituel), но истолкование этого духовного начала в линиях пантеизма обедняет его. Духовное начало в человеке не только не выводимо из природной эволюции, не только предполагает надиндивидуальный, супернатуральный его корень, но в самой своей сущности свидетельствует о том, что оно связано с Абсолютом. Духовная жизнь в человеке есть непрестанное, неутомимое искание Бесконечности, и как раз этой его чертой оно сообщает человеку тот elan spirituel, который движет человека к Богу. Будучи непроизводно, невыводимой"снизу"силой, духовное начало в то же время пронизывает ("сверху") всю сущность человека, его эмпирический"характер", его психофизическую жизнь. В этой взаимной связанности духовного начала и эмпирической стороны в человеке выявляется существенная целостность, имеющая место и тогда, когда человеческий дух находится в плену чувственности. Поэтому, если непроизводность духовного начала обусловливает иерархическую конституцию человека, то эту иерархическую конституцию надо толковать в смысле онтологическом, а не моральном. Невозможность мыслить взаимоотношение духа и эмпирии в человеке отделимыми сущностно отвергает антропологию, развитую Штейнером, отвергает онтологическую возможность"перевоплощения". Духовное начало в человеке есть корень и источник индивидуальности в человеке, источник его неповторимости во всей живой целостности состава человека. Все это может быть понято правильно лишь при учении христианской антропологии об образе Божием в человеке.
4. Образ Божий в человеке не есть его"природа", но он входит в его природу и дает ей то начало личности, которого в тварном мире вне человека нет. Начало личности и есть образ Божий в человеке, но вмещенное в тварное бытие, это начало личности является умаленным, лишенным самосущности, есть лишь образ Абсолютного Бытия, но не Абсолют сам в себе. Начало личности становится центром человеческой природы, в которой в силу этого все личностно, т. е. все восходит к духовному средоточию в человеке. Эта соотнесенность всей жизни человека к его духовному началу, к его"сердцу"рождает в лоне духовного самовидения эмпирическое сознание, создает возможность появления эмпирического центра личности (эмпирического я) и снова обнаруживает онтологическую неотрывность духовной и эмпирической стороны в человеке. Но тем самым создается возможность свободы в человеке, т. е. возможность его самоопределения изнутри. Свобода в человеке однако глубже, чем простая возможность саморегуляции жизни изнутри, в ней есть"тайна", - возможность творческого ее раскрытия лишь при пребывании в Истине, лишь при жизни в Боге. Вне этого свобода, сохраняя силу самоопределения изнутри, является не творческой силой, а наоборот источником хаоса и бесплодной претенциозности. Она безмерна в этих случаях лишь в своих исканиях и скована в своих достижениях. Так в недрах свободы становится возможным грех.
5. Христианское учение о первородном грехе покоится на доктрине мистического единосущия личности со всем человечеством. В первородном грехе произошло раздвоение в духовной стороне человека: сияние образа Божия, сила исконной жажды пребывать в Боге не отменяется грехом, но имеет отныне рядом с собой его тень. Духовная жизнь в ее"естестве" - после грехопадения несет на себе бремя этого раздвоения: она"естественно"ищет Бога, но так же"естественно"и уходит от Него. В духовных сумерках сплетается темное и светлое начало в духовной жизни, неразличимо питая одно другое. Духовная жизнь требует спасения, которое и состоит в восстановлении единства в духовной жизни, т. е. в благодатном преображении"естества". Вне этой благодатной помощи свыше раздвоение"естественной"духовной жизни не только не преодолевается, но с неумолимой логикой ведет к усилению темной духовности. Этим отвергается всякая"магия духовного делания", восхождение к духовным высотам силами самого человека: спасение возможно лишь при благодатной помощи свыше, предполагающей смиренное сознание своей немощи.
6. Начало греха, вошедшее в человека, в его бытие через мистическое единосущие всех людей, вошло и в весь тварный мир. В этом пункте христианская антропология требует софиологического истолкования, т. е. учения о мире, как тварной Софии. Образ Божий в человеке через это учение оказывается Силой света и правды, всеединства и вечности (тварной) во всей природе. Но это центральное место человека в природе делает и природу соприсущей плену греха, -и раздвоение темного и светлого полюса в человеке открывает всю глубину этого же раздвоения во всем тварном мире, где космос и хаос, закономерность и случайность, силы единения и силы распада живут в нерасторжимой сопряженности.
7. Софиологическое истолкование природы человека связывает человека не только со всем миром, но через учение о мистическом единосущии человечества становится ключом к пониманию единства каждой личности с человечеством, связи в личности ее индивидуального, особенного с социальным. Но натуральная"соборность"человечества не в состоянии сбросить с себя силу греха, силу разделения и вражды; как в отдельном человеке, так и во всем человечестве раздвоение правды и неправды преодолевается лишь в благодатном порядке. Благодатная соборность дана нам в Церкви, чем раскрывается основная истина о спасении в Церкви и через Церковь; этим полагается основа и для религиозно углубленного понимания воспитания - как"оцерковления"личности через жизнь в Церкви, через благодатное, в таинствах подаваемое восполнение человека.
8. В свете этих основных положений христианской антропологии, как их развивает православное сознание, свободное от ошибок в антропологии, имеющих место в католической и особенно протестантской догматике, даны прочные основы для построения системы православной педагогики.
9. Цель воспитания в свете православия есть помощь детям в освобождении их от власти греха через благодатное восполнение, находимое в Церкви, помощь в раскрытии образа Божия. Иначе это может быть формулировано, как раскрытие пути вечной жизни, как приобщение к вечной жизни в жизни эмпирической. Правильное учение о соотношении духовного и эмпирического состава человека устанавливает существенное значение эмпирического развития, но предохраняет от ошибки, видящей в эмпирическом развитии силу, созидающую духовную жизнь. Духовная жизнь нуждается в эмпирическом развитии, как опосредствующем начале, но она не развивается из эмпирической сферы. Это с одной стороны утверждает существенность и подлинную ценность эмпирического развития, а с другой стороны смысл последнего истолковывает в линиях опосредствования, в линиях инструментального его значения для правильного воспитания личности.
10. Оправданность, законность и существенная ценность эмпирического развития, понятого как начало опосредствования духовной жизни на путях ее укрепления в Боге и освобождения от исконной раздвоенности в духовной стороне, ведет к уяснению того, что значит развитие эмпирической личности в ребенке, каков его смысл, какова его функция. Это развитие, осмысляемое в свете учения о духовном начале, иерархически связывающем все в человеке, должно служить цели спасения личности через освящение и преображение эмпирического естества.
11. Принцип всецелой"личности"в человеке позволяет формулировать задачу воспитания ребенка, как раскрытие его личности - но не в линиях т. наз."гармонического"развития естества, а в линиях внутренней иерархичности в человеке. В человеке не только все личностно, но и личность живет"всем" - оттого нельзя развитие личности оторвать от физической, психической, социальной ее жизни. Нужно только помнить иерархическую взаимосвязанность всех этих сторон в личности, их инструментальное значение в развитии основного начала в личности - духовной жизни.
12. Физическое воспитание не только"оправдано", но и необходимо; даже больше-оно"связано", как устроение жизни тела. Этот принцип дает основание для правильного понимания проблем физического воспитания, в частности устанавливает значение, границы спорта и иных форм физического воспитания.
13. Психическое развитие должно быть свободно от порождения тех тяжелых конфликтов, под бременем которых так страдает современный человек. Здесь с особенной силой выступает проблема воспитания дара свободы; послушание авторитету, могущее при правильном истолковании последнего, быть проводником духовного здоровья, при его неправильном истолковании лишь усугубляет трагическую раздвоенность в человеке.
14. Развитие"характера", как совокупности сил творческого и социально осуществимого действования, как психофизической крепости, самообладания и жизненного творчества, -имеет, как и все в эмпирических задачах воспитания, инструментальное значение. Понятое, как самодовлеющая задача, оно не только поверхностно понимает драму человеческой жизни, но часто лишь закрепляет духовную неустроенность человека, поставляя на место жизни в Боге, как главного содержания бытия, близорукие и утилитарно понятые, а потому и двусмысленные цели жизни.
15. В свете этого и вся проблема дисциплины в воспитании должна быть связана с учением об опосредствующей функции"поведения"и всей эмпирической жизни во внутреннем развитии человека. Существенный смысл"дисциплины", как частного выражения того, что нам дано"вести"детей и"помогать"им, заключается в развитии дара свободы, в постепенном"освобождении"духовных сил ребенка от плена случайным, поверхностным его порывам. Животворной в отношении к развитию дара свободы дисциплина может быть только в том случае, если она определяется"авторитетным"лицом
[22].
16. Проблемы сексуального воспитания получают в воспитании эмпирической личности чрезвычайно серьезное значение. Если не верно видеть в начале пола источник духовной неустроенности человека, если бесспорно, что сублимация энергии пола (до ее превращения в половую энергию) расширяет творческие возможности человека, то все же данные современной психопатологии убеждают в том, что устроение сферы пола имеет особо важное значение для эмпирического и духовного здоровья личности.
17. Социальное воспитание должно быть связано с идеей Церкви, как благодатной соборности. Точно также и национальное воспитание, углубляя и одухотворяя связь личности с родным народом, должно быть связано с идеей сверхнационального единства перед Богом, не могущего быть зачеркнутым никакими историческими конфликтами во взаимоотношениях разных национальностей.
18. Моральное воспитание должно быть построено в линиях мистической морали, какую развивает христианство. Ни мораль благоразумия, ни мораль разума (автономная мораль) не преодолевают начала греховности, ибо не связывают служение добру с преданностью Богу. Подлинная моральная свобода лежит не в организации отвечающего закону добра поведения, а в свободе от самоутверждения, в восстановлении реального единения с Богом. Свобода становится творческой силой, силой спасения лишь при жизни в Боге. Поэтому должна быть отвергнута всякая"магия добрых дел", безличное служение добру во имя самоочищения. Раскаяние и освобождение от греха через таинство покаяния являются истинными проводниками моральной силы и исцеления болезней духа.
19. В духовном созревании огромное, а иногда и совершенно исключительное значение принадлежит эстетической сфере в нас. Использование эстетических сил в целях укрепления духовной жизни тем более важно, что современная жизнь проникнута эстетикой (хотя бы и дурно направленной).
Эстетическое воспитание должно иметь в виду две цели: низшую, служащую задачам"развлечения"и"игры", и высшую, служащую питанию души через приобщение души к красоте. Однако эстетическое вдохновение, преображающая сила прекрасного образа должны быть закрещены"трудом"души, -вне этого эстетическое вдохновение может служить расслаблению души и росту безответственности и особого (эстетически окрашенного) легкомыслия.
Не следует низшую функцию эстетического воспитания подчинять высшей (как и обратно), -они обе нуждаются одна в другой, находя свое место в духовном созревании человека через связь их с религиозной жизнью. Развитие одной низшей функции эстетического воспитания ведет к бесплодному и пустому эстетическому гедонизму, при котором не раскрывается питательная сила эстетического вдохновения, -развитие же одной высшей функции (в этом парадокс эстетического воспитания) ведет к отрыву от живой целостности в человеке и очень легко дает место той эстетической утонченности, которая закрывает связь эстетической сферы с духовными проблемами жизни в целом.
20. Интеллектуальное воспитание, развивая инициативу в уме, творческие силы, способность интуиции, должны развивать и удовлетворять потребность в целостном мировоззрении.
21. В религиозном воспитании основное место должно принадлежать развитию религиозного"вдохновения", живой, свободной и всецелой погруженности души в жизнь Церкви. Участие в литургической жизни Церкви, рост внутренней жизни, чистое искание правды составляют самое сердце религиозного воспитания. Но это развитие духовной жизни невозможно вне вживания религиозного сознания в догматические истины, хранимые Церковью, вне живого приобщения к церковному разуму в его прошлом и настоящем.
Намечая эти принципы воспитания в духе христианской антропологии, как ее истолковывает православное сознание, мы даём надлежащее истолкование самому делу воспитания. В воспитании мы"ведем"дитя,"помогаем"ему достичь такой силы личности, при которой оно достаточно овладевает тайной свободы в себе; воспитание плодотворно лишь в той мере, в какой оно обращено к духовной жизни, пронизано верой в силу Божию, в человеке святящую, как образ Божий, способно зажечь детскую душу любовью к добру и правде. Смысл воспитания в том, чтобы уяснить путь спасения, связать детскую душу с Церковью и напитать ее дарами свыше, живущими в Церкви. Связать проблему воспитания с темой спасения и значит уяснить себе смысл воспитания.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В ШКОЛЕ
Бюллетень Педагогического бюро по делам средней и низшей русской школы за границей. Прага, 1925. —С. 15—18.
Школа всегда давала известное место воспитанию в системе своих воздействий, но главное содержание этих воздействий было и остается обучение. Воспитывать школа берется постольку поскольку это нужно для целей обучения: тема воспитания всё время остается в истории школы темой вторичной, дополнительной, так сказать, навязанной. Великим облегчением для школы и для педагогов было провозглашение Гербартом идеи «воспитывающего обучения». Эта идея, совершенно понятная в системе Гербарта с ее интеллектуализмом, выдвигала на первый план воспитательные силы, присущие школьному обучению как таковому, и, собственно, упраздняла особое место для проблемы воспитания. И доныне еще чувствуется влияние построений Гербарта. Однако в течение всего XIX века проблема воспитания выдвигается все более вперед — в крайних течениях даже поглощая задачу обучения. Несводимость задач воспитания к приспособлению ученика к школьному процессу, совершенная необходимость именно для школы поставить проблему воспитания с полной силой стали особенно ясны по мере успехов психологии детства, раскрывавшей все более внутренний мир ребенка. Как ни мало мы знаем этот мир, но совершенно ясно и теперь, что школа как форма воспитательного воздействия старшего поколения на детей никоим образом не может ограничиться постановкой воспитания в целях лучшего обучения. Мало этого: перед лицом фактов, которые накопила психология и особенно психопатология, совершенно ясно, что задачи воспитания не только сложнее и труднее, но и важнее, чем задачи обучения. Криминологический и психопатологический материал, все более обильный и все более жуткий, вскрывает в детях целые сферы движений, требующих воспитательного воздействия старших. В конце концов должно признать, что даже старая школа, при всех ее дефектах, все-таки справлялась с задачами обучения, сообщала ему навыки и знания, — но со всем тем, что стоит как задача воспитания, школа не только не справлялась, а часто даже ухудшала дело. Могло ли, собственно, быть иначе, раз воспитание в школе имело чисто служебное значение и было связано лишь с задачами лучшего обучения? Можно сказать, что от формулы «воспитывающее обучение» мы неизменно движемся к формуле «обучающее воспитание». В центре школьной жизни должна стать воспитательная задача, и вопрос обучения должен занять место вторичное. Если это так, то в этом нужно видеть все более глубокое проникновение в школу тех идей, которые легли в основу дошкольного воспитания. Детский сад становится все более образцом и типом правильной постановки и для школы. Но отчего задача воспитания подростка требует действительно того, чтобы быть поставленной на первый план? В современной психологии основательно потрясено прежнее идиллическое представление о строении души, согласно которому в системе души есть естественная гармония; в свете этого представления и создавался известный идеал «гармонического развития личности». В этой психологической и педагогической концепции все было просто и ясно: воспитательное воздействие старших должно лишь содействовать упрочению внутренней гармонии. Напряженное развитие ума в школе само собой, по этой концепции, поднимает и весь духовный уровень подростка. Всей этой системе мыслей новейшая психология и особенно психопатология нанесла непоправимый удар. Психопатология сделала это, собрав огромнейший материал, свидетельствующий о постоянной и роковой дисгармонии, имеющей место в душе и указывающей в то же время, что трагические и роковые узлы завязываются обыкновенно в детстве и отрочестве, т. е. приходятся в значительной мере на школьный период; а психология все более разрушала упрощенное представление о «системе» души, столь часто понимаемой по аналогий с неорганическими явлениями, и все определеннее шла и идет к учению об иерархическом строе души. (…) Интеллекту, в этой иерархии сил, принадлежит бесспорно не первое место: здоровье души независимо от развития интеллекта. Мало этого: развитие и деятельность интеллекта связаны с влиянием других сфер души, преимущественно сферы эмоциональной. Творчество и сила интеллекта проявляются лишь при том подъеме, который создается одушевленным отношением к задаче, стоящей перед интеллектом. Из эмоциональной сферы интеллект черпает энергию, в ней он находит стимул творчества. С этой точки зрения в культуре личности главное место должно принадлежать развитию в нас глубоких здоровых чувств. (…) Уже одним этим задачи воздействия старшего поколения на младшее определяются совершенно в ином направлении, чем это мы имеем в современной школе. Однако одним сказанным не исчерпывается необходимый для нас материал. Современная психология и психопатология хотя и мало, а все же несколько раскрыли нам своеобразные условия эмоциональной жизни в нас; уже сейчас можно сказать, что эмоциональной сфере в нас свойственны значительные внутренние трения, в преодолении которых дитя и подросток часто оказываются совершенно бессильны. (…) Задача воспитания, и только воспитания, ибо здесь дитя само не может себе помочь, в том и заключается, чтобы прийти на помощь подростку и охранить здоровье и творческое развитие его индивидуальности. Всем этим нисколько не упраздняются проблемы обучения, только они должны быть включены в систему воспитания — так же, как обучение включено в воспитание в детских домах. Воспитательная проблема из побочной и дополнительной должна стать центральной и основной, — и это, конечно, должно повлечь за собой полную перестройку школы. С этой точки зрения и трудовая школа, столь удачная в отношении методики и столь еще робко переводящая центр тяжести на связь школы с жизнью, может быть рассматриваема как переходная ступень. Надо помнить, что необходимо стремиться к главному и основному, т. е. к охранению и развитию творческих сил, что связано с здоровьем эмоциональной сферы, — интересы же интеллекта должны отступить на второй план. Это вовсе их не зачеркивает, но не они должны определять построение школы и ее работу. Отдавая себе полный отчет в том чрезвычайном сопротивлении, которое окажет жизнь при перемещении воспитательной задачи на первый план, а образовательной — на второй план, мы должны все же иметь в виду, что развитие школы неуклонно движется к этому. Перед нами сейчас стоит задача — теоретически и практически подготовлять тот перелом в самом существе школы, который дал бы возможность школе больше всего думать о развитии творческих сил в личности, пользуясь, конечно, при решении этой задачи всем тем богатым материалом, который оставляет нам образовательная школа. От воспитывающего обучения - бессильного не только в решении воспитательных, но даже и своих собственных задач — необходимо перейти к обучающему воспитанию. В школе должна иметь место иерархия задач, которая должна соответствовать иерархии в строении души: из побочной и дополнительной темы в школьной жизни воспитательная задача должна занять в ней главное место.
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМЕ
Русская школа за рубежом. — Прага, 1923. Кн. 4. —С. 1-21.
Понятие интеллектуализма, взятое в строгом своем смысле, есть чисто психологическое понятие, и означает оно то направление в психологии, согласно которому интеллектуальные процессы являются основными в системе душевной жизни, — все же остальные процессы являются модификациями или продуктами интеллектуальных явлений. Самой строгой и продуманной системой психологического интеллектуализма является система, построенная Гербартом, который сводил все многообразие душевной жизни к взаимодействию и взаимоотношениям «представлений». (…) Но рядом с психологическим интеллектуализмом история духовной жизни и творчества знает другие формы интеллектуализма, которые имеют более частный и ограниченный характер, усвояя интеллекту центральное и основное значение не во всей системе психической жизни, а лишь в какой-либо отдельной сфере духовной жизни. Так, существует очень стойкий в истории философии этический интеллектуализм, сущность которого сводится к двум положениям: к признанию, что человек совершает зло лишь по неведению, а с другой стороны, что путем действия на интеллект, путем выяснения и раскрытия того, в чем заключается добро, можно направить человека на путь добра. Первое положение касается вопроса о природе и условиях этической оценки: человек признается формально всегда направленным к добру и лишь вследствие неведения, невнимания, вообще благодаря ошибке интеллекта видит в зле добро и ставит целью деятельности зло, принимая его за добро. Второе положение этического интеллектуализма хотя и связано внутренно с первым, но не вытекает из него с безусловной необходимостью: оно касается вопроса об этическом творчестве, о том, как освободить другого или освободиться самому от служения злу. — Этический интеллектуализм наиболее резкое свое противоположение находит на почве христианской этики, как это с особенной силой показал бл. Августин. Сознание греховности, в своем углублении, приводит к этическому волюнтаризму, т. е. к признанию, что мы совершаем грех, идем по пути зла не потому, что признаем его за добро, но избираем зло именно как зло. Ошибки в оценке могут, конечно, иметь место, но не ум, а воля определяет наш выбор того или иного пути, — наши поступки связаны с нашей волей, с нашими желаниями, замыслами, чувствами, а не сферой интеллекта. Говорить о том, что душа наша всегда направлена к добру, не приходится: при полном сознании, что путь, которым мы идем, ведет к злу, мы все же можем выбрать именно этот путь. Это значит, что различение добра и зла — момент, который может быть с известным правом охарактеризован как интеллектуальная сторона в моральной работе, — само по себе еще не определяет направление нашей активности: можно стремиться к злу при полном сознании, что оно есть зло. В силу этого этическое воздействие на других людей, работа над самим собой в очень незначительной степени могут осуществляться через интеллект: надо прежде всего полюбить добро, надо его избрать и обратиться к нему, а до этого действие на интеллект лишь сильнее будет подчеркивать в душе человека раздвоение между тем, что подсказывает ум, и тем, чего ищет воля. Этический интеллектуализм — полностью или частично — часто защищался в истории этики. Рядом с такими яркими представителями этого течения, какими были, напр., Сократ или Спиноза, мы найдем отзвуки его и в других системах, свободных от крайностей. Не случайно, например, что этика Канта, построенная на идее «чистой воли» (это понятие лежит в основе характерной для Канта «этической автономии»), является вместе с тем системой «практического разума». Я не буду входить ни в анализ основных понятий этики Канта, ни в разбор его психологических построений, а указываю лишь на мотивы интеллектуализма у него. Изучение развития этики за XIX век дало бы нам богатейший материал в этом направлении, однако не следует забывать и того, что интеллект действительно играет известную роль в этической жизни. Так, работа совести, в своих простейших процессах выступающая в форме чувства, развертывается затем в ряды суждений: моральные понятия, построение идеалов — все это вовлекает интеллект в моральную работу души. Тем не менее не интеллекту принадлежит руководящая роль в моральной жизни, — и это касается развития в нас и морального сознания, и морального творчества. Этический интеллектуализм должен быть отвергнут как неверное и одностороннее понимание моральной жизни в нас. Я хочу остановиться на характеристике и анализе весьма родственного течения в духовной жизни — именно педагогического интеллектуализма. Это тоже очень стойкое и глубокое течение, тем более сильное, что оно подсказывается, до известной степени, основными моментами школьного и воспитательного процесса, и все же с ним не только нельзя согласиться, с ним должно бороться без всяких колебаний. Педагогический интеллектуализм, быть может, глубже других духовных течений связан с тем, что в философии и истории культуры называется «эпохой Просвещения», это, быть может, самая основная и влиятельная его сторона. Всегда и везде век Просвещения сопровождался подъемом педагогического творчества, расцветом надежд на возможность путем воспитания создать «новую породу людей», — без этого не могла бы сформироваться та психология, тот духовный уклад, который характерен для эпохи Просвещения. Но мы если не вышли еще совсем, то все же решительно выходим из эпохи Просвещения, — идеология и психология Просвещения, жизненное творчество, им определенное, потерпели к нашему времени такой глубокий удар, что к прежнему возврата нет. В течение всего XIX века шла глубокая, часто подпольная борьба между умонастроением Просвещения и противоположными ему началами; эта борьба подрывала глубочайшие основы идеологии и психологии Просвещения, — и выше стоит европейская культура на переломе. Еще не видно, не для всех видно, куда направит свое движение духовная жизнь Европы, еще многие пребывают в уверенности, что «все образуется» и вернется безмятежная ясность и творческая сила, присущая эпохе Просвещения. Но жизнь глядит уже в другую сторону, она требует от нас иной, новой «установки», — а то огромное потрясение европейской жизни, которое создала великая война, только заостряет положение. Педагогическая мысль еще до войны переживала чрезвычайно серьезный кризис, вся глубина и значение которого еще недостаточно оценены, — а в наши годы усилилось сознание огромной исторической ответственности, лежащей на школе. Скромнее мыслят ныне о себе педагоги и не думают создавать «новую породу людей», но тем настойчивее пробивается сознание той огромной все же роли, какую играет и должна играть школа в формировании из ребенка будущего самостоятельного человека. Педагогическая мысль все больше становится «автономной» и ставит свои вопросы все более независимо от того, что навязывает школе «жизнь» — т. е. традиция и доминирующие ныне силы жизни; педагогическая мысль тоже связывает себя с требованиями «жизни» — но понятой не в рамках узкого практицизма и утилитаризма, а более широко и глубоко. И как раз здесь разрываются главные цепи, сковывавшие педагогическое творчество, ибо практические задания, которые ставились школе, не давали ей свободы и мешали свободной постановке основных задач. При пересмотре, при критической оценке всего того, что навязывала школе жизнь, что стесняло и ограничивало педагогическое творчество, — одной из самых важных задач является осознание того, что можно назвать «педагогическим интеллектуализмом» и что так глубоко вошло в педагогическое сознание как предпосылка размышлений и действования. Мы говорили уже, что педагогический интеллектуализм, имеющий свою опору в некоторых основных процессах школьного и воспитательного дела, был внутренно, интимно связан с идеологией и психологией века Просвещения, а когда в первой половине XIX века была построена Гербартом система психологии в тонах интеллектуализма, то это чрезвычайно его напитало и углубило — как теоретически, так и практически. Достаточно вспомнить идею «воспитывающего обучения» и ее значение в педагогической мысли XIX века. Я не буду во всей полноте разбирать тему, которой посвящен настоящий этюд, и остановлюсь лишь на самом существенном – на беглой характеристике того, как сказался педагогический интеллектуализм в решении вопросов о задаче школы и о приемах школьного воздействия на детей. Беглая характеристика этих сторон педагогического интеллектуализма не может исчерпать ни идеологии, ни психологии его, но выдвинутые два вопроса являются все же важнейшими. Современная школа в своем строении, в своей работе определяется двумя задачами: сообщить ученику некоторые определенные знания и навыки, соответственно избранной специальности, и дать некоторое «общее» образование, развить силы ума. Высшая школа преимущественно разрешает первую задачу, средняя -вторую, но и в высшей школе сплошь и рядом в систему ее включаются так называемые «общие предметы», и в средней школе немало места уделяется специальной подготовке учеников… Обращаясь к средней школе, проблемы которой нас занимают в настоящий момент, надо признать, что поставленные ей задачи действительно определяют ее организацию, определяют план ее работы. Наша школа или исключительно, или преимущественно дает развитие ума, сообщает ряд знаний и формальных навыков ума, — и это стоит в глубочайшей связи с самими заданиями школы. Какие бы дидактические или методические реформы мы ни производили в школе, но пока ее задачи остаются теми, какие доныне определяют в основах ее структуру, эти реформы все же скользят по поверхности, не задевая самого существа дела. Работа педагогической мысли должна быть направлена поэтому не на частичные реформы в школе (на борьбу с перегруженностью школы, многопредметностью в ней и т. п.), а на самые основы ее, т. е. на ее задачи. Вопрос должен быть поставлен прямо и смело: мы должны спросить себя: может ли, смеет ли школа ограничиваться одним лишь содействием интеллектуальному росту ученика? Ведь как раз в те нежные годы, когда подросток попадает в школу, — в эти самые годы развивается и формируется вся его личность, зреет не только ум, но зреют все его духовные силы, почти заканчивается период «детства» (понимаемого в широком смысле слова, т. е. до 22—25 лет). И разве процессы, идущие в личности ученика вне сферы интеллекта, не нуждаются в доброжелательном и умелом содействии со стороны старшего поколения? Разве фактически школа, через весь свой уклад, через педагогов и то социальное взаимодействие, которое всегда идет в школе, не влияет на личность ученика в целом? Почему же развитие интеллекта, регуляция его работы так тщательно, так бережно осуществляется школой, признается ее задачей, а на все остальные процессы обращается лишь случайное внимание? То, что можно назвать проблемой «воспитания» в школе, всегда занимало известное место в системе школьной жизни, но всегда это было чем-то вторичным, дополнительным. В течение XIX века школа пошла в этом отношении на огромные уступки, включила в свои задачи содействие и физическому развитию, и художественному и социальному созреванию, — а все же основной работой в школе остается работа над умом ученика, работа с умом его. В хорошей школе наших дней вы найдете очень много дополнительных работ, содействующих общему духовному росту детей, найдете и кружки, и экскурсии, и беседы, найдете целую сеть различных учреждений, посвященных развитию всех сил в ребенке. Недаром же еще в наши дни не угас совсем идеал «гармонически развитой личности»! Школа, как умеет, как может, стремится сделать более планомерным свое общее воспитательное воздействие на детей, — и все же строение школы, ее основной дух не могут выйти за пределы педагогического интеллектуализма! Школа наша серьезно, по-настоящему занята прежде всего и больше всего обучением, — все же остальное не стоит в органической связи с этой задачей школы, является если не декоративным добавлением, то чем-то внутренне чуждым духу школы.<…> Нельзя совершенно отрицать воспитывающее значение обучения, но в чем оно заключается? Конечно, не в развитии моральных движений, не в прояснении морального сознания, а в укреплении некоторых моральных свойств, имеющих формальный характер. Процесс обучения — и не столько сам по себе, сколько в общей обстановке его — дисциплинирует волю, развивает чувство последовательности, влияя тем на связанное с последним чувство долга. В самом содержании того, что усваивает ум ученика, нередко таятся моральные начала, могущие при благоприятных условиях иметь доброе влияние на душу подростка. Впрочем, о последнем не стоило бы много говорить, так как жизнь дает слишком много фактов и противоположного характера. Таким образом, известное воспитывающее влияние должно быть приписано обучению, — но как все же слабо это влияние сравнительно с зигзагами и трудностями морального развития ребенка! В самых лучших случаях это моральное воздействие процесса обучения затрагивает лишь некоторые общие силы души и совершенно проходит мимо той сложной и запутанной моральной жизни, какая как раз имеет место в школьный период. То, что волнует и часто сбивает подростков, что мутит их душу, обостряет резкие порывы, мучительной загадкой встает перед их моральным сознанием, — все, что составляет главную задачу, определяет основную линию в их моральном движении, — все это ни в малейшей степени не проясняется, не упорядочивается процессом обучения. Школа не знает и словно и не хочет знать о всей той сложной Душевной работе, которая идет в душе подростка, — и какой уклончивой и двусмысленной представляется в свете этого идея «воспитывающего обучения». Не тем ли объясняется устойчивость этой идеи, что она освобождает от тревог, заглушает внутреннее беспокойство и утешает педагогов? Не в этом ли утешительном действии указанной идеи кроется ее ценность? Мы ведь так крепко держимся за те идеи, которые рисуют положение благоприятным там, где чуется душе тревожное положение! Тот оптимизм, который вытекает из идеи «воспитывающего обучения», то упрощенное понимание души подростка, которое ею устанавливается, — они помогают педагогам более спокойно и без смущения проходить мимо сложных и запутанных движений в душе подростка. Маленькая правда о воспитании некоторых формальных моральных сил подростка и огромное утешение и освобождение от тревоги по поводу сложных движений в душе его — вот, собственно, что определяет веру в «воспитывающее обучение»… Как общий педагогический принцип эта вера должна быть отброшена без всяких колебаний. Надо научиться глядеть мужественно в глаза правде, не надо бояться сознаться, что необычайно сложен процесс духовного созревания у подростков и что мы так мало понимаем его, так плохо умеем подойти к нему. Процессы обучения, да и вообще рост интеллекта идет где-то «наверху», в светлом и просторном мезонине души, и из темных недр ее встают такие сложные, такие странные движения. Повинуясь основному закону детства (берем его снова в широком смысле слова, т. е. до наступления биологической и социальной зрелости и самостоятельности), подросток играет с тем, что впервые развертывается в нем: здесь, как и в раннем детстве, содержание игр имеет социальный характер, но в школьный период и особенно к 12—16 годам у мальчиков, к 10—15 годам у девочек их внутренний мир так заполнен идущими из глубины души новыми переживаниями, так сложны, противоречивы и напряженны движения души. Тайная игра просыпающихся сексуальных переживаний вплетается в активность подростков, заполняет их воображение, — а вместе с приливом новых переживаний утончается у подростков чуткость, начинается великое половодье в душе, нередко сбрасывающее все сложившиеся к тому времени понятия. Как падают молочные зубы, чтобы уступить место новым зубам, так уходят детские понятия из души подростка, обнажается «подполье», оформляются новые, пока еще неясные, неопределенные, но властные стремления. Погружение в себя, в мир полусознаваемых, но все более и более заполняющих душу переживаний, критическое отношение к традиции, нередко переходящее в ее полное отрицание, беспокойные шатания из стороны в сторону, вкус к мелким, а потом и более серьезным «авантюрам», опасная игра с недозволенным, приводящая к грани «преступного», — все это остается вне внимания школы, словно ей и дела нет до этого. Веря в «воспитывающее обучение», наивно думая, что чисто интеллектуальное развитие может принести ясность и порядок в мятущуюся душу подростка, школа проходит мимо основных движений в ученике, ограничиваясь тем, что считается с известной замедленностью интеллектуального роста в это время. Идея «воспитывающего обучения» имела и имеет лишь «защитное» значение, она помогает педагогической мысли укрыться на старых позициях, сохранять центральное значение в школьной жизни за тем, что доныне было в ней основным. Не отвергая воспитательных задач, отводя им известное место, идя на самые широкие уступки, педагогическая мысль инстинктивно чувствует, что колеблются в настоящее время самые основы школьного дела, — и в этой борьбе за старые устои идея «воспитывающего обучения» является таким надежным, таким удачным союзником! Самый процесс обучения признается ведь могучим фактором воспитания… Пришла пора подойти к вопросу о задачах школы с полной смелостью, не боясь разрыва с традицией, не боясь и того, что «жизнь», т. е. традиция и нынешний уклад жизни противятся пересмотру основных проблем школы. Надо найти какую-то исходную инстанцию, бесспорность которой была бы признана всеми, и построить понятие школы, выработать ее план, следуя основным директивам, идущим из исходной инстанции. Делом педагогического творчества будет уложить этот план в такие формы, чтобы при этом удовлетворялись максимально и требования «жизни», но надо сначала продумать проблемы школы независимо от этих требований, ибо они изменчивы, часто случайны и, во всяком случае, подлежат обсуждению. Школа должна подготовить дитя к жизни, должна содействовать раскрытию и развитию его личности, его сил, чтобы к периоду самостоятельной жизни оно овладело всем тем в «традиции» (включая сюда и знание), всем тем в самом себе, что нужно будет ему в жизни. Формулируя так задачи школы, мы определяем их до известной степени формально, так как не касаемся содержания того, что нужно при подготовке к жизни, — но для нас сейчас важно установить эту общую и, конечно, бесспорную задачу школы. С помощью школы мы приходим на помощь ребенку в процессе его роста: наш жизненный опыт, итоги исторического развития, наконец, наши идеалы подсказывают нам, что нужно каждому человеку, вступающему на путь самостоятельной жизни. Мы не можем ничего навязывать ребенку, потому что не существует одного для всех идеала, каждая индивидуальность должна найти свой путь к своей идеальной форме. (…) Идеал «гармонического развития личности» рисует идиллическую картину мирного параллельного роста различных сил в ребенке, — но эта идиллия ни в малейшей степени не отвечает действительности. Нигде и никогда не наблюдается «гармонического» развития сил в человеке, наоборот, развитие наше полно диссонансов, неравномерного роста различных функций, взаимного торможения и «борьбы» различных сил в нашем существе. В этом нет ничего удивительного, ибо самая структура нашей души такова, что следует говорить об «иерархической» ее конституции. Как в нашем теле есть органы, ослабление или даже уничтожение которых (например, конечностей) не влечет за собой смерти организма, и есть органы (например, сердце), прекращение деятельности которых означает смерть организма, — так и в нашей душе есть силы центральные и есть силы в этом смысле второстепенные. Жизнь души, ее «нормальное» развитие, конечно, предполагает одновременное раскрытие всех ее сил, — но этот процесс вовсе не имеет «гармонического» характера; необходимо охранять в ребенке правильную пульсацию основных сил, как необходимо в физическом воспитании следить всегда за сердцем ребенка. Заметим тут же, что интеллекту никоим образом не может быть отведено такое центральное место в системе душевных сил. (…) Я лично с полной убежденностью придерживаюсь взгляда, что основное и центральное положение в душе занимает эмоциональная сфера, здоровье или болезни которой определяют здоровье или болезни всего нашего существа. Не только нормальная психология, но еще с большей силой психопатология устанавливают это положение в целом ряде случаев с чрезвычайной убедительностью. Если нет «гармонического» развития личности или конституция души имеет иерархический характер, если воспитательное воздействие на детей должно заключаться в том, чтобы помочь им стать в жизни самостоятельными людьми и найти свою идеальную форму, в которой личность достигает своего высшего творческого расцвета, — то роль школы в этом процессе должна заключаться в охране и развитии основных сил души и в сообщении детям всего того, что они, путем личного опыта, не могли бы добыть в надлежащее время, в надлежащей полноте. Сообщение детям знаний тоже должно иметь место при этом: дети могли бы и без нашей помощи в свое время овладеть необходимыми им знаниями, но школа вносит в этот процесс порядок и систему, облегчая и ускоряя этим самый процесс. Школа, таким образом, должна и «обучать», т. е. должна принять деятельное участие в том развитии ума, в том усвоении различных знаний, которое идет и помимо школы. Дети, подростки сами ведь тянутся к свету, к знанию, растущий интеллект сам зовет их к более глубокому и всестороннему пониманию действительности. Школа добавляет к этому ряд специальных знаний и навыков, вся ценность которых лишь впоследствии откроется подростку и значения которых он, в школьный свой период, еще не понимает. Все это очень хорошо, все это должно лечь на школу, но не это, однако, определяет собой главную задачу школы. Мы должны вступить в жизнь с максимальным запасом знаний — это так, но источник творческой силы в нас ни в малейшей степени не связан с интеллектом, с нашими знаниями! Весь смысл «детства» заключается в подготовке к самостоятельному творчеству в жизни, — и охрана и развитие творческих сил в нас, творческой основы души является первой и основной задачей воспитания школы. Дело идет вовсе не о развитии «активности» самой по себе: навыки действования, развитие воли имеют такое же вторичное значение, как и навыки ума, как готовые знания. Если в нас есть творческая сила, то и развитие интеллекта и активности будет бесценным подспорьем в творческом движении нашем, — но если угасла, или ослабела, или подавлена в нас / сила творчества, то все богатство навыков ума и активности будет мертвым капиталом! И если самый процесс развития ума и активности идет так, что как раз и является причиной потухания творческих сил, засорения основного источника творчества, — то тогда и школа, и все наше воспитательное вмешательство в жизнь подростка делают как раз обратное тому, что должны делать. Разве это нельзя было бы уподобить тому физическому воспитанию, при котором развили бы все мускулы, сообщили многообразные навыки телу, но в процессе воспитания расстроили бы сердце так, что человек оказался бы неспособным воспользоваться всеми достигнутыми им успехами? (…) А между тем школа наша так часто дает именно такие результаты! Люди уходят из школы с рядом знаний и навыков, но с таким тупым отношением и к делу своему и к жизни, с таким отсутствием всякой творческой силы и инициативы… Процесс «обучения» поглощает столько сил, так отодвигает, обессиливает творческие порывы, так нивелирует личность, подчиняет ее шаблону, что, выходя в жизнь, многие из нас превращаются в бесцветных, вялых, тупых людей, выполняющих какую-то нужную социальную функцию, но безнадежно растерявших творческую инициативу и одушевленное отношение к своей деятельности. Выходя из школы, мы так много знаем, так много умеем, но часто наша индивидуальность проявляется лишь в мелком и ничтожном, в нашем быту и интимной жизни, а в своей деятельности мы не умеем, да и не хотим проявить творчество. (…) Указанные два момента выдвигают, на наш взгляд, особое значение «воспитания» эмоциональной сферы в нас, охраны ее здоровья. И то, что творческие недра души, творческие ее силы связаны именно с эмоциональной сферой, откуда и излучается творческая энергия, согревающая и одушевляющая работу ума и нашу активность, — и то, что во время школьного периода эмоциональная сфера переживает серьезнейший болезненный надлом, — оба эти момента настойчиво говорят, что главной и основной задачей школы должна стать охрана эмоционального здоровья и содействие нормальному раскрытию и расцвету в нас эмоциональной жизни. Все остальное должно быть вторичным, должно сообразоваться с тем, что нужно для главного. (…) По завету Я. А. Коменского школа должна быть «природо-сообразной», должна идти навстречу тому, что происходит в душе ребенка, — помогать там, где «природа» действует недостаточно или двусмысленно, умерять там, где она действует слишком быстро. Это относится ко всем силам души, но прежде всего и больше всего к душе в целом, к существу человека в полноте его сил. И если нет и не может быть гармонического развития человека*[* Историческое значение этой идеи, выдвинутой XIX веком, вероятно, в связи с общей «гармонической» концепцией в XIX веке, заключалось главным образом в том, что она выдвигала и обосновывала огромное значение физического воспитания, — но, конечно, ценность и важность последнего ясна и независимо от веры в гармоническое строение личности.], то особенно важно следить за основными процессами, от правильности которых зависит жизнь и здоровье всего существа человека. Конечно, все то, что вытекает отсюда в качестве задачи школы, воспитательного нашего воздействия на детей, должно быть сочетаемо с задачами, определяемыми тем, что человек не только «дан», но и «задан», что перед ним открывается даль идеала, в приближении и постепенном усвоении которого впервые обрисовывается вся полнота человеческого существа. Воспитание не должно идти против природы, но не должно забывать и о том, что стоит над природой и что открывается в человеке как его высшая сила. И как раз в содействии расцвету эмоциональных сил школа стоит перед обоими началами, определяющими диалектику нашей жизни, — здесь с особенной яркостью и силой выступает взаимная несводимость, а часто противоборство натурального и идеального. Оно проявляется и в развитии интеллекта, и в развитии активности, но нигде не достигает оно такой силы, такой выразительности, как при воспитании эмоциональной сферы души. Необходимость «воспитания» эмоциональной жизни в нас, охраны и укрепления ее определяется, как было уже указано, двумя основными соображениями: эмоциональная сфера, с одной стороны, имеет центральное значение в развитии у нас творчества, а вместе с тем оно переживает в школьный период некоторое «натуральное» ущемление, смысл которого мы попробуем дальше обрисовать. Заметим тут же: если задачи школы характеризовать в смысле «обучения», то для этого же обучения, для более успешной и толковой его организации должна быть поставлена и разрешена более общая задача — именно развития и укрепления в нас творческих сил, иначе «обучение» сведется к «дрессировке», к сообщению некоторых готовых навыков и знаний. Надо же понять, что и проблемы подлинного развития в нас интеллектуальных сил нельзя надлежаще разрешить, если не будет разрешен вопрос о развитии творческих сил, т. е. о развитии и расцвете в нас эмоциональной жизни. Добросовестное отношение к первой задаче (задаче обучения) естественно отодвигает ее на второй план и выдвигает на первое место вторую задачу: педагогический интеллектуализм, поскольку он касается вопроса о задачах, школы, должен неизбежно перейти в педагогический эмоционализм. Развитие интеллекта является частной и вторичной задачей, и какова бы ни была практическая ценность развития интеллекта, какие бы серьезные мотивы ни выдвигали ее на первый план, но природа души, ее иерархическая конституция настойчиво ведут к включению этой задачи в более общую. Для развития интеллекта, для узких интеллектуальных задач необходимо развитие той психологической «базы», на которой строится вся творческая жизнь. Пусть развитие интеллекта остается целью, а охрана и укрепление эмоциональной жизни является средством, — но при таком понимании дела педагогический интеллектуализм теряет все свои теневые стороны и имеет лишь то значение, что напоминает олеобхо-димости развития интеллекта. В такой форме интеллектуализм не только не опасен, но и законен. (…) Сюда присоединяется еще одно, чрезвычайно важное обстоятельство, нами указанное выше. Имея центральное значение в системе душевных сил, эмоциональная сфера претерпевает ряд сложнейших перемен как раз в школьный период, — и от того, чем закончится эта перемена, зависит судьба не только эмоциональной жизни, но и всей личности. Мы не знаем еще в точности ни самой картины этих перемен, ни тем более внутренней их природы, но несомненно, что важнейшая роль в них принадлежит пробуждению половой психики, процессам полового созревания. Может быть, даже здесь лежит основной фактор перемен, однако надо очень беречься модного в наши дни пансексуализма Фрейда и его школы, — не потому, что он совершенно неправ, а потому, что он берет слишком узкое понятие пола. Пол в нас не есть только эмпирическая сила, он имеет более глубокие стороны, существует своя метафизика пола. Сливать понятие пола и половой жизни, как это делает Фрейд и его школа, совершенно невозможно; отсюда как раз и идут главные ошибки этого направления. Так, психические перемены, сильно сказывающиеся на ряде психических функций, имеют место уже к 5 1/2 — 7 годам; уже здесь происходит настоящий перелом, создается новая эмоциональная установка, иное отношение к миру. «Второе детство» само по себе уже отмечено стремлением к «учению», к систематическому и настойчивому познаванию мира, — и это одно уже вносит в душевный мир ребенка большое осложнение. Былая простодушная наивная открытость исчезает, происходит значительный душевный сдвиг, замедляющий и осложняющий эмоциональную жизнь. Интеллект и воля в это время и помимо школы выступают на первый план, внутренне стесняя, ограничивая простор эмоциональной жизни. Подчиненная закону «двойного выражения чувств», эмоциональная сфера уже отходит от тех простых и наивных форм выражения, какими доныне она пользовалась. Пути «эмоциональной культуры» не открываются ребенку сами собой, — и здесь как раз и должно прийти на помощь воспитание сообщением ребенку тех путей дифференцированного творчества, которые дают исход творческим запросам и тем охраняют и укрепляют здоровье эмоциональной сферы. Таким образом, уже в течение второго детства» (т. е. до 10—12 лет у девочек, до 11 — 14 у мальчиков) ход психической жизни требует особого внимания к охране эмоционального здоровья, между тем школа беззаботно проходит мимо этих задач и усиливает тот процесс роста интеллекта, который и сам по себе в это время очень интенсивен. Здесь еще раз хочется вспомнить аналогичное явление в физическом развитии ребенка, когда вследствие неравномерного роста сердца и других органов излишнее развитие движений может иметь опасное влияние на сердце. Но еще сложнее и, прямо скажу, страшнее происходит дело, когда мы переходим к отрочеству. Мы уже характеризовали этот период как время «психического половодья»: пробуждение половой психики, половое созревание вздымают из самой глубины юного существа неопределенные, но властные стремления, мутящие его душу. Буйный поток новых переживаний разрушает основы психического равновесия, колеблет его устои, заливает душу какими-то неясными, но неотразимыми влечениями и сказывается в опаснейшей игре с людьми, в склонности к авантюрам, приближает к грани преступности. И не только моральное здоровье подростка подвергается в это время серьезнейшим испытаниям, не только вся его личность и ее развитие надолго определяются в этот период этими переживаниями, но еще важнее здесь та общая ущемлен-ность в это время эмоциональной жизни, которая имеет такое огромное для нас значение в силу связи эмоциональной сферы с творческими недрами личности. Энергия пола тоже есть творческая энергия; естественнее всего думать, что энергия пола и обычные творческие силы в нас восходят к одному и тому же метафизическому ядру личности, к одной и той же ее основе. Так или иначе, но для судеб эмоциональной жизни имеет капитальнейшее значение то, как проходит у подростка пробуждение в нем пола. Мы еще недостаточно знаем этот период, всю сложную, загадочную, а порой и таинственную игру сил, но и то, что нам ныне раскрыла психопатология — и здесь нельзя не помянуть с благодарностью все направление фрейдианства (включая и Штеккеля и Адлера и других отколовшихся от Фрейда психопатологов), — рисует жуткую картину. Как во время весеннего половодья очень важно охранять мосты и плотины, давая вовремя выход массам скопившейся воды, так в пору психического половодья особое значение приобретает отвлечение рвущихся наружу сил по путям здорового и продуктивного творчества. О, конечно, все это должно быть «прикровенно», ибо страшно нежна и хрупка в это время душа, и тут так кстати является школа с ее интеллектуальными задачами, — но вся сила воспитательного воздействия должна быть сосредоточена в это время совсем не на интеллекте, а на регуляции сложнейших движений в эмоциональной сфере. Мы все еще ходим улыбаясь беспечно над бездной и не хотим знать тех цветов зла, которые вырастают в это время в душе подростка; мы все еще ограничиваемся внешними задачами, сообщением знаний и навыков, — а о той глубокой и жуткой внутренней жизни, которую переживает подросток один на один, бессильный перед лицом непонятной для него игры его сил, мы так и не хотим думать или с видом огорченного бессилия разводим руками. Между тем как, аз школа обладает могучими средствами регуляции внутренних •твижений в душе подростка — как в социальной своей стороне, столь богатой питательным для подростка материалом, так особенно в укреплении и развитии творческих порывов, как бы вбирающих в себя темные движения души и их творческую силу. Здесь не место говорить о том, как должна быть построена школа, чтобы идти навстречу в подростке тому, что особенно нуждается в нашем водительстве и помощи; не место говорить и о том, как совместить с решением этой основной задачи школы необходимое для жизни укрепление и развитие интеллектуальных процессов. Моя задача заключалась лишь в том, чтобы отметить подлинные задачи школы в отношении к детям. (…) Мне могут сказать, что все равно школа не может поднять всех своих детей до уровня творческой работы, что угасание творческих сил происходит «фатально», связано с какими-то глубокими, недоступными нашему учету и воздействию моментами в личности ребенка. Если все дети в большей или меньшей степени обнаруживают силу творчества, то в школьный период происходит естественное угасание творческих сил у очень многих, и если бы школа стремилась удержать или развить творческие силы у всех своих питомцев, она все равно не решила бы этой задачи, между тем развитие интеллекта, сообщение известных знаний и формальных навыков ума в некотором среднем минимуме доступно для всех. Это возражение, имей оно серьезное значение и не будь оно просто отговоркой, уклонением от задачи, стоящей перед школой, говорило бы о такой testimonium paupertatis! Пора, давно пора оставить мысль, что на некоторых детей школа может махнуть рукой, может поставить крест: можно и должно учитывать дефекты, замедленный темп развития, умственную отсталость, можно и должно распределять различных детей в школы разного типа, но перед каждым ребенком открыта своя дорога нормального развития, открыты свои возможности творчества, в каждом ребенке должно охранять, укреплять и развивать его творческие силы. В школе не должно быть «черни», учеников второго разряда; все дети требуют к себе благожелательного, вдумчивого отношения, и чем слабее, дефективнее дитя, чем более оно отстало, тем серьезнее и ответственнее роль школы в его созревании. Надо здно признать, — что развитие интеллекта не может быть оторвано от целостного развития личности, что выделение интеллекта, эсредоточение всего школьного внимания на интеллекте не только влечет за собой небрежное отношение к другим силам души, не только вызывает их увядание, но что это опустошение души за счет интеллекта ведет к ослаблению самой же интеллектуальной жизни, к развитию в ней процессов усвоения за счет процессов творчества. И это основное положение, определяющее постановку вопроса о задачах школы, относится в одинаковой мере ко всем детям и нисколько не колеблется фактом различной одаренности детей. Школа должна обучать — эта задача ее неустранима, неизбежна, но обучение в школе отнюдь не должно стоять на первом месте, отнюдь не может определять ее основного плана. Школа должна прийти на помощь подростку больше всего в том, в чем он особенно беспомощен и уязвим, она должна охранить и укрепить в нем творчество, а следовательно, должна охранить творческие силы его, источник творческой энергии. Это есть главное, это есть основное в работе школы, ибо роль ее в развитии ребенка и подростка заключается в том, чтобы прийти на помощь ему в подготовке к самостоятельной жизни, к творческому отношению к ней в пери-од зрелости. Для этого необходимо развитие всей личности как целостного существа, но только надо отказаться от идил-лического понимания нашего существа, от идеи гармонического строения личности, гармонического ее развития. (…) Нам достаточно ясна вся сложность, вся трудность той работы, которая должна лечь на школу при отказе от педагогического интеллектуализма и даже волюнтаризма; нечего и думать, что усилиями одного поколения может быть действенно и в работе мысли поставлена и решена задача школы, как она была обрисована выше. Но к правильному пониманию задач школы мы должны идти, не боясь трудностей, здесь возникающих: этого требует ответственность самого школьного дела. Если интеллектуализм сказался на всей духовной культуре нового времени, то как бы медленно ни шло преодоление его в других областях жизни, в педагогике должно настойчиво стремиться к его скорейшему преодолению, ибо слишком губительны и тяжелы последствия его. Это еще яснее станет нам, если мы от обрисовки того, как сказался интеллектуализм в постановке вопроса о задачах школы, перейдем к тому, как он сказался в самых приемах школьной работы, в ее практике.
О РЕЛИГИОЗНОМ ВОСПИТАНИИ В СЕМЬЕ[23]
Одноименная глава книги: В доме Отца моего М.: Храм Трех Святителей на Кулишках, Благотворительный фонд"Северная обитель", 2001
Настоящая статья посвящена одному из очень трудных, но в то же время и самых неотложных вопросов нашего времени. Без преувеличения можно сказать, что ни в чем так не нуждается наше время, как в том, чтобы современная семья могла дать надлежащее религиозное воспитание своим детям. Религиозное оскудение, столь остро проявившееся у христианских народов в XIX и XX веках, глубочайшим образом было связано с разложением и упадком семейной жизни, с тем духовным гниением, которое проникло в семью и отравило ее. Можно установить и обратный факт: упадок семейной жизни в XIX и XX веках внутренне связан с религиозным оскудением в современном обществе. Между здоровьем семьи и цветением религиозной жизни какой-либо эпохи существует самая глубокая и тесная связь. […] Новые поколения могут стать проводниками и творцами новой религиозной эпохи лишь в том случае, если они уже в семейной атмосфере будут жить религиозной жизнью. Отдельные яркие и сильные люди могут дать простор своим религиозным движениям и вне этого, но приобрести широкое и исторически плодотворное значение религиозная одаренность молодежи нашего времени может только в том случае, если семья выполнит лежащую перед ней задачу религиозного воспитания. Создание"островков церковной культуры"под силу только семье, вернее - семьям, соединяющимся вместе для этого. Религиозная значительность нашей эпохи определяется тем, насколько новой и религиозно живой является семья. Это глубокое мое убеждение, одну из граней которого я попытаюсь осветить в настоящей статье.
I. СЕМЬЯ КАК ОРГАН РЕЛИГИОЗНОГО ВОСПИТАНИЯ Может ли современная семья иметь религиозное влияние на своих детей? […] Нам необходимо присмотреться к переменам в современной семье, чтобы оценить эти возможности. Главное здесь - в изменяющемся положении женщины и в превращении семьи из трудовой единицы в единицу потребительскую. Христианизация семьи, которая безостановочно шла в течение веков и которая изнутри преображала семейную жизнь, подверглась в XIX веке серьезнейшему испытанию… Процессы христианизации семьи либо должны искать иных для себя оснований, либо должны стушеваться и уступить место новой варваризации семьи. Коснемся сначала экономической стороны. Семья издавна была трудовой единицей, той социальной клеточкой, вернее, тем организмом, в котором осуществлялась всеми ее членами общая жизнь. Возникновение денежного хозяйства, отход мужчины на сторону, появление фабрик и заводов разрушало трудовой характер семьи, но не до конца, пока мать оставалась дома. Семья как целое оставалась замкнутой трудовой единицей, в которую дети включались самим ходом жизни, участвуя в общем труде семьи. Разнообразные функции семьи выполнялись в ней самой, семья трудилась как целое, имея свое хозяйство, вырабатывая дома целый ряд нужных вещей. Семейный быт, семейная атмосфера, уют и поэзия семьи - все, что заключает в себе драгоценнейшие для детской души питательные силы было интимно связано с трудовым характером семьи. Слова"семейный очаг"не случайно явились синонимом уюта и тепла семьи: вокруг трудовых процессов семья объединялась, чувствовала свое единство, реально переживала свою внутреннюю спаянность. Вся огромная область семейного труда, часто мелкого и незаметного, но реально очень существенного, становилась сферой обнаружения взаимной связанности: для чувств, которые рождает общая семейная жизнь, этим открывалась широкая возможность их выражения, а потому и возможность их цветения. В семейной активности, в семейном труде всегда был неисчерпаемый источник самых глубоких и лучших душевных движений, которыми питалась и крепла семейная целостность. XIX век постепенно вырывает женщину из семьи и этим разрушает главную основу семьи как трудовой единицы: в ответ на развитие женского труда, уводящего мать из семьи, жизнь даст целый ряд существенных изменений в строе семейной жизни. Семейный труд становится все менее нужным, сводясь постепенно к такому ничтожному минимуму, при котором смешно говорить о семье как трудовой единице. Техника современной жизни дошла до такой высоты, при которой в доме нужно очень мало труда. Очень состоятельные люди могут теперь прекрасно обходиться без прислуги - это достаточно характеризует техническую организованность жизни. Продукты доставляются в таком виде, что над ними минимально нужно потрудиться, чтобы употребить их в пищу, печей топить не надо, мойка белья дома не нужна… Все эти технические удобства современной жизни сводят семью к потребительской, а не трудовой единице: в семье вместе потребляют, но не вместе трудятся. Этот процесс еще в самом разгаре, но он имеет тенденции расширяться и захватывать все более широкие слои. Нечего удивляться, что современная семья зачастую напоминает гостиницу, а не тот прежний семейный дом, в котором целый день шла непрерывная жизнь. С утра вся семья расходится в разные стороны: отец и мать идут на работу, дети - в школу, в детские сады. Все приспособляется к тому, чтобы прийти на помощь семье в новом ее положении, - и только к вечеру все сходятся вместе. Внешнему растеканию семьи очень часто соответствует и внутреннее: у каждого члена семьи своя социальная среда, с которой он связан, свой круг знакомств, свой круг интересов. Что же объединяет еще семью в одно целое? Не только в истории семьи, но и в современной семье мать является ее связующей силой, ее живым, средоточием. Семья сохраняет свое единство только благодаря матери. Чем меньше семья является трудовой единицей, чем дальше и глубже идет рассечение семьи, тем ответственнее и существеннее становится роль матери, но тем и труднее она, ибо все члены семьи мало нуждаются в семье. […] Нельзя сказать, что такое взаимотяготение невозможно, неосуществимо: жизнь показывает нам и в наши дни удивительные примеры такой целостности семьи, которая сохраняется и там, где совершенно почти исчез семейный общий труд. Но всегда центром и источником семейной связи оказывается мать, и тут, собственно, и обнаруживается, что целостность, столь естественная в семье при семейном труде, может существовать и без этого, находя неистощимый источник своих сил в тех связях членов семьи с матерью, которые духовно настолько содержательны и богаты, что в состоянии крепко и глубоко связать всех. Мать связана с детьми глубже, чем одной лишь бытовой, жизненной связью. Глубже, раньше трудового единства было в семье ее духовное единство. Нельзя сказать, что лишь христианство дало семье это духовное единство; оно присуще натуральной семье, оно есть выражение самой природы семьи. Но лишь в христианстве раскрывается и осмысливается эта духовная сторона семьи, ибо в христианстве открывается вечность связи членов семьи. Неповторимость, единичность каждого человека, как она впервые возвещена и раскрыта в христианстве в его благовестии спасения и воскресения, впервые раскрывает то, что семья есть духовный организм, ибо связь в семье не исчезает со смертью, но сохраняется для вечности. Мать для всех нас не есть только та точка в эмпирической ткани бытия, где каждый из нас приходит в мир, но это есть и та метафизическая точка для каждого, через которую мы связываемся с вечностью и в вечности. Христианство утверждает метафизическую силу семейных связей; как цветение семейной жизни, как высшее раскрытие ее выступает в христианстве учение о семье как малой Церкви. Семья есть малая Церковь - это значит, что она образует единое, целое, нерасторжимое, жизнью созидаемое, но выходящее за пределы жизни духовное единство, входящее в Церковь как тело Христово, подобно клеткам сложного организма. Единство семьи не исчерпывается ее жизненно-трудовым единством. Там, где жизненно-трудовое единство колеблется, там не исчезают еще предпосылки подлинной целостности семьи. Мать по-прежнему является средоточием семьи, ее главной зиждущей силой. Поэтому описанный выше кризис семьи, связанный с превращением ее в потребительскую единицу, с рассечением и внешним распадом семьи, может быть изнутри преодолен, но лишь в том случае, если духовная связанность семьи сохранится. Духовная крепость семьи раньше давалась легче, почти"сама собой", теперь же она дается с трудом, осуществляется лишь при действенном преодолении всех тех сил раздробления и охлаждения, которые заключены в современном строе жизни. Но тут приходится вернуться ко второму фактору распада современной семьи, мельком нами уже затронутому, - к изменению положения современной женщины. Дело идет не только о развитии женского труда, хотя и это имеет огромное значение. Женщина, становясь экономически самостоятельной и независимой, не мирится с прежним подневольным положением, на которое она была обыкновенно обречена. У современной женщины все больше и все ярче выступают ее запросы как человека; происходит несомненное, хотя и медленное, изменение психологии женщины. То, что писал Дж. Ст. Милль в трактате"О подчинении женщины", где многие слабые стороны женщины объяснены историческим ее подчинением, оправдывается. Рост женской организованности, развитие гражданских и политических прав женщины, рост просвещения среди женщин, безусловные их успехи в области научного и культурного творчества - все это характерно для нашего времени. Женщина занимает все более активное место во всей современной жизни, но этот рост личности у современной женщины, благой и ценный сам по себе, сказывается весьма тяжело на современной семье. Переставая жить одной семьей, женщина дает очень много обществу, но сплошь и рядом у нее не хватает не только времени, но и внимания для семьи. Пока женщина живет лишь своей семьей, она является ее реальным средоточием, чутко отзывается на все ее нужды и определяет своей незаметной, но постоянной обращенностью к семье ее жизнь. Уход матери из семьи на сторону, как бы ни был он ценен сам по себе, лишает семью ее основной силы, подрывает самые ее основы. Это роковой факт нашего времени. Не следует думать, что из этого положения нет выхода, но если в прежних условиях жизнь семьи создавалась"сама собой", без каких-либо усилий со стороны женщины-матери, то в новых условиях лишь при особых усилиях возможно сохранить семью как целостный и единый организм. Христианство имело глубокое влияние на жизнь семьи, на внутренний строй ее - оно как бы приоткрыло и осветило то, что в натуральной семье могло раскрываться лишь случайно: духовную связанность в семье. […] На этой как раз почве и происходит кризис семьи: христианский смысл семьи, до которого мы доросли, с которым сжилась наша душа, все труднее вмещается в реальные условия семейной жизни, и отсюда вырастает своеобразное"оязычение"современной семьи, ее"паганизация". Это очень сложный вопрос, отчасти близкий к тому, что случилось во всей современной культуре, оторвавшейся от связи с Церковью. Для преодоления тех трудностей, которые создает современность, у нас оказалось слишком мало религиозной силы. Общее религиозное оскудение и одичание побуждают наших современников искать выхода на путях отрицания христианского подхода к семье. Положение в этом вопросе столь серьезно и трагично, что трудно и осудить наше время за все его судорожные попытки найти выход на путях"оязычения". Но все же нельзя отрицать, что современная семья стоит перед вопросом, который никогда еще не поднимался с такой остротой, как ныне, - вопросом о том, быть ли семье христианской или нет? Сомнения здесь подсказаны не буйством воли, не извращением чувства и не лукавством разума - они растут из мучительных фактов жизни, разрушающих семейный быт в его былом укладе. Семья подтачивается изнутри, и ее христианский путь изнутри темнеет, колеблется в самых основах своих. С особенной силой это проявляется как раз в том вопросе, которому посвящена настоящая статья, - в вопросе о религиозном воспитании в семье. Здесь действует положение, которое по его бесспорности может быть названо аксиомой религиозной педагогики: религиозно влиять на детей может только тот, кто сам. живет религиозной жизнью. В применении к семье это значит, что только та семья, которая, как целое, живет религиозной жизнью, может дать своим детям религиозное воспитание. Но если кризис современной семьи вообще заключается в падении и ослаблении ее духовной целостности, то сильнее всего это сказывается на религиозной жизни. Целостность в семье сохраняется и проявляется легче в сфере внешнего быта, ущемление же этой целостности больше всего касается духовной стороны. Сколько среди нас есть семей, внешне еще не утративших своей целостности и даже глубоко чувствующих ее, но уже растерявших в себе духовную близость и единство! Религиозное бессилие семьи именно этим больше всего определяется, ибо семья уже почти не является духовным организмом - это скорее бытовая и социально-психическая организация, а вовсе не духовный организм. Тот духовный аромат, который раньше выделялся семьей и был выражением глубокого духовного взаимосвязывания, ныне стал редким, в силу чего семья начинает утрачивать свою главную, питательную для детей силу. Здесь заложены основные причины трудности религиозного воспитания в семье нашего времени. Духовное обмеление и потускнение современной семьи изнутри ослабляет силу ее религиозного воздействия. Но это не есть роковой и неустранимый факт: христианская семья возможна и в наше время в тех изменившихся условиях, которые были описаны выше. Но духовное развитие семьи предполагает, что она, невзирая на враждебные силы, на ослабление бытовых связей проявит свою духовную целостность и отстоит ее. Органом воспитания современная семья может быть только в этом случае: духовно питать детей может только семья, духовно целостная и здоровая.
II. ЗАДАЧИ РЕЛИГИОЗНОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ Мы будем исходить в дальнейшем из предположения, что имеем дело с духовно здоровой семьей. Как понимать задачи ее религиозного воздействия на детей? В этом вопросе много неясного, неопределенного; многие беды и ошибки в религиозном воспитании в семье происходили и происходят больше всего оттого, что самые задачи религиозного воспитания мыслились неопределенно или ложно. Чтобы разобраться несколько в этом вопросе, погрузимся на время в психологию религиозной жизни. Основной факт всей нашей духовной жизни есть искание Бога, томление о Нем. Душа наша никогда не может до конца насытиться тем, что дает ей текущая жизнь, она ищет того, что выходит за пределы жизни, что связано с Вечностью. Это томление о Боге, о Бесконечном определяет динамику всей нашей духовной жизни. […] Религиозная функция так же изначально присуща нашей душе, как и другие формы духовной жизни; религиозную жизнь не нужно вовсе насаждать, ей нужно лишь дать простор в ее выражении, определенность в ее содержании. В детской религиозности особенно поразительна простота и естественность, с какой душа обращается к Богу: дети по природе своей ближе к Богу, как к Отцу Небесному, они непосредственнее и прямее чувствуют Его, чем, мы. Область мистических переживаний, религиозный опыт не отделены у них от реальности так, как отделены у нас. Интуиции смысла в мире как простейшая, но и основная религиозная интуиция, открывающая детям с неповторимой простотой единство и гармонию в мире, дается им без всяких усилий. Религиозное развитие заключается у детей в том, что они ищут религиозных образов, которые могли бы раскрыть смысл их переживаний, что они через общее духовное созревание идут к более адекватному пониманию горней сферы, к более одушевленному выражению своей устремленности к Небу. Религиозная сфера постепенно выделяется из общей духовной жизни; и это отделение имеет три разных грани, три стороны, которые первоначально координированы, можно сказать, слиты в нерасчлененной целостности, а затем начинают созревать и расти в известной, хотя и ограниченной, независимости одна от другой. Первая грань охватывает все то, что можно назвать сознанием Бога, - это совокупность интуиции, чувств, образов, мыслей, итогов религиозного опыта. Это не знания, привносимые извне, а именно сознание Бога - интеллектуально-эмоциональное. Вторая грань включает в себя всю полноту выражений религиозных чувств, движений, мыслей - сюда относится молитва, участие в богослужении, разнообразная религиозная активность. Все это образует сферу"благочестия", формирует внутренние и внешние навыки в религиозной жизни, облекается в"обряды", реализует духовные порывы. Над этой стороной религиозной жизни владычествует закон привычки, благой для других сфер, но роковой для духовной жизни вообще. Он является здесь роковым в той мере, насколько, в силу повторения, система выражений внутренних движений становится привычной, все менее нуждается в внутренней стимуляции, почти механизируется. Мы крестимся, кладем поклоны, произносим молитвы почти без всякого усилия внимания; внешние действия уже не столько выражают внутренний мир, сколько становятся самостоятельной областью, за которой следует (а иногда и вовсе не следует) внутреннее побуждение. В развитии религиозной жизни накопление навыков, привычных действий неизбежно, отчасти и желательно, но оно заключает в себе большую опасность и сплошь и рядом ведет к механизации этих действий, к замиранию и высыханию религиозной жизни, к своеобразному"окамененному нечувствию"… Но есть еще третья сторона в религиозной жизни - это развитие и формирование духовной жизни в нас. Человек духовен по своей природе, и начало духовности пронизывает собой всю нашу личность, всю нашу жизнь. В процессе общего созревания духовные силы, духовные запросы поднимаются над общим ходом жизни, в глубине нашей формируется"внутренний человек". Рождение внутреннего человека таинственно, неисследимо, но оно должно когда-нибудь прийти, если мы не утопим себя во внешней жизни. Духовная жизнь в нас ищет во всем"смысла" - вечного, глубокого, достойного; она не отвергает внешней жизни, ее законов, она хочет только во всем видеть смысл, хочет связать внешнюю жизнь с Вечным и Бесконечным. Это есть общий факт созревания в нас духовных сил, но особую глубину и содержательность, свою настоящую полноту духовная жизнь в нас получает только от религиозной области. Жизнь, религиозно освещенная и согретая, открывает безграничный простор для духовного делания - ив этом духовном самопреображении, в самом устремлении к нему религиозная жизнь получает свое последнее и особенно важное раскрытие. Богопознание, не ведущее к духовной жизни в нас, к духовному деланию, становится пассивным восприятием горней сферы, как факта; Богообщение (молитва) без духовного делания легко подменяется погружением в самого себя. Религиозная функция нам дана как изначальная сила души, но лишь в духовном делании, в духовной жизни она находит для себя питание и применение. Человек по природе духовен, но духовная жизнь может не быть сосредоточенной вокруг идеи Бога - она может рассеиваться по каким-либо частичным и неполным идеям, может быть связана со злом. То, что так глубоко описал Достоевский, как наше"подполье"и что еще у св. Макария Великого было до конца раскрыто в его учении о духовной тьме, скрытой в нас, - это все свидетельствует о том, какой фактически неустроенной оказывается наша духовная жизнь, сколько в ней хаоса, провалов, противоречий. Мы не можем перестать быть духовными, но мы можем разменять нашу духовность на пустяки и мелочи, можем за чечевичную похлебку ничтожных достижений отдать наше духовное первородство.
[24] В каждом из нас духовная жизнь есть, но она должна быть устроена и освещена светом Божиим, иначе она будет пребывать в хаосе и будет источником не нашей силы, а наших ошибок, противоречий, грехов. Мы отделили для ясности три стороны в религиозной жизни, но в живом процессе религиозного развития они реально слиты и связаны. Укрепление и раскрытие духовной жизни невозможно без развития сознания о Боге, а формирование религиозного сознания не обязательно ищет своего выражения только в молитве, обряде, богослужении. Центральное значение здесь должно быть отдано духовной жизни, вне которой религиозное сознание может выродиться а бесплодную, холодную работу чистого интеллекта, а молитва, крестное знамение, посещение богослужения могут стать чисто внешними, формальными. Жизненность духовной работы потускнеет, если религиозное сознание подростка станет неопределенным и тусклым, если он утеряет ясность религиозных идей, если перестанет молиться; но пока живы духовные устремления, пока душа ищет вечного, глубокого, бесконечного - есть почва, на которой может вновь расцвести вся полнота религиозной жизни. Главнейшие испытания, которым подвержено религиозное созревание детей и подростков, связаны именно с духовной стороной в них. При нашей обычной склонности довольствоваться внешними достижениями у детей, при обычном слабом внимании к внутреннему миру ребенка для нас часто проходит незамеченным факт духовного измельчания детской души. Между тем как раз в истории религиозной жизни, в зигзагах ее развития именно и нужно искать главную причину религиозного потускнения, а иногда и утери всякого интереса к религиозной сфере. Отмечая центральное и основное значение духовной жизни, мы должны указать и на основной закон ее развития, таящий в себе разгадку ее часто непостижимой логики, т. е загадочного ритма. Я говорю о законе свободы. […] Обращение души к Богу, прикосновение к вечности, эта окрыленность души и ее устремление к Бесконечному, сама эта жизнь о Боге и в Боге, а не конкретные идеи, не образы и выражение наших чувств глубоко связаны с свободой, овеяны ее дыханием. Господь создал нас с даром свободы, который есть в нас частица силы Божией, залог Богообщения, свечение образа Божия в нас. Этим полагаются границы всякого религиозного воздействия на душу человека - в том числе и церковного воздействия: нельзя спасти, духовно возродить человека помимо его самого. Свобода есть Дар, который вне Христа становится бременем, свобода есть сила, которая, вне Церкви не помогает, а мешает человеку. Самое раскрытие дара свободы, раскрытие путей свободы и условий ее творческого выражения, иначе говоря, воспитание к свободе - и образует поэтому главную задачу религиозного воспитания. Наши жизненные трагедии, наши духовные блуждания, глубокая неустроенность, от которой так ужасно страждут люди, вся эта затягивающая сила мелочей, мнимых ценностей и злых страстей - все это есть следствие того, что мы не понимаем дара свободы, не умеем им пользоваться и потому становимся его жертвами. Свобода вырождается в произвол, в хаос, теряется; иногда мы даже не доходим до сознания того, что свобода реализуется лишь в Церкви. Редкие из нас знают тайну свободы, ее сил и ее опасности вне тяжких уроков жизни, но именно это и есть задача старшего поколения - помочь младшему в том, в чем оно беспомощно, - помочь овладеть нашей свободой. Свобода есть закон духовной жизни, и вне ее духовная жизнь либо вырождается и мельчает, либо пустеет. Это мы можем наблюдать вокруг себя на каждом шагу: всюду мы видим, как люди стремятся уклониться от основного пути духовного развития, подменить главную задачу маленькими жизненными делами. Мы забываем о Боге, зарываемся в маленькие, ничтожные дела. Но памятование о Боге - этот свет, от которого становится ясен путь жизни, - психологически нереализуемо в суете, в задавленности маленькими и мелкими задачами. Главная причина религиозного оскудения - и индивидуального и исторического - лежит как раз в плененности души маленькими и мелкими задачами, господство которых вовсе не есть реализм, а есть близорукое погружение в мелочи. Религиозное горение, обращенность души к Богу совсем не требуют и не обуславливают невнимания к реальной обстановке; говоря условным языком нашей эпохи, это можно выразить так: мистицизм и реализм соединимы один с другим. Духовное своеобразие Православия как раз выражается понятием"мистического реализма", совмещающего полноту духовного видения и трезвого учета действительности. Общая задача религиозного воспитания в том, чтобы вызвать к жизни духовные силы, духовные запросы у детей и подростков, дать им окрепнуть и созреть. Это духовное созревание не может быть регулировано извне, оно определяется свободным устремлением души к Богу, к Вечности. Этой главной задаче религиозного воспитания должны быть подчинены все остальные. В особенности это относится к тому, что является, по существу, лишь внешним выражением религиозной жизни. По ограниченности нашего духовного зрения мы часто останавливаемся именно на внешнем выражении религиозной жизни. Существует даже такое мнение, что через приучение к внешнему выражению создается у ребенка и внутренний религиозный мир. Известной практической справедливости этого я не буду отрицать, хотя и необходимо обратить внимание на то, что такой путь от внешнего к внутреннему по меньшей мере в 50% не дает положительных результатов. Однако основная неправда этого метода заключается в том, что он подменяет главную цель вторичной и побочной. Если главная задача религиозного воспитания заключается в том, чтобы помочь душе"жить в Боге", раскрыть для нее путь свободного духовного развития, то эта задача будет достигнута и в случае бедности или сдержанности внешнего выражения религиозных движений - и наоборот, привычные формы таят в себе ту опасность, что привычки оттеснят внутренний мир. Я не хочу вовсе отрицать значение религиозных знаний, развития религиозных навыков и т. п., но основная задача религиозного воспитания заключается все же в том, чтобы помочь детям и подросткам в росте и устроении их духовной жизни, - все остальное есть или средство, или плод, или применение и выражение духовной жизни. Трудность заключается совсем не в этих вторичных сторонах религиозной жизни - трудность заключается именно в запутанном, часто непостижимом ритме духовного развития, в том, что духовная жизнь у детей и подростков даже больше, чем у нас, подчинена закону свободы. Мы можем иметь то или иное влияние на детей, можем увлекать и воодушевлять их, расширять и направлять их интересы, но будем бояться, чтобы за деревьями не перестать видеть леса: духовная жизнь в ее своеобразном ритме, в ее часто непонятном, порой капризном развитии не зависит от нас. Мы можем подавить, заглушить, отодвинуть вглубь то, что зреет в глубине души у детей или подростков, но положительная и творческая задача религиозного воспитания не находится в прямой зависимости от нас. Встает поэтому и такой вопрос: возможно ли религиозное воспитание вообще? Возможно ли наше не случайное, а сознательное участие в духовном созревании детей и подростков? Если брать живые факты, то поистине можно усомниться - до такой степени часты отрицательные его результаты. Мы сейчас перейдем к вопросу о средствах религиозного воспитания в семье, поэтому сразу же подчеркнем, что семья не одна имеет влияние на детей: рядом с семьей стоит знакомый и близкий социальный мир ребенка, влиятельным оказывается и весь огромный незнакомый социальный мир, откуда исходят различные притяжения, влияния, которым бессознательно отдается дитя. Отделить дитя от обоих социальных миров - близкого и далекого - невозможно и не нужно, но можно и должно воспитывать дитя к свободе, т. е. укреплять в нем духовные силы, при которых он не будет подавлен окружающей средой, помогать ему в его детских исканиях, быть источником и резервуаром сил, необходимых ему. Религиозное воспитание средствами семьи еще более необходимо, когда дитя уходит из семьи, подчиняется влиянию школы, сверстников, всей жизни. Роль семьи в этот период становится еще более ответственной и серьезной: именно в это время духовные силы семьи могут оказаться особенно ценными для подростка, если только семья духовно не распалась, если она еще духовно жива.
III. СРЕДСТВА РЕЛИГИОЗНОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ Чем же располагает семья для религиозного воспитания детей, понимаемого так, как это описано выше? Духовное богатство семьи часто значительно больше, чем это мы сознаем; мы не умеем, а порой к не хотим использовать все то, что накопляет семья внутри себя. Я не говорю, конечно, о тех случаях, когда семейная жизнь идет неудачно и развертывается в драму или даже трагедию. Об этом просто нечего говорить: наша задача состоит в том, чтобы выяснить, чем располагает хорошая, устроенная семья в деле религиозного воспитания. […] В раннем детстве семья является единственной социальной средой, близкой, нужной и дорогой для ребенка, который воспринимает весь мир через семью. Дитя находит себя на заре своего самосознания включенным в семью, которая просто дана ребенку как естественная, понятная и ничем не заменимая социальная среда. Очень медленно дитя научается сосредотачиваться на себе как на отдельном существе - и этот процесс никогда не доходит до конца: связи с семьей, как они раскрываются для нас в раннем детстве, хранятся нами всю жизнь как нерастрачиваемый капитал, как источник жизненных сил, к которому мы припадаем в самые горькие и трудные минуты жизни. В религиозном созревании ребенка семья занимает тоже исключительное место именно тем, что она является для него главным проводником религиозных чувств. Зависимость религиозных образов. и чувств от семейного опыта ребенка несомненна. Для ребенка семья светится религиозным светом. Горняя сфера - Бог, святые, ангелы - предстают детской душе как некое восполнение его семьи. […] Свет, исходящий для ребенка из семьи, создающий всю незабываемость поэзии семьи, ее сладость, ее единственную счастливую успокоенность, открыт детской душе потому, что она глядит на семью духовным зрением. […] В раннем детстве семья, сама того не ведая (я все время, конечно, говорю об устроенной семье), духовно питает ребенка, развивает его религиозные силы. От семьи исходит какой-то исключительный аромат, в котором нуждается детская душа, которым она питается. Именно в христианской семье раскрывается с исключительной силой ее,"великая тайна", по слову ап. Павла, - тайна ее духовного пути как пути к Богу. Таинство брака, как его понимает православное сознание, есть не простое благословение или освящение семейной жизни, а раскрытие той духовной силы, которая всегда есть в браке, но которая без благодати не может действовать в семье. Христианская семья таит в себе. благодать, которая неистощимо пребывает в браке и излучения которой проходят сквозь всю полноту семейных отношений. Отсюда, из этой силы благодати, неистощимо пребывающей в христианском браке, надо выводить все глубокое религиозное значение семьи в духовном созревании ребенка. Все, что уводит семейные отношения от этого духовного, благодатного начала, ослабляет и влияние семьи на религиозное созревание ребенка. Мы здесь с новой стороны подходим к тому, что было выше названо"аксиомой религиозной педагогики": насколько семья не утрачивает религиозной силы, ей присущей через таинство брака, настолько же она в самом своем бытии, без всяких усилий религиозно воспитывает детей. И обратно: утеря, ослабление или тем более сознательное отвержение (столь ныне частое) духовной, благодатной основы в браке обрекает семью на бессилие в смысле религиозного влияния. Лучший способ религиозного воспитания детей заключается в том, чтобы семья сохраняла в себе благодатную основу, оставалась религиозной в своей природе. Живительное действие семьи, не утратившей и не отвергшей благодатной силы таинства брака, часто незаметно, а порой и приостанавливается, как будто парализуется встречным дурным влиянием на ребенка внесемейной среды. Да, это возможно, но тех семян, которые сеются в детской душе от ранних годов, когда дитя живет одной жизнью с семьей, этих семян ничто не может вытравить - и рано или поздно светлые силы души вступят в бой с темными, душа вновь будет искать Бога. Для нас существенно то, что развитие духовных сил ребенка в раннем детстве не требует никаких усилий, если семья сама живет духовной жизнью, - и с другой стороны, оно не почти невозможно, если семья духовно опустошена. В раннем детстве развитие духовной жизни у ребенка находит чрезвычайное подспорье в чистоте и невинности детской души. Внутренний мир ребенка еще открыт, обыкновенно имеет полную свободу своих проявлений. Хотя наблюдение над детьми констатирует уже и в раннем детстве начатки лукавства, приспособления, лжи, но все это еще само по себе ничтожно и не занимает большого места в душе ребенка. Очень важно уже в это время приучать дитя к тому, чтобы дитя поступало в соответствии с его глубокими, искренними чувствами, чтобы его"сердце"было вдохновителем его действий. Этим вовсе не устраняется значение рассудочности, для ряда натур уже в это время играющей немалую роль в их поведении. Но христианство в"сердце"видит центр личности. В воспитании детей наше время сплошь и рядом выступают ветхозаветные мотивы: внушение детям"закона" - системы правил, которыми они должны руководствоваться. Внедрение этих правил не как начала контроля и вразумления (что правильно), а как мотивов поведения уже в раннем детстве намечает опаснейший дуализм между подлинными желаниями и стремлениями ребенка и его действиями. Поскольку между этими двумя сферами только намечается разрыв и расхождение, постольку наносится чрезвычайный, порой почти непоправимый удар нормальному развитию духовной жизни. Духовная жизнь в своем развитии подчинена закону свободы, как мы уже видели. Путь свободы, поскольку он касается именно духовной жизни, познается и усваивается не сразу, но он предполагает, что человек постепенно определяется в том, чем живет его сердце. Я не хочу, конечно, сказать, что путь свободы определяется только влечениями сердца: существуют вечные, непреложные законы морали, которые определяют границы свободы. Не все, что рождается в сердце, хорошо, к действиям сердца необходимо относиться с чрезвычайным вниманием, с"рассудительностью", но все же христианская жизнь определяется мотивами сердца, а не правилами закона. Для нас это важно потому, что духовная жизнь всецело связана с нашим сердцем (хотя и не с ним одним): духовный лик человека определяется тем, что таит в себе его сердце. Поэтому крайне важно, чтобы уже в раннем детстве не намечался дуализм внутреннего мира и внешнего поведения, важно, чтобы дитя воспитывалось к свободе и в свободе. Внешние границы нашего поведения должны быть, но следование им должно свободно определяться голосом сердца: там же, где приходится определять эти границы извне, там засоряется источник духовного развития ребенка. В формировании духовной жизни ребенка чрезвычайно важно, чтобы эта духовная жизнь слагалась не под спудом, не прикровенно, что всегда создает затем почву для лжи, лицемерия и т. п., - а на просторе. Достаточно, например, указать на психологию детского раскаяния; какую творческую силу имеет это раскаяние, когда оно свободно и искренне рождается душе, и как оно бесплодно, ненужно, а часто и вредно, когда вынуждается родителями. Именно в эти годы, когда все в душе еще так наивно и примитивно, мы загоняем в подвалы души духовную жизнь ребенка, его внутренний, закрытый мир, насаждая в то же время желанные для нас внешние привычки… Нелегко воспитывать детей в свободе и к свободе: нужно много терпения, разума, прозорливости, чтобы дать детской душе самой опознать свою неправду в каком-либо действии, чтобы отделить свободу от произвола и своеволия, - но, не приучая к свободе и ответственности, нельзя дать простора для укрепления духовной жизни ребенка. То благодатное действие семьи, которое было описано выше и которое непрестанно привносит в детскую душу свет и добро, может быть совершенно парализовано внешним режимом: если поведение ребенка заранее определено известными правилами, для этого поведения ни к чему все излучения Божией силы в семье. Тема, о которой мы сейчас говорим, так глубока и трудна, к ней так мало прикасались еще
[25], что нельзя ее исчерпать. Чтобы обозреть основные вопросы нашей статьи, обратимся теперь к тому, что может семья дать для развития религиозного сознания ребенка. Религиозность не может быть только эмоционально-интуитивной, она должна найти свое выражение в религиозном сознании, которое и у детей слагается из образов и идей. Количество идей, доступных религиозному сознанию ребенка, гораздо больше, чем обычно кажется: нас часто обманывает наивная форма, в которой дети выражают свои религиозные размышления. Но кто способен понимать детей, а не только внешне коллекционировать их слова и действия, тот не может не согласиться, что детям доступны - в своем смысле, конечно, - идеи Бога-Творца, Боговоплоще-ния, спасения и искупления, греха, воскресения… Эти идеи непременно должны быть связаны с религиозными образами - и, конечно, больше всего с образом Христа Спасителя. Бесчисленные свидетельства удостоверяют огромное значение того, как глубоко входят в детскую душу религиозные образы, с которыми они знакомятся в семье. Чтобы привести всем известный и доступный пример, укажу на замечательные страницы в"Дворянском гнезде"Тургенева, где с глубочайшей правдивостью рассказано религиозное развитие Лизы, когда она была совсем маленькой девочкой и когда она находилась под влиянием своей няни. Именно в семье, на общем фоне всего то:, о, что дает семья ребенку, религиозные образы глубоко внедряются в детскую душу и вызывают такую ответную любовь к Богу, к святым, которая приближается к переживаниям святых. Нельзя, однако, не сделать тут же одного замечания: Родители и воспитатели нередко стремятся использовать идею Бога в целях утилитарных: то мы слышим это в виде угроз, что"Боженька накажет", за неисполнение какого-нибудь обыкновенно мелкого требования, то внушается мысль, что Бог придирчиво следит за всеми делами детей. Все это не только низводит религиозную жизнь к уровню житейской морали, но и создает почву у детей для первых проявлений скептицизма, роняет значение священных образов. Но все же большинство ошибок в религиозном воспитании относится к третьей стороне религиозной жизни - к сфере ее"выражений". Родители и воспитатели торопятся усвоить детям ряд внешних навыков, не только не связывая их с внутренним миром ребенка, но часто прямо игнорируя его. Для примера возьмем молитву. Дети в раннем возрасте очень охотно повторяют за старшими слова молитвы, крестятся, целуют иконки; за этими внешними действиями легко встают в детской душе, духовно незатуманенной и чистой, отвечающие всему этому внутренние движения. Но надо еще открыть душу ребенка для молитвы, а не только уста; то психическое дополнение, которое обычно рождается в душе ребенка при молитве, крестном знамении, еще не связывает молитвы, крестного знамения с внутренним миром. Наилучший способ одушевить дитя тем, что отвечает словам молитвы, смыслу крестного знамения, - это молиться вместе с ребенком, т. е. не просто присутствовать при молитве ребенка, но самому молиться вместе с ним, вкладывая всю силу, весь огонь своей души в молитву эту. Молитва родителей так глубоко западает в душу ребенка, что она становится настоящим проводником религиозного опыта для ребенка. Давно сказано, что у одних религиозных людей ядро их религии есть вера в Бога, а у других - их вера в чужую веру в Бога; а говоря точнее: у одних есть свой религиозный опыт, а у других - церковный, т. е. от Церкви, от других людей идущий в души религиозный опыт. Молитва родителей при детях дает детям именно церковный религиозный опыт, подготовляя духовную почву для собственного религиозного опыта. В раннем детстве не существует особых трудностей в вопросе о посещении храма: дети сами охотно пойдут в храм, если идут родители. В эту пору здесь просто не нужно принуждение - настолько охотно дети посещают храм. Очень углубляет религиозные детские переживания забота об иконках в детской комнате, зажжение лампадки, украшение цветами к празднику и т. д. Если все это делается не просто в воспитательных целях (дети рано или поздно это разберут, и тогда это может вызвать сразу упадок в религиозной жизни), а отвечает всему быту семьи, тогда это очень помогает детям. Велико также значение бытовых сторон при праздновании великих праздников, которые тоже очень много дают детям. Мы уже говорили выше, что участие семьи в религиозном созревании детей не ограничивается только дошкольным периодом, наоборот, оно становится в дальнейшем лишь более серьезным и ответственным. Поэтому мы в самых общих чертах коснемся еще двух периодов - так называемого второго детства и отрочества. Во втором детстве
[26] основной чертой души является приспособление к окружающей жизни, к ее порядкам, законам: дитя выходит совершенно из того раннего сплетения реальности и воображения, в котором оно пребывало, отчетливо сознает всю силу объективного мира, стремится постичь его и приспособиться к нему. Эта обращенность к миру видимому, осязаемому резко отрывает дитя от мира духовного - оно как бы вдруг становится духовно близоруким. За всем этим стоит несомненный и неустранимый духовный надлом: дитя погружается целиком в мир реальный и теряет интересы и чутье к духовной сфере. Это пора духовного обмеления, измельчания, напряженного внимания к социальной среде; она неблагоприятна вообще для религиозной жизни, которая теперь более доступна со стороны внешней, чем с внутренней. Если угодно, это пора"законничества", своеобразное прохождение через"Ветхий Завет", через внешний закон, правила. Дети в это время очень любят что-либо"делать"в храме - прислуживать священнику, следить за свечами, наблюдать за порядком и т. д. Их поведению свойствен самоконтроль с оттенком практицизма и реализма; игра детей наполняется героическим, иногда авантюристическим содержанием, но в то же время реалистична. Это возраст духовно хрупкий, если угодно, бескрылый, мелкий; в него по линии приспособления очень легко врываются обман, хитрость, подлинное лицемерие. Задача воспитания в общих чертах заключается в это время как раз в том, чтобы ослабить значение духовной мелочности и близорукости, углубить и расширить то, что заполняет душу, до известной степени спасти и охранить духовную жизнь, удержать начало свободы от рокового действия закона привычки. В это время привычки - даже в религиозной сфере - имеют роковое значение, ослабляя духовное внимание. Очень легко впасть в это время в иллюзию, думать, что у ребенка все хорошо и благополучно, тогда как на самом деле под покровом привычных действий (молитва, крестное знамение и т. д.) происходит отделение их от духовного ядра личности, идет быстрое распыление и выветривание духовных движений и в силу этого растрачивается дар духовной свободы, ибо сердце перестает быть силой руководящей и на его место становится близорукая социальная интуиция, приспособление и подражание. Духовная работа над ребенком в это время должна быть больше всего направлена на то, чтобы удержать прежнюю духовную жизнь в ее глубине и содержательности. Родители должны помнить, что именно во втором детстве дети духовно отходят от семьи - и это происходит не оттого, что новая социальная (внесемейная, преимущественно школьная) среда духовно интереснее и богаче. Эта новая среда берет в плен дитя не духовным, жизненным, реальным своим богатством. Это в значительной степени нормально, но собственно проводником духовной жизни в это время может быть все еще только семья. УХОД от семьи в это время (особенно в 9-10 лет) почти всегда означает уход от духовной жизни, душа с"верхнего"этажа спускается в"нижний"и со всем пылом отдается вживанию в новый мир. Много может помочь ребенку в это время внешкольная религиозная среда, если она только есть: современные религиозные кружки девочек и мальчиков спускаются до 9-10 лет и оказывают большую помощь детям в их духовных исканиях. Но об этой теме, затрагивающей вопросы внешкольной религиозной работы, не будем сейчас говорить. Остановимся лишь на том, что может дать семья. Удержать дитя внутри дома в это время семья не способна, если пытается конкурировать с внесемейной средой в ее сфере - это состязание ей не под силу. Социальные запросы настолько велики у детей в это время, что в случае выбора: семья или внесемейная среда - дитя в подавляющем большинстве случаев идет из семьи в новую среду. Такого выбора предлагать нельзя - наоборот, семья должна по возможности сблизиться с новой средой, вбирать в себя тот новый социальный круг, которым живет ребенок. Но семья имеет свой не заменимый и неповторимый мир, участие в котором по-прежнему будет духовно питать ребенок: это мир внутрисемейной жизни, мир семьи как единого и целостного организма. Как удержать детей внутри этого мира, охранить интерес к нему? Это бывает там, где общение родителей и старших в семье с детьми становится в это время глубже и полнее. Одного совместного труда в доме, который раньше"сам собой"давал обильный материал для взаимной связанности, в наше время уже совершенно недостаточно. Необходимо установление и упрочение духовной связи детей с родителями. Для этого нужно постоянное общение с детьми, вовлечение детей в мир забот и трудностей в семье, возложение на них ответственных (конечно, посильных) дел, вообще вовлечение детей в активную работу для семьи. Если дети не по принуждению, а сами идут на это (при правильной духовной атмосфере, при действительном охранении свободы детской личности этого, в сущности, несложно добиться!), если дети свободно и охотно разделяют заботы и труды родителей, через них проходят токи общесемейной целостности. Духовная связь с семьей пульсирует в них как реальная сила. Могут и здесь быть конфликты семьи с внесемейной средой, и в этих случаях важно, чтобы дитя свободно выбрало семью, свободно соединилось с ней. Не нужно даже бояться отдельных случаев"измены"семье: часто такая"измена", при которой семья оставляет свободу ребенку, ведет дитя к трезвому и отчетливому сознанию своей неправды - и это изнутри, свободно и глубоко возвращает его к семье. Важно то, чтобы семья дорожила не внешним вниманием ребенка к себе, а именно внутренним, свободным соучастием его в жизни семьи. Только на этих путях и можно духовно помогать ребенку: он должен сам, без подсказки, без внешних мотивов почувствовать и пережить всю духовную реальность, значительность его связи с семьей, должен сам освободиться от гипноза всесемейной среды. По этой линии как раз и идет главная борьба в детской душе в это время. […] В борьбе ребенка с самим собой за свою духовную зрячесть и глубину, в его внутреннем споре с самим собой из-за семьи, решается главный вопрос религиозного его созревания. Охранение духовных, т. е. свободных, а не наивных, внутренних, а не внешних связей с семьей. Главный религиозный вопрос для ребенка в это время касается не его отношения к Богу, а его отношения к семье: это может казаться парадоксальным, но это так. Можно провести параллель: при рождении, переходя из утробы матери в мир, дитя переживает некоторую физическую и физиологическую катастрофу, пережив которую, дальше нормально живет в мире. Так и во втором детстве, переходя из лона чисто семейной среды в широкий и холодный внесемейный мир, дитя переживает некоторую духовную катастрофу. Преодолеть эту катастрофу, духовно не измельчать, не оскудеть (уйдя во внешнее изучение мира и приспособление к нему) возможно, лишь восстановив и по-новому осмыслив свои связи с семьей. Понимая так этот запутаннейший и ответственнейший момент в жизни ребенка, я свожу воедино итоги всех своих наблюдений. Духовное оскудение и измельчание ребенка во втором детстве (особенно к 9~10 годам) сплошь и рядом остается незамеченным, особенно если родители требуют одних только внешних религиозных навыков. Между тем, уже в эту пору наступают странные"засухи"в душе, когда не хочется молиться; внешнее совершение молитвы лишь усиливает тяжесть положения и часто подготовляет то выветривание религиозных движений, которое в какой-либо день закончится внезапным исчезновением религиозных запросов в душе… Нередко во втором детстве не хочется и в храм - и если есть привычка или внешнее принуждение, это тоже не улучшает положения. Принуждения идти в храм в этом возрасте не должно быть: это нужно категорически подчеркнуть. Можно и должно стремиться к тому, чтобы посещение храма стимулировать теми или иными вторичными мотивами (особенно, например, привлечением ребенка к какому-нибудь делу в храме), можно и должно стремиться к тому, чтобы непосещение храма переживалось, как грех (в свободном самосознании ребенка, а не по подсказке родителей), но надо бояться здесь ухудшения положения всяким видом принуждения. Общее духовное положение ребенка в это время, как это ясно всякому, кто умеет читать в детской душе, трудно само по себе; дело идет об охранении в нем основного - его духовной жизни, и больше всего это касается его связи с семьей. Если эти связи не внешне, а подлинно сохранены, значит главное достигнуто; со всей сферой внешнего выражения в религиозной области приходится быть уже очень осторожным, чтобы не подменить внутреннего внешним и тем не ухудшить положения. По-прежнему самым плодотворным оказывается непосредственное влияние собственной религиозной жизни родителей и старших. Но если приходится особенно осторожно, блюсти духовное здоровье ребенка, уберегать его от духовного оскудения и измельчания, уберегать от подмены внутреннего внешним, то совсем иное приходится сказать о развитии религиозного сознания ребенка. Второе детство - это годы учения, и религиозное развитие ума не только возможно, но и крайне существенно. Обыкновенно именно в эти годы изучают Закон Божий, как принято у нас называть предметы религиозного преподавания в школе. Но даже тогда, когда школа прекрасно справляется с своей задачей, на долю семьи остается и в этом отношении очень большое и существенное участие в развитии религиозного сознания. Работа ума вообще никогда не идет в том темпе и в том направлении, как это заранее определено программами: как бы ни были они заранее согласованы с общим ходом интересов ребенка, собственное мышление ребенка то обгоняет, то идет мимо того, что намечают программы. Вместе с тем, духовная пытливость ребенка очень велика, если только мы заранее не убиваем ее. Важно заметить, что ум ребенка двигается не в логическом или дидактическом порядке, а перескакивая с одной темы на другую, не теряя, однако, из виду целого. Я держусь взгляда, что именно в эти годы и именно в семье душа ребенка особенно легко воспринимает то, что можно назвать"религиозным мировоззрением". Духовно-интеллектуальные интересы ребенка вообще имеют очень долго именно этот"миросозерцательный"характер, и в особенности это оправдывается в религиозной сфере. Можно навсегда связать в развитии ума подростка сферу религиозных идей и сферу миросозерцания, но можно если и не навсегда, то надолго разместить их 6 разных плоскостях. Существенные воздействия могут быть сделаны именно в это время; в беседах, которые возможны в семье и которые при своей внешней несистематичности всегда будут определены общими вопросами, можно приучить ум ребенка к более глубокому, религиозному пониманию мира и жизни. Менее всего здесь уместен примитивизм; дитя не способно еще к абстрактному мышлению, но оно может забираться своей мыслью на самые высокие вершины, куда только доходит человеческий дух. Мне представляется, что эти беседы при удачном и умелом их ведении, при достаточной подготовленности родителей и наличности у них религиозного мировоззрения, не упраздняющего данные науки и опыта, но охватывающего их в высшем, органическом синтезе, могут быть одним из наиболее могучих воспитательных средств, а вместе с тем одним из наиболее сильных проводников того духовного связывания ребенка с семьей, на которое должны быть употреблены главные усилия в это время. Я ограничусь этими общими замечаниями, чувствуя, что при отсутствии достаточного числа конкретных фактов общие мои рассуждения могут показаться односторонними, неполными, может быть, идущими мимо основной задачи. Я вынес свои идеи из живой практики и глубоко убежден в справедливости того педагогического пути, который мною обрисован, но в настоящей статье я не могу больше останавливаться на затронутых вопросах, чтобы иметь возможность коснуться - к сожалению, тоже вкратце - роли семьи в религиозном созревании подростков в период отрочества. На грани второго детства и отрочества стоит половое созревание - со всеми теми глубокими физиологическими, психологическими и духовными переменами, которые оно с собой несет. Интерес к внешнему миру, приспособление к нему, связанное с этим духовное измельчание сменяются равнодушием, иногда даже враждебностью к внешнему миру и его порядку - все внимание подростка отдается теперь его внутреннему миру, который встает перед ним как некая темная глубина, некая бездна, в которой он плохо разбирается, но которая владеет им и откуда исходят глубокие, страстные, часто противоречивые, самому подростку непонятные стремления. Неопределенность, туманность, хаотичность этих стремлений, какая-то темная бесконечность, открывающаяся в глубине его существа, - все это вновь обращает его к духовному миру. Плененность внешним миром и его маленькими делами куда-то проваливается; подросток чувствует себя окрыленным, томится о чем-то неведомом, бесконечном, глядит в перспективу, которая для него темна, но которая так несоизмерима с внешним миром. Эта свобода от власти материи возвращает права духовной стороне, но перспектива, в которую глядит подросток, так темна, те новые силы и стремления, которые его волнуют, тоже так темны, что сама эта духовность имеет темный характер. Это пол дает себя знать, и не только в просыпающейся сексуальности, по и в своей духовной стороне - в эросе. По наблюдению психологов, сексуальное и эротическое в это время резко отграничены одно от друга; я думаю, что эта формула не совсем точна, но верно, что, кроме сексуального томления, начинающего уже тревожить душу, у подростка могуче и глубоко заучат новые стремления, увлекающие его к бесконечному, но, увы, не к тому, которое открывается в Небе, а к тому, которое томится в недрах падшего собственного духа как сила эроса Отрочество томительно для самого подростка и для окружающих. Упрямство, критика, часто придирчивая, всего и всех, недоверие к чужому опыту, частая неудовлетворенность собой, смена настроений и желаний, жуткое приближение через авантюру к границам морали, иногда одержимость преступными мыслями - все это совмещается с болезненным ощущением одиночества, непонято-сти, ненужности, с страстной мечтой о дружбе. Внешнее и внутреннее одинаково не дают опоры, путь свободы во всем своем бремени и жути влечет к себе, какая-то глубокая беспочвенность создает возможность неожиданных, почти беспричинных кризисов в религиозной и моральной сфере, всегда близка опасность игры со смертью. Общая тема воспитания в это время двойная: с одной стороны, в хаосе внутреннего мира нужно создать свсглую и творческую силу, зажечь душу глубоким и содержательным увлечением, которое могло бы облагородить и успокоить душу, с другой стороны, нужно растворять аритмические скачки настроений в доступном, легко себя оправдывающем в удаче, уводящем на реальные пути занятии. Хорош и спорт для этого, и занятие искусствами, экскурсиями, юношеские организации - все это переводит внутреннюю тревогу, неясные искания на жизненные, легкие рельсы, создает комплекс увлекательных и легко тормозящих внутреннюю неуравновешенность дел. Но это спасительное отвлечение только извне тормозит буйство сил, но не вносит начала упорядочения в самую духовную жизнь. Необходимо дать развернуться духовным порывам, оберегая их от темных влечений: это дает и романтическая влюбленность, сковывающая буйствующие стремления и глубоко их преображающая, это дает и ранний идейный энтузиазм, до которого возвышаются немногие, но который способен глубоко просветлять душу подростка, но это же дает и пафос революционизма, честолюбивые мечты. Это значит, что духовное брожение, идущее в подростке, укрощается и просветляется в любом конкретном делании, если оно имеет хоть какой-нибудь смысл, возвышающийся над обычной жизнью. Эта конкретность тех внутренних движений, которые случайно или неслучайно привходят в душу и упорядочивают ее внутренний хаос, неблагоприятна для религиозной сферы. Немногие способны в это время к той мистической жизни, которая дает душе подлинную радость и подлинное питание. Религиозная сфера кажется как бы абстрактной - особенно дело складывается тяжело, если в уме подростка совершился разрыв религиозного и общекультурного понимания жизни. И наоборот, там, где обойдены все подводные камни, где в сознании упрочена целостность религиозного жизнепонимания и раскрыта перспектива религиозного мышления, - там есть возможность живой религиозности. Самая существенная помощь в религиозной жизни исходит в это время не от школы и не от семьи и даже не от Церкви, а от социальной среды. Создание социальной среды утоляет духовный голод и дает живое удовлетворение подростку, но самый путь такой внесемейной и внешкольной религиозной работы теперь только раскрывается перед нами в религиозно-педагогических исканиях во всем мире. Что же может дать семья в это время подростку? Нужно быть крайне осторожным с вмешательством семьи в жизнь подростка, даже небольшая погрешность может быть роковой и духовно совсем отодвинуть подростка от семьи, создать глухую стену. Это стадия"блудного сына", и семья больше всего должна думать о том, чтобы подростку было привольно и свободно в ней, чтобы ничто его не гнало из семьи. Охрана этой свободы подростка, разумное, ни в чем себя внешне не проявляющее, но чувствуемое и тем более ценимое подростком бережное отношение к нему, без малейшего намека на принуждение или выговор могут создать в семье светлую духовную атмосферу, к которой захочется вернуться"блудному сыну". Совершенно невозможно требовать в это время посещения храма, обязательной молитвы; если подросток чувствует, что семья горько переживает его религиозную халатность, но никогда не позволяет себе упрекнуть его, она этим достигает гораздо больше, чем прямым вмешательством. Сознание, что семья пребывает в верности религиозным своим верованиям, светит подростку в дни и часы его духовных авантюр и блужданий, и если он свободно вернется в свой час к этому свету и теплу - это будет не временной вспышкой прежних чувств, а началом ровного, светлого духовною роста. Как ни тяжело в семье воздерживаться от реакции на все внешние неправильности у подростка, но надо помнить о главном и основном - о сердце подростка, о внутреннем его мире. Семья должна бояться утерять путь к сердцу подростка, мятущемуся, неуравновешенному, неспокойному; искушение вмешаться и"разъяснить"подростку опасность и неправильность его каких-либо поступков чрезвычайно велика. А между тем темная духовность этого периода, создаваемая томлением пола, не укрощается через интеллект; надо терпеливо и любовно ждать того, когда юная душа свободно вернется к светлой духовной жизни. Она может вернуться только свободно - всякое же понуждение и принуждение может только совсем закрыть путь для внутреннего обращения души к Богу. Религиозное воспитание в этот период не под силу школе, оно дается легко лишь внешкольной религиозной среде, но роль семьи, безмолвная, часто незаметная, тем более значительна в непрерывности ее любви, ее собственной религиозной жизни, ее уважения и доверия к подростку, ее молитв за него… В. Соловьев рассказывает, как его отец однажды заметил, что он читает Ренана (В. С. было тогда 1 б лет). Он не стал отнимать у него книгу, не стал убеждать его в истинности церковного учения, он только добродушно ему сказал, что пути отрицания знают более основательные и глубокие построения, чем Ренана. Невыраженная грусть верующего отца, охрана им свободы в сыне принесли скоро желанный результат. Возврат к вере, победа над темной духовностью творится в глубине сердца, в свободе его исканий.
IV. ПРОБЛЕМА КАЖДОГО [5] Красной нитью через все изложенное выше проходит мысль об основном значении сердца как средоточия духовной жизни во всех возрастах, об основном законе свободы, вне которого немыслимо подлинное развитие духовной жизни. Но даже признавая все это верным, родители могут поставить законный вопрос: для всех ли это верно? Не имеется ли в виду в изложенном выше очерке духовно одаренный, тонкий тип ребенка? А сколько есть"средних"детей, в которых так трудно констатировать движение духовных запросов, душа которых так насыщена внешними, маленькими, ограниченными интересами? Можно ли к каждому ребенку приложить сказанное? При первом наблюдении детей и подростков, а отчасти и взрослых, хочется сказать, что не все"способны"к религиозной жизни. Существуют ведь люди, которые не любят живописи или не наслаждаются поэзией и т. д. Не должны ли мы в соответствии с этим констатировать наличность значительной группы людей, которым остается чуждым религиозный мир? Эти люди могут быть верными сынами Церкви, исполнять все обряды, но душа их молчит, их не влечет, не тревожит, не наполняет Б о г, им не дано знать радость в молитве, тихий свет благодатных озарений. Они как бы по природе своей пребывают в не-ком"нечувствии", которое не есть вовсе"окаме-ненное"нечувствие, ибо последнее предполагает окаменение сердца. Здесь же просто нечуткость. И не будет ли просто справедливым установить на глаз приблизительно такое распределение религиозных типов: Религиозно одаренные…………………………..25% Религиозно средние………………………………50% Религиозно нечувствительные……………25% Не будем отрицать справедливости того, что эти три категории существуют, но существование этих категорий как раз и ставит на первый план вопрос о религиозном воспитании. Лишь религиозное воспитание может помочь среднему типу не растерять тех скромных сил, которые присущи его религиозной сфере, но в особенности необходимо религиозное воспитание для третьей категории. В самом деле, какова может быть причина т. н. религиозной нечувственности? Прежде всего, она может заключаться в необычайной медленности в развитии религиозной функции - здесь мы имеем полную параллель с явлением интеллектуальной отсталости. Но и при медленном темпе в детской душе идет свой религиозный процесс - необходимо только считаться с этим. Тургенев когда-то сравнил некоторые души с фруктами, которым надо полежать, чтобы окончательно созреть и стать вкусными. В этом сравнении есть правда. Нечуткие натуры не реагируют много раз на самые яркие и глубокие проявления религиозности, но в доброй, любящей атмосфере семьи, где не спешат закрепить и заклеймить тупость, но бережно охраняют жизнь души, приходит и для них свой час рассвета и пробуждения религиозных сил. Этот час может прийти поздно, душа может долго не отзываться на религиозные впечатления, но если дело не идет о ненормальности, то час пробуждения наступит. Именно в этом случае семья совершенно незаменима, как единственная среда, где с любовью относятся к такому отсталому ребенку. Гораздо чаще религиозная неотзывчивость является следствием какой-либо задержки, тормозящей проявление религиозных сил. Эти задержки могут быть самого различного характера, иногда даже не иметь прямого отношения к религиозной сфере. Психопатология накопила за последнее время много материала, свидетельствующего о том, что задержки в духовной жизни идут именно от детства, когда душа не умеет еще защищать самое себя, не умеет отстоять свою свободу, свою личность. Мы можем совершенно бессознательно нанести очень болезненный удар детской душе, причем сам ребенок даже не замечает того, что с ним сделали, - тем не менее рана нанесена. Обыкновенно семья сама же и является источником таких болезненных ущемлений души. Их излечивать трудно, их нужно всячески избегать. При обсуждении"проблемы каждого"всегда надо иметь в виду многообразие типов религиозной жизни. То, что нам представляется ничтожным, вялым, скудным, может быть нечем иным, как следствием нашей односторонности, нашим неумением оценить иной духовный тон, нежели наш. Чем больше каждый из нас живет на свете, тем яснее и значительнее выступает этот факт многообразия типов религиозной жизни. Но не только велико это многообразие - сами пути, ритм и характер раскрытия этих различий тоже настолько неодинаков, что нужно быть очень осторожным в отнесении кого-либо к числу"религиозно тупых". Раньше в школе учителя обыкновенно высоко ценили тех, кто обладал гак называемой непосредственной памятью, что дает эффектную картину быстрого и точного запоминания. Теперь мы хорошо знаем, что такой тип запоминания обыкновенно связан с быстрым забыванием, знаем и то, что за"неточностью"запоминания сплошь и рядом стоит плодотворнейшая и чрезвычайно ценная переработка материалов восприятия и что медленность запоминания объясняется не относительной слабостью работы памяти, а более сложным и потому требующим больше времени типом работы памяти. Но это наблюдение может быть распространено и на духовную восприимчивость, в частности, на живость религиозной сферы. Мы еще недостаточно знаем закрытый процесс внутренней работы в детской душ"в ее религиозных движениях, но есть все основания полагать, что в медленности и видимой вялости этих движений нередко играют свою роль особенности духовной работы. Интуиция смысла, эта простейшая и изначальная форма религиозного опыта у детей, присуща всем детям, как это совершенно бесспорно при наблюдении детской души, и если это семя религиозной жизни растет медленно и вяло у кого-либо, то, может быть, дело совсем не в религиоз
Примечания
1. Печатается с незначительными сокращениями - прим. сост.
^2. Имеется ввиду библейское повествование о том, как Исав отрекся от своих прав старшего сына, променяв их на сытость желудка (см. Быт. 25, 29-34) - прим. сост.
^3. Ей посвящены некоторые главы в моей"Психологии детства", см. особенно последнюю главу о метафизике детства - прим. авт.
^4. Согласно классификации автора, это период от 6,5-7 лет до 12 лет. Первое детство - до 6-6,5 лет; отрочество - от 12 до 16 лет; юность от 16-17 лет. Подробнее о возрастной периодизации детства и характерных особенностях периодов см. ниже, раздел"Возрастные этапы…"на с. 223 - прим. сост.
^
Предмет педагогической психологии
Педагогика и психология / Русская школа за рубежом. Прага, 1925. —Кн. 9. —С. 13—21.
В вопросе об отношении педагогики и психологии я хотел бы разобрать одну только сторону — а именно выяснить: всё ли, в чем нуждается педагогика, дает ей современная психология' или в самом деле еще должна быть создана особая наука — педагогическая психология? Если да, то что же должно быть предметом этой науки? Общая психология, дифференциальная психология, психология детства дают чрезвычайно много для педагогики, — и все же последняя остается в чем-то неудовлетворенной. Конечно, дело идет вовсе не о «педагогической точке зрения», ибо психология, конечно, изучает душу ребенка вне этой точки зрения; чтобы развить «педагогическую точку зрения», вовсе не нужна особая педагогическая психология — ибо в развитии этой «точки зрения» как раз и заключается задача педагогики. Не случайно поэтому, что педагогическая психология не раз имела претензии заменить педагогику — это лежало в самом замысле ее. Извлечение практических указаний из данных психологии невозможно, конечно, без повторения самих этих данных, но из того, что данные эти приводятся как основа тех или иных педагогических построений, вовсе не следует, что перед нами новая ветвь психологии. Если дело идет лишь о «педагогической точке зрения» на вопросы детства, то совершенно ясно, что никакой новой науки создавать не нужно, что существующие психологические дисциплины, с одной стороны, и педагогика, с другой стороны, вполне исчерпывают все, что стоит здесь перед нашей мыслью. (…) И все же надо признать, что настойчивое выдвигание идеи педагогической психологии не было ошибкой, — такая наука действительно должна быть создаваема (хотя ее отдельные проблемы уже давно разбираются соседними дисциплинами). (…) Не углубляясь в анализ школьной среды и педагогического процесса, при грубом даже приближении к ним совершенно ясно, что школьная жизнь — это своеобразный мир, в котором и дети и взрослые вступают в особые отношения, как бы поворачиваются друг к другу особой стороной своей личности. Дитя и ученик — это не одно и то же; конечно, в ученике сохраняется дитя с его особым миром и запросами, с его особой установкой; дитя не исчезает, не теряет своих основных свойств, и все же в «ученике» привходит в детскую душу нечто новое, своеобразное, неотделимое от всей школьной среды и школьных взаимоотношений. В школе оформляется и закрепляется какая-то новая сторона в ребенке, которую можно понять только в связи со всем тем, что происходит в школе. Психология детства может брать для себя факты и из школьной жизни, если только там отчетливее и ярче проявится какая-либо общая или присущая определенному тону черта; но она возьмет этот факт, отрывая его от всей школьной жизни, ибо ее интересы лежат не в изучении школы и ее жизни, а в постижении общих или тонических свойств ребенка. То же самое, что было сказано о ребенке, еще с большим основанием может быть повторено об учителе, в котором еще резче отличны «учитель» от «человека». Здесь не место подробно развивать эту мысль, что может быть сделано лишь в системе педагогической психологии; для ориентировки напомню лишь учение Джемса о личности, чтобы сведущий читатель без особых затруднений мог иметь в виду то, о чем идет речь. Не углубляя дальше начатой темы, мы можем уже сейчас сказать, что предмет педагогической психологии найден: задачей ее является вовсе не изучение ребенка (и учителя — как указывает Грунвальд) «с педагогической точки зрения» — или «в течение школьного времени», — а изучение всех тех изменений, которые вносятся в душу детей и взрослых школьной жизнью, анализ педагогического процесса в его психологии. (…) Педагогическое взаимодействие есть лишь частный вид, некая особая и специфическая форма того общего процесса взаимодействия, из которого слагается вся наша социальная жизнь. Школа есть с этой точки зрения совершенно своеобразная форма социальной жизни; при всех своих особенностях она не только включена в общую систему социальных отношений, но по самому существу своему представляет лишь некоторый вариант их. Своеобразие школы определяется и ее задачами, и установкой действующих в ней личностей, а еще больше самой природой педагогического дела, его своеобразной логикой, а не только его психологией. Правильное и вдумчивое описание педагогического процесса всегда предохранит нас от психологизма, о котором мы уже говорили, что он есть дитя дурной психологии. Но не только педагогический, но и всякий иной социальный процесс (правовой, экономический и т. д.) определяется в своем течении как психическими, так и внепсихическими факторами; те задачи, которые люди ставят себе в какой-либо деятельности своей, не создают, а лишь открывают нам «логику» нашего делания, вводя в наше действование надиндивидуальные и внепсихические силы. В частности, педагогический процесс, будучи формой социального взаимодействия, в своем индивидуальном, а особенно историческом развертывании обнаруживает действие таких надинди-видуальных и внепсихических сил, постигая и осмысливая которые мы строим философию воспитания, находим его логику. Педагогический процесс имеет свою внутреннюю логику, которая лишь постепенно и медленно дает себя знать в развитии педагогического дела. Педагогическая психология должна во всяком случае вскрыть те факты, в которых дальнейший феноменологический анализ выделит «смысл» педагогического дела, его сущность, логически отделяющую его от других видов социального взаимодействия. Первой задачей педагогической психологии должно быть поэтому построение понятия педагогической среды, ибо без этого понятия невозможно будет понять взаимоотношение «учителя» и «ученика». Вне педагогической среды и учитель и ученик могут находиться тоже в взаимодействии, но педагогическим это взаимодействие становится не потому, что оно происходит в стенах школы, а потому, что оно развивается в педагогической среде. Пока есть эта среда, взаимоотношение учителя и ученика сохраняет педагогический характер, какие бы колебания и изменения оно ни приобретало. Это значит, что при изучении психологии педагогического процесса на первом месте стоит анализ педагогической среды как социально-психического явления. Педагогическая психология не может и не должна исчерпать эту тему, потому что она сразу же наткнется на действие внепсихических сил, лишь проявляющихся в психическом материале. Подобно тому как анализ мышления, начинаемый психологией, переходит затем в части, не подлежащей психологии, к исследованию новой науки — логики, так и анализ педагогической среды, начинающийся с чистого ее описания, в своей непсихологической части должен быть продолжен в педагогике как философии педагогического дела. Значительность и сложность задачи, только что выдвинутой нами, определяются с полной ясностью именно из того, что на педагогическую среду следует глядеть как на особый вид социальной среды. К сожалению, социология находится в настоящее время еще в таком состоянии, что при анализе проблем педагогической психологии приходится входить нередко в вопросы социальной морфологии и социальной психологии, но именно в этих случаях с особенной рельефностью выступает вся сложность и неизученность социальной действительности. Тот подход к проблемам социальной жизни, который существует в настоящее время, носит на себе печать социального атомизма, признания индивидуума за конечную и исходную точку в анализах. Черты этого социального атомизма в изобилии могут быть констатированы и в педагогическом мышлении, — сравнительно редко приходится встречаться с пониманием социальной природы всей школьной жизни. Дьюи справедливо отметил где-то, что самые естественные проявления солидарности в школе рассматриваются как проступок, как нарушение школьного порядка: идея школьного порядка действительно построена на строгой атомизации класса, на превращении каждого из учеников в самостоятельную, независимую от других, во всем за себя ответственную «единицу» класса. Не входя здесь в обсуждение педагогической целесообразности такого отношения к школьной жизни, можно категорически, однако, отвергнуть самые предпосылки социального атомизма, лежащие почти всегда в основе упомянутой теории школьного порядка. Школа есть живое социальное целое, и если ступени единства в этом целом, степень захвата им отдельной личности, сила влияния целого на личность и обратно, если все это остается еще не определенным при характеристике школы как социального целого, если исторически и индивидуально школа может находиться на различных ступенях объединения в целое своих питомцев и руководителей, — то все же бесспорно то, что дитя живет в классе в непрерывном и многостороннем взаимодействии со всем школьным целым. Это взаимодействие вовсе не исчерпывается интеллектуальным взаимообщением, скорее надо думать, что другие стороны личности — это может быть показано лишь при углублении в понятие «ученика» как «психической формы» — испытывают в школе гораздо большее влияние, чем интеллект. Я не хочу дальше входить в обсуждение затронутых вопросов, ибо это уже выходит за пределы моей темы. После сказанного совершенно ясно, что утверждавшееся раньше право педагогической психологии на самостоятельное значение как науки должно быть оправдано. Да, педагогическая психология — это особая наука, с самостоятельным предметом исследования; ее задача -психологический анализ педагогического процесса. Психология ученика и учителя берется здесь для исследования не в тех общих чертах, которые уже достаточно исследуются в психологии детства и общей и дифференциальной психологии, но в тех своих особенностях, которые обусловливаются школой как особой социальной средой. Педагогическая психология не есть психология для педагогов — в последнем случае мы имели бы дело не с особой наукой, а лишь с особым методом изложения данных психологии; педагогическая психология призвана раскрыть все своеобразие школьной жизни, взаимоотношения в ней детей и руководителей, статическую и динамическую сторону школьных отношений. (…) В заключение позволю себе два замечания. Понимание педагогической психологии как ветви социальной психологии может подать повод думать, что тем самым я ориентируюсь в сторону так называемой социальной педагогики (Наторп, Бергеманн и Др.). Конечно, это было бы только недоразумением. Из того, что педагогическая психология является ветвью социальной психологии, не следует решительно никаких выводов в пользу какого-либо течения педагогики. Разумеется, социальная педагогика в том смысле ближе к педагогической психологии, как она здесь обрисована, что она выдвигает социально-педагогический идеал, т. е. ставит такие педагогические цели, которые как бы завершают и осмысливают факт натуральной социальности в школе. Однако… социальная педагогика соединима и с другими психологическими взглядами. Второе замечание мое касается другого. Определение педагогической психологии как ветви социальной психологии характеризует с достаточной ясностью место ее в системе психологических дисциплин; каково же место ее в системе педагогических дисциплин? Здесь, конечно, несвоевременно развивать мысли о системе педагогики, — я ограничусь лишь тем, что скажу, что педагогическая психология входит в состав педагогических наук. Конечно она есть и психологическая наука, однако немыслимая и неосуществимая вне «педагогической точки зрения». Чтобы уяснить себе этот важный тезис, имеющий, в своем существе, и более общий характер, необходимо указать, что хотя педагогическая психология не есть «оценивающая» наука (чем она отличается от педотехники), хотя она изучает sine ira et studio и «удачные» и «неудачные» школьные отношения, описывает и плохих и хороших учителей и учеников, — однако самые различия педагогически ценного и неценного являются для нее существенными и важными. Важность эта определяется опять-таки не педотехническими соображениями, не вопросом о том, как следует запоминать, обучать и т. п.; значение различий ценного и неценного именно в том, чтобы понять и описать эти различия — уже как факты. Момент ценности имеет конститутивное значение для предмета пользуясь для краткости терминологией Канта; пора преодолеть методологический формализм, закрепленный Кантом, пора понять, что «ценность» есть тоже «сила», есть «реальность», а не субъективная категория. Я не могу входить здесь в трудные и сложные вопросы, здесь возникающие, — я хотел лишь отметить свой взгляд на природу педагогической психологии. Психолог не должен быть педагогически слепым при изучении фактов школьной жизни; наоборот, ясное и отчетливое сознание различной педагогической ценности тех или иных фактов лишь углубит его внимание. Педагогическая психология не оценивает, она лишь исследует и описывает, — но она не проходит мимо тех оценок, которые производятся с чисто педагогической точки зрения. Педагогическая психология исследует факты школьной жизни, и здесь снова хочется провести аналогию с очень молодой, едва лишь развивающейся наукой — экономической психологией. Экономическая психология как часть политической экономии не определяет экономической политики, но она не игнорирует различия в ценности (экономической) тех или иных хозяйственных процессов, а как раз стремится изучать различную судьбу их в случае различия их ценности. Педагогическая психология не просто «нужна» педагогике — она есть часть педагогики, не переставая быть в то же время ветвью психологии.
ПЕДАГОГИКА. Введение.
Одноименная глава книги: ПЕДАГОГИКА М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 1996
При изучении курса педагогики перед нами все время будет стоять двойственная цель - с одной стороны, нам необходимо познакомиться с настоящим положением педагогической мысли, с другой стороны, нужно все время отдавать себе отчет в исторической перспективе движения этой мысли. Методы и предпосылки педагогики требуют анализа и оценки по существу, но лишь при учете исторических условий в их развитии можно правильно их оценить.
Так, вера в устрояющую силу разума, в прогресс, вера в школу, все, что может быть обобщено под одним термином просвещенчества, очень сильно захватило научную мысль в XVIII и XIX веках и оставалось в ней в достаточном объеме до сих пор. Правда, уже в конце XVIII века это течение получило сильные удары сначала со стороны романтическою направления, а затем и чисто религиозного, но и до сего времени остается сильным то направление, где религии противопоставляется не ее отрицание, не чистый атеизм, но вера в то, что можно без Бога устроить жизнь. Чистый атеизм легко соединяется с равнодушием и потому особой творческой активной силы не имеет, но атеизм, оплодотворенный гуманизмом, стремится вытеснить христианство и иногда успевает в этом.
В настоящее время борьба двух этих сил чрезвычайно заострилась. Эти полюса можно охарактеризовать как две культурные ориентации, обладающие творческими порывами, и в борьбе этих ориентации наиболее отстает педагогика. В ней мы наблюдаем или наивное сочетание религии и гуманизма, или чистый педагогический натурализм, веру в естественное природное раскрытие души как бесконечной возможности. В научном творчестве мы встречаем людей, которые сочетают личную религиозность с религиозным безразличием в научной установке; другая группа или пытается подменить настоящую религию ложной и в зависимости от этого строить научную установку, например, коммунизм, или же пытается создать объективную науку, безотносительную к какой бы то ни было религии. Однако в педагогике положение иное: религиозные мотивы хотя и сохраняют свое значение у многих педагогов, но они в общем имеют на педагогику малое влияние - так, по крайней мере, было до сих пор.
Мы полагаем, что должен наступить новый период, который будет эпохой христианской педагогической мысли и практики, хотя именно в педагогической деятельности христианизация мысли особенно трудна, так как она неминуемо должна выйти из рамок теории в практику и жизнь.
1. Христианство и педагогическая деятельность
С развитием педагогической мысли нам необходимо, хотя бы и очень бегло, познакомиться, чтобы понять ее современное положение.
В христианстве всегда действуют два момента: 1) христианство есть учение об этой жизни и 2) христианство есть учение о вечной жизни. Самая важная проблема христианства - проблема спасения - возникает именно в этой жизни и, кроме того, христианство представляет собою откровение, данное свыше не для того, чтобы"как-нибудь перебиться эту жизнь", но с любовью нести свой жизненный крест. Этим объясняется то, что христианство дало небывалый расцвет человеческих культурных сил во всех областях: искусство, наука, социальная среда, семья - все подверглось оплодотворяющему действию христианства. Само христианство было благословением жизни, но не уходом от нее. Это было изменение жизни, хотя это стоило небывалого труда. Таким образом, христианство являлось учением об этой жизни.
Однако, с другой стороны, христианство, являясь учением о вечной жизни, отрывает нас от жизни обычной. Учение о Царствии Божием, находящемся внутри нас, легко сочетается с первой темой, и христиане, любя эту жизнь, без тоски уходят из нее, когда приходит срок.
По существу, сочетание обеих тем вовсе не трудно, но в историческом своем развитии эти два мотива почти всегда вместо синтеза вступали в соревнование, развивались, обособляясь один от другого, и тем создавали в жизни неполноту и односторонность. Смысл воспитания заключается в том, чтобы развить и укрепить находящиеся в душе ребенка силы; необходимо душу освободить от страстей, помочь ребенку в раскрытии образа Божия в нем. Христианство возвышается над миром, но не уходит от него и почитает своим долгом бороться в мире за доброе против злого. В этом же заключается высший смысл монашества и даже отшельничества. Однако эти две задачи психологически могут расходиться, и особенно в воспитании - ибо воспитать в христианском духе для земной жизни и в то же время воспитать в движении к вечной жизни не очень легко. В первохристианстве доминировала эсхатологическая установка, чувство близкого конца истории - поэтому так легко дети загорались пламенем, горевшим в душе старших. Но это была жажда вечной жизни, а не порыв к преображению обычной жизни. Теперь особенно, конечно, трудно создать христианское воспитание. Мы не умеем развить ни первого ни второго мотива христианства. Причина этого лежит, без сомнения, в том, что школа не может быть вне жизни и впереди ее. Если наша жизнь не устроена по-христиански или, вернее, пропитана антихристианскими началами, то естественно, что воспитание не может заменить всю жизнь, являясь ее частью. Там только, где воспитание находит поддержку в самой жизни, оно может сыграть свою роль - если же этого нет, то вряд ли воспитание будет плодоносно. В первых веках христианства люди своей жизнью вызывали в детях такое настроение, что последние возбуждались любовью к Богу и воспитание являлось естественным развитием самой жизни.
Недавно американский педагог Ко в книге"Социальная теория религиозного воспитания"развил интересную религиозно-педагогическую утопию. Признавая, что школа не может быть вне жизни, он создал утопию - что школа должна сама создавать новую жизнь. Школа должна создать христианский дух внутри себя, это явится началом новых отношений, на основании чего люди начнут перестраивать себя и, следовательно, - внешкольную жизнь. Однако это представляется утопией, так как никакой человек, воспитанный в такой школе, не смог бы удержаться в жизни и, главное, - оказать влияние на нее. Он бы не знал жизни и не смог бы в ней приспособиться. Для осуществления подобной задачи нужна мудрость, чтобы сочетать знание жизни с неугасающей силой добра. Нельзя воспитывать наивность до зрелых лет.
Нам кажется, нет другого пути для разрешения проблемы религиозного воспитания, как смыкание зрелых людей в религиозные общины и построение всей жизни в христианских тонах. Это не означает, что нужно добиться, чтобы жизнь стала вполне христианской - здесь важно устремление, честное и настойчивое, - к тому, чтобы строить жизнь в духе христианства. Надо признать, что сначала надо создать в нашей культуре островки христиански устрояемой жизни и только тогда возможно плодотворное христианское воспитание.
Нельзя воспитать дитя, держа его вне жизни, изолируя (как это было в утопии Руссо - см. его"Эмиль").
Воспитывают ребенка не только мать или отец - но вся полнота жизни играет свою роль, и проблема христианского воспитания разрешится легко, если будут существовать островки христианской культуры.
От этих общих рассуждений перейдем к некоторым историческим данным.
2. Общий исторический обзор основных педагогических течений
В раннюю христианскую эпоху христианство, собственно, не знало проблем воспитания. Дети сами приобщались к тому, чем горели родители; естественно, что дети зачастую разделяли их судьбу. Как только христианство становится в нормальные условия жизни (после прекращения гонений), это влияние христианской среды ослабевает, и проблема христианского воспитания выступает в полной силе. В этом отношении любопытно, что мать блаженного Августина была бессильна повлиять на своего сына до его обращения.
Однако христианский дух мало проник в практику педагогическую, которая более находилась под влиянием Ветхого Завета. Суровые мотивы педагогики в Ветхом Завете долго играли и даже доныне играют свою роль. Вот, например, правило, часто цитируемое в христианских педагогиках:"Не играй с ребенком, если не хочешь, чтобы он взрослым огорчал тебя". Конечно, это было небесполезно для раннего периода европейской истории, но это совсем далеко от нас. Христианская педагогическая мораль не должна была слишком опираться на эти ветхозаветные мотивы. Это можно сказать даже и относительно такой исключительной книги, как Псалтирь; в ней есть и подлинно христианские мотивы, но есть многое, что должно быть усвоено в духе новозаветном. Через христианскую педагогику неизбежно должны были пройти суровые ветхозаветные мотивы, но они должны были преображаться тем, что вносит в мир Евангелие. Так как этого было мало, то они неизбежно искажали проблему воспитания ребенка, потому что не дышали всей силой христианского понимания человеческой души. Аналогичное суждение приходится высказать относительно того, как христианство восприняло педагогические идеи и практику язычества. Христианство очень многое приняло от язычества, справедливо оценивая это как натуральные Божий дары, данные всему человечеству, но оно вместе с тем восприняло в свое школьное обучение старые греко-римские методы, и, конечно, это не было ценным приобретением для христианского воспитания.
Средневековая христианская школа опиралась на изучение латинских авторов, и этим определился тип западного воспитания. В Византии воспитание было поставлено полнее и лучше, оттуда оно передалось и в Россию. Но все-таки считалось, что тип христианской школы создавался в Европе, на Западе, хотя это было сочетанием христианской идеи и языческого материала. К тому же школьные методы были унаследованы от римского язычества. Как пример можно привести тот факт, что в европейском законодательстве очень долго ребенок находился в полной зависимости от родителей. В этом отношении много сделал Руссо."Эмиль"весь проникнут любовью к ребенку и верой в добрые начала в нем. У Руссо на ребенка идиллический взгляд, но вместе с тем его книга проникнута такой любовью, которая возвращает нас к тому, как глядел на детей Новый Завет.
Параллельно с развитием этого мотива выдвигается система идей, которые можно охарактеризовать как педагогический натурализм; нелюбовь к веселому ребенку сменяется признанием в природе ребенка великих даров. В этом отношении большую роль сыграл Я. А. Коменский (1592-1670, Komensky) - чех. В ребенке усматривают природное влечение к свету, знанию, добру, и роль воспитания сводится только к помощи ребенку в процессе его созревания
[27].
Таким образом, еще до времени Руссо педагогическая мысль движется в сторону изучения природы ребенка и любовного внимания к ней. Отметим также английского философа-эмпирика Локка, который тоже имел большое влияние своими педагогическими идеями о раскрытии естественных сил ребенка. Для него дитя - это как бы чистая доска, могущая воспринять на себя все, что вносит опыт. Отсюда, из этих мыслей, как их следствие, явилась вера в исключительное влияние школы.
На Руссо (Rousseau, 1712-1778) закончилось все это движение педагогической мысли, оказавшее огромное влияние на развитие веры в природные силы ребенка. Отныне становится невозможным строить систему воспитания как бы мимо ребенка, не считаясь с его природой, с законами его развития. К сожалению, вместе со здравыми идеями, в Руссо находит свое яркое выражение отрыв педагогической мысли от религиозных идей. Проблема воспитания связывается лишь с природой ребенка и теряет свою религиозную сторону.
Руссо как главный вдохновитель новейшей педагогики таит в себе типичную двойственность. С одной стороны, после него окончательно система воспитания строится на изучении природы ребенка, что, конечно, вполне соответствует духу христианства с его высокой оценкой детства. Но именно в отношении религии и, в частности, ее места в воспитании, Руссо является представителем вне-христианского направления. Этот отрыв от христианства глубоко связан со всем"просвещенством".
Двойственность направления, обнаружившаяся у Руссо, доныне не исчезла в педагогике. Руссо, одна из интереснейших фигур в истории новейшей культуры, несет в своем духовном составе много противоречивого. Резкая критика существующей цивилизации, ее ненормальных проявлений и требование вернуться к природе и заложенным в человеке естественным силам очень ценны. Но, подхваченное революционным духом эпохи, это направление хотело переменить существующую жизнь одними указаниями разума, независимо от истории. Это было стремление переделать жизнь во что бы то ни стало, антиисторизм, отрицание традиции. В"Эмиле"Руссо проступают все эти мотивы. Отход от цивилизации, пребывание Эмиля в оранжерейной, искусственной обстановке для того, чтобы дать доброму началу развиться беспрепятственно, - это все является утопией и идиллией, предполагающей отрицание реальности первородного греха и природного зла в ребенке.
В идеях Руссо настойчиво и могуче проявился педагогический натурализм: и в его неверном отрыве от всего освещения воспитания ребенка данными религии, и в его верном стремлении опереться на ребенка, в его доверии к силам ребенка. До этого времени в педагогике христианство отразилось мало, будучи более достоянием идеи, чем жизни. Оно было замалчиваемо, и воспитание шло преимущественно, если не исключительно, под знаком ветхозаветной борьбы с ребенком. Кстати отметим, что Ветхий Завет был здесь усвоен преимущественно по книге"Премудрость Иисуса, сына Сирахова"; иное в Ветхом Завете как-то не было замечено. Руссо впадает в другую крайность: он впервые любуется природой ребенка, но с чисто натуральной, безбожной точки зрения.
Это стремление войти в природу ребенка было уже в XVII веке выражено у чешского педагога Коменского в установлении принципа"природо-сообразности". Господь дает душе природные силы, их нужно разыскать, увидеть свет в ребенке. Суровость как принцип в деле воспитания была непризнанием добра в душе ребенка и звучала тонами религиозного законничества. Ближайшее прикосновение к ребенку дает нам возможность увидеть добро и свет, настолько сильны они в нем."Дети до семи лет - существа иного рода, чем мы"(Достоевский). Руссо ценен тем, что его указание на факт природного добра в детях попадает в русло христианской мысли.
В"педагогическом натурализме"при неправильном основном принципе было правильное устремление к пробуждению светлой природы ребенка как таковой."Эмиль"имел очень большое влияние в конце XVIII и XIX веке. Теперь он кажется нам немного тяжелым для чтения, трудно понять увлечение им, если не видеть, что Руссо впервые выявил в нем любовь к ребенку. У Толстого это направление переходит в педагогический анархизм: он говорит, что мы не имеем права и основания (так как мы гораздо хуже и испорченнее детей, благодаря влиянию на нас цивилизации) вмешиваться каким бы то ни было образом в жизнь ребенка. Мы видим, что в обоих случаях (и Руссо и Толстой) ребенок уже оказывается в центре внимания. Конечно, это правильно, но односторонне - нам ясно, что ребенок нуждается в постороннем воздействии со стороны старших, которые должны охранять и направлять его развитие.
Школу нужно строить так, чтобы, опираясь на натуральные данные в душе ребенка, развивать в нем высшие силы. В детях есть много первозданной красоты, в них есть отблеск рая. Те, кто близко соприкасаются с детьми, видят необычайную детскую чистоту и открытость, сознавая, однако, что мы должны охранять детей от оскудения в них духовных богатств.
Особенность педагогического натурализма, при регуляции воспитания на основе естественных движений ребенка, заключается в отрицании действия Бога при созревании ребенка. Даже медики, при сознании в трудных случаях своего бессилия, признают возможности Божественного воздействия на тело:"Здесь может помочь только чудо, молитесь", - говорят они. Однако у педагогов это влияние отрицается. Это ошибка, за которую мы дорого расплачиваемся. Ярче всего этот замысел виден у Руссо, и в этом же виден патетический мотив всего просвещенчества: через школу, без Бога, создать"здорового, нормального"человека. Эта задача кажется вполне доступной - нужно только"оразумить"воспитание. Дело воспитания сводится к ограничению только тем, что вмещает разум. Современная педагогическая мысль не отгораживается от религии категорически, но строится без нее. Самые лучшие родители редко ощущают религиозную сторону в воспитании. Раздвоение, выражающееся в отделении Церкви от школы, коренится именно в идее"человеко-божества", столь типичной для просвещенчества: на месте Бога ставится исключительно сила разума.
Под влиянием Руссо создались важнейшие в XIX веке педагогические течения. Четыре крупнейших имени явились носителями и продолжателями идей руссоизма - Песталоцци, Фребель, Спенсер и Толстой.
Песталоции (Pestalozzi, 1746-1827) - гениальный швейцарский педагог. Он ценен как методист, но еще больше как педагог вообще. Песталоцци обладал исключительным даром педагогического воздействия, умел подойти к душе ребенка, увлечь и овладеть ею. Ему пришлось взяться за воспитание беспризорных детей, и он стал с ними жить. Эта живая связь, умение привлечь к себе детей действовали бесконечно лучше других средств, и дети, находившиеся под его присмотром, совершенно переменялись. Песталоцци явил таким образом высочайший тип педагога, свободного от рутины, от внешнего интеллектуализма, способного войти в детскую душу и вызвать в ней семена добра, стремление к свету. Песталоцци не только любил детей, но и верил в них, и этим больше всего способствовал тому, чтобы заменить школьную рутину живым воздействием и живым общением с детьми. В этом осуществляется идея Руссо - быть ближе к ребенку и дать простор его личности (хотя сам Руссо таким практиком никогда не был).
Песталоцци очень важен тем, что теория Руссо, также заключавшая в себе преклонение перед личностью ребенка, любование им, была претворена им в жизнь. (Эти идеи нашли некоторое свое отражение и у Канта.)
Фребель (Frffbel, 1782-1852) находился под влиянием романтики. В его педагогической системе нашла приложение натур-философия Шеллинга. Это было признание того, что все высшие силы природы находятся в человеке, который является венцом жизни, ее высшим раскрытием. Творческие силы природы находят свое продолжение и раскрытие в художнике.
Но если есть высшая форма жизни, заключающая в себе все творческие силы, то отсюда вытекает признание, что в ребенке есть творческие силы сами по себе помимо педагога. Дети - это как бы цветы, а педагоги - как бы садовники. За цветами нужно ухаживать не потому, что мы можем создать их красоту, ибо она помимо нас в них есть, но для того только, чтобы устранить все, что мешает им - холодный ветер, могущий нанести ущерб, - все, что будет для них неблагоприятно. Уход за детьми и превращает в детский"сад"то место, где они собираются. Из этих мыслей у Фребеля выросла идея"детского сада", в котором должна развиваться природа ребенка (здесь есть несомненное влияние идей Руссо).
Вообще, надо признать, что"идиллия"Фребеля удалась на практике вполне. В детских садах, при сочетании любви и трезвого отношения к детям, вырабатывается необычайная привязанность детей друг к другу и к воспитательницам. Дети очень точно и тонко усваивают в саду те вещи, которых школа не дает.
Во всем этом как бы оправдывается положение натурализма, что все хорошо от природы. Отчасти это верно, но лишь отчасти. Поэтому нельзя согласиться даже с христианской вариацией натурализма, суть которой сводится к тому, что после пришествия Спасителя мир уже просветлен. Христианская вариация натурализма признает, что так как Господь Своим пришествием уже спас землю - то значит, всюду есть мир и благоволение; Царствие Божие уже есть на земле, лишь бы люди давали простор своей просветленной природе. Это - вера в человека; она определяется не позитивным натурализмом, а ощущением благословенности всей жизни, спасенности ее Спасителем. В особенности, как будто оправдывается христианский натурализм в отношении к детям, ибо они являют собою чистоту и правду души, еще не загрязненной жизнью.
Это, конечно, идиллия, но все же в детских садах эта идиллия как бы уместна. И даже, отвергая христианский натурализм как принцип, мы должны признать великие заслуги Фребеля в истории христианской педагогики, так как он более других возвращает нас к тому пониманию детской души, которое мы находим в Евангелии. Даже не разделяя принципов натурализма, мы с христианской точки зрения должны приветствовать все течение педагогики, связанное с именем Фребеля, как раскрытие начал христианства в отношении детской души.
Отметим тут же, что как система учение Фребеля подверглось многим изменениям. Еще недавно ряд ценных педагогических приемов выработала итальянская женщина-врач Монтессори, работавшая с дефективными детьми. Эти приемы находят себе применение и в детских садах. Американские, немецкие, отчасти и русские детские сады далеко продвинули вперед то, что было в системе Фребеля, и развили действительно очень ценную форму педагогической работы.
Однако в системе воспитания детских садов сохраняется та двойственность, которая была еще у Руссо - мотивы христианские и антихристианские. В этом отношении весьма любопытно, что в России, при очень хорошей постановке воспитания в некоторых детских садах, стараются одновременно уничтожить Бога в душе ребенка. Сторонники таких идей иногда заявляют, что детям нужно только развитие религиозного чувства, но сама религия в ее идеях - это вред или в крайнем случае нечто лишнее. Я слышал, например, от одной воспитательницы детского сада, что она рассказывает детям"легенды"об Иисусе Христе, так как этот материал"возвышает душу". Это очень типично.
Спенсер (Spencer, 1820-1903) знаменует в педагогике ту линию, которая выводит на передний план идею"естественного развития". В книге Спенсера"О физическом, моральном и умственном воспитании"появляется идея"естественных"наказаний. Природа ребенка в этой системе не предполагает действия Божия, она сама в себе таит достаточно сил для своего развития и расцвета, нужно только стремиться в воспитании ребенка к тому, чтобы в окружающих социальных отношениях и условиях проявлялся бы натуральный естественный закон. Например, если ребенок опоздал на обед, то он или совсем его не получает, или ест холодным. Это приучает ребенка к естественной дисциплине и формирует сознание порядка, закона… Конечно, это полезно для ребенка, так как в таком наказании понятное и законное для ребенка"возмездие"исходит из положения вещей, а не от воли педагога. Однако этим лишь односторонне освещается проблема морального воспитания, ибо оно должно покоиться не только на сознании закона, но и на заповеди любви, преображающей и преодолевающей"закон".
Кстати, укажу на очень ценную книгу г-жи Конради"Исповедь матери", в которой очень хорошо раскрыто, что из правильных семейных взаимоотношений вырастает очень плодотворная педагогическая среда. Однако не все моральные ценности видны сами собой, и в задачу воспитания входит утончение чувств ребенка.
Вторая идея Спенсера - это идея гармонического развития личности. Тело, находящееся в неразрывной связи с душой, также попадает в сферу педагогического развития. Однако в этом, при всей ценности физического воспитания, неверно то, что развитие тела полагается здесь равноценным развитию души. В формулировании этой неполной, но очень важной идеи - огромная заслуга Спенсера.
Нам снова хочется подчеркнуть, что педагогический натурализм Руссо заключает в себе глубокие христианские мотивы, но тот же натурализм Руссо сознательно сосредоточивает все педагогические усилия на раскрытии природы ребенка и игнорирует значение религии в деле воспитания, ведет воспитание вне Церкви. Он укрепил и углубил давний разрыв Церкви и школы во Франции. Самая двойственность в руссоизме вытекает из того, что педагогические построения Руссо пронизаны как религиозными, так и антирелигиозными настроениями. Собственно, во всей современной культуре мы можем найти ту же двойственность: в ней тоже много и христианского и антихристианского. Нельзя сказать, что искусство, наука, литература развились вне христианства - подобное утверждение было бы исторически неверно, как в отношении прошлого, так и будущего. Отбрасывая то неверное, что есть в культуре, нельзя отбрасывать в ней все. Конечно, духовная позиция, которую мы намечаем, очень трудна, но все же необходимо принять факт двойственности культуры. Вообще все, что делается людьми, даже в Церкви (как организме), двойственно по своей природе, т. е. содержит в себе непросветленную, натуральную стихию и в то же время свыше освящено Богом, и поэтому то, что христианство может извлечь в культуре из-под власти антихриста, - нужно извлекать.
Вернемся, однако, еще раз к Спенсеру. У Спенсера выступает идеал"гармонической личности", очень привлекательный для современного сознания, но по существу неверный и идиллический. Личность построена иерархически, и ее правильное устроение предполагает не равномерное развитие всех сторон ее, а соблюдение иерархии в развитии сил. Как социальная жизнь гармонична не"сама по себе", а лишь при ее регуляции, так же развивается и личность. Неверно думать, что нужно только развивать все стороны личности, а ее иерархическая стройность наступит сама собой и притом благополучно. Справедливо в этом учении то, что необходимо развивать личность во всех ее сторонах, но этим не уничтожается тема о регуляции всего процесса, о неодинаковой ценности различных сторон личности, что и требует того, чтобы более существенные стороны не были принесены в жертву менее существенным и менее ценным. Здесь есть затаенная мысль, что человек, если ему дать возможность быть самим собой, по природе, без помощи свыше, - может достигнуть всего, раскрыть и осуществить идеал. Однако христианство имеет иное понимание пути человека - оно зовет его к покаянию, к тому, чтобы подняться над данностью и искать идеал:"Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный" - таков верховный принцип христианской этики.
По Спенсеру, человек, как он дан, в своей природе, есть норма, и для достижения ее нужно предоставить все естественному ходу вещей. Это, конечно, педагогическая утопия.
После Спенсера идеи Руссо развивал наш русский гений - Л. Н. Толстой (1828~1910). Он сделал из всех идей Руссо анархическое заключение, в котором, кроме призыва к бунту против современности, есть, однако, и драгоценные зерна. Основная мысль Толстого: все в истории человечества было насильственно и искусственно. Толстой отрицает все. В искании неискусственности, естественности у него все умирает: семья, школа, общество, государство, армия, Церковь. Такое построение является чисто абстрактным и в своей абстрактности радикальным пониманием христианства и, собственно говоря, является уже выходом за пределы христианства, которое пришло спасти мир, преобразовать его, а не отрицать. Толстой отрицает не только возможность воспитания, но даже и право на него: у него нет права вмешиваться в жизнь ребенка, которая сама в себе таит начало регуляции. Он доводит идеи Руссо до конечного предела, предоставляя действовать в деле воспитания не человеку, но природе. Отсюда вытекает, естественно, отрицание школы в нашем понимании. Школа Толстого - полный анархизм. До известной степени элементы анархизма существуют и в системе воспитания детских садов, так как здесь не принуждают ребенка принимать участие в играх и занятиях, но за свободой ребенка в детском саду всегда стоит внимательный педагог, который не только ограждает ребенка от опасности, но и активно направляет его работу, стараясь увлечь, привлечь ребенка. У Толстого есть черты сентиментализма в его системе - он так умиляется природой ребенка, что снимает всякие препятствия перед ребенком в его действиях. Толстой верит в естественную благость человеческого духа и в то, что человек может сам найти себя, если ему не ставить препятствий. Единственно, в чем выражается возможность участия посторонних взрослых в жизни ребенка - это помогать ребенку проявить любовь.
В чем же справедливость взглядов Толстого? Мы слишком часто строим школу, не считаясь с интересами ребенка. Мы в этом случае идем не за ребенком, а за нашими планами, и это нежелание считаться с ребенком вызывает у Толстого обратное желание - предоставить ребенку абсолютную свободу. Справедливо у Толстого то, что человеческая душа должна пройти свой путь, что внешне невозможно устранить того, что растет изнутри. Чрезвычайно важно умение слушать внутренний закон роста души, и можно иногда сказать, что лучше не иметь никакой системы воспитания и совершенно не воспитывать ребенка, чем делать то, что насильственно должно его переделать и только испортить. Тайна человеческого роста настолько индивидуальна, что тот, кто только помогает в этом ребенку, - делает лучше, чем тот, кто что-то навязывает. Психопатология указывает нам, что много ошибок и преступлений явилось следствием духовных искривлений в раннем возрасте.
В педагогическом анархизме критическая часть довольно верна, но нельзя из этого делать вывод, что в душу ребенка нельзя ничего вносить. Если не внесут воспитатели, то внесет улица, окружающая обстановка жизни. Это право привнесения должно быть у родных ребенка и педагогов. Невозможно отрицать право на воспитание, на воспитывающем лежит задача и обязанность угадать не только талант или способности ребенка, но, что гораздо важнее, - логику внутреннего роста. Крайне важно помочь ребенку найти самого себя, и нельзя ограничиваться беспрестанными приказаниями в деле воспитания. По Толстому, добро рождается само по себе, - и на это надо сказать, что нельзя не признать существования начатков естественного добра. Однако ребенку необходимо дать все, что ему нужно, как даем мы растению влагу, тепло, возможность укрыться от холода. Натурализм же Толстого, поскольку он направлен против религиозного подхода к душе ребенка, ничем не может быть оправдан.
Толстой имел большое влияние не только в России, но и в Америке, Англии, Скандинавских странах. Всюду есть близкие к нему или параллельные течения, как пример укажу талантливого немецкого педагога […], который строит воспитание на принципе"Школа есть радость"; немецкий педагог Линда создал течение, которое можно назвать"педагогика индивидуальности", - по его мнению надо предоставить полный простор индивидуальности в ее развитии. В детском саду все это возможно, но построить на этом все воспитание нельзя.
В истории европейской педагогической мысли огромное место принадлежит второму течению, связанному с развитием научных методов. Если от Руссо пошло внимание к личности ребенка в целом, то от этого течения пошло внимательное изучение природы ребенка в ее отдельных сторонах. Родоначальник этого течения - Гербарт (Heibart, 1776-1841).
Благодаря апперцепции, по учению Гербарта, в душе происходит непрерывное слияние прежнего и нового опыта. Так как человек обладает абсолютной памятью, все образы держатся в душе, происходит даже борьба образов, в которой одни побеждают и держат других"угнетенными", бездейственными. Из борьбы образов объясняет Гербарт чувство и волю. Таково его психологическое учение, его идеи внутренне сродны основному тону современной культуры, для которой главное - это приоритет ума, развитие интеллекта. Правда, против этих положений было признание за душой области иррационального, человеческая душа не делится без остатка на разум. Но все же интеллектуализм чрезвычайно типичен для современной культуры. Психология Гербарта чрезвычайно этому соответствовала, и в этом отчасти причина его успеха; с другой стороны, он, несомненно, удачно осветил целый ряд педагогических вопросов. Его система в своих основах упрощенна, но эта упрощенность была обусловлена практичностью его построения и создала ему славу. Гербарт дал толчок к учению о развитии ребенка. Этим было положено начало педагогической психологии или, иначе говоря, - психологии ребенка.
Штрюмпель (Strumpel. 1812-1899), последователь Гербарга, в книгах"Педагогическая патология"и"Педагогическая психология"уже прямо говорит о законе психического развития ребенка.
В 1881 г. вышло первое исследование физиолога Прейера о ребенке, из чего развилась современная психология детства. Существует целое направление"экспериментальной педагогики". Такое название, собственно, не имеет под собой основания, так как всякая педагогика экспериментальна: она мгновенно дает ответ жизни на всякий педагогический прием. Лучше поэтому говорить о влиянии экспериментальной психологии на педагогику. Так, в школах применяются при запоминании те приемы, которые разработала экспериментальная психология. Из этого можно легко сделать и неправильный вывод, что педагогика должна быть всецело основана на психологии. Это не так. В педагогике существуют две основные стороны, и их надо постоянно иметь в виду. Первая - это цель педагогического воздействия - и эта сторона может быть освещена лишь философией (этикой, философией религии, эстетикой). Вторая сторона - это тот материал, над которым работают педагоги: и здесь, при изучении души ребенка, решающее слово принадлежит психологии. Думать, что все зависит от материала, и таким образом упускать из виду цель - ошибочно.
Для педагога важно понимать дитя во всех его сторонах, но надо ясно сознавать, куда мы хотим вести ребенка. Часто кажется, что последнее ясно"само собой". Отчасти это верно, поскольку, например, истинность и значение христианства являются бесспорными, но не следует забывать явных и тайных внехристианских и антихристианских течений в современной жизни. Попытка строить всю педагогику на одной психологии, не анализируя и не уточняя целей воспитания, не только ведет к беспринципности, но возводит в принцип эту беспринципность.
Подводя итоги сказанному, подчеркнем, что развитие педагогической мысли шло под влиянием трех течений. Первое - это педагогический натурализм. Открытие и особое внимание к светлым сторонам детской души, от Руссо и до Толстого, привело в крайнем своем выражении к анархизму в деле воспитания. Другое течение - это научное изучение детской души, психология ребенка. Это течение, начиная с Гербарта и Штрюмпеля, дало научную психологию детства. Надо отметить, что эта психологическая линия не связана с превознесением природы ребенка, и, главным образом, это есть перенесение центра тяжести на изучение ребенка, с довольно беззаботным отношением к тому, что находится за пределами научного изучения. Однако, кроме изучения материала, безусловно, необходимо знать цель воспитания, т. е. надо уяснить философскую сторону вопроса, которая при том или ином разрешении может коренным образом изменить постановку воспитания. В связи с чисто научным, психологическим подходом к школе сюда же следует отнести и все реформаторские стремления в школе, защитников так называемой"новой школы".
Это чисто педагогический эксперимент, связанный с ростом наук о ребенке. В качестве примера такого реформаторства приведем опыт г-жи Панхкэрст.
Система г-жи Панхкэрст, к краткому описанию которой мы приступим, имела сразу очень большой успех в англо-саксонском мире: в Англии за короткое время открылось до 2000 школ по ее системе, по ней были устроены также многие школы Нью-Йорка, не говоря о большом их количестве по всей Америке. Суть"нового строя"в следующем. Если мы требуем от ребенка изучения им курса по определенной программе, то для нас как бы безразличен ритм интереса ребенка. Для нашей школы типично отсутствие исследования ритма интересов. Это часто создает несоответствие внутренней направленности ребенка и на целый год созданного"расписания уроков"и нередко приводит к тому, что ребенку неинтересно и тяжело в данный день заниматься данной программой. На возникающий вопрос: как дать ребенку то, что его интересует, новая система школы дает ответ в виде идеи"договора"ученика с учителем. Они составляют определенный договор сроком на один месяц, причем от ученика требуется пройти определенную часть курса, а от учителя - помогать ему в этом в любое время. Учитель объясняет ученику его недоумения,"спрашивает"его тогда, когда ученик овладеет материалом. Поставлен только рубеж времени, учитель помогает ученику в"кабинетной"работе. Таким образом, получается революция в школе: класс как организм как будто исчезает. Однако фактически то органическое, что есть в классе, не исчезает совсем: ученики все же не работают индивидуально, но группами большей или меньшей численности.
Эта система дает детям вместе со свободой и чувство ответственности и представляет отчасти переход режима детского сада в школу. С другой стороны, здесь есть все же устранение школы как организма, и класс с его социальным взаимодействием пропадает. Это как бы превращение средней школы в"университет"(ибо каждый ученик работает самостоятельно и лишь сдает раз в месяц свои работы) имеет громадный успех в саксонском мире, именно в силу наличия договора, обладающего заветным строгим характером.
Нельзя сказать, чтобы эта система легко подходила к психологии Европы и Востока. Опустошения в школе в связи с применением нового метода весьма значительны и имеют такой радикальный характер, что сама жизнь вносит поправку: дети не могут всецело овладеть своим временем. В нем интересна тенденция - следовать за аритмией ребенка, но это, однако, бывает весьма двусмысленно. Проблема естественного управления детской душой остается не только вопросом такта педагога, но и системы.
Остается еще третье течение, оказывающее большое влияние на педагогическую теорию и практику. Это социально-педагогическая тенденция. Руссо совершенно отстраняет влияние социальной среды, для него это отрицательный фактор. Но социальная среда есть важнейший проводник формирующих человека сил. Через нее ребенок легко получает даровое наследие опыта жизни предыдущих поколений. Эта пронизанность социальным материалом должна была быть когда-нибудь неизбежно учтена, и это естественно произошло в XIX веке, в веке увлечения массовыми движениями. Социология, как наука, впервые созданная Опостом Контом, повлекла за собой возникновение социальной психологии и затем социальной педагогики.
Первое крупное имя в последней - это имя Наторпа (Natorp, 1854-1942), философа знаменитой Марбургской школы. Горячий защитник объективного идеализма, прекрасный историк, он формулирует свои педагогические идеи в книге"Социальная педагогика". Педагогическая мысль Наторпа настолько же проста, насколько и ценна: человек должен быть воспитан не для индивидуальной жизни, а для жизни с другими.
У Руссо мы видим культ"естественного"развития индивидуума для того, чтобы он мог найти себя. Здесь уже другое - школа должна помочь ребенку развить социальные функции для жизни в обществе. Выдвигается идея общности, жизни для целого, но не для себя. Если школа атомизирует детский материал, то это является в глазах Наторпа огромным вредом: школа невольно создает в развитии ребенка эгоцентризм, часто переходящий в эгоизм.
Социально-педагогические тенденции сильны и в Америке, где социально-педагогическая мысль развивалась по своим мотивам. Америка - это классическая страна социальной активности и культуры. В ней существует целый ряд социальных институтов, работающих дружно и совместно, в ней глубоко развито сознание общественности культуры: индивидуум должен иметь простор активности, и в то же время работа его должна проходить совместно с коллегами. Для выдающегося американского педагога Ко (Сое, 1859-1952) социальный идеал рисуется как идеал"Democracy of Cod", т. е. не как Царство Божие, а как"демократия"Божия…
Другой американский философ-эмпирик Дьюи (Deivey, 1859--1952) в книге"Школа и общество"смотрит на школу как на социальную единицу, где между детьми неизбежно возникает процесс социального взаимодействия. Мы знаем, что старая школа действительно атомизировала детей, отъединяла их друг от друга, в чем, однако, был свой плюс - рост чувства личной моральной ответственности."Я должен дать ответ" - это укрепляло и развивало личность. В прежней школе, однако, совершенно не было использовано желание детей помочь друг другу (часто в виде подсказки) - хотя и такое желание надо использовать. Надо также помнить, что наше мышление социально как по своим корням, так и по своему процессу. Наше мышление диалектично (в смысле платоновской диалектики) и никогда не развивается у изолированного человека. Этот процесс настолько естественен, что иногда остается незаметным и даже до конца не ясным.
Конечно, рядом с этим вопросом и из него выдвигается вопрос авторитета, влияния одного ума на другой. Это влияние так же должно быть педагогически использовано, как и всякий социальный процесс: если мой сосед по классу решает свою задачу ровно и спокойно - то это спокойствие может укрепить и мои силы. Всякая научная работа есть также социальный процесс, и не существует изолированности ума.
До сих пор школа проходила мимо этого богатого материала, мимо могучего влияния детей Друг на друга, не все это было учтено и воплощено до конца. Школа должна использовать процесс естественного взаимодействия между детьми. Задача школы не только в том, чтобы дать индивидууму"стать собой", но и в том, чтобы дать развитие социальных сил в нем. И нам, христианам, ясно, что это течение имеет внутреннюю христианскую правду, ибо Церковь есть освященный факт социальной связности людей. Раскрытие в школе того, чем человек может помочь другому человеку, очень важно. В школьном деле социальная стихия до сих пор не была понята в своем добре, благе.
Коснемся еще близкого течения, созданного Кершенштайнером (Kerschensteiner, 1854-1932), выдающимся мюнхенским педагогом, являющимся создателем"трудовой школы". Он считал неверным положение, что школа должна только учить, не используя естественных движений ребенка. Школа должна быть лабораторией жизни, местом, где дети делают вместе все, что относится до их жизненных потребностей. Дети должны не только учиться в школе, но жить в ней полной жизнью: принимать участие в приготовлении еды, уборке помещений, мытье посуды и т. д. Это - использование школой своей социальной структуры.
В трудовой школе можно отметить три главных мотива. Первый мотив социально-педагогический, по которому школа является лабораторией жизни. В ней проходят все процессы жизни, и нужно, чтобы школа была целостной системой, из которой они не были бы выключены. Второй мотив - методический. Обычно школьное дело покоится на отсталых методах, от ребенка требуется только пассивное внимание и следование за учителем. Однако усвоение происходит лучше при самостоятельной активности ребенка. В этом, собственно, и состоит суть знаменитого принципа наглядности, о котором говорил уже Коменский. Не следует знакомить ребенка с теми или иными предметами лишь с помощью слова - нужно показывать им самые предметы. Нужно не только словами, но и всей полнотой ощущений вводить ребенка в изучение предмета. Этот принцип, являющийся элементарным требованием методики, бесспорен; применение его дает живое, полное восприятие. Однако он часто истолковывается ошибочно в психологическом отношении. Его психологическая предпосылка состоит в том, что образы беднее, чем восприятия, и потому скорее угасают; эта разница между образом и восприятием приводит к утверждению, что образ является ослабленным ощущением (Юм). Однако этот психологический факт в свете современного исследования недостаточен и неверен, так как и восприятия могут быть бедны, бледны и подвижны.
Но раз зашаталось психологическое основание принципа наглядности, то не теряет ли он свое значение вообще? Так как самый термин"наглядность"связан с учетом различий восприятия и представления, то законен вопрос, не падает ли принцип, раз падает его прежнее основание? Ответ на этот вопрос ясен: принцип наглядности, по своему педагогическому содержанию, шире и глубже момента наглядности, поэтому при перемене психологической стороны он сохраняет свое значение. Какой же смысл мы должны вложить в него в таком случае? Для уяснения этого, представим себе, что учитель рассказывает детям о Крыме. Весь рассказ состоит из частей описательного характера, но до тех пор, пока эти части в восприятии не будут синтезированы, у ребенка не будет о Крыме целого представления. Трудность создания образа именно в этом. Непосредственное восприятие предмета ценно именно потому, что оно облегчает нам синтез материала. Все дело именно в этом синтезе. С другой стороны, именно в силу первенствующей роли синтеза в восприятии описание предмета иногда может быть ярче, чем образ. Например, описание Гоголем Днепра, наверное, более ярко, чем то впечатление, которое дает сама река. Затем характер описания отдельных сторон большого города может дать большее представление, чем личный осмотр, при котором многое ускользает. Следовательно, утверждение, что восприятие всегда сильнее образа, неверно, а суть лишь в том, что при восприятии синтез материала дается легче, чем если дано словесное описание предмета. Но синтез может быть достигнут и иначе - именно"трудовым путем". Чтобы понять это, укажем что истинное знание предмета мы имеем тогда, когда можем произвести разложение и сложение его (например, если дело идет о велосипеде, о машине) - это высшая стадия того, что было в понятии наглядности. Важна не яркость восприятия сама по себе, но важен процесс схватывания сути предмета через разложение и сложение. Настоящее знание выражается не в том, чтобы пассивно отличить 'истинное от ложного, но в том, чтобы иметь возможность суметь это передать другим; в отношении же предмета это же знание выразится в том, чтобы самому сделать предмет, в крайнем случае нарисовать его, сделать модель. Поэтому хорошо ребенку видеть предмет, о котором идет речь в классе, а еще лучше уметь его сделать, уметь хотя бы точно нарисовать, сделать модель - такое трудовое усвоение предмета выше просто увиденного.
Необходимо, чтобы дитя при восприятии предмета имело возможность проявить активность. В любом учебном предмете можно дать простор самодеятельности ученика, выражающейся в"создании"(рисовании, лепке, модели) частей или всего предмета. Таким образом трудовое значение возвращается к Сократовскому принципу:"Я знаю хорошо лишь то, что умею сделать". В этом и есть принцип трудовой школы.
Третий мотив этой школы - это то, что школа есть община, цельный организм, в котором должен быть простор для социального взаимодействия. В школу включены таким образом все процессы жизни, и дети сами обдумывают, как лучше выполнить все встающие перед ними задачи. Об этом мотиве мы говорили выше.
Все это легло в основу плана Кершенштайнера. Идея трудовой школь! очень ценна и глубока, но она все же не приводит нас к идеалу целостной школы, которую ищет наше время.
Совершенно бесспорно, что нужно освободиться от интеллектуализма, нужно дать простор активности ребенка, но это еще не есть раскрытие личности ребенка. Все же и трудовая школа занята тем, чтобы научить ребенка - она лишь дает лучшие (трудовые) методы для этого. Но разве школа должна больше всего учить ребенка? Этот взгляд на школу навязывается государством и жизнью. Это, конечно, неплохо, но нет ли, кроме учения, другой задачи перед школой? Выходит, что школа помогает тому, чему, собственно, ребенок может научиться без школы. Писарев, высказывая критические соображения по этому поводу, говорил: не в том дело, чтобы ребенок, пройдя школу, знал все, но нужно, чтобы ребенок знал, как удовлетворить свои запросы. Школа, по его мнению, не заменяет самодеятельности ученика - она должна помочь ему лишь в том, что он не может сделать сам.
Идея"энциклопедического"образования, так нравившаяся Коменскому, дает неправильное представление о роли школы: надо приготовить дитя к тому, чтобы его интересовал весь мир, а это будет уже его дело, как ему охватить мир и понять его, - ибо надо помочь детям лишь в том, в чем без помощи посторонних они не могут обойтись. Это главный принцип при построении теории школы: школа должна помочь детям стать самостоятельными, крепкими, здоровыми людьми, школе нечего бояться, если при решении этой главной задачи, некоторые частные задачи окажутся нерешенными. Неправильно, когда школа хочет всему обучить ученика - лучше оставлять учеников кое в чем голодными. Пробудить в них чувство умственного голода - это значит оставить детям жажду искать дальнейшего. Если школа и помогает интеллекту, то нельзя забывать того, что интеллект может во многом сам выбраться на свой путь. При развитии интеллекта участие взрослых, по существу, гораздо меньше, чем при развитии других сил души.
В большинстве случаев школа не поспевает за ходом интеллекта. Громадное упущение в школе - это то, что организация внутреннего мира остается без всякого внимания. Должен быть восстановлен идеал целостности воспитания, чтобы оно охватывало всю личность ребенка, должна быть одновременно с этим восстановлена иерархия педагогических ценностей. Развитие ума путем обогащения его определенным материалом должно занимать второе место, нельзя и не нужно знать ученику"все". Нужно развивать свои умственные силы и уменье ставить и разрешать вопросы, которые ставит жизнь.
Не нужно подготовлять интеллект, а нужно лишь следовать за ним, отвечать на его запросы.
Школа, не соблюдая этого, скорее притупляет детей, так как не дает развиваться другим их сторонам. Школа в таком случае не расширяет, а суживает интерес - дитя в школе, действительно, очень часто не растет духовно, а слабеет. Например, мальчики и девочки проходят через трудный и тягостный период полового созревания и не получают в эти годы помощи от школы. Школа между тем должна помочь детям в организации и упорядочении их внутреннего мира. Она должна переменить задачу - ей нужно стать другом ребенка в процессе его роста а целом, помочь ему выйти на путь своей индивидуальности. Насыщение же ума должно отойти на второй план. Нужно облегчить ребенку путь к раскрытию его индивидуальности в целом, помочь ему достичь своего"технического оптимума" - и в этом, безусловно, нужна помощь школы. В трудовой школе многое из этого начато, но все же перед педагогикой остается идеал создания целостной школы.
Задача школы, употребляя формулу С. Т. Шацкого (современный русский педагог), заключается в том, чтобы помочь детям устроить их детскую жизнь. Однако не надо забывать, что дети сами не знают, в чем им нужна наша помощь. Нужно подойти к той стороне, в которой дети беспомощны, то есть помочь в преодолении всего того духовного и психического потрясения, которое несет с собой половое созревание. Задача школы требует учета иерархической структуры человека, постановки проблем в порядке их иерархического значения. Нужно школу составить так, чтобы в детях мог проявиться образ Божий, чтобы она способствовала раскрытию всех Божьих даров в ребенке. Это и есть педагогическая помощь детям. Мы должны помочь ребенку в развитии самого себя, и этот путь целостной педагогики совпадает с религиозным идеалом.
Как мы видели выше, три мотива определяют развитие педагогической мысли. Первый - это идеи Руссо, идеи педагогического натурализма, обращающего внимание главным образом на природу ребенка. Научно-психологический подход Гербарта к педагогике и работы его последователей, новых психологических школ являются содержанием второго мотива. Третий мотив - это социальный, развитием которого было создание трудовой школы.
Все эти мотивы могут быть реципированы христианской мыслью: учение о ребенке и внимание к его природе вполне отвечает христианскому отношению к ребенку; научно-психологический подход, будучи нейтральным по своей природе, вполне может быть воспринят христианской мыслью, так же как и третий социально-психологический мотив, утверждающий, что воспитание не может быть отделено от жизни. Но если христианская мысль может реципировать эти мотивы, то нельзя все же забывать их всегдашнюю двойственность: будучи, с одной стороны, приемлемыми для христианства, они, с другой стороны, работали на те тенденции времени, которые шли явно против религии. Надо сказать, что двойственность присуща почти всем педагогическим идеям, поэтому нужно обладать христианским критицизмом, чтобы усваивать из педагогического материала то, что нам подходит.
Прямая антицерковная линия, отражающаяся на современных тенденциях жизни, настаивает на лаицизации школы. Такое отделение школы от Церкви является плодом старой секуляризации. Хотя школа сохраняла связь с Церковью довольно долго, но разнообразные ее деятели уже давно считали необходимым освободить школу от церковного влияния. Этот мотив стал как бы носителем педагогического прогресса. В довоенное время в России при обсуждении вопроса о системах школ усиленно выдвигали"светскую школу", где религиозное воспитание совершенно исключалось из программы. Религия должна быть, как говорилось,"частным делом"семьи и Церкви. Этот мотив, не отвергающий религию вообще, но только выводящий ее из сферы школы, звучал очень сильно в Англии и особенно в Германии. В последней до сих пор идет борьба по этому вопросу.
Особенно любопытно был поставлен этот вопрос в Америке. Американцы в своем историческом прошлом были очень религиозны, и это наложило отпечаток на всю их жизнь. Основой воспитания у них являлась Библия, что вполне естественно для протестантов. Но именно на этой почве произошли большие разногласия. Колледжи и университеты были созданы большими церковными общинами, причем надо принимать во внимание крайнюю пестроту и многочисленность протестантских церквей в Америке. Зависимость высших школ от церковных общин удерживается в них до сих пор, и до сих пор убежденность в том, что такой режим нужно сохранять и проводить, сильна. Так обстоит дело в высших школах. Благодаря тому, что низшие школы не были созданием определенной церковной общины, в них все время шло соревнование между различными общинами.
Выходила крайняя путаница, бесконечные споры и конфессиональные конфликты. Вопрос разрешился признанием того, что ни одно исповедание не было признано преимущественным - это и был американский интерконфессионализм. В Америке в данное время больше 20 крупных церковных исповеданий (вместе с мелкими или называющими себя христианскими, вроде Christian Science, их число доходит до 100). Очевидно, что при такой чрезвычайной пестроте необходимо было вывести преподавание Закона Божия из школы. Для религиозного преподавания возникают, вне школы светской, особые воскресные школы. Сначала этому крайне воспротивилась Церковь, видевшая в воскресных школах, созданных мирянами для религиозного воспитания их детей, конкуренцию своему делу, но прошло 40 лет, и церковные приходы слились с воскресными школами. Таким образом, в XIX веке в Америке окрепла эта система безрелигиозной школы.
Если в Америке отделение школы от Церкви покоилось на религиозных мотивах, то в Европе тот же процесс определили как раз обратные мотивы, особенно ярко это проявилось во Франции в последнее время, также несколько в Германии, при Бисмарке. Но лаическая школа особенно блестящих итогов не дала.
Французский опыт существования лаических школ не очень еще продолжителен, а в Германии сейчас идет борьба за церковную школу, так как католики требуют права на конфессиональную школу. В Англии этот вопрос не разрешен в европейском смысле: там еще сохранен принцип локальности - приход или населенный пункт имеет школу с религиозным преподаванием в духе доминирующего исповедания, несмотря на присутствие других исповеданий.
Вообще же говоря, необходимо признать, что одновременно с процессом внешней секуляризации школы идет процесс внутреннего отделения ее от Церкви. Отход этот уже давно был очень значительным, и школа, будучи лишь во внешнем союзе с Церковью, только мирилась с ней; все же главные устремления школы уводили детей от Церкви. На деле в школе получилась такая двойственность, что дети почти никогда не приходили в Церковь через школу, не росли в своем церковном сознании благодаря школе. Кое-кто оставался в Церкви и зрел в религиозном сознании не благодаря школе, а благодаря условиям семейного воспитания.
Такие противоречия углублялись тем, что Закон Божий обращался в школах в предмет, зачастую окончательно подрываемый безрелигиозной постановкой преподавания других предметов, естественных и исторических. При таком положении появлялась даже мысль, не лучше ли вывести Закон Божий из этих условий в другое место, где усвоение его могло бы идти должным путем.
Если обратиться к американскому опыту, то результаты его очень плохие
[28]. Все религиозное воспитание детей идет в воскресных школах, причем 50% учащихся (протестантов) не посещают эти школы, и таким образом остаются без всяких сведений о религии. Это уже является не только громадным пробелом, но и прямой угрозой духовному здоровью детей. Затем, воскресные школы все-таки приводят к двум печальным последствиям. Первое - это то, что школа, держась на добровольных работниках, не выходит из кустарной стадии, хотя есть и очень много интересного в дополнительной ее стороне, хотя бы в способах привлечения детей. Кроме того, фактом существования воскресных школ наносится рана душе ребенка. В то время, когда дитя формируется, в его душе получается искусственное разделение из-за того, что в школе нет Закона Божия. Отсутствие в душе центральной религиозной силы расслабляюще действует на все прочие силы души.
Американский опыт, выросший на самых благочестивых намерениях, показывает, таким образом, неудачу самой идеи внерелигиозной школы. Кроме того, отрыв преподавания от религиозных мотивов приводит к опасному опустошению души. В Америке идет развитие нигилизма, образована сильная атеистическая организация АААА ("American Association for Advancement of Atheism"), очень успешно действующая.
Совокупность всех перечисленных тенденций составляет в данное время могучую, но совершенно одностороннюю в педагогическом деле силу. Однако суть дела не только в критике, но в том - что же мы можем дать. Можем ли мы, оставаясь верными Церкви, построить школу?
Задача школы, вытекающая из мыслей Руссо, такова: на основании веры в природу ребенка надо дать ей простор, так как она добра сама по себе. Христианская перефразировка этой мысли для педагогики может быть сформулирована так: надо помочь раскрытию в ребенке заложенного в его природе образа Божия. В природе есть первородный грех, или, как говорил Кант - "радикальное зло", и потому просто следовать за природой ребенка, исповедуя педагогический натурализм, - является легкомыслием. Первая задача христианского воспитания, параллельная педагогическому натурализму - это не раскрытие природы, как она есть, но раскрытие тех даров Божиих, которые могут способствовать выявлению образа Божия в человеке.
Мысль Руссо о раскрытии индивидуальности сохраняет и в христианстве чрезвычайное значение - это задача раскрытия образа Божия в человеке. Образ Божий не лежит на поверхности индивидуума, и потому раскрытие его предполагает известные ступени. Раскрытие образа Божия является общей и главной целью воспитания. Однако раскрытие индивидуальности не покоится непременно на началах натурализма так, как его представляют себе Руссо и его сторонники. Натурализм исключает то, что скрыто в душе ребенка или что может в ней явиться в результате духовного искания, натурализм характерен своим рабством перед фактом, перед природой, как она дана. Поэтому с христианской точки зрения мы можем вместо узких начал натурализма сформулировать задачу воспитания широко: воспитание ставит себе целью не только считаться с природой ребенка, как она дана в опыте, но и содействовать раскрытию того, что заложено в него Творцом. Это раскрытие нужно не только для этой жизни, но и для вечной жизни. Не отрицая этой жизни, нельзя отрицать и того, что христианское воспитание есть подготовка к жизни в вечности. Конечно, этому знанию можно научиться не в школе, а позже, но жизнь человека не является суммой равных по своему смыслу и значению периодов его возраста. На всю жизнь оказывает влияние первый период - детство (в широком смысле), и если оно было ущербным, то это не может быть совершенно поправлено в другой позднейший период. Если бы мы жили только здесь, на земле, и не было бы вечной жизни, то, конечно, натурализм был бы достаточен для педагогики. Но реальность жизни вне-земного существования не позволяет легкомысленно ограничивать задачи воспитания развитием лишь того, чего требует жизнь только здесь.
Нужно помнить и то, что природа ребенка, как она дана в опыте, может иметь в себе дефекты, извращения ("греховность"), и думать, что дефекты не нуждаются в исправлении или же могут сами собой исправиться, - наивно. Таким образом, приходится вскрывать в душе ребенка и то, что не имеет прямого отношения к жизни на земле.
Так, мотив свободы в воспитании получает полный свой смысл только тогда, когда мы признаем бессмертие. Только при его существовании оправдывается та работа ребенка над собой, которая развивает в нем его духовный мир. Как в воспитании, так и в жизни мы много отдаем сегодняшнего на счет будущей жизни. Если нет бессмертия, тогда"будем жить и веселиться" - ибо ни к чему тогда все наши высшие устремления. На нас производит сильное впечатление смерть, например, молодого студента, не успевшего приложить своих сил и знаний, которые он накапливал за свою жизнь. Но только ли для жизни на этом свете он их накапливал? Если да, то тогда такая смерть безусловно непонятна и бессмысленна, а воспитание его совершенно не нужно. Однако мы знаем, что это не так. Истинное ядро человека связано с этой жизнью неполно и не всецело. В этой жизни слишком много преходящего, и если вся жизнь не исчерпывается этим преходящим, если есть еще бесконечная жизнь и за гробом, то только тогда воспитание, работа над природой ребенка имеет смысл. Процесс воспитания, переработка характера имеют смысл и право только при факте будущей жизни, иначе воспитание имеет только техническое значение для здешней человеческой жизни. Педагогический натурализм при свете вечной жизни рисуется мелким и поверхностным, нужна не только техническая помощь ребенку в развитии его сил, но и подготовка к будущей жизни, развитие духовной стороны в нем.
Другой мотив Руссо - предоставление свободы ребенку - тоже может и должен быть христиански усвоен и переработан. С одной стороны, принцип свободы определяет воспитание как подготовку к свободе - поскольку свобода не есть нечто внешнее, но растет изнутри, постольку она должна еще найти свои пути осуществления. Мы призваны к свободе, но устоять в ней очень трудно. Это дар Божий, не данный нам как"готовый". Свободу нужно, по слову Гете, завоевывать каждый день. В духовной жизни воспитание к свободе - самая трудная вещь, нужно, чтобы человек овладел своими силами. После грехопадения человек должен воспитать свои силы, чтобы овладеть собой, чтобы найти самого себя, чтобы понять путь свободы и овладеть ее тайной, - это есть общая воспитательная задача каждого христианина. Но воспитывать к свободе можно только в свободе, так как только в опыте свободы человек научается ей. Показать свободу путем определения ее границ - нельзя, и христианство учит тому, что воспитание ребенка должно происходить в свободе. Но само собой разумеется, что свобода должна быть соразмерна возрасту, т. е. представлена в той мере, в какой человек владеет своими силами и разумом.
Мотив целостной школы также очень важен для христианства, и мы всецело разделяем борьбу против интеллектуализма. Забота только о развитии разума часто бывает источником душевных искривлений и заболеваний. Заботой педагога прежде всего является воспитание души в целом, - мы бы это назвали педагогическим эмоии-онализмом.
Это, конечно, не означает сентиментализма, ибо не имеет в виду развитие только сферы чувств, но развитие всей эмоциональной сферы (ее проявления, ее глубины), ибо чувства суть лишь симптомы тех процессов, которые совершаются в душе. Нужно еще духовно созреть, чтобы чувства помогали человеку понимать и правильно оценивать жизнь, ибо от здоровья чувств зависит духовное здоровье человека. Если мы имеем неверные, мелкие, ядовитые чувства, то не может быть в нас правильной духовной жизни. Поэтому педагогический эмоцио-нализм нужно строго отличать от сентиментализма.
Развитой духовно человек - не тот, кто только понимает, но тот, кто и правильно оценивает и верно действует.
В развитии воли тоже есть много важного для духовного здоровья, однако выработка воли ценна, если в душе жив идеал. Воля есть лишь инструмент, она не есть самоценность, она нужна лишь как средство осуществить идеал. Поэтому педагогический эмоционализм глубже педагогического волюнтаризма, видящего в развитии воли высшую задачу.
Эмоционализм стремится не к развитию чувств как таковых, но к развитию того, симптомом чего являются чувства, к развитию индивидуальности в ее творческой глубине.
В защиту системы целостного воспитания есть и другой довод. Если мы поставим вопрос, что является в человеке носителем его целостности, - то мы найдем на него два разных ответа: для одних - это интеллект, для других - религиозная сфера. Интеллект, правда, все видит и все обнимает. Однако все это охватывается мыслью и не выходит за пределы мысли. В интеллекте нам дано мысленное объединение всего. Интеллект не дает целостного отношения к миру, так как сила интеллекта - это мысль. Но философия не есть последняя высшая ступень духовной жизни, так как она создает единство жизни через мысль. Религиозная сфера обнимает все не так, как пронизывающий все ум (и объединяющий именно в силу способности пронизывать), но как действительный центр. Она должна по природе своей занимать центральное место, ее функция центрирующая. Чувство целостности не есть нечто идеальное, но это есть бытие, переживание его как истины. И целостная школа поэтому без религиозного воспитания невозможна, так как религия есть основная центрирующая сила, все объединяющая.
Последний мотив целостного воспитания - это задача школы связать воспитание ребенка с устроением его жизни, чтобы воспитание вело его в жизнь, а не уводило от нее. Школа должна помочь построить лучшую жизнь, а не просто технически овладеть той жизнью, которой мы обычно живем. Этот мотив педагогического идеализма и конкретности очень важен. Американский педагог Ко думает даже, что школа могла бы сама преобразовать жизнь, призывая детей к лучшей жизни. Нечто подобное есть у католиков (во Франции) в их"croisades", перелагающих современность зла на плечи детей. Это, конечно, утопия неосуществимая и даже вредная, ибо она отводит от реальности. Думать, что школа за нас может решать проблему жизни - это или наивность, или обман. Этот вопрос кажется нам разрешимым только путем создания островков, оазисов христианской культуры. Только в христианской обстановке возможно создание целостной христианской школы.
Мы видели, что есть две системы воспитания, все более открыто вступающие между собой в борьбу. Одна - это система просвещен-чества, гуманизма, другая - система религиозной культуры. Гуманизм старается выдвинуть идею"нейтральной"безрелигиозной школы, и надо признать, что она оказалась мифом. Теперь стало ясно, что все безрелигиозное: наука, культура, воспитание - является скрыто или явно антирелигиозным, и советская система лучше всего договаривает то, что было неясным в"просвещенчестве". Это обнажение произошло еще не везде. Однако, когда приходит решительный момент., работники культуры не остаются на своей платформе ней-тралвности и неизбежно становятся либо антихристианами, либо горячими христианами. Быть же сторонником безрелигиозной культуры, безрелигиозного воспитания - ЕТО в нашу эпоху уже невозможно после всего, что история сказала по этому вопросу.
Переходим теперь к систематическому обзору вопросов педагогики.
3. Основные вопросы педагогики
В системе педагогики вопрос о цели воспитания является, конечно, -главным. Нельзя воспитывать, не сознавая цели воспитания. Наше вмешательство в жизнь ребенка имеет смысл лишь в том, чтобы помочь раскрытию образа Божия в ребенке и устранить все то, что замедляет это раскрытие. Кроме нашей помощи ребенку в нем действует, конечно, и Господь, ибо душа сообразна Богу, Который каждого любит как Отец и о каждом заботится. Раскрытие образа Божия, становление внутреннего человека - это есть то, помочь в чем и должно воспитание. Если дитя не подвергается воспитанию, то оно, пользуясь свободой неразумно, может сделать непоправимые ошибки в устроении своей жизни.
Но, формулируя так путь педагогического вмешательства в жизнь ребенка, мы тем самым уже ставим себе в сущности две задачи. Прежде всего - подготовить дитя к вечной жизни, к жизни в вечности, в Боге и с Богом, чтобы земные дни не пропали даром и чтобы смерть не была духовной катастрофой. Нужно человека спасти в земные дни от падений и развить в нем то, что не утеряется в вечности. В этом одна сторона воспитания, и потому в развитии внутреннего человека - главный путь педагогической работы.
Не менее важной является и вторая сторона - это подготовка к этой жизни, так как эта жизнь дает не только возможность приобрести вечную жизнь, но дает возможность и потерять ее. Как будет пройдена эта жизнь - так она отзовется и в вечной жизни, мы живем так, что эта жизнь является только ступенью в вечность. Именно поэтому необходима свобода от мелочей жизни, от всего несущественного - важно"не угасить духа". Мы зачастую так подавлены текущей жизнью, что, даже видя правду, не можем ей овладеть.
Если при воспитании обращается внимание только на подготовку к вечной жизни, то возможно, что многое индивидуальное,"таланты", дары останутся в ребенке не раскрытыми - настолько все внимание уйдет в одну сторону. Если есть то, с чем можно идти из этой жизни в вечную, то, конечно, главное сделано; однако пройти сквозь эту жизнь вне связывания ее с вечностью нельзя.
Очень часто бывает обратное, вопросы этой жизни ставятся на первый план. Но, конечно, не только в принципе, иерархически, но и для педагогической работы важнее задача подготовки к вечной жизни. Ударение на подготовке к земной жизни должно быть на втором месте. Гипноз жизни настолько силен, что дети особенно легко перемещают наоборот практическую и духовную задачи и ставят на первый план вопросы практические. Если они и знают о вечной жизни, то мысль об этой задаче является как бы чем-то дополнительным, добавочным. Это чрезвычайно пагубное настроение. Задача воспитания должна быть поставлена так, чтобы первенствующей в ней была устремленность к небу, а не к земле. Человек тем и отличен от других живых созданий, что он не только принадлежит земле, но и подымается над ней, живет иным миром (это устремление к небу тоже может быть извращаемо - например, в искусственном погружении в один лишь мир прекрасного, в развитии одной лишь эстетической стороны в духовной жизни).
Таким образом, обе задачи (воспитание в вечной и в земной жизни) должны быть правильно сочетаемы и должны образовывать единую, целостную задачу воспитания.
Формулируя так задачу воспитания, мы сейчас же должны дополнить ее тем, что путь воспитания есть подготовка к свободе во Христе. Свобода есть дар Христа, и благовестие свободы, принесенное миру Христом, распространяется по всему миру. Однако овладеть даром христианской свободы очень трудно, ведь свобода - это самое ценное и самое основное в нас. Православие среди других исповеданий в наибольшей мере сохранило благовестие свободы в Церкви и через Церковь, тогда как протестантство уклонилось в сторону в понимании свободы как индивидуализма.
Что же значит воспитание к свободе?
Дар свободы связан с образом Божиим, пребывающим в человеке. Свобода в натуральном порядке дана каждому, но она не имеет самого ценного, что есть в свободе - внутренней связи ее с добром, с правдой - наша свобода есть свобода и к добру и к злу.
Задача воспитания к. свободе была поставлена еще в раю - в этом был смысл заповеди Божией о невкушении плодов от древа познания добра и зла. Свобода есть Божий дар, и она настолько логически отлична от творения природы человека, что овладеть ею можно лишь постепенно. Со свободой не совладали Адам и Ева, и их грехопадение отразилось на всем мире. Заповедь Бога Адаму была именно испытанием свободы, и уклонение от зла могло произойти у Адама только в порядке борьбы, но не по данности. Если этот вопрос рассматривать глубже, то мы придем к выводу, что тварь и свобода соединены лишь при Богообщении, т. е. при действии благодати само их совмещение есть факт, и это значит, что свобода одновременно нам дана как путь и задача - поскольку для ее усвоения необходимо пребывание в Боге.
До грехопадения свобода была открыта в полноте, но первые люди не умели ей пользоваться.
"Легенда о Великом Инквизиторе"очень глубоко раскрывает бремя и тяжесть для людей этого небесного дара свободы. Людям гораздо легче дается психология послушания. Если свобода дается людям как небесный дар, то овладеть ей можно только в Церкви, при постоянном общении с Богом.
Учитывая все сказанное, обратимся к педагогической стороне проблемы свободы.
С одной стороны, нам часто кажется, что детям нужно дать свободу, но при условии зоркого наблюдения за ними. Последнее приводит обычно к тому, что внутренние пути, по которым идет овла-девание свободой, заменяются внешним надзором и проистекающими из этого последствиями. Это течение очень сильно в педагогике, и этим, конечно, нарушается свобода в принципе. Это внутренне неверно, это измена тому, что нам говорит Господь. Однако жизнью это оправдывается, и есть случаи, когда на практике свободу, направленную в дурную сторону, можно остановить только внешне. Тем не менее удача такого практического разрешения вопроса не снимает вопроса по существу, ибо нельзя воспитать к добру, устраняя в ребенке свободу и опираясь лишь на послушание.
Задача педагогики в том, чтобы подвести дитя к. свободе. Дети понимают свободу лучше, чем взрослые, и дети не имеют перед собою маленьких задач - все предпринимаемое ими для них большое, и так они все переживают.
Практически часто родители бывают правы, ограничивая свободу ребенка надзором или препятствием, но не следует преувеличивать - эти шаги только тогда приобретают свою педагогическую ценность, когда они действительно воспитывают к свободе.
Для нас единственно глубокое разрешение этого вопроса дано в словах Иисуса Христа:"Познайте истину, и истина сделает вас свободными". Поэтому система воспитания к свободе есть система приобщения к истине - последняя для нас заложена в Церкви, и поэтому познание истины для нас заключается в приобщении к Церкви.
Христианское воспитание состоит в усвоении дара свободы. Если должны быть ступени на этом пути (ибо было бы насмешкой над ребенком 4-х лет предоставить ему ту же степень свободы, что и в 14 лет), то все же они должны развивать сознание свободы, чувство ответственности и умение владеть своей свободой. Повороты во внутреннем усвоении свободы для ребенка происходят только тогда, когда он чувствует и видит в жизни равенство себя и всех окружающих пред лицом Бога. Поэтому воспитание к свободе дается через христианскую жизнь, а не через одно усвоение идей о свободе. Очень часто мы в детях наблюдаем такое раздвоение между миром идей и целостной жизнью. Для них отвлеченные правила, идеи, не воплощенные в жизни, не подкрепленные и не реализованные ею, остаются только абстрактными правилами. Отсюда видно, что воспитание к свободе не должно идти по линии близорукого интеллектуализма, но должно быть связано с жизненным опытом ребенка.
В христианстве подлинным субъектом свободы является не отдельный человек, но только Церковь как целостный организм. Мы только тогда свободны по-христиански, когда прислушиваемся к Церкви и живем в ней. Путь стояния перед Богом - это есть путь воспитания в себе внутреннего человека.
Обратимся к третьему существенному пункту в системе педагогики - это учет в педагогической практике принципа иерархического строения человека. Человек построен иерархически в соотношении его сил и свойств, но Богом установленная иерархия была нарушена грехопадением, и развитие человека есть лишь восстановление нормальной иерархии сил. Норма, заложенная в нас, ныне предстает как задача и путь, и роль воспитания заключается в том, чтобы подвести дитя к внутренней жизни, к работе над собой, к овладению даром свободы.
Этот путь бесконечен, именно поэтому воспитание не может дать ничего законченного - оно лишь открывает путь и учит идти им. Главное - это невозможность утешиться данным; безостановочное движение по пути к совершенству, а все остальное, требуемое для жизни, придет постепенно. Если нет постоянного движения вперед, то это свидетельствует или об отчаянии, или об апатии. Психологически отчаяние даже лучше, так как иногда в таком положении поворот к деятельности в добре гораздо ближе, апатия же есть часто замирание и засыхание души. Поэтому необходимо, чтобы в ребенке всегда было стремление идти вперед к совершенству.
Наиболее трудный вопрос при восстановлении нормальной иерархии сил - это вопрос тела и пола. Как мы видели, в психологии пол не исчерпывается только половой жизнью, так как кроме этого есть еще жизнь пола, есть глубина пола, заключающая в себе творческий огонь. Даже в аскетической жизни есть отражение святыни пола, и сама аскетика - это борьба за пол, необходимо заключающая в себе победу над его эмпирией. Это есть самоустроение. Жизнь человека полна борьбы этих двух сил - половой жизни и жизни пола. Освящение и преображение пола - это есть тема как монашеской, так и брачной жизни. Половое созревание вливает в детскую душу новые силы, но с ними появляются и новые провалы и трудности. Этот вопрос в воспитании - насущный. Именно здесь дети совершенно беспомощны, и помощь взрослых здесь нужна больше, чем где-либо. Если мы не научим детей каким-нибудь предметам - физике, естественной истории, математике - это, конечно, плохо. Но если мы не укрепим детей одолевать искушения пола - то это может окончиться катастрофой. Однако здесь нужно соблюдать величайшую осторожность: едва ли мы можем помочь детям при помощи"сексуального просвещения", часто этим можно разбудить чувственность и направить внимание ребенка в сторону половой жизни. Вернее и правильнее давать исход жизненной энергии в других направлениях. Нужно только помнить, что разные половые катастрофы, столь неожиданно происходящие в этот бурный и опасный период, требуют особенно внимательного наблюдения за детьми. И если даже происходит что-либо непоправимое, то нужно помнить, что непоправимое в натуральном порядке поправимо в порядке благодатном.
Рядом с вопросом пола стоит вопрос о наилучшем устроении внутреннего мира подростка и путей его душевной жизни. Нужно помочь каждому найти свой"технический оптимум", т. е. условия наилучшего и гармонического раскрытия личности. Важно"угадать"дарование ребенка, почувствовать его тип, сгладить дурную наследственность, укрепить слабые стороны, ограничить резкие.
Может быть, что какое-нибудь явное, но небольшое дарование может погубить и заслонить большое. Например, капля сценического таланта, дающая быстрые результаты, может увлечь ребенка в сторону от присущего ему в гораздо большей степени таланта научного. Но последний требует сил для разработки и времени для получения результатов и, благодаря этим обстоятельствам, может быть (устранен, а сценический талант будет предпочтен, хотя и не умышленно. В этом отношении задача воспитания очень трудна. Нужно, чтобы ребенок воспитался в известного рода смирении, чтобы он не брал на себя задачи, которые ему не под силу.
Перейдем теперь к изучению педагогического процесса, чтобы уяснить себе, как он протекает и как он должен быть построен.
ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Школа есть высшая форма педагогического процесса, наиболее богатая возможностями влияния старших на младших.
В педагогическом процессе есть три темы — ученик, учитель и педагогическая среда, как таковая. Начнем с последней.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СРЕДА
Школа есть вид социальной структуры и что понятие социальной структуры включает три вида. Первый — это структура
иерархическая, то есть кто-то стоит выше, кто-то ниже. Второй вид — это
кооперация, то есть сотрудничество равных, и только для технического удобства кто-либо получает большее значение, чем другие. Третий вид социальной структуры — его противопоставление одних другим, открытое и постоянное соперничество, то есть
борьба. Иерархическая структура может покоиться на власти, или на авторитете, или на лидерстве в толпе. Школа по своей социальной природе иерархична, но этим, однако, не исчерпывается природа того, что есть в классе. Там есть нечто, что придает школе ее педагогический характер. Что же делает школьную среду педагогической? Изучение школьной среды и того, чем она создается, прежде всего подводит нас к вопросу об авторитете. Мы увидим из всего дальнейшего, что именно наличность авторитета создает педагогическую среду школы, определяет ее педагогический характер. Как же можно психологически понять авторитет? Есть три теории, дающие ответ: 1) теория волюнтаристическая, 2) теория интеллектуальная, 3) теория эмоционалистическая.
Немецкий философ
Паулъсен (Раиlsеп, 1846— 1908) является выразителем первой теории. Суть ее в том, что она объясняет школьное взаимодействие влиянием крепкой воли старшего на неокрепшую еще волю младших. Кое-что в этом верно практически, но объяснить этим происхождение и существование авторитета трудно. В самом деле, если авторитет основан только на проявлении сильной воли, то здесь совершенно устраняется свобода ребенка, так как в детях все время действует чужая воля. Задача воспитания состоит, однако, в таком развитии воли у ребенка, чтобы он научился сам добровольно подчинять ее добру, а не слепо отдавать себя в распоряжение старших.
В действительной жизни мы не видим подтверждения этой теории. Те, кто имеет на нас настоящее влияние в школе, порой оказываются людьми не очень большой воли и. несмотря на эту «волевую растерянность», их авторитет бывает очень велик. Есть мнение, что воля пастыря есть основание его авторитета. В Православии это представляется ошибочным, так как пастырь не может и не должен заменить воли пасомого. Кроме того, большая область пастырской деятельности — учительство — не требует наличия сильной воли. Величайшие искажения авторитета пастыря происходят именно в области воли, через понимание авторитета как власти. Такие искажения свойственны католичеству и не являются нам близкими.
С теорией Паульсена можно согласиться только в применении к армии, где авторитет исходит из сильной воли начальника. Таким образом, во-левое толкование авторитета школьной обстановке не отвечает.
Немецкий психолог
Мюнстерберг (Миnsterberg, 1863—1916) создал интеллектуальную теорию авторитета, которая представлена в его прекрасной книге «Психология и учитель».
Главная мысль этой теории: суть авторитета — в силе внушения, исходящего от учителя. Ученик как бы заражается мыслями от учителя, усваивает его навыки и тенденции — и этим развивается. Действительно, мы видим, что подражание, иногда невольное, бессознательное, играет большую роль в отношении учеников к учителю. Подражание особенно сильно бывает у мальчиков. Это подражание близко к состоянию внушения. В школьной практике путем внушения многие педагоги довольно удачно пользуются, чтобы внушить свои мысли незаметно и рассчитано. Элемент внушения и путь внушения притягивают учителя, и он пользуется этим. Но, однако, если бы эта теория объясняла всю полноту авторитета, то это также означало бы отстранение и даже подавление личности ученика (именно это и характерно для внушения), а не его развитие и самостоятельность. Между тем даже суровая педагогическая практика хотя бы в небольшом объеме дает место самодеятельности детей.
Третья теория авторитета — эмоционалистическая — наиболее верна, но сразу же надо оградить себя от понимания ее в смысле сентиментализма. Она покоится на признании, что главное — вера в авторитет. Эта вера очень далека от интеллектуального рабства, так как это есть доверие, покоящееся на свободном отношении и даже поклонении учителю. В отношениях учителя и ученика есть не только одна вера последнего в первого. Здесь имеет место и плененность учителем, поклонение ему, сознание, что учитель есть руководитель, на которого действительно можно положиться.
Признание авторитета вытекает еще из свободы ученика и ее
предполагает. Признание авторитета не только не ослабляет самодеятельности ученика, а наоборот, ее стимулирует. Здесь есть чисто опытное признание, что учитель есть источник света. Это чувство основано на свободе и на вере не столько в человека, сколько в носимую им правду. Такое чувство является источником творчества; авторитет сообщает силы, на которые без него человек не способен. При наличии авторитетного руководителя ученики всех возрастов чувствуют как бы прилив сил, видят и понимают то, что сами по себе они не были бы способны видеть и понимать. Ученики способны апперципировать, при
наличии авторитета, не с помощью материала, который у них накоплен, но с помощью того, который есть у учителя и который как бы переносится к ним.
Дитя, держась за юбку матери и будучи спокойным благодаря близости к ней, способно играть и проявлять больше творчества, чем без матери. Подобный же факт возможен и в жизни христианина, когда его близость к Церкви повышает творческие возможности, не говоря, конечно, о чисто благодатном возрастании в Церкви. Но и само по себе пребывание в Церкви подымает и стимулирует творчество. Благо тем из нас, кто имел вблизи себя авторитет. Мы даже без слов учителя испытывали тогда окрыленность, поднимающую нас над самими собой. В этой стимуляции творческих сил и заключается педагогическая ценность авторитета. Ученики идут дальше своего учителя, под влиянием авторитета происходит более глубокое и более плодотворное их взаимодействие.
С психологической точки зрения авторитет не есть, как видим, внешнее внушение, хотя это, бесспорно, глубокое влияние авторитетного человека, не подавляющее, а окрыляющее. Психология авторитета есть почти психология влюбленности — это духовное соединение с тем, кто авторитетен. Идя дальше и раскрывая это в христианских терминах, мы видим, что это есть вариант переживания чувства соборности. Для Платона процесс диалектики, беседы, раскрывает недра душ и дает простор тому, что в них до этого дремлет.
Это происходит даже в порядке натуральном. Если же мы обратимся к порядку сверхнатуральному, то там соответственно все одухотворяется. Авторитет есть и сила и свобода: не существует противопоставления между авторитетом и свободой. Никоим образом авторитет не есть гипноз или внушение. Он не может быть навязан, а только может быть свободно признан.
Если мы обратимся к историческому сознанию того, в чем суть педагогических отношений, то картина окажется более сложной.
Иерархический характер школы, то, что в ней есть верх и низ, — служит предметом искушения для учителя. Ему на первых порах доверие дается совершенно даром, исключительно в силу его положения. Однако его еще нужно завоевать в личном порядке. Дети, приходя в школу, выказывают перед учителем благоговейный страх и любопытство, что очень легко соблазняет учителя как способ и путь воздействия на детей. Учитель начинает понимать себя в терминах власти. Дети сами быстро обращают авторитет во власть, и это искажение есть начало бед и трудностей в школе. Говоря о природе авторитета, нужно иметь в виду, что в социальных явлениях не существует природы, понимаемой в таком устойчивом смысле, как, например, природа души. Природа социального явления не есть нечто стабильное, но зависит от окружающих это явление условий. Например, природа семьи или иной группы меняется в зависимости от того, как на нее смотрят ее участники.
Затем, законы социального бытия не имеют императивности, которой обладают законы физического или психического бытия; их можно извращать и игнорировать.
Если явление авторитета, одно из самых продуктивных социальных отношений, имеет громадное значение для умственной жизни и творчества, то нужно заметить, что такое явление крайне редко сохраняется неискаженным. Даже при наличии силы авторитета нельзя определить, во что она обратится. Это всецело зависит от обеих сторон, составляющих авторитет: высшей — учителя и низшей — ученика. Искажение авторитета во власть не есть только продукт злой воли учителя, а бывает результатом неумения или нежелания использовать то, что есть в природе педагогических отношений. Затем, вырождение авторитета во власть совершается также под влиянием того, что сам ученик и его родители так его понимают. Такое примитивное понимание стоит рядом с пониманием школы как имеющей силу принуждения и права приказания. Зачастую это происходит от того, что семья не может совладать с детьми и ждет этого от школы.
Затем, само дитя желает от школы строгого порядка. Само явление шалости ребенка, особенно привлекательное для него не в семье, а в школе, есть проявление неправильного взгляда ребенка на школу, как на место, где действуют правила, поддерживающие «порядок»: в нарушении правил и заключена особенная прелесть шалостей.
Сама, школа смотрит на себя таким же образом. Запретительные правила относительно посещения театров, чтения некоторых книг, курения, правил поведения вне школы — все это напоминает теорию полицейского государства, где над гражданами устанавливается опека. Например, единообразие костюма и запрещение курения имеют разумную цель и достаточное основание, но вряд ли это есть сфера школы.
Если бы школа имела целостный характер, а не ставила себе только цели обучения, тогда все устанавливаемые ею правила гармонировали бы с ее целью и структурой. Теперь же, при настоящем положении, школа распространяет свою власть на область, не принадлежащую ей формально, потому что эта область ей «покинута» семьей и государством.
Таким образом, внешне все складывается так, чтобы учитель особенно легко толковал смысл своей позиции как позиции власти. В слабости ученика учитель находит свою силу; эта слабость стимулирует власть учителя, что особенно резко проявляется во время экзамена. Если педагогический садизм - явление несчастное, то элементы его рассыпаны повсюду.
Эта убежденность учителя в своей власти остается неизжитой и доныне, несмотря на всю неверность такого положения. На самом деле учитель должен быть другом и помощником ребенку.
Использование авторитетом психологии власти привело к историческому краху школьной системы. После Руссо поднимается гонение на элемент власти у учителя. Гербарт создает понятие «внутренней дисциплины», вытекающее из обращения к самостоятельности ребенка. Как результат этого является самоуравление школы самими детьми, сначала в Америке, а затем, дошедшее до крайних пределов, и в советской школе. Здесь уже мы видим и перемещение центра тяжести: дети из объекта воспитания ставятся в положение субъекта — они сами себя воспитывают.
У нас есть, конечно, возможность направлять движение детей, но иногда нужно «хирургическое» вмешательство. Последнее не значит, что это вмешательство, имеющее природу власти, лежит в природе педагогических отношений. Реакция на происшедшую дегенерацию авторитета во власть еще не закончена. В Америке внедряют в детей сознание
их прав даже в семейных отношениях. Конечно, когда семейные отношения поддерживаются
правом, тогда уже не приходится говорить о семье, — ее настоящее понятие исчезает. Эволюция семейного права говорит нам, что семья перешла от правовой регуляции своих отношений к духовной регуляции, и где нужна правовая поддержка, там уже семьи как таковой не существует.
Как семья, так и школа есть духовный организм, совмещающий поколения, почему в школе, как и в семье, неправильно обращаться к школьной «полиции» — правам. Конечно, бывают положения, когда в школе нужно прибегать к «праву», но это может быть до тех пор, пока школа не выросла в целостный духовный организм. Мне пришлось наблюдать духовную атмосферу одной школы в Варшаве. Там в силу необходимости (на школу идет гонение со стороны правительства) дети принимают участие в борьбе за школу и, следовательно, в ее создании. Это вызывает между учителями и детьми большую непринужденность в отношениях и любовь к школе. Дети
вместе отстаивают школу, это чувство совместного создания школы дисциплинирует детей.
Возвращаясь к вопросу об авторитете, мы видим, что происхождение авторитета двойственно. Авторитет в одном случае дается человеку одновременно с его положением — учитель, священник, в другом случае — это результат
личной «победы». Начало учительствования само по себе авторитетно. Слово учителя
социально «больше», значительнее обычного слова. Здесь от самого положения исходит «прибавочная ценность», являющаяся основанием для авторитета.
В другом случае — авторитет может быть завоеван лично, иногда даже каким-либо пустяком, не имеющим прямого отношения к требованиям, предъявляемым к учителю. Подчас даже внешкольный момент может быть причиной возникновения авторитета, то есть учитель не только отвечает на учебные требования. Надо отметить, что удержание авторитета, возникающего из социальной позиции, является делом нелегким. Он не является раз навсегда установленным и может очень быстро поколебаться, для его поддержания нужно что-то личное. В социологии авторитета есть одно замечательное явление — это то, что можно назвать его иррадиацией. Суть его заключается в том, что авторитетность в какой-либо одной сфере переходит затем на другие сферы. Учитель, авторитетный, например, в языкознании, становится для детей авторитетом во всех областях жизни. Копирование младшими старших служит источником творческой силы.
Иррадиация бывает не только от добрых сторон, но и от злых. В силу этого разрушение авторитетности в одной области, даже не имеющей прямого отношения к основной сфере, — распространяется на все.
Мы очень часто видим подобное явление и в церковной жизни: недостойный священник служит источником соблазна и критики не только его самого, но всей Церкви и даже всего христианства. Это происходит потому, что авторитет личности и идеи сливаются. Разочарование в чем-то одном влечет охлаждение и разочарование во всем.
Благодаря целостной природе души психологические кризисы таким образом переходят в идеологические.
Иногда в школе авторитет учителя поддерживается искусственным отчуждением его от детей, созданием искусственной преграды между ними. Конечно, явление это педагогически не положительное, но служит действенным средством для сохранения авторитета. Внешняя стена, способствующая сохранению власти на высоте, помогает иногда авторитету устоять. Подобное же явление мы видим в истории восточных деспотов, где из-за желания поддержать авторитет деспоты ограждали себя от народа различными способами, способствовавшими их возвеличению.
Мы видим, что существует сопряженность авторитета и школы: школа есть там, где есть авторитет, и наоборот. Немного отклоняясь от вопроса, посмотрим, в чем основное различие между авторитетом школы и Церкви. Это различие проистекает из различия природы школы и Церкви. Школа не является опекуном на всю жизнь. Ее задача подготовительная, это подготовка детей к самостоятельной жизни. Если человек не достигает этого, то. следовательно, школа не выполнила своего назначения. Церковь же не подготавливает к самостоятельности, но предполагает ее у человека и
опирается на нее. Это не значит, что Церковь не учитывает различия возрастов, не учитывает ступеней в раскрытии свободы в человеке, но все же Церковь всегда обращается именно к свободе в человеке. Если школа воспитывает к свободе, то Церковь предполагает свободу. Священник, выступая в школьной обстановке, всегда должен проявлять себя более в роли пастыря, чем педагога. Он не может вопросы вечного растворять в педагогических рецептах, хотя и может соединять их технически. В исповеди особенно педагогическая часть отходит, уступая место суждению о грехах, так как вопрос этот связан с вечным в нашей душе. Категория вечности, несмотря на педагогический элемент, в исповеди всегда преобладает. Хотя священник и руководится в определении «наказания» педагогическими соображениями, но исповедь всегда есть суд вечности. В этом и состоит различие функций Церкви и школьного водительства. Пастырь в исповеди — судья, а учитель в школе — Друг и помощник. Если последнему в школе приходится судить, то только педагогически.
Исходя из этих соображений, видно, что наказание в школе возможно только на педагогическом основании. По существу глубоко различие между сферами школы и Церкви, и в силу этого различаются церковный и школьный авторитеты. Школьный авторитет имеет в виду усвоение младшими знаний старшего (знаний в широком смысле). Если происходит злоупотребление авторитетом в использовании его как власти, то нужно признать, что школе, по
ее природе, этой власти не дано. Ученики обладают свободой, которую школа не может ограничить: она зовет детей к добру, но ее влияние не идет дальше того, что она в себя вмещает. Ученик может, в силу различных условий, уйти из гимназии (сам или по воле родных), но уход человека из Церкви не является предоставленным свободе человека: это есть грех и гибель. Мы должны в то же время признать факт власти в Церкви. Можно по-разному смотреть на функции и границы церковной власти, но нельзя оспаривать самого ее факта. Возможно, конечно, злоупотребление церковной властью, неправильное пользование ею (как, например, в Средние века), но есть и правильное, необходимое ее проявление.
Итак, церковный авторитет отличается от школьного. Он включает в себя власть и не предполагает свободы уйти от него. Нам дана Церковь, и не в нашей власти поставить себя в нейтральное к ней положение. В школе нет власти, и если она проявляется — то это есть уже искажение, тормозящее свободное творческое развитие детей.
Вернемся теперь к вопросу о природе школьных отношений. Если бы школьная атмосфера была пронизана авторитетом, то в ней не возникало бы многое отрицательное из того, что в ней есть.
Например, школа пронизана борьбой между учителями и детьми — это первое, на что мы наталкиваемся.
УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК. КЛАСС КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗМ
Надо признать, что школа или класс, в частности, представляет собой как бы социальный организм. Как и во всяком социальном организме, в них можно наметить «позиции», которые открыты перед людьми, входящими извне. Эти позиции суть: 1) социальная активность, 2) социальная пассивность, 3) псевдосоциальная активность и 4) антисоциальная активность.
Возьмем пример: в толпе, собравшейся на улице по поводу несчастного случая, всегда будут находиться люди волнующиеся, проявляющие активность разными способами, — они или помогают активно, или выражают негодование на условия, в которых произошло несчастье. Другие в это время если и не сохраняют внутреннего спокойствия, то внешне все же его ничем не проявляют. Мы видим, что первые — социально активны, вторые — социально пассивны. Одни других как бы предполагают и определяют: пассивность одних подогревает других на еще большую активность, тогда как активность первых заставляет других успокаиваться и сознавать: «И без нас сделается все, что нужно». Можно сказать, что пассивные — это «сырые дрова», активные же «сухие». В толпе, как в социальном организме, есть быстро загорающиеся, отзывчивые точки, и от них пламя может переходить на других. Вообще, число социально-активных элементов в организме меньше, чем социально-пассивных. Этим класс также немного напоминает толпу: в нем всегда есть и активные, и пассивные элементы.
Третья социальная позиция — это псевдосоциальная активность. Человек под видом заботы об обществе занят устройством своих дел. К психологии этого рода можно отнести, например, психологию вора в толпе: он с виду является одним из самых активных элементов толпы, но на самом деле имеет в виду достижение своей основной цели.
Четвертая позиция — это тип антисоциальной активности. Возмущение сложившимся порядком, разрушение застывшего быта имеет иногда прогрессивный характер. Часто в этом проглядывает искание лучшего. Но часто в этом проявляется и вкус к разрушению, даже
бессознательный. Класс дает богатые возможности для такой активности, особенно если подходящие под такую группу дети скучают и не могут чем-нибудь заняться. Они стараются тогда всему помешать и все спутать.
В классе можно найти все типы. Есть ученики, обычно хорошо учащиеся, которых, однако, интересует не учеба, а учитель. Самое важное для них — угадать вкус учителя, приспособиться к нему, хотя эта приспособляемость часто соединяется с искренним прилежанием. Иногда это вытекает из душевной чистоты, но эта активность, относящаяся к первой группе из перечисленных четырех, — невысока и подчас тяжела для самого ее носителя.
Дети вообще чтут знатока, из своей среды по какому-нибудь вопросу, но элемент борьбы, наличествующий в школе, приводит к тяжелым и сложным проблемам. Неправильная психология первого ученика или же просто любовь к порядку может быть легко, при неправильном шаге учителя, обращена в так называемое «фискальство». Выражение псевдосоциальной активности в классе также случается довольно часто, и выразителем ее служит тип ученика-карьериста. Эта псевдосоциальность очень легко угадывается детьми.
Антисоциальная активность — тип очень частый в классе, и не будем поэтому на нем останавливаться.
Излюбленная позиция в классе у большинства — это социальная пассивность. Это «сырые дрова» — они могут гореть, но их нужно разжечь, употребив усилие. Иногда
стиль активности школы служит причиной пассивности некоторых детских характеров. Позиция пассивности является тогда не естественной, а вытекающей из активности окружающей обстановки. Например, дети, которые могут сами легко решить задачу,
списывают ее у других только потому, что те раньше ее решили, проявив этим свою активность.
Итак, если класс есть социальный организм и в нем есть социальные позиции, по которым распределяются дети, то класс имеет, с другой стороны,
свое единое лицо, живущее
своей жизнью. Класс есть целый организм, обладающий определенным единством; у каждого класса есть своя традиция. Это настолько все жизненно, что можно сказать: каждый ученик таков, как определяется его активность всей окружающей социальной ситуацией. Этот мотив социальной органичности и индивидуальности класса заслуживает того, чтобы он не был сочтен случайным в практике воспитания, но был бы принят во внимание и использован. Нам остается для углубления намеченных данных заняться изучением еще одного особенно важного факта в педагогической среде, который я назвал бы «переносом апперцепции». Согласно классической теории апперцепции, развитой Гербартом, восприятия «а», «b», «с», попадая в душу, могут удержаться в ней и соответственно развиться только при наличии уже имеющихся и зафиксированных в области памяти, лежащих в глубинах сферы душевной жизни однородных образов А, В, С. Только соединяясь, в силу общности содержания (в той или другой степени), внешнее восприятие «а» может удержаться в душе. Слияние старого и нового и есть явление апперцепции — таково объяснение, данное Гербартом. Однако явление его в нормальной школьной среде может иметь место и без наличия старых образов А, В, С: в таком случае оно происходит за счет учителя «интуитивно». Например, слушая лекции, мы, как принято говорить, входим в мир идей, сообщаемых нам в первый раз профессором; мы слушаем, совсем не будучи знакомы с материалом, предлагаемым нам, но мы не только его усваиваем, но иногда даже можем прозревать нить мысли вперед. Конечно, мы понимаем и усваиваем это с помощью учителя. Это явление совершенно аналогично воодушевлению ребенка, способного в присутствии матери совершить то, что без нее было бы для него совершенно немыслимо. Об этом говорилось выше. Присутствие старшего — учителя, матери — страхует от трудностей, дает силы, как бы сообщает тот апперципирующий материал, которого нам не хватает. Мы в присутствии авторитета способны пробраться туда, куда без него бы, конечно, не дошли: для этого у нас не оказалось бы своих данных. Мы берем как бы напрокат не наши силы. Это не одно только пребывание с авторитетом — но пользование им. Именно потому можно условно назвать это «переносом» апперцепции — мы апперципируем с помощью того, чем обладает учитель. Присутствие авторитета, дающее опору и чувство уверенности ученику, влияет коренным образом на всю его установку. Оно обогащает ученика тем, чего у него не имеется. Если устранить учителя, то все вдохновение пропадет. Это явление объясняет творческое значение авторитета в школе, оно поднимает детей с их уровня на более высокий, оно вызывает развитие, делает возможным творческий скачок вперед.
ПСИХОЛОГИЯ УЧЕНИКА
Перейдем теперь к психологии ученика. Нужно делать различие между ребенком как таковым и тем же ребенком в школе, то есть учеником. Внутренне, конечно, он один и тот же, но для удобства изучения нужно расчленять и отделять эти два комплекса психологических проявлений. Ребенок в классе другой, чем дома. Мальчик бывает очень сообразительным дома и тупым в школе, живым дома и медлительным в школе, добродушным дома и резким в школе. Это отличие ученика от него же как члена семьи определяется социальными особенностями школы и семьи. Школа создает свою установку. Она выделяет и подчеркивает то, что уместно, нужно для данных условий, и эта установка при повторных вхождениях в определенную школьную среду закрепляется. Для каждой обстановки есть свой подходящий тон, своя тональность. Различные психологические снимки одного и того же человека в разной среде могли бы показать большую разницу в его активности. Можно построить понятие «социально-психической формы», выражающей то, что в различной социальной обстановке личность выступает совершенно различно.
Попадая в школу, ребенок не сразу попадает в ее темп. Для него школа — совсем другой мир. То, что школа является совершенно новой системой для ребенка (хотя и ничего особенного в действительности здесь нет), — это определяет его особую школьную установку. Усиленный процесс внимания помогает войти в новую среду, приспособиться и овладеть ею. Первоначально новое чувство овладевает ребенком, как бы оглушает его; только постепенно ребенок обретает новую установку, превращающую его в ученика; он облекается в новую форму, привыкает к определенному образу действия, хотя внутренней координированности еще нет. Иногда же процесс «обрастания» школьной обстановкой идет чрезвычайно быстро. Среди характерных черт психологии ученика мы видим особую этику, почти совпадающую с этикой заговорщиков. Ученики всегда смыкаются в группу, более или менее противостоящую учителю, чем создается и закрепляется коренной дуализм в школе.
Другое существенное свойство ученика — это то, что он подчиняется законам социальной структуры, имеющей, как мы видели выше, социальные позиции. Иногда ученик занимает позицию циника или лентяя только потому, что она никем не занята. Эта подчиненность социальной структуре предрешает детские пути. Например, ученик, имеющий репутацию знающего, иногда подгоняется в своих занятиях только тем, что его самолюбие не позволяет ему спуститься со своего школьно-социального уровня. Этот уровень во многом определяет психологию ученика.
Школьные страхи очень различны по проявлениям, но тоже являются плодом школьной психологии. Иногда репутация учителя создает страх, иногда школьные страхи имеют в основе своеобразные суеверия. Например, всем известны экзаменационные суеверия и страхи. Все это показывает особую школьную уязвимость детской души.
Школьные мифыявляются особым видом школьного воображения. «Экзаменационные рассказы» и другие мифические циклы служат материалом для образования школьной традиции. Мифы создаются не только на почве страха. Особой принадлежностью школы является хвастовство, желание казаться взрослыми. На этой почве развивается цинизм и отсутствие сдержек — является вкус сказать «все до конца». В этом корни явления «школьного сквернословия». Надо сказать, что в большинстве случаев это проходит, не задевая глубоко души. В области высших чувств также появляется напускной цинизм, за которым прячется чистое чувство. Это касается в большей степени школ для мальчиков, чем школ для девочек, хотя и в последних происходит деформация детской психологии. Ученик — это особая психологическая категория, форма, часто не позволяющая дойти до внутренней души ребенка. Невозможность преодолеть эту стену, стоящую между учителем и учеником, остается всегда. Эти категории очень неподвижны. Они сидят в психологии ученика так крепко, что разорвать их очень трудно.
ПСИХОЛОГИЯ УЧИТЕЛЯ
Психология учителя - это тоже «форма», иногда еще более тяжелая для ее носителя, чем форма ученика. Надо сказать, что роль учителя одна из самых неблагодарных и тяжелых. Результаты работы священника и врача могут проявиться непосредственно и поэтому могут породить чувство благодарности и социальной нужности. Все, что делает учитель, дает плод не скоро. Редко у кого из детей — на этом же основании — может пробудиться чувство благодарности к своей, например, няне. Мы уверены, что педагог, как и няня, должен непрестанно с нами возиться, и эта уверенность часто создает почву для добродушной насмешки над педагогами. Поэтому нет ничего неблагодарнее и вместе с тем внутренне-почетнее роли учителя. «Мне время тлеть — тебе цвести» — это может служить идеальным лозунгом в отношении к детям. Ребенок для того и подготавливается учителем, чтобы выйти из-под его руководства. Ребенок постепенно уходит от учителя, и их близость все время уменьшается. В детской душе для педагога нет постоянного места. Педагог должен стремиться к тому, чтобы обходились без него. Педагог все время думает не о себе, а о ребенке. Педагог все время только отдает, но никогда не получает. Педагог должен идти жертвенным путем, и его мало ценят не только дети, но и взрослые: учителя всегда и везде находятся «в загоне». Эти внешние грани очень мало смягчаются для учителя сладостным общением с детьми.
Психология учителя главным образом характеризуется чувством его заботы о детях. Учитель должен думать, чтобы ученик получил возможно больше пользы. Основная добродетель педагога — это озабоченность, обратная сторона этого чувства — это постоянное беспокойство «как бы чего-нибудь не вышло». Чем тоньше понимание у педагога, тем больше у него этой боязни «как бы чего-нибудь не вышло». Педагог по профессии должен «делать из мухи слона», то есть обращать внимание на каждую мелочь, ибо из мелочей создаются привычки. Это естественные особенности педагогической профессии, но педагоги должны мудро освобождаться от крайностей — уметь возвышаться над мелочами. Невозможно все время «придираться», но, с другой стороны, если учитель не «придирается», то это может служить показателем его небрежности. Бдительность заставляет педагога все предвидеть, хотя мы и знаем, что «жалок тот, кто все предвидит» (Пушкин). Эта озабоченность ведет к тяжелой черте, которую я назвал бы «педагогической принципиальностью», — и она иногда переходит в жестокость.
Педагог в сущности должен быть мелочно внимательным, ибо он не может небрежно относиться ни к чему: в каком-нибудь пустяке может «проявиться существенная черта ученика. Эта постоянная настороженность во всем создает мелочный педантизм. Педагог часто становится требовательным, мелочным и неспокойным. Как бы забота педагога ни была мягка и нежна, но она детьми всегда принимается тяжело, ощущается невыносимой. Заботы педагога надоедают до такой степени, что дети всегда радуются, уходя из школы. Вообще психология учителя имеет нечто тяжелое — он теряет обычную естественность, так как, делая замечания, педагог внутренне проецирует их на себя. Это настроение сохраняется даже дома и ложится на душу некоторой отравой. Еще одно явление довольно тяжело ложится на учителя. Если няня, занимаясь с детьми, должна спускаться до их уровня, то это же относится и к учителю. Поэтому педагог невольно не идет вперед, а постоянно спускается до уровня своих питомцев, чтобы понять их и быть понятым ими. Это явление очень трудно побеждаемо. Непременно нужно спускаться к детям, и тот, кто не живет миром детей, тот поднимает, может быть, их до своего уровня, но, конечно, очень многое пропускает.
Норма для педагогической работы установлена (при определении срока на пенсию) в 25 лет, ввиду ее необыкновенно тяжелых и нервных условий (в других формах интеллигентного труда эта норма — 35 лет). Я бы сказал, что больше 15 лет педагогу с детьми работать не нужно, так как кроме усталости еще вырабатываются неподвижность, косность, стремление остановиться на шаблоне.
Появляется и другое явление — самоуверенность, не допускающая никакой критики и затрудняющая координацию педагогической работы школы в целом. Такая самоуверенность, погруженность в себя, переходящая в непрозрачность друг для друга, является законом психологии учителя. Поэтому же педагоги иногда теряют чувство действительности, теряют светлый взгляд на свою работу. Педагог начинает любить в детях
свое отражение, являющееся ему в повторении детьми его же объяснений, слов и формул; если дети ему дают что-нибудь свое,
не его, то он уже недоволен. Уйти от этой психологии, чтобы видеть и искать суть дела, а не свои слова, — очень трудно.
Стремление уйти от чиновничества, сохранить в себе живую душу для работы осуществляется у учителей не часто. Иногда это стремление переходит в педагогический «импрессионизм», что детям очень нравится, и тогда на этой почве развивается погоня за легкими путями работы.
Кроме перечисленного, необходимо отметить обычное крайнее одиночество учителя. Родители и дети подходят к учителю неправильно — просят «пощадить» ребенка. Если учитель поступит принципиально правильно, то он в этом случае остается одинок, если же поступится принципом, то, безусловно, должен осудить себя.
Как мы видим, психология учителя очень трудна и тяжела, и если чем держится учитель внутри себя — то это только педагогическим идеализмом. Педагогический идеализм имеет огромное оздоровляющее влияние на педагога, освобождая его от всех крайностей и искушений.
ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Мы уже познакомились с психологией школы и школьной жизни. Нами рассмотрена жизнь класса. Мы видели, что нормальный факт школьного дуализма дает извращения в обе стороны: как учитель, так и ученик толкуют авторитет как власть, отчего педагогические отношения бывают затемнены этим началом. Психология ученика очень осложняет педагогический процесс; большое количество энергии педагога тратится на то, чтобы ученики работали, а не разрушали классной жизни.
Обстановка еще усложняется тем, что в классе часто господствуют худшие. Школа есть социальная
стихия, очень иногда близкая к стихии толпы. Всякая стихия подлежит изучению, чтобы человек мог ею управлять и от нее не погибнуть. Это в особенности касается школьной стихии, где имеется очень много скользких и опасных пунктов. В последнее время так называемое социальное направление педагогики начинает изучать природу класса, сознавая всю важность этого вопроса в регуляции педагогического процесса.
Педагогический процесс нельзя понимать только как
обучение.Гербарт говорил о «воспитывающем обучении», что очень тесно связано с современным преобладанием интеллектуализма. Гербарт полагал, что, обучая, мы входим в глубину души. То есть единственный верный путь воздействия на душу ребенка и способ общения с ней — это область интеллекта (объяснения, беседы). Через правильное обучение интеллекта и душа, по Гербарту, становится правильнее, устроеннее, так как интеллектуальная область в душе является доминирующей. Таким образом, организуя умственную жизнь ребенка, создавая в ней порядок и смысл, мы тем самым, по Гербарту, воспитываем его душу. Нетрудно убедиться в том, что это неверно и односторонне.
Конечно, нельзя отрицать, что умственная работа, изучение интересного для нас вопроса приносит мир в душу. Поэтому можно ожидать воспитательного результата от обучения, но все же это не исчерпывает вопроса о путях школы, и мы, со своей стороны, формулу Гербарта — «воспитывающее обучение» — перевернули бы в сторону «обучающего воспитания». Главная мысль здесь заключена в утверждении, что основная нить педагогического процесса лежит
на путях воспитания. При этом положении обучение не занимает в системе того
огромного и основного места, как это было до сих пор. Из жизни и из практики школ и детских садов в особенности, мы знаем, что усвоение всякого побочного материала происходит иногда гораздо успешнее, чем основного. Все то, что не требует особой волевой напряженности, входит в душу гораздо легче. Здесь первенствующую роль играет добровольный интерес.
Педагогический процесс всегда страдал интеллектуализмом. Однако в последнее время мы видим в создании «Трудовой школы» или «Dalton plan» стремление это обойти. В книге талантливого, но, к сожалению, поддавшегося влиянию советской жизни педагога Шацкого выражена такая задача: «...задача школы — научить детей жить их детской жизнью». Эта творческая постановка вопроса совершенно меняет в школе центр тяжести. При правильной его постановке дети оказываются настолько заинтересованными, вовлеченными в педагогический процесс, что получается очень глубокое действие на них школы. К такой формулировке Шацкого привел его опыт при создании детских колоний. Приводимый мной выше пример Варшавской гимназии, где дети и родители стоят на страже охранения школы и лично заинтересованы в продолжении ее жизни, служит подтверждением этого положения. Не на этих ли путях лежат причины современного распада школы? Целый ряд наблюдений показывает, что дети во внешкольной работе, кружках, приближающих их к жизни и втягивающих в себя их жизненный интерес, легко и с энтузиазмом отдаются под влияние руководителей, чего не наблюдается совершенно в школьной обстановке. Если природа школы будет иная, то это неизбежно окажет на детей влияние.
Из рассмотрения социальной природы школы следует вывод, что социальные силы школы должны быть использованы в педагогическом процессе. Еще Платон указывал на то, что развитие мышления возможно исключительно в социальной среде. Человек, по Платону, хранит идеи в себе, так что ничего нельзя вложить в человека, кроме того, что уже у него есть.
Развитие же мышления возможно путем «диалектики» в силу социального взаимодействия.
Если это так, то это свойство — социальность мышления — должно быть положено в основу школьного процесса. Наглядным примером может служить работа, проводимая на семинарах, где очень многое зависит именно от обмена мнений, где от столкновения мнений рождается истина. Этот естественный процесс, если он направляется благодатными силами в Церкви, становится органом вселенской истины, имея в виду то, что носителем истины в Церкви является не индивидуальный, а соборный разум.
Из сказанного видно, что педагогика не есть техника, не — искусство, не только потому, что первая добродетель педагога есть находчивость (что, конечно, не дается техникой), не только в находчивости дело, но и потому, что педагогика есть творческая работа. Здесь
творческое использование детского материала достигает высшей формы, ибо творить из детей живые существа — это задача более трудная, чем, например, живопись.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
К теории учебного плана (исходя из теории Гербарта) пришли только в XIX веке. Учебный план дает общую картину «бюджета» школьного времени. Вопрос заключается в том, чтобы найти меру времени для каждого предмета, его последовательность и соотносительность (порядок) с другими предметами. Учебный план, безусловно, для школы необходим, так как без этого школе грозит опасность сделать очень серьезные упущения. Большая беда была бы обсуждать учебный план вне зависимости от законов жизни ребенка и этапов в развитии его личности. Построение учебного плана в абстракции ведет к очень нежелательным ошибкам в школе: ребенок в его естественном развитии, в смене его интересов не принимается в расчет, и учебный план создается преподавателями исключительно в зависимости от объема и содержания предмета.
Вопрос распределения предметов в учебном плане не является простым. Обращаясь к нему, мы должны коснуться некоторых общих принципов дидактического характера. Основной принцип дидактики — это принцип естественной постепенности в преподавании. Если ребенку предлагается какой-нибудь учебный материал, то все ступени в развитии этого материала должны быть пройдены постепенно. Сам по себе простой и ясный принцип этот не легко осуществим в практическом приложении. В основании этого принципа лежит учение Гербарта об апперцепции, покоящееся, в свою очередь, на психологическом фундаменте.
Апперцепция состоит в сочетании и слиянии прошлого с настоящим — значит, как предварительная ступень, для нее необходимо оживление соответствующих частей прошлого. Гербарт считает, что апперцепция ученика зависит от ясности изложения материала и, с другой стороны, от «ассоциации». Это значит, что новый материал должен связываться в душе с тем материалом, который может быть с ним сопоставлен. «Обволакивание» нового материала элементами прошлого фиксирует и подчеркивает те вехи, ступени, по которым можно идти к познанию предмета.
Мы, со своей стороны, вслед за другими авторами подчеркнем значение
анализа и
синтеза (разложения и восстановления), двух характерных направлений в умственной работе. Существуют три ступени анализа и синтеза. Первая —
это реальный анализ
и реальный синтез. Примером реального анализа является рассмотрение какого-нибудь растения путем разделения его на части. Однако дальнейшее изучение, после расчленения, не дается легко. Соответственно реальному анализу есть реальный синтез (например, сборка предварительно разобранного велосипеда). Он также не прост, так как предполагает известные навыки.
Гораздо труднее следующая ступень — это
идеальный анализ и
идеальный синтез. Это процесс идеального выделения частей, их абстрактное отделение — например, отделение сторон треугольника от углов, производимое в ходе доказательства. К этому же роду относится трудный анализ языка, требующий огромной силы внимания. Не менее важна работа идеального синтеза. История показывает, что при
закреплении произведенной формы идеального анализа «моменты» распадаются. Например, отделение морали от религии возможно лишь в порядке идеального анализа, но мораль вырождается и гибнет эмпирически, будучи реально оторвана от религии. Жизнь в действительности целостна и не допускает отделения.
Третья ступень — это комбинированный анализ, соединяющий реальный и идеальный анализ; то же относится к синтезу. Если процессы мышления идут параллельно, то из этого вытекает, что ступени нашего мышления очень сложны. Поэтому смысл дидактики в разложении изучения предмета на ступени без потери связи в целом. Здесь очень важен
принцип наглядности; сила его не в том, что образ сильнее, красочнее слов, что непосредственное восприятие сильнее образа, сообщаемого словесно (хотя и это, конечно, имеет значение), но в том, что психологически восстановление предмета уже дано. Он явлен как
целое и потому не требует уже той синтезирующей работы, которая необходима при словесном преподавании (словесное обучение не дает, само по себе, облика целого).
Кроме
целостности в самом явлении, важна и многосторонность его восприятия — предмет можно не только увидеть глазами, но и потрогать руками (этого опять же нет при словесном изучении).
Главная педагогическая трудность заключается в правильном восприятии и отчетливом сохранении связи идеальной и реальной стороны предмета, его идеи и его состава, его смысла и его содержания. Всякое восприятие в сущности двойное: видит не только глаз, но видит и ум. Это значит, что мы воспринимаем чувственный материал и в нем и через него воспринимаем с большей или меньшей глубиной и
смысл, смысловую, идейную сторону его. Здесь существует, если угодно, известная
конкуренция двух типов внимания (сенсуального и интеллектуального). При обращении, например, внимания на чувственную сторону, очень легко проглядывает смысл предлагаемого материала.
Трудность для детей заключается в том, что если они даже воспринимают
параллельно оба материала (смысловой и чувственный), то они принимают их именно в той конкретной связи, как им было сообщено, — а это значит, что понимание идеи будет слишком тесно связано с данным конкретным материалом. Смысл связывается определенно с одной конкретной формой и на другую уже не переносится (например, теорема о сумме углов треугольника не может быть оторвана от определенного рисунка). Уча детей, нельзя быть уверенным, что дети сами смогут понять идею, как таковую, то есть смогут переносить ее на другой материал. Первая ступень обучения состоит поэтому в восприятии материала, а вторая — в таком отчетливом сознании материала, которое дает ребенку возможность применять идею к разным материалам, возможность создавать идею, свободную от различий материала. Итак, при обучении мы не разделяем — и не можем разделить — чувственный и смысловой материал (одно воспринимается через другое). Тогда здесь возникает двойная задача, в разрешении которой и заключена вся проблема дидактики: как, не устраняя одной (чувственной) стороны, воспринять и усвоить другую (смысловую) сторону. Различный ритм чувственного и смыслового материала в различных предметах образует их удельный вес с дидактической стороны. Язык, естественные науки и математика (три главных направления в работе нашего ума) характеризуются разными отношениями количеств и качеств смыслового и чувственного материала. Естественнонаучный анализ совершенно отличен от математического, который, в свою очередь, отличается от языкового.
В математическом анализе через имеющееся данное и задачу мы устанавливаем, какие данные еще необходимы для решения данной задачи.
Совершенно иной тип имеет языковый анализ. Перевод фразы, поиск ее смысла можно осуществить, зная только несколько слов из ее состава, но это не есть анализ. Смысловой поток языка настолько мощен и богат, что вся фраза понятна нам и без анализа. Если же производить анализ, то он возможен не только путем нахождения точного смысла каждого слова, но и того положения, которое слово занимает.
Анализ естественнонаучный является типичным индуктивным анализом, он направлен не к разыскиванию смысла отдельных фактов, но к установлению законов, связывающих явления. Естественнонаучный анализ есть вскрытие закономерных отношений в природе. Дидактические процессы в этих трех формах анализа не могут быть одинаковы. Успех обучения поэтому зависит от умения преподавателя определить соотношение между чувственным и смысловым материалом, приняв во внимание уровень развития учеников и умение вести обе стороны. Без чувственной стороны у детей нет интереса, без усвоения смысловой стороны — нет воспитания и развития ума.
Надо сказать, что дидактически правильно построенный урок не обеспечивает еще успеха преподавателю. Кроме дидактических правил, нужно заручиться некоторыми методическими приемами: надо обязательно многое из урока писать на доске (имена и названия), так как для многих слово является полновесным и живым, когда оно имеется перед глазами. Часто полезно предварить урок указанием его общей идеи. Затем основную центральную мысль необходимо повторять в течение урока несколько раз. Например, на уроке Закона Божия прежде чем приступить к рассказу, скажем, о страданиях Иисуса Христа, очень полезно ознакомить учеников общим смыслом страданий Спасителя, а затем уже перейти к рассказу и закончить его вновь повторением основной идеи. Это повторение не так важно для памяти, как для того, чтобы все конкретное, отдельное было бы связано с целым, общим. Необходимо, чтобы весь конкретный материал освещался идеей, повторение здесь необходимо не по слабости внимания, а благодаря слабости у детей абстрактного мышления. Очень важно соблюдать это подчинение частей целому, даже за счет детального освещения мысли. Нужно всемерно стремиться к тому, чтобы урок был цельным, подчиненным одной идее. Необходимо преследовать и ту цель, чтобы синтез выступал для учащихся с простотой.
Третье: то, чему мы учим, окажется плохим знанием, если оно будет только усвоением материала без умения его изложить. Есть фазы понимания: первая — это субъективная фаза овладения материалом, и следующая — усвоение его настолько, что появляется возможность передать его другому. Умение изложить воспринятый материал и есть знание.
Экзамены в школе являются одной из самых неприятных, но необходимых ее сторон именно в силу этого положения. Экзамены вытекают не из требования школы, но из социальной функции нашего знания. Они трудны, но они необходимы. Нужно уметь выявить свое знание. Этот технический момент (приложимости знания, хотя бы в виде сообщения его другому) имеет громадное значение. Вся жизнь есть экзамен, сообщение, научение своим знаниям других. Это совершенно неизбежно, этим мы приносим хотя и неприятную, но необходимую дань большому делу. То, что понимаешь в себе, должно рассказать другому.
Некоторые преподаватели не без основания считают экзамен не проверкой знаний ученика, а только упражнением в укреплении знаний. Экзамен есть помощь ученику, чтобы он мог выразить свое знание, и поэтому знание ученика оценивается не по экзаменационному ответу, но по общим годичным успехам. Экзамен есть умение «подать», выразить свое знание. Вокруг экзаменов в школе скопилась масса нелепостей, подрывающих их смысл. Однако экзамены необходимы не только потому, что они суть проверка знаний, — они являются необходимой стадией в процессе обучения.
Несомненно, что школьное преподавание должно быть поставлено так, чтобы оно развивало силы ума, но в то же время оно не должно претендовать на энциклопедичность. Состояние детского ума не позволяет изучить какой-либо предмет, а только более или менее познакомиться с предметом. Из стремления к энциклопедичности рождается подчас вредное настроение ученика, воображающего, чт о он обладает полнотой знаний, тогда как по состоянию ума он фактически не в силах овладеть знанием предмета.
Знание достигается лишь впоследствии при зрелом уме, при изучении предмета с новым к нему подходом. Одно дело — понимание исторической перспективы, доступное для уровня средней школы, и другое — знание истории, ее проблем и материала.
РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРЕПОДАВАНИЕ
Теперь нам остается рассмотреть вопрос о сути и формах религиозного воспитания и преподавания.
Здесь приходится или придерживаться традиционной системы изучения Закона Божия, или же иметь дело с большими трудностями. Цель преподавания Закона Божия — связать душу ребенка с Церковью. Но совершенно ясно, что этого невозможно достигнуть только уроками, только
преподаванием Закона Божия. Если душа ребенка чужда религиозному интересу, то урок уже скучен и потому не воспринимается. Один законоучитель для поднятия интереса к Закону Божию предлагал проводить уроки в особых «кабинетах», где многое ребенку пояснялось бы наглядно и соответственно его настраивало. Конечно,
преподавание Закона Божия лучше всего вести в храме, а идея выделения особого «кабинета» Закона Божия вряд ли удачна.
Много различных мнений вызывает вопрос об «отметках» по Закону Божию. Если в них есть маленькая педагогическая польза, то они все же не лишены смысла. С другой стороны, выставление отметок обрекает законоучителя на борьбу с учениками, и некоторые священники, желая выйти из положения, ставят всем ученикам, независимо от ответа, высший балл...
Цель преподавания Закона Божия требует освобождения от отметок, так как Закон Божий не может быть только одним из предметов в школе. Он может быть таковым только тогда, когда среда учеников религиозна. Но и при этом благоприятном условии на школе продолжает лежать труднейшая задача — культивировать интерес к богословскому просвещению, так как жить одной верой, без христианского просвещения, очень трудно. Обычно это ведет к снижению религиозного уровня. Христианство, как религия Логоса, не может ограничиваться жизнью в одних обрядах.
Но как же поставить религиозное преподавание?
Рассмотрим историю преподавания Закона Божия в русской школе. Интересно, что изучение богослужения в русской средней школе было введено только с середины XIX века. Несомненно, что знание богослужения очень важно, и столь позднее его преподавание объясняется тем, что в XVIII и начале XIX века богослужение знали практически очень хорошо, изучали его одновременно с грамотой по богослужебным книгам.
Мы считаем совершенно неправильным изучение богослужения в одном классе и совершенное забвение о нем — в остальных. Для детей вполне возможно и интересно изучение литургики в историческом развитии. Кроме того, богослужение должно проходиться во всех классах путем участия в нем. Самое большое знание богослужения дает посещение храма.
Преподавая Закон Божий, необходимо давать
целостное раскрытие религиозного материала. Нужно, чтобы предмет не дробился на отдельные части, как это бывало до сих пор: нравоучение преподавалось отдельно от вероучения, догматика отдельно от истории. Это нетерпимо и дидактически, и педагогически. Идея целостного преподавания Закона Божия, даже если она сопряжена с недостаточным усвоением всего материала, более правильна, чем разделение курса Закона Божия на отдельные дисциплины.
В начале XIX века митрополит Филарет издал «Катехизис», в котором тексты были помещены на русском языке. Это встретило вскоре большое противодействие, и митрополит Филарет был вынужден заменить русские тексты славянскими. Нельзя отрицать того, что вынужденное введение славянских текстов не было в интересах преподавания (конечно, в ином положении находится вопрос о богослужебном языке, который не может рассматриваться в педагогическом аспекте).
Перевод Библии на русский язык в XIX веке впервые сделал ее доступной для понимания и чтения, что также является большой заслугой митрополита Филарета и Библейского общества. Но те препятствия, которые ему ставились, показывают, как мало русское общество отдавало себе отчет в судьбах религиозного воспитания.
Только с начала XIX века появляются пересказы библейских повествований для детей на русском языке. До того преподавание Закона Божия, под влиянием католической педагогики, сводилось к обучению только основам веры по катехизису. Педагогически это не очень целесообразно, так как в раннем возрасте нужно не давать религиозные идеи, но связывать душу с религиозными образами.
Русское Библейское общество много содействовало начинавшемуся религиозному просвещению. В 1819 году были изданы первые чтения по Ветхому Завету, составленные митрополитом Филаретом, но вскоре изучение было прекращено, так же и его «Катехизис» был заменен «Катехизисом» митрополита Платона и только после внесения изменений впоследствии был принят.
Если обращаться к существу дела, то нужно сказать, что главная трудность в преподавании Закона Божия состоит в неразрывности воспитания и обучения.
Основное в Законе Божием не в том, чтобы сообщить знание о Боге, но в том, чтобы способствовать росту и углублению духовной жизни. Интеллектуальное постижение религиозных истин, даже в примитивных формах, не есть, конечно, что-то дополнительное, без чего можно обойтись, но не ему должно принадлежать первое место. В преподавании Закона Божия особенно надо подчеркнуть, что преподаватель должен стремиться не к обучению, а к воспитанию учеников. Однако сохранить центр тяжести на воспитании очень трудно, так как лишь в виде исключения возможен подбор духовно здоровых, не отравленных современностью детей (в таком случае задача воспитания будет только в духовном водительстве). Фактически в школе у детей выступает вся отрава, которая глубоко забирается в душу и ведет к потуханию в ней духовной жизни. Если душа детская заболевает, затуманивается (причем иногда духовный кризис протекает весьма незаметно), задача религиозного воспитания очень усложняется.
Необходимо учитывать, что потухание интереса, безразличие гораздо опаснее для души, чем острая вражда. Как последняя ни опасна, еще страшнее отсутствие интереса, исчезновение его, духовное обмеление.
Первая задача помощи детям, заключающаяся в том, чтобы они не прерывали своей связи с Церковью, разрешима в школе путем богослужений и бесед священника с детьми. Если дети духовно здоровы, то законоучитель тогда есть более всего для них священник; ему не приходится освобождать детей от духовного потускнения и пробуждать в них религиозную жизнь, ему приходится лишь укреплять связь с Церковью и духовно питать их. Но если дети больны, если у них идет глубокий духовный кризис, падение духовных запросов, то в таком случае совершенно невозможно обращать Закон Божий исключительно в предмет преподавания. Больные вопросы, возникающие у детей, не могут быть в этом случае подслащены интересом к картинам: того, что вянет или болеет внутри ребенка, ими все равно не спасешь. В этом случае получается парадоксальный вывод: религиозное воспитание становится трудным, потому что преподавание мешает воспитанию.
Часто детская душа в своих духовных блужданиях останавливается, так сказать, на мертвой точке. Преподавание Закона Божия в это время не только не помогает, а, наоборот, вредит делу. Надо тогда помочь ребенку «выскочить» из мертвой точки, духовно вывести его из тупика, вернуть ему духовную силу — и тогда снова преподавание Закона Божия будет нужно и верно. Это вскрывает всю трудность сочетания религиозного воспитания и образования. Но здесь и главная трудность не только преподавания Закона Божия, но вообще всего школьного дела. Школа зачастую или равнодушно, или беспечно проходит мимо всего трудного в воспитании. Школе так часто важнее соблюсти «благонравие» ученика — для класса, для семьи, а что мальчик может духовно потерять все — на это школа не отзывается... В этом случае священник не одинок в своей трудности, она — удел и его сотрудников.
К сожалению, священник легко становится обычным учителем, и то, что он священник, часто совсем не определяет характера его преподавания в школе. Исключительная роль священника в школе может проявиться тогда, когда общество само религиозно, а следовательно, и педагоги чувствуют в священнике не только преподавателя, но и своего пастыря. В итоге вопрос заключается не только в отношениях священника и детей, но также в
отношениях священника и педагогов. Однако не нужно думать, что можно искусственно создать благоприятную оранжерейную обстановку; она может быть создана лишь для отдельных детей, но в общей массе происходит иное. Предполагать, что священник личным педагогическим мастерством может разрешить все неправильности культуры, — неверно. Нельзя переложить всю тяжесть религиозного воспитания на священника. Поэтому все маленькие меры и реформы, касающиеся религиозного воспитания, хороши тогда, когда есть основное, когда создана правильная общественная среда. Если ее нет, то мелкие шаги не исправят положение.
Для религиозного воспитания нужны предпосылки, из которых главной является здоровая атмосфера самой окружающей жизни. В первые века христианства, при подлинной христианской жизни взрослых, не существовало далее проблемы воспитания...
Кроме главного — общей атмосферы жизни — здесь существует ряд отдельных педагогических проблем. Первая состоит в том, что методы религиозного воспитания должны быть различны для возраста до 13-14 лет и после. После полового созревания у школьников нередко наступает настроение духовного бродяжничества, тогда как до 12-летнего возраста ребенка очень просто и легко связывать с церковной жизнью. В ребенке еще не укоренился ни скептицизм, ни дурные преступные привычки. Поэтому не нужно преувеличивать могущую быть у ребенка небрежность или рассеянность. Совершенно иное дело после 14 лет. Ученик задает различные трудные вопросы — но дело здесь даже не в вопросах, а в том, куда направлена душа ученика и чем она живет. Душа подростка бывает часто так замутнена, что в ней ничего не видно. Подросток сам не видит неба, оно закрыто от него, почему что, возможны духовные падения, искривления. К подростку нужно идти навстречу, призвать его из мрака к свету. Но как же может быть решена эта задача? Она не только религиозная, но и общедуховная.
Предоставляя подростку свободу, не стесняя его установленным порядком школы, требующей известного ритма, - так как в этот период у ребенка отсутствие ритма нужно искать внутри его основ, его выздоровления, — схема школы часто тяготит ученика. Каприз его души должен быть учтен, потому что очень важно добраться до самой души В этом периоде часто у подростка бывает то переживание, которое выражает Татьяна Ларина: «Меня никто не понимает, вообрази — я здесь одна». Так как развитие индивидуальных отношений невозможно в классной обстановке, то разбиение учеников на группы, кружки дает большую возможность для сближения. Для нашего времени характерно, что подростки, как было указано, хотят быть не объектами, а субъектами воспитания. Германское юношеское движение было чрезвычайно показательным в этом отношении, однако оно оказалось духовно пустым, искания, не направляемые опытной рукой, ничем не закончились.
Нам представляется вполне возможным и полезным, чтобы старшие классы не имели уроков Закона Божия, а изучали его в. группах или кружках. Чрезвычайно важно предоставить ученикам возможность преодолеть, при помощи взрослых, духовное бездорожье и запутанность, присущие их возрасту. Надо предоставить им самостоятельность в изучении Слова Божия, «доходящего до края сердца», нужно к этой путанице прикоснуться самим и из нее брать темы для индивидуальных бесед. Это не есть полное разрешение вопроса, а паллиатив, но все же желательный в период до возраста 17-18 лет.
Мы стоим перед дилеммой: сохранить ли знание, уроки Закона Божия, или же, отказавшись от них, помочь ребенку вернуться к Богу? Но к чему знание, если душа находится во мраке?
Не нужно забывать того, что это время, полное таких испытаний и тревог, одновременно является особенно благодатным для формирования религиозной личности. Итак, на первом месте должны быть поставлены вопросы религиозного воспитания, не должно быть средостения между священником и детьми. Все преграды должны быть совершенно отвергнуты. С этой точки зрения, близость священника к детям в играх очень рекомендуется. Она никоим образом не может умалить его авторитет, внутренний авторитет пастыря завоевывается у детей только его подлинной духовностью. В играх с детьми мы разделяем простор и простоту их души.
Почтение детей к пастырю очень хорошо, но иногда оно препятствует детям, идущим на исповедь, открывать ему свою душу. Поэтому нужно искать других путей общения между священником и детьми. Религиозное просвещение имеет огромное значение, если душа внутренними очами смотрит в небо.
Много сомнений вызывает вопрос о преподавании Ветхого Завета. Обычно он преподается в виде истории израильского народа с вступлением, включающим повествование о творении мира, грехопадении, обетовании. В этом нужно изменение. Необходимо сообщение сведений о боге Творце, днях творения, человеке, грехопадении, но политическую историю израильского народа можно ребенку не предлагать. «Жестокосердие» израильского народа может легко соблазнить настроение ребенка, а с другой стороны, его история и не столь важна для религиозного развития ребенка. Нужно ограничиться сообщениями о жизни великих патриархов и обрисовать духовный облик важнейших пророков. Сторонники последовательного изучения ветхозаветной истории возражают, что героический период истории израильского народа и лица, с ним связанные, воодушевляют детей. Но вряд ли с этим можно согласиться, потому что немного говорят нам, например, фигуры царей периода после разделения Израиля на два царства.
Главное в религиозном преподавании вообще — это вживание в живой лик Спасителя. Переживание Его образа всегда охраняло истину нашей веры, причем детям это особенно нужно. Ветхий Завет может остаться темой для дополнительных чтений, как педагогическое освещение Нового Завета.
Изучение богослужения только в одном классе (третьем) возможно лишь при достаточно высоком развитии духовной жизни детей, при котором они смогли бы понять богослужение. Так как на это рассчитывать трудно, то необходимо в богослужение вживаться попутно с ростом религиозной жизни и изучать его таким образом.
Преподавание катехизиса в четвертом классе мне кажется неверным: после Иисуса Христа была жизнь Церкви, то есть деяния Апостолов и жизнь святых и мучеников. Это продолжение гораздо естественнее, чем переход сразу от жизни Спасителя к содержанию веры. Изучением истории Церкви мы расширяем религиозный горизонт. Катехизис можно изучать после истории, иного догматического материала возможно связать с изучением истории как жизни Церкви.
В старших классах необходимо связать догматическое учение с апологетическим, и в особенности потому, что не все получают после гимназии религиозное просвещение.
Очень существенно превратить последние два класса в кружки для изучения Священного Писания под руководством священника. Внимательное и толковое изучение Слова Божия явилось бы достойным завершением всего процесса религиозного преподавания.
notes
1
Раскрытие этого понятия составляет научную заслугу Юнга (цюрихский психолог).
2
См. подробности в моей книге "Психология детства".
3
Чтобы не усложнять нашего изложения, мы не входим в очень важные, ныне уже хорошо изученные различия в этой области у мальчиков и девочек.
4
См. о нем подробнее в моей книге "Психология детства".
5
W. Stern. "Menschliche Personlichkeit (1923). S. 58
6
Среди немногих представителей этого философского течения я особенно ценю Фихте младшего (см. в особенности его "Antropologie")
7
Помимо классической теории воспитания, выдвинутой Спенсером с его лозунгом "гармонического развития" личности, в новейшей педагогике отчетливо выражен принцип "функционального" воспитания (См. напр., М. Claparede "Leducation fonctionell").
8
Учение Наторпа и других последователей социальной педагогики.
9
Как типично, например, заглавие одной из многих книг, посвященных этому вопросу,- King Irving "Education for Social Efficiency". Под углом зрения "воспитания характера" построена и книга Ферстера, о которой было уже упомянуто.
10
Серьезной заслугой Спенсера с его учением о "гармоничном развитии личности" было включение в состав задач воспитания физического воспитания.
11
Серьезной заслугой Спенсера с его учением о "гармоничном развитии личности" было включение в состав задач воспитания физического воспитания.
12
Из этого принципа вытекает право и необходимость "вести" детей в том, в чем они без нас беспомощны. Необходимость, соблюдая свободу детей, все же помогать им хорошо показана в книге, склонной скорее отстаивать "невмешательство старших в жизнь детей: Th. Litt "Fflhren" oder "Wachsenlassen" (1929). См. также J. Cohn "Befreien und Binden" (1926), также Ed. Kurz "Moderne Erziehungsziele und der Katholizismus" (1927).
13
Из этого принципа вытекает право и необходимость "вести" детей в том, в чем они без нас беспомощны. Необходимость, соблюдая свободу детей, все же помогать им хорошо показана в книге, склонной скорее отстаивать "невмешательство старших в жизнь детей: Th. Litt "Fflhren" oder "Wachsenlassen" (1929). См. также J. Cohn "Befreien und Binden" (1926), также Ed. Kurz "Moderne Erziehungsziele und der Katholizismus" (1927).
14
См. очень внимательный и подробный анализ проблемы свободы в воспитании у Гессена. "Основы педагогики".
15
См. об этом мой этюд "Об образе Божием в человеке". Православная Мысль, Вып. II.
16
См. об этом прекрасные страницы у Феррьера ("Le progres spirituel"). С этим вопросом, в его конкретной постановке, очень тесно связан вопрос о значении "авторитета" в воспитании. В этом пункте мы очень расходимся с католиками, как в понимании авторитета, так и в раскрытии его функции в "освобождении" ребенка. Об этом всем см. вторую часть настоящего труда.
17
См. мой этюд "Дар свободы" (1933).
18
Это можно, между прочим, проследить в воззрениях Феррьера. Особенно поверхностно ставит проблемы морального воспитания Piaget (см. его книгу "Le developpement morale de 1enfant", а также статью в сборнике "Lindividualite". Paris, 1933).
19
См. книгу Гессена, также Kohn ("Befreien und Binden"), Th. Litt "Fiihren oder Wachsenlassen". 1929.
20
Это признают все педагоги, стоящие на религиозной точке зрения - даже в скромной книге протестанта Eberhard ("Von der Arbeitschule zur Leberischule", 1925) есть страницы, посвященные этой теме (5-28)-не говоря о католической педагогике. Лаическая педагогика, конечно, избегает поставленной в тексте темы о смерти.
21
Вот что пишет в одном месте Феррьер (Ор. Cit. P. 160): "педагоги должны - неожиданно для себя - признать, что древняя доктрина спасения, как ее проповедуют религии буддизма, иудаизма и особенно христианства, далека от того, чтобы быть философским мифом: в ней даны простые и точные указания морального и духовного возрождения". В системе Феррьера слова эти тоже довольно неожиданны, но тем более они значительны.
22
Учение об авторитете, как его следует конструировать в отличие от католического и протестантского его истолкования, будет дано во 2-ой части этого труда.
23
Печатается с незначительными сокращениями - прим. сост.
24
Имеется ввиду библейское повествование о том, как Исав отрекся от своих прав старшего сына, променяв их на сытость желудка (см. Быт. 25, 29-34) - прим. сост.
25
Ей посвящены некоторые главы в моей "Психологии детства", см. особенно последнюю главу о метафизике детства - прим. авт.
26
Согласно классификации автора, это период от 6,5-7 лет до 12 лет. Первое детство - до 6-6,5 лет; отрочество - от 12 до 16 лет; юность от 16-17 лет. Подробнее о возрастной периодизации детства и характерных особенностях периодов см. ниже, раздел "Возрастные этапы..." на с. 223 - прим. сост.
27
Коменский имеет огромные заслуги в истории педагогики как великим педагог-практик. Его хрестоматия, его дидактика составили эпоху в развитии школы.
28
См. книгу: Teaching Work of Church, YMCA, где изложены итоги отделения школы от Церкви.