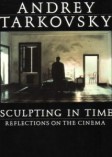Андрей Тарковский
ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ
Глава первая
Начало
Завершился целый цикл жизни. Завершился процесс, который можно назвать самоопределением.
Процесс этот состоял из обучения во ВГИКе, из работы над дипломной короткометражкой и, наконец, из восьмимесячного труда над первым большим фильмом.
Залог моего движения вперед я вижу в возможности проанализировать опыт «Иванова детства», в необходимости выработать твердую — пусть недолговременную — позицию во взгляде на эстетику кинематографа и в постановке перед собой задач, которые могут быть разрешены в процессе съемки следующего фильма. Всю эту работу можно проделать умозрительно. Но в этом случае существует опасность необязательности окончательных выводов или замены логических звеньев интуитивными, «мерцающими» связями.
Желание избежать в своих размышлениях такого рода издержек помогает мне решиться на то, чтобы прибегнуть к карандашу и бумаге.
Чем меня привлек рассказ В. Богомолова «Иван»?
Прежде чем ответить на этот вопрос, стоит сказать, что не любую прозу можно переносить на экран.
Существуют произведения, которые обязаны своим авторам таким единством компонентов, такой точностью и своеобразием литературного образа, такой невозможной глубиной характеров, выраженной словом, такой чудесной способностью к волшебству композиции и такому воздействию цельной книги, сквозь страницы которой отчетливо проступает поразительный и неповторимый характер ее автора, что желание экранизировать один из таких шедевров может явиться только у человека, который с одинаковым презрением относится как к кино, так и к художественной прозе.
Тем более что настало время, когда необходимо наконец отделить литературу от кинематографа.
Существует проза, которая сильна своим идейным замыслом, конкретностью и твердостью конструкции или своеобразием темы. Такого рода литература как бы не заботится об эстетической разработке заложенных в ней идей.
Мне кажется, «Иван» В. Богомолова относится к этого рода литературе.
С чисто художественной точки зрения ничего не давала моему сердцу манера суховатого, подробного и неторопливого рассказа с лирическими отступлениями, в которых проступал характер героя новеллы, старшего лейтенанта Гальцева. Большое значение Богомолов придает точности военного быта и тому, что он был или старался казаться свидетелем всего происходящего в своем рассказе.
Все эти обстоятельства помогли отнестись к рассказу как к прозе, которая вполне поддается экранизации.
Более того, в результате экранизации рассказ мог бы приобрести ту эстетическую чувственную напряженность, которая превратила бы его идею в истинную, подтвержденную жизнью.
Прочитанный рассказ Богомолова врезался в память.
А некоторые его особенности меня просто поразили.
Прежде всего судьба героя, которая прослеживается вплоть до его смерти. Правда, такого рода сюжетные построения не оригинальны, но далеко не все из них оправданы внутренним движением идеи, закономерной необходимостью в разрешении замыслов, как это случилось в рассказе «Иван».
В этом рассказе смерть героя имела свой особый смысл.
Там, где у других авторов в подобных литературных ситуациях возникало утешительное продолжение, здесь наступал конец. Продолжения не следовало.
Обычно в таких случаях авторы вознаграждали военный подвиг героя. Трудное, жестокое уходило в прошлое. Оно оказывалось лишь тяжелым жизненным этапом.
В рассказе Богомолова этот этап, пресеченный смертью, становился единственным и конечным. В нем сосредоточивалось все содержание жизни Ивана, ее трагический пафос. Эта исчерпанность с неожиданной силой заставляла почувствовать и понять противоестественность войны.
Второе, что меня поразило, было то, что суровый рассказ о войне повествовал не об острых военных столкновениях и не о сложности фронтовых перипетий. Описание подвигов отсутствовало. Материалом повествования явилась не героика разведывательных операций, но пауза между двумя разведками. Автор наполнил ее волнующей взвинченной напряженностью, которую нельзя выразить внешне. Эта напряженность напоминала оцепеневшее напряжение до отказа закрученной патефонной пружины.
Такой подход к изображению войны подкупал таившимися в нем кинематографическими возможностями. Открывалась перспектива создать по-новому правдивую атмосферу войны с ее перенапряженной нервной конденсацией, невидимой на поверхности событий, а лишь ощутимой, как подземный гул.
И третье, что меня взволновало до глубины души, это характер мальчишки. Он сразу представился мне как характер разрушенный, сдвинутый войной со своей нормальной оси. Бесконечно много, более того, все, что свойственно возрасту Ивана, безвозвратно ушло из его жизни. А за счет всего потерянного — приобретенное, как злой дар войны, сконцентрировалось в нем и напряглось.
Такой характер волновал своим драматизмом и интересовал меня гораздо больше, чем типы, раскрывающиеся в процессе постепенного развития в среде острых конфликтных ситуаций и принципиальных человеческих столкновений.
В неразвивающемся, как бы статичном напряжении страсти обретают максимальную остроту и проявляются более наглядно и убедительно, чем в условиях постепенных изменений. В силу такого рода пристрастий я и люблю Ф. М. Достоевского. Меня больше интересуют характеры внешне статичные, но внутренне напряженные энергией овладевшей ими страсти.
Иван из прочитанного мной рассказа принадлежал к их числу. И эти особенности рассказа Богомолова приковали к нему мою фантазию.
Но вне этих пределов я не мог следовать за автором. Вся эмоциональная ткань рассказа была мне чуждой. События излагались в нарочито сдержанной, даже несколько протокольной манере. Перенести такую манеру на экран я бы не сумел — это противоречило моим убеждениям.
Когда у писателя и постановщика эстетические пристрастия различны, компромисс невозможен. Он просто разрушает замысел постановки. Фильм не состоится.
При наличии такого конфликта между автором и режиссером существует только один путь — трансформации литературного сценария в новую ткань, которая на одном из этапов работы над фильмом называется режиссерским сценарием. И во время работы над режиссерским сценарием автор будущего фильма (не сценария, а именно фильма) имеет право поворачивать литературный сценарий как ему вздумается. Лишь бы видение его было цельным и каждое слово сценария дорогим и пропущенным через его личный творческий опыт.
Ибо единственный, кто стоит между грудой исписанных страниц сценария, актером, выбранными натурными местами для съемки, пусть самым блистательнейшим диалогом, эскизами художника, — это режиссер и только режиссер, который является последним фильтром кинематографического процесса.
Поэтому всегда, когда сценарист и режиссер не один и тот же человек, мы будем свидетелями этого ничем неистребимого противоречия. Конечно, если имеются в виду принципиальные художники.
Вот почему содержание рассказа представлялось мне не более как возможная основа, живая сущность которой должна была быть переосмыслена в соответствии с моими личными представлениями о будущем фильме.
Но здесь возникает вопрос о пределах сценарных прав режиссера. Дело иногда доходит до полного безоговорочного отрицания за режиссерами творческой инициативы в области кинодраматургии. Режиссеры, имеющие склонность к сценарному творчеству, подвергаются резкому осуждению.
Но ведь неоспорим тот факт, что некоторые писатели чувствуют себя находящимися гораздо дальше от кино, чем кинорежиссеры. И потому в абсолютной форме более чем странно выглядит такая позиция: все писатели имеют право на кинодраматургию, ни один режиссер этого права не имеет. Он должен покорно соглашаться с предложенным сценарием и разрезать его, превращая в режиссерский.
Но вернемся к существу нашей беседы.
В кино меня чрезвычайно прельщают поэтические связи, логика поэзии. Она, мне кажется, более соответствует возможностям кинематографа как самого правдивого и поэтического из искусств.
Во всяком случае, мне она более близка, чем традиционная драматургия, где связываются образы путем прямолинейного, логически-последовательного развития сюжета. Такая дотошно «правильная» связь событий обычно рождается под сильным воздействием произвольного расчета и умозрительных спекулятивных рассуждений. Но даже когда этого нет и сюжетом командуют характеры, оказывается, что логика связей зиждется на упрощении жизненной сложности.
Но есть и другой путь объединения кинематографического материала, где главное — раскрытие логики мышления человека. Именно ею в таком случае будет диктоваться последовательность событий, их монтаж, образующий целое.
Рождение и развитие мысли подчиняются особым закономерностям. Для своего выражения они требуют подчас формы, отличающейся от логически-умозрительных построений. На мой взгляд, поэтическая логика ближе к закономерности развития мысли, а значит, и к самой жизни, чем логика традиционной драматургии. Между тем приемы классической драмы почитаются единственными образцами, на много лет определившими форму выражения драматического конфликта.
Поэтическая форма связей придает большую эмоциональность и активизирует зрителя. Он делается соучастником познания жизни, опираясь не на готовые выводы сюжета и непреклонную авторскую указку. В его распоряжении лишь то, что помогает доискиваться глубинного смысла изображаемых явлений. Не обязательно втискивать сложность мысли и поэтического видения мира в рамки слишком явной очевидности. Логика прямых, обычных последовательностей подозрительно смахивает на доказательство геометрической теоремы. Для искусства такой метод несравненно беднее возможностей, которые открывают ассоциативные сцепления, объединяющие чувственные и рациональные оценки. И напрасно кинематограф так редко обращается к этим возможностям. Этот путь более выгоден. В нем заключена внутренняя сила, позволяющая «взрывать» материал, из которого создан образ.
Когда о предмете говорится не все, остается возможность додумывания. Иначе конечный вывод преподносится зрителю готовым, безо всякой работы мысли. Доставшись зрителю без труда, такой вывод ему не нужен. Может ли он что-нибудь сказать зрителю, не разделившему с автором мук и радости рождения мысли?
Есть и еще одно достоинство такого творческого подхода. Путь, по которому художник заставляет зрителя по частям восстанавливать целое и домысливать больше, чем сказано буквально, — единственный путь, ставящий зрителя на одну доску с художником в процессе восприятия фильма. Да и с точки зрения взаимного уважения только такая взаимосвязь достойна художественного обихода.
Говоря о поэзии, я не воспринимаю ее как жанр. Поэзия — это мироощущение, особый характер отношения к действительности.
В этом случае поэзия становится философией, которая руководит человеком всю жизнь. Вспомните судьбу и характер таких художников, как Александр Грин, который, умирая от голода, уходил в горы с самодельным луком, чтобы подстрелить какую-нибудь дичь. Сопоставьте этот случай с тем временем, когда жил этот человек, и это отношение раскроет трагический облик мечтателя.
А судьба Ван Гога?
Вспомните Пришвина, облик которого проступает в чертах русской природы, с такой любовью им описанной.
Вспомните Мандельштама, вспомните Пастернака, Чаплина, Довженко, Мизогучи. И вы поймете, какая огромная эмоциональная сила заложена в этих максимально приподнятых над землей или, точнее, парящих над ней образах, в которых художник предстает не только как исследователь жизни, но также как созидатель высоких духовных ценностей и той особой красоты, которая подвластна только поэзии.
Такой художник умеет видеть особенности поэтической организации бытия. Он способен выйти за пределы прямолинейной логики, чтобы передать особую сущность тонких связей и глубоких явлений жизни, ее глубинную сложность и правду.
Вне этого жизнь выглядит схематически условной, однообразной, даже когда выражена с претензией на полное жизнеподобие. Ведь иллюзия внешней жизненности еще не свидетельствует о предпринятом автором исследовании глубин жизни.
Думается мне также, что вне органической связи субъективных впечатлений автора с объективным изображением действительности нельзя достигнуть не только достоверности и внутренней правды, но даже внешнего правдоподобия.
Можно документально разыграть сцену, натуралистически точно одеть персонажей, добиться наружной схожести с подлинной жизнью, и все же возникшая картина в результате окажется очень далекой от реальности и будет выглядеть вполне условной, то есть не похожей на нее буквально, несмотря на то, что именно условности хотел избежать автор.
Странная вещь, к области условности относят именно то в искусстве, что составляет неоспоримую принадлежность нашего обычного, будничного восприятия действительности. Это объясняется тем, что жизнь организована гораздо поэтичнее, чем ее подчас изображают сторонники абсолютной натуральности. Ведь многое, например, в наших мыслях и сердце сохраняется как незавершенный намек. И то, что в иных добротных, жизнеподобных фильмах такой подход не только отсутствует, но заменяется резко и отчетливо отфокусированным изображением, создает вместо подлинности, мягко выражаясь, надуманность. А я как раз за то, чтобы кино стояло как можно ближе к жизни, которую мы иной раз отказывались видеть по-настоящему прекрасной.
В начале это главы я выражал радость по поводу того, что наметился водораздел между кинематографом и литературой, оказывающими друг на друга огромное полезное влияние.
Развиваясь, кино будет отдаляться, по-моему, не только от литературы, но и от других смежных форм искусства и благодаря этому становиться все более и более самостоятельным, хотя становление не происходит с желаемой быстротой. Это длительный процесс. Темы его различны. Этим объясняется некоторая стабилизация в кино специфических принципов, которые свойственны другим видам искусства и на которые режиссеры часто опираются в работе над фильмом. Но постепенно принципы эти начинают тормозить освоение специфики кино и превращаются в преграду. Одним из последствий в таких случаях является частичная утрата фильмом непосредственности воплощения действительности своими средствами — без трансформации жизни с помощью литературы, живописи или театра.
Точно так же влияние изобразительного искусства на кинематограф обнаруживается в стремлении перенести непосредственно на экран то или иное полотно. Чаще переносятся отдельные композиционные или колористические (если фильм цветной) принципы. Но в том и другом случае художественное решение лишается творческой самостоятельности и превращается в прямое заимствование.
Перетаскивание на экран особенностей других искусств лишает фильм силы кинематографического своеобразия, замедляет поиски решений, опирающихся на могучие ресурсы кино как самостоятельного искусства. Но самое важное то, что в подобных случаях создается преграда между автором фильма и жизнью. Между ними возникают посредники в виде решений, осуществленных более старыми искусствами. В частности, это мешает воссоздать в кино жизнь такой, какой человек ощущает ее и видит, то есть подлинной.
Мы прожили день. Допустим, в этот день случилось что-то важное, многозначительное — нечто такое, что может стать поводом для создания фильма, что заключает в себе основу изображения идейного конфликта. Но каким этот день запечатлелся в нашей памяти? Как нечто аморфное, расплывающееся, лишенное скелета, схемы. Как облако. И только центральное событие этого дня сгустилось в нем с протокольной конкретностью, ясностью смысла и определенностью формы. Событие это на фоне всего дня выглядело как дерево в тумане. Правда, сравнение это не совсем точно, ибо все то, что я именую туманом, облаком, — не однородно. Отдельные впечатления дня породили в нас внутренние импульсы, вызвали ассоциации, в памяти сохранились предметы и обстоятельства, как бы лишенные резко очерченных контуров, незавершенные, кажущиеся случайными. Можно ли такое ощущение передать средствами киноискусства? Безусловно. Более того, это под силу прежде всего ему, как самому реалистическому из искусств.
Но, конечно, такое копирование жизненных ощущений — не самоцель. Однако возможность их передачи может быть эстетически осмыслена и использована в интересах воплощения глубоких идейных обобщений.
Для меня правдоподобие и внутренняя правда заключаются не только в верности факту, но и в верности передачи ощущения.
Вы шли по улице и встретились глазами со взглядом человека, проходившего мимо. Взгляд этот чем-то поразил вас. Вызвал какое-то тревожное чувство. Он психологически повлиял на вас, создал некую вашу душевную настроенность.
Если вы механически точно воссоздадите все обстоятельства этой встречи, документально точно одев актера и отобрав место для съемки, вы не получите от снятого куска ощущения, которое получили от самой встречи. Ибо, снимая сцену встречи, не обратили внимания на психологическую подготовку, которая объяснила бы ваше душевное состояние, придавшее взгляду незнакомца особое эмоциональное содержание. Поэтому для того, чтобы взгляд незнакомца поразил зрителя так же, как и вас в свое время, необходимо, кроме всего прочего, создать у зрителя настроение, аналогичное вашему в момент реальной встречи.
А это уже дополнительная режиссерская работа и дополнительный сценарный материал.
На базе многовековой театральной драматургии возникло огромное количество штампов, схем, общих мест, которые, к сожалению, нашли пристанище и в кино. Выше я уже высказал свои соображения по поводу драматургии и логики кинорассказа. Чтобы быть более конкретным и точнее понятым, стоит остановиться на таком понятии, как мизансцена. Так как, мне кажется, именно из отношения к мизансцене особенно ясно виден сухой, формальный подход к проблеме выражения и выразительности. Причем, если мы зададимся целью сравнить киномизансцену с мизансценой, которую видит писатель, то в ряде случаев мы быстро поймем, в чем проявляется формализм киномизансцен.
Обычно забота о выразительности мизансцены сводится к тому, чтобы она непосредственно выражала идею, прямой смысл сцены и ее подтекст. В свое время на этом настаивал Эйзенштейн. Считается также, что в этом случае сцена приобретает необходимую глубину и выразительность, диктуемую смыслом.
Такое понимание примитивно. На его почве возникает много ненужных условностей, которые насилуют живую ткань художественного образа.
Как известно, мизансценой называется рисунок, образованный взаимным расположением актеров по отношению к внешней среде. Часто эпизод из жизни поражает нас предельно выразительной мизансценой. Обычно такими словами мы выражаем восхищение ею, говоря: «Нарочно не придумаешь!» Что же нас особенно поражает? Несоответствие между смыслом происходящего и мизансценой. В определенном смысле нас потрясает нелепость мизансцены. Но это кажущаяся нелепость. За ней стоит огромный смысл. Он-то и придает мизансцене эту абсолютную убедительность, заставляющую поверить нас в правду события.
Словом, нельзя уходить от сложностей и все сводить к примитиву, а для этого необходимо, чтобы мизансцена не иллюстрировала отвлеченный смысл, но следовала жизни — характерам персонажей, их психическому состоянию. Вот почему нельзя сводить задачу мизансцены к тому, чтобы она способствовала нарочитому осмыслению разговора или поступка.
Мизансцена в кино призвана потрясти нас правдоподобием изображаемых поступков, красотой художественных образов, их глубиной, а не навязчивой иллюстрацией заключенного в них смысла. Подчеркнутое пояснение мысли в этом, как и в других случаях, ограничивает фантазию зрителя и образует некий идейный потолок, за пределами которого разверзается пустота. Это не охрана границ мысли, но ограничение возможности проникнуть в ее глубину.
Если нужны примеры — их нетрудно найти, вспомнив о бесконечных заборах, оградах и решетках, разделяющих влюбленных. Другой вариант многозначительных мизансцен — масштабные, грохочущие панорамы по огромным строительствам, призванные образумить зарвавшегося эгоиста и внушить ему любовь к труду и к рабочему классу. Мизансцена не имеет права повторяться, так же как не может быть одинаковых характеров. Когда же мизансцена превращается в знак, штамп, понятие (несмотря даже на оригинальность), тогда все становится схемой и ложью — характеры, ситуации, психологическое состояние персонажей.
Вспомним финал романа Достоевского «Идиот». Какая потрясающая правда характеров, обстоятельств!
В этом сидении на стульях в огромной комнате, касаясь коленями друг друга, Рогожин и Мышкин поражают нас именно внешней нелепостью и бессмысленностью своей мизансцены при абсолютной правде внутреннего состояния. Здесь отказ от глубокомыслия и делает мизансцену убедительной, как сама жизнь.
И часто виной необузданная и безвкусная многозначительность режиссера, который изо всех сил старается придать человеческому действию не истинный, а нужный, навязанный ему смысл.
Чтобы убедиться в правоте приведенных суждений, проще всего попросить знакомых людей рассказать, ну, скажем, о виденных ими смертях. Когда они были свидетелями их. И я уверен, вы будете потрясены обстоятельствами, проявлениями характеров, нелепостью и — простите за неуместный термин — выразительностью этих смертей. Следует вооружить себя жизненными наблюдениями, а не шаблонным и бездушным конструированием фальшивой жизни во имя игры в киновыразительность.
Внутренняя полемика с псевдовыразительными мизансценами заставила меня вспомнить два рассказанных мне случая. Придумать их нельзя, они — сама правда и этим выгодно отличаются от примеров так называемого «образного мышления».
Группу военных расстреливают перед строем за предательство. Они ждут у больничной стены среди луж. Осень. Им приказывают снять шинели и разуться. Один из них долго ходит в рваных носках среди луж и ищет сухое место, чтобы положить шинель и сапоги, которые через минуту ему будут не нужны.
А вот еще. Человек попадает под трамвай, и ему отрезает ногу. Его прислоняют спиной к стене дома, где он сидит, окруженный бесстыдно глазеющими на него любопытными, в ожидании «скорой помощи». Не выдержав, он вынимает из кармана носовой платок и прикрывает им обрубок ноги.
Выразительно? Еще бы! Еще раз прошу меня извинить.
Конечно, дело не в том, чтобы коллекционировать на черный день случаи такого рода. Дело в том, чтобы следовать правде характеров и обстоятельств, а не поверхностной красоте образных решений.
К сожалению, очень часто дополнительные трудности в теоретических рассуждениях создают обилие терминов, ярлыков, которые лишь затуманивают смысл сказанного и усугубляют беспорядок на теоретическом фронте.
Истинный художественный образ — это всегда наличие органической связи идеи и формы. Наличие же формы при отсутствии мысли или мысли при отсутствии формы — разновидности, разрушающие его и выводящие за пределы искусства.
Я не приступал к «Иванову детству» с этими мыслями. Они возникли у меня в результате работы над фильмом. И многое из того, что мне ясно сейчас, было далеко не ясно перед началом постановки.
Разумеется, моя точка зрения субъективна. Но ведь только так и бывает в искусстве: художник в своих произведениях преломляет жизнь в призме личного восприятия и показывает в неповторимых ракурсах разные стороны действительности. Но я, придавая большое значение субъективным представлениям художника и его личному восприятию мира, вовсе не стою ни за произвол, ни за анархию. Дело здесь решается мировоззрением и нравственной, идейной задачей.
Шедевры рождаются на пути стремления выразить нравственные идеалы. В свете этих нравственных идеалов и возникают представления и ощущения художника. Если он любит жизнь, испытывает неодолимую потребность ее познать, изменить, помочь тому, чтобы она стала лучше, словом, если художник стремится содействовать повышению ценности жизни, тогда нет опасности в том, что изображение действительности проходит через фильтр субъективных представлений и душевных состояний автора, ибо результат — всегда духовное усилие во имя человеческого совершенствования образа мира, пленяющего нас гармонией чувств и мыслей, благородством и трезвостью.
Общий смысл моих соображений таков: когда стоишь на твердой нравственной почве, не следует бояться предоставления себе большей свободы в выборе средств. Более того, не всегда свобода должна ограничиваться ясным и твердым замыслом, толкающим тебя на выбор того или иного решения. Необходимо обнаруживать доверие к решениям, возникающим непосредственно. Важно, разумеется, чтобы они не оттолкнули зрителя бесполезной сложностью. Но прийти к этому можно не с помощью рассуждений, запрещающих твоей картине тот или иной прием, а опираясь на опыт наблюдений над возникшими в твоих первых работах излишествами, которые должны быть отброшены в естественном и непосредственном процессе творчества.
В создании своей первой картины я, честно говоря, руководствовался еще и такой задачей: выяснить, способен я или не способен заниматься кинорежиссурой. Для того чтобы прийти к определенному выводу, я, так сказать, распустил вожжи. Старался себя не сдерживать. «Если фильм получится, — думал я, — значит, я заслужил право работать в кино». Именно поэтому картина «Иваново детство» имела для меня особое значение. Это был экзамен на право творчества.
Конечно, работа над фильмом не выглядела как некое анархистское действие. Просто я старался не сдерживать себя. Приходилось рассчитывать на свой вкус и на веру в правомочность своих эстетических пристрастий. В результате работы над фильмом я должен был выяснить, на что я могу опереться в своей будущей жизни, а что испытания не выдержит.
Конечно, я сейчас думаю во многом иначе. Лишь немногое из найденного, как выяснилось впоследствии, оказалось живым. И далеко не все выводы я разделяю.
Весьма поучительной для нас — участников фильма — в работе над картиной была разработка фактуры места действия, пейзажа, превращение междиалоговой части сценария в конкретную среду снов и эпизодов. Богомолов в рассказе описывал места действия с завидной обстоятельностью участника события, которые легли в основу рассказа. Единственный принцип, которым руководствовался автор, — имитация документального характера мест, как бы увиденных собственными глазами.
На мой взгляд, места действия рассказа оказались в результате невыразительными и дробными: кустарник на вражеском берегу, темный накат бревен в землянке Гальцева, похожий на нее, как близнец, батальонный медпункт, унылая передовая, расположенная вдоль берега реки, окопы. Все эти места описаны очень точно, но не вызывали у меня никаких эстетических эмоций. Более того, были чем-то неприятны. Антураж этот не связывался в моих представлениях с чем-то способным вызывать чувства уместные в обстоятельствах истории об Иване. Мне все время казалось, что для удачи фильма привлекаемая фактура мест действия и пейзаж должны будить во мне определенные воспоминания и поэтические ассоциации, теперь, по прошествии более чем двадцати лет, я твердо уверен в следующем, не поддающемся анализу обстоятельстве: если сами авторы взволнованы выбранной натурой, если она будит в них воспоминания и вызывает ассоциации, пусть довольно субъективные, — зрителю передается какое-то особое волнение. В ряде эпизодов, пропитанных именно субъективным авторским настроением, стоит «березовая роща» — блиндаж медпункта, выстроенный из берез, пейзажный фон последнего сна, мертвый лес, залитый водой.
Все сны (их четыре) основаны тоже на ассоциациях довольно конкретных. Первый сон, например, весь от начала до конца, вплоть до реплики «Мама, там кукушка?» является одним из первых воспоминаний моего детства. Это было время первого знакомства с миром. Мне было тогда четыре года.
Обычно воспоминания дороги человеку. Поэтому не случайно они всегда окрашены поэтическим колоритом. Самые прекрасные воспоминания — это воспоминания детства. Правда, память требует определенной обработки, прежде чем она станет основой художественного восстановления прошлого. Здесь важно не потерять ту особенную чувственную атмосферу, без которых восстановленное во всех натуралистических деталях воспоминание вызывает в нас лишь горькое чувство разочарования. Ведь огромна разница между тем, как ты представляешь себе дом, в котором родился и который не видел уже много лет, и непосредственным созерцанием этого дома через огромный промежуток времени. Обычно поэтичность воспоминаний рушится при столкновении с конкретным их источником. Я уверен, что на такого рода свойствах памяти можно разработать весьма своеобразный принцип, который послужил бы основой для создания в высшей степени интересного фильма. Логика событий, поступков и поведения героя в нем будет внешне нарушена. Это будет рассказ о его мыслях, воспоминаниях, мечтах. И тогда, даже не показывая его самого, вернее, не показывая его так, как это принято в фильмах с традиционной драматургией, можно достигнуть выражения огромного смысла, изображения своеобразного характера и раскрытия внутреннего мира героя. Где-то такой способ перекликается с воплощением в литературе, да и в поэзии, образа лирического героя — где он отсутствует, но то, как и о чем он думает, создает о нем яркое и определенное представление. Впоследствии этим образом было выстроено «Зеркало».
Но на пути следования такого рода поэтической логике вступает огромное количество препон. Здесь на каждом шагу тебя подстерегают противники, несмотря на то что принцип поэтической логики так же законен, как и принцип логики литературной и театрально-драматургической, — просто принцип построения смещается с одной составляющей на другую.
Вспоминаются в связи с этим грустные слова Германа Гессе: «Поэт есть нечто, чем дозволено быть, но не дозволено становиться». Поистине так! В процессе работы над «Ивановым детством» мы неизменно сталкивались с протестами кинематографического начальства всякий раз, когда пытались связи сюжетные заменить поэтическими. А ведь мы прибегали к этому методу еще довольно робко, только нащупывая путь. Я еще был далек от последовательного обновления принципов работы постановки фильма. Но когда обнаруживались отдельные крупицы относительно нового в драматургической структуре — более свободного обращения с бытовой логикой, — неизбежно возникали недоумения и протесты. Чаще всего — с ссылкой на зрителя: дескать, ему обязательна непрерывно развивающаяся фабула, он не в состоянии смотреть на экран, если фильм слабосюжетен. Все резкие переходы в нашей картине от снов к действительности и, наоборот, от последней сцены в подвале церкви ко дню Победы в Берлине казались многим неправомочными. Но, к радости своей, я убедился в том, что зрители так не думают.
Между тем существуют стороны человеческой жизни, правдивое изображение которых возможно лишь средствами поэзии. Но именно тут очень часто постановщик картины стремится подменить поэтическую логику грубой условностью технических приемов. Я имею в виду то, что связано с иллюзорностью и призрачностью — будь то сон, воспоминание или мечта. Сны в кино из конкретного жизненного явления превращаются часто в набор старомодных кинематографических приемов.
Столкнувшись в нашей картине с необходимостью снимать сны, мы должны были решить вопрос: как приблизиться к поэтической конкретности, как ее выразить, какими средствами? Здесь не могло быть умозрительного решения. В поисках выхода мы предприняли некоторые практические попытки, опираясь на ассоциации и смутные догадки. Так, неожиданно пришла в голову мысль о негативном изображении в третьем сне. В нашем воображении замелькали блики черного солнца сквозь снежные деревья и заструился сверкающий дождь. Родились вспышки молнии, как техническая возможность монтажного перехода с позитива на негатив. Но все это только создало атмосферу нереальности. А содержание? А логика сна? Это уже шло от воспоминаний. Видены когда-то и мокрая трава, и грузовик, полный яблок, и мокрые от дождя лошади, дымящиеся на солнце. Все это пришло в кадр непосредственно из жизни, а не как опосредованный смежным изобразительным искусством материал. В результате поисков простых решений для передачи ирреальности сна появилась панорама по несущимся негативным деревьям и на их фоне трижды проходящее перед аппаратом лицо девочки с меняющимся каждый раз выражением. В этом кадре мы хотели воплотить предощущение этой девочкой неминуемой трагедии. Последний кадр этого сна намеренно был снят у воды, на пляже — для того чтобы связать его с последним сном Ивана.
Возвращаясь к проблеме выбора натурных мест для съемок, нельзя не отметить того, что когда ассоциации, вызванные жизненными ощущениями от конкретных мест, вытеснялись абстрактной выдумкой или покорным следованием сценарию, — именно в этих местах фильма нас постигала неудача. Такова участь сцены на пепелище с безумным стариком. Я имею в виду не содержание сцены, а именно неудачу в ее пластическом выражении, в антураже. Сначала сцена была задумана иначе.
Мы представляли себе заброшенное, набухшее от дождей поле, которое пересекает грязная расхлестанная дорога.
Вдоль дороги — кургузые осенние ветлы.
Не было никакого пепелища.
Только далеко, у самого горизонта, торчала одинокая труба.
Ощущение одиночества должно было доминировать над всем. В телегу, на которой ехали сумасшедший старик и Иван, была запряжена тощая корова. (Корова — из фронтовых записей Э.Капиева.) На дне телеги сидел петух и лежало там что-то громоздкое, завернутое в грязную рогожу. Когда появлялась машина полковника, Иван убегал далеко в ноле, к самому горизонту, и Холину приходилось долго ловить его, с трудом вытаскивая тяжелые сапоги из вязкой грязи. Затем «додж» уезжал, и старик оставался один. Ветер приподнимал рогожу и обнажал лежащий в телеге заржавленный плуг.
Сцена должна была сниматься на длинных медленных планах и, следовательно, иметь совершенно иной ритм.
Не надо думать, что я остановился на другом варианте по производственным причинам. Просто было два варианта этой сцены, и я не сразу ощутил, что выбранный хуже.
В картине есть и еще такого рода неудачи, которые, как правило, вытекают из отсутствия для актеров и, следовательно, для зрителя момента узнавания, о котором я уже говорил выше в связи с поэтикой воспоминания. Это кадр прохода Ивана через колонны войск и военных грузовиков, когда он убегает к партизанам. Кадр не вызывает никаких чувств ни у меня, ни ответных — у зрителя.
В этом же смысле частично не удалась сцена разговора в разведотделе между Иваном и полковником Грязновым. Интерьер равнодушен и нейтрален, несмотря на внешнюю динамику волнения мальчишки в этой сцене. И только второй план — работа солдат за окном — вносит какой-то элемент жизни и становится материалом додумывания и ассоциаций.
Такие лишенные внутреннего смысла, особой авторской освещенности сцены сразу же воспринимаются как нечто инородное — они вырываются из общего пластического решения фильма.
Все это лишний раз доказывает: несмотря на то что кино является искусством синтетическим, оно есть и будет искусством авторским, как и любое другое. Режиссеру бесконечно много могут дать его товарищи по работе, и все же только его мысль сообщает фильму конечное единство. Только то, что преломляется сквозь его авторское, субъективное видение, оказывается художественным материалом и образует тот своеобразный и сложный мир, который является отражением реальной картины действительного. Конечно, сведение в одни руки не лишает громадного значения тот творческий вклад, который вносят в фильм все участники создания фильма.
Но и здесь зависимость такова: только тогда возникает действительное обобщение, когда предложения участников верно отобраны режиссером. Иначе целостность произведения разрушается.
Огромная доля удачи нашего фильма по праву принадлежит актерам. В особенности Коле Бурляеву, Вале Малявиной, Жене Жарикову, Валентину Зубкову. Будущего исполнителя роли Ивана — Колю Бурляева — я заметил еще, когда учился во ВГИКе.
Не будет преувеличением, если я скажу, что знакомство с ним решило мое отношение к постановке «Иванова детства» (слишком жесткие сроки, при которых не было возможности серьезно отнестись к поискам исполнителя роли Ивана, слишком сжатая смета — результат неудачного начала работы над «Иваном» другого творческого коллектива), на которую согласиться можно было при наличии другого рода гарантий. И такими гарантиями оказались — Коля Бурляев, оператор Вадим Юсов, композитор Вячеслав Овчинников, художник Евгений Черняев.
Актриса Валя Малявина всем своим обликом противоречила образу той медсестры, которую вообразил себе Богомолов. По рассказу это полная белокурая девушка с высокой грудью и голубыми глазами.
И вот — Валя Малявина. Этакий негатив богомоловской медсестры: брюнетка, карие глаза, мальчишеский торс. Но вместе со всем этим она принесла то особенное, личное и неожиданное, чего не было в рассказе. И это было гораздо важнее, сложнее, многое объясняло в образе Маши и многое обещало. Возникла еще одна моральная гарантия.
Внутренне актерское зерно Малявиной — незащищенность. Она выглядела такой наивной, чистой, доверчивой, что сразу становилось ясно: Маша-Малявина совершенно безоружна перед лицом войны, не имеющей с ней ничего общего. Незащищенность — это пафос ее натуры и возраста. В ней активное, то, что должно определить ее отношение к жизни, находилось в эмбриональном состоянии. Это давало возможность правдиво материализовать ее отношения с капитаном Холиным, которого обезоруживала именно ее незащищенность. Так исполнитель роли Холина Зубков попал в полную зависимость от партнерши и нашел правду своего поведения там, где при другой исполнительнице оно показалось бы фальшивым и нравоучительным.
Все эти соображения не следует принимать за платформу, на основе которой создавался фильм «Иваново детство». Это лишь попытка объяснить самому себе, какие возникали в процессе работы размышления и в какую систему взглядов они складывались. Опыт работы над этим фильмом содействовал формированию моих убеждений. Они окрепли в процессе написания сценария «Страсти по Андрею» и постановки фильма о жизни Андрея Рублева, который я завершил в 1966 году.
После написания сценария я очень сомневался в возможности осуществления своего замысла. Но думал, что, если это окажется возможным, будущий фильм ни в коем случае не будет решен в духе исторического или биографического жанра. Меня интересовало другое: исследование характера поэтического дара великого русского живописца. На примере Рублева мне хотелось исследовать вопрос психологии творчества и исследовать душевное состояние и гражданские чувства художника, создающего духовные ценности непреходящего значения.
Этот фильм должен был рассказать о том, как народная тоска по братству в эпоху диких междоусобиц и татарского ига родила гениальную «Троицу», то есть идеал братства, любви и тихой святости. Это было основным в идейно-художественной концепции сценария.
Он состоял из отдельных эпизодов-новелл, в которых мы не всегда видим самого Андрея Рублева. Но в этих случаях должна была ощущаться жизнь его духа, дыхание атмосферы, формирующей его отношение к миру. Новеллы эти связаны не традиционной хронологической линией, а внутренней поэтической логикой необходимости для Рублева написать свою знаменитую «Троицу». Эта логика приводит к единству эпизодов, из которых каждому сообщены особый сюжет и собственная мысль. Они развивают друг друга, внутренне сталкиваясь между собой.
Но столкновения эти в сценарной последовательности должны были возникнуть в соответствии с поэтической логикой, как образное проявление противоречий и сложности жизни и творчества…
В историческом аспекте фильм хотелось сделать так, как если бы мы рассказывали о нашем современнике. А для этого необходимо было видеть в исторических фактах, персонажах, в остатках материальной культуры не повод для будущих памятников, а нечто жизненное, дышащее, даже обыденное.
Детали, костюмы, утварь — на все это мы не намеревались смотреть глазами историков, археологов, этнографов, собирающих музейные экспонаты. Кресло должно рассматриваться не как музейная редкость, а как предмет, на котором сидят.
Актеры должны были бы играть понятных им людей, подверженных, по сути дела, тем же чувствам, что и современный человек. Традицию, контур, на которые взбирается обычно исполнитель роли в исторической картине и которые незаметно превращаются в ходули по мере приближения окончания съемок, необходимо решительно отвергнуть. Если все это удастся, думал я, то можно будет надеяться на более или менее оптимальный результат. Я решительно надеялся на то, что постановку этого фильма мы осуществим силами дружного коллектива, «доказавшего свою боеспособность», в который вошли оператор Юсов, художник Черняев, композитор Овчинников.
Открою, наконец, подспудный замысел этой книги: мне бы очень хотелось, чтобы читатели ее, убежденные мною, пусть даже не целиком, а только частично, стали моими единомышленниками, хотя бы в благодарность за то, что у меня от них нет никаких тайн.
Но на пути следования такого рода поэтической логике вступает огромное количество препон. Здесь на каждом шагу тебя подстерегают противники, несмотря на то что принцип поэтической логики так же законен, как и принцип логики литературной и театрально-драматургической, — просто принцип построения смещается с одной составляющей на другую.
Глава вторая
Искусство — тоска по идеалу
Прежде чем коснуться проблем частного характера, связанных со спецификой кинематографического искусства, мне кажется важным определить свое понимание высшей идеи искусства, как такового. Для чего существует искусство? Кому оно нужно? И нужно ли кому-нибудь? Все эти вопросы задает себе не только поэт, но и тот, кто это искусство воспринимает или, как теперь говорят, обнажая суть взаимоотношений, в которые, к несчастью, вступило искусство с аудиторией в XX веке, — «потребляет»…
Многие задаются этим вопросом, и каждый причастный к искусству своим особым образом отвечает на него. Как говорил Блок, «поэт создает гармонию из хаоса»… Пушкин наделял поэта пророческим даром… Каждый художник руководствуется своими собственными законами, совершенно необязательными для другого.
Во всяком случае, совершенно ясно, что цель любого искусства, если оно не предназначено для «потребителя», как товар для продажи, — объяснить себе и окружающим, для чего живет человек, в чем смысл его существования. Объяснить людям — какова причина их появления на этой планете. Пусть даже не объяснить, а только поставить этот вопрос перед ними.
Начиная с самых общих соображений, есть смысл сказать, что несомненная функциональность искусства заключена в идее познания, где форма впечатления выражается в виде потрясения, катарсиса.
С того самого момента, когда Ева съела яблоко с древа познания, человечество было обречено на бесконечное стремление к истине.
Прежде всего, как известно, Адам и Ева обнаружили, что они голые. И устыдились. Устыдились, потому что поняли, и начали свой путь с радости познать друг друга. Это и было начало того, чему нет конца. Можно понять драму души, только что вышедшую из состояния благодушного неведения и брошенную на земные пространства — враждебные и необъяснимые.
«В поте лица своего будешь добывать свой хлеб…»
Так вышло, что человек, этот «венец природы», явился на Землю для того, чтобы познать, для чего именно он явился. Или был послан. А при помощи человека Создатель узнает самое себя. Этот путь принято называть эволюцией — путь, который сопровождается мучительным процессом человеческого самопознания.
В определенном смысле индивид каждый раз заново познает и жизнь в самом своем существе, и самого себя, и свои цели. Конечно, человек пользуется всей суммой накопленных человечеством знаний, но все-таки опыт этического, нравственного самопознания является единственной целью жизни каждого и субъективно переживается всякий раз заново. Человек снова и снова соотносит себя с миром, мучительно жаждая обретения и совмещения с неположенным ему идеалом, который он постигает как некое интуитивно ощущаемое начало. В недостижимости такого совмещения, недостаточности своего собственного «Я» — вечный источник человеческой неудовлетворенности и страдания.
Так что искусство, как и наука, является способом освоения мира, орудием его познания на пути движения человека к так называемой «абсолютной истине».
Однако здесь и заканчивается схожесть этих двух форм воплощения творящего человеческого духа, где, смею настаивать, творчество — не открытие, а созидание.
Теперь нам гораздо важнее отметить дальнейшее размежевание, принципиальное различие этих двух форм познания: научного и эстетического.
Посредством искусства человек присваивает себе действительность через субъективное переживание. В науке человеческое знание о мире следует по ступеням бесконечной лестницы, последовательно сменяясь все новыми и новыми знаниями о нем — зачастую последовательно отвергающих друг друга открытий, ради частных объективных истин. Художественное же открытие возникает каждый раз как новый и уникальный образ мира, иероглиф абсолютной истины. Оно предстает как откровение, как мгновенное и страстное желание интуитивного постижения всех вкупе закономерностей мира — его красоты и безобразия, его человечности и жестокости, его бесконечности и ограниченности. Художник выражает их, создавая художественный образ — своеобразный улавливатель абсолюта. С помощью образа удерживается ощущение бесконечного, где оно выражается через ограничения, духовное через материальное, безбрежное — благодаря рамкам узнавания.
Можно сказать, что искусство является вообще символом, будучи связанным с той абсолютной духовной истиной, которая скрывает нас в позитивистской, прагматической практике.
Если для того, чтобы включиться в ту или иную научную систему, человек должен призвать на помощь логическое мышление, должен осуществить процесс понимания и иметь для этого определенное образование как основу для этого процесса, — искусство обращается ко всем в надежде, что оно произведет впечатление, его почувствуют, прежде всего, что оно вызовет эмоциональное потрясение и будет принято, покорит человека не какими-то неотвратимыми доводами разума, но той духовной энергией, которая заложена в него художником. И вместо образовательной базы в позитивистском смысле требует определенного духовного напряжения.
Искусство возникает и утверждается там, где существует вечная и неутолимая тоска по духовности, идеалу, собирающая людей вокруг искусства. Ложен путь, по которому устремилось современное искусство, отказавшееся от поисков смысла жизни во имя утверждения самоценной личности. Так называемое творчество начинает казаться каким-то странным занятием подозрительных личностей, утверждающих самодовлеющую ценность персонифицированного поступка. Просто как волеизъявление. Но в творчестве личность не утверждается, а служит другой, общей и высшей идее. Художник — всегда слуга, пытающийся как бы расплатиться за свой дар, данный ему, как чудо! Однако современный человек не хочет никаких жертв, хотя только жертвование выражает истинное утверждение. Но мы постепенно забываем об этом, закономерно теряя и ощущение своего человеческого предназначения…
Говоря о стремлении к прекрасному, о том, что идеальное и есть цель, к которой устремляется искусство и на тоске к которому оно возрастает, — я вовсе не утверждаю, что оно должно чураться земной «грязи». Напротив! Художественный образ — всегда иносказание, то есть замена одного другим. Большего — меньшим. Рассказывая о живом, художник оперирует мертвым, говоря о бесконечном, предлагает конечное. Замена! Бесконечное нельзя материализовать, можно создать иллюзию его, ОБРАЗ.
Ужасное всегда заключено в прекрасном, так же как и прекрасное в ужасном. Жизнь замешана на дрожжах этого великого до абсурда противоречия, которое в искусстве предстает одновременно в гармоническом и драматическом единстве. Образ дает возможность осязать это единство, где все соседствует и переливается одно в другое. Можно говорить об идее образа, описывать его существо словами. Но описание это никогда не будет равно ему. Образ можно создать и ощутить. Принять или отвергнуть. Но не понять в ментальном смысле этой акции. Идею бесконечности выразить словами невозможно. А искусство дает эту возможность, оно делает эту бесконечность ощутимой. Абсолютное постижимо лишь верой и творчеством.
Единственное условие борьбы за свое право творить — это вера в свое предназначение, — готовность служить и бескомпромиссность. Творчество действительно требует от художника «гибели всерьез», в самом трагическом смысле сказанного.
Итак, если искусство оперирует иероглифами абсолютной истины, то каждый — образ мира, явленный в произведении однажды и навсегда! И если позитивистское научное и холодное познание действительности представляет собою как бы восхождение по нескончаемым ступеням, то художественное — напоминает бесконечную систему внутренне завершенных и замкнутых сфер. Они могут дополнять друг друга и друг другу противоречить, но они не отменяют друг друга ни при каких обстоятельствах — напротив, они словно обогащают друг друга и, накапливаясь, образуют особую сверхобщую сферу, разрастающуюся в бесконечность. Эти поэтические откровения, самоценные и вечные, свидетельства того, что человек способен осознать и выразить свое понимание того, чьим образом и подобием он является.
При всем этом искусство, несомненно, несет также сугубо коммуникативную функцию, так как человеческое взаимопонимание — объединение и в конечном смысле — соборность один из важнейших аспектов в конечной цели творчества.
Произведения искусства в отличие от научных концепций не преследуют никаких практических задач в их материальном значении. Искусство — это метаязык, с помощью которого люди пытаются связаться друг с другом: сообщить сведения о себе и присвоить чужой опыт. Но опять не ради практической выгоды, а во имя осуществления идеи любви, смысл которой в жертвенности, противоречащей прагматизму. Я совершенно не способен поверить в то, что художник способен творить только ради самовыражения. Самовыражение без взаимопонимания бессмысленно. Самовыражение во имя осуществления духовной связи с другими — мучительно, невыгодно и в конечном счете жертвенно. Но вряд ли стоит труда слушать собственное эхо.
Но, может быть, наличие интуиции и в художественном и научном творчестве сближает эти, на первый взгляд, противоречивые способы освоения действительности. Конечно, интуиция и в этом и в другом случае играет огромнейшую роль. Но интуиция в случае поэтического творчества не то же самое в научном исследовании. Так же, как и термин понимание совершенно не одно и то же в этих двух сферах.
Понимание в научном смысле — согласие на ментальном, логическом уровне, интеллектуальный акт сродни процессу доказательства теоремы. Понимание художественного образа — понятие прекрасного в эстетическом смысле на чувственном, а иногда и сверхчувственном уровне.
Интуиция ученого, даже если она сродни озарению, вдохновению, всегда иносказательное обозначение логического пути. В том смысле, что логические варианты на основании имеющейся информации не просчитываются от начала до конца, а подразумеваются, имеются в памяти, не учитываются как пройденный этап. То есть обозначают скачок в логическом рассуждении на основании знания законов в той или иной области научного знания.
И как бы ни казалось, что научное открытие сделано по вдохновению, вдохновение ученого ничего общего не имеет с вдохновением поэта. Ибо эмпирическим процессом познания при помощи интеллекта не может быть объяснено рождение художественного образа — единого, неделимого, созданного и существующего на ином, не ментальном уровне. Просто следует договориться о терминах.
Таким образом, интуиция в науке в момент озарения подменяет логику.
Интуиция же в искусстве, так же как и в религии, равнозначна убежденности, вере. Это состояние души, а не способ мышления. Наука эмпирична, а образным мышлением движет энергия откровения. Это какие-то внезапные озарения — точно пелена спадает с глаз! Но не по отношению к частностям, а к общему и бесконечному, к тому, что в сознании не укладывается.
Искусство не мыслит логически, не формулирует логику поведения, но выражает некоторый собственный постулат веры. И поэтому художественный образ возможно принимать только на веру. Если в науке свою истину и свою правоту возможно обосновать и логически доказать оппонентам, то в искусстве никого невозможно убедить в своей правоте, если созданные образы оставили воспринимающего их равнодушным, не покорили открывшейся правдой о мире и о человеке, если зрителю было попросту скучно, наконец, наедине с искусством.
Если мы возьмем в качестве примера творчество Льва Толстого, те его произведения, где он особенно настаивал на схематически точном выражении идеи, морального пафоса своих произведений, — то всякий раз мы сможем наблюдать, как художественный образ, им же создаваемый, как бы раздвигая внеположенные ему автором собственные идеологические границы, не вмещается в них, спорит, а иногда даже в поэтическом смысле входит в противоречие с собственной системой логических построений. И шедевр продолжает жить по своим собственным законам — и производит на нас огромное эстетическое и эмоциональное впечатление даже тогда, когда мы не согласны с основной концепцией автора, положенной в его основу. Очень часто случается, что великое произведение рождается в процессе преодоления художником своих слабых мест. Преодоления не в смысле разрушения, а существования вопреки.
Художник открывает нам мир, заставляя нас либо поверить в него, либо его отвергнуть как нечто для себя ненужное и неубедительное. Создавая художественный образ, он всегда преодолевает собственную мысль, которая оказывается ничтожной перед тем чувственно воспринимаемым образом мира, который является ему как откровение. Ибо мысль коротка, а образ абсолютен. Поэтому можно говорить о родстве впечатления, которое получает духовно подготовленный человек от произведения искусства, с чисто религиозным впечатлением. Искусство воздействует, прежде всего, на душу человека, формируя его духовную структуру.
Поэт — это человек с воображением и психологией ребенка, его впечатление от мира остается непосредственным, какими бы глубокими идеями об этом мире он ни руководствовался. То есть он не пользуется «описанием» мира — он его создает.
Готовность и возможность довериться, поверить художнику — необходимое условие для восприятия и приятия искусства. Но иногда бывает трудно переступить ту черту непонимания, которая отделяет нас от чувственного поэтического образа! Как и для истинной веры в Бога или хотя бы для потребности в этой вере нужно обладать особым складом души, специфической чисто духовной потенцией.
В этой связи всплывает в памяти разговор Ставрогина с Шатовым из «Бесов» Достоевского:
— Я хотел лишь узнать: веруете ли вы сами в Бога или нет, — сурово посмотрел на него Николай Всеволодович.
— Я верую в Россию, в ее православие… Я верую в тело Христово… Я верю, что новое пришествие совершится в России… Я верую, — залепетал в исступлении Шатов.
— А в Бога? В Бога?
— Я… я буду веровать в Бога.
Что к этому добавить? Здесь гениально угадано то смятенное состояние души, ее ущербность и неполноценность, которая становится все более стойким признаком современного человека — его можно определить как духовного импотента.
Прекрасное скрыто от глаз тех, кто не взыскует истины, кому она противопоказана. Эта глубокая бездуховность не воспринимающего, но судящего искусство, его нежелание и неготовность задуматься о смысле и цели своего бытия в высоком смысле — очень часто подменяется до вульгарности примитивным восклицанием: «не нравится!» или «неинтересно!» С подобным критерием современный человек не способен задумываться об истине. Это сильный аргумент. Но он принадлежит слепорожденному, которому пытаются описать радугу. Он остается просто глух к тому страданию, через которое прошел художник, дабы поделиться с другими обретенной им истиной.
Но что это такое, истина?
Кажется мне, что одна из самых грустных вещей, что происходят в наше время, — это окончательное разрушение в сознании человека того, что связано с осмыслением и пониманием прекрасного. Современная массовая культура, рассчитанная на «потребителя», калечит души, преграждая человеку путь к коренным вопросам его существования, к осознанию самого себя как существа духовного. И, тем не менее, художник не может быть глух к зову истины, которая единственно и определяет его творящую волю, организует ее. Только в этом случае он способен передать свою веру другому. Художник, не имеющий веры, подобен слепорожденному живописцу.
Ошибочно говорить о том, что художник «ищет» свою тему. Тема вызревает в нем, как плод, начинает требовать своего выражения. Это подобно родам. Поэту нечем гордиться — он не хозяин положения, он — слуга. Творчество для него единственно возможная форма существования, и каждое его произведение адекватно поступку, который он не может своевольно отменить. Ощущение же правомерности череды последовательных поступков, их закономерности возникает только в том случае, если существует вера и идеал — лишь она скрепляет систему образов (читай: систему жизни). Что такое моменты озарения, если не мгновенно ощущаемая истина?
Смысл религиозной истины в надежде. Философия ищет истину, определяя смысл человеческой деятельности, рамки людского разума, смысл существования. Даже тогда, когда философ приходит к мысли о бессмысленности бытия и тщете человеческих усилий.
Функциональная же предназначенность искусства не в том, как это часто полагают, чтобы внушать мысли, заражать идеями, служить примером. Цель искусства заключается в том, чтобы подготовить человека к смерти, вспахать и взрыхлить его душу, сделать ее способной обратиться к добру.
Соприкасаясь с шедевром, человек начинает слышать тот же призыв, который пробудил и художника к его созданию. Когда осуществляется связь произведения со зрителем, человек испытывает высокое и очищающее духовное потрясение. В сфере особого биополя, объединяющего шедевр с тем, кто его принимает, обнаруживаются лучшие стороны нашей души, и мы жаждем их высвобождения. Мы узнаем и открываем себя в эти минуты в бездонности наших возможностей, в глубине собственных чувств.
Как трудно, кроме самого общего ощущения гармонии, говорить о великом произведении! Точно есть особые бесспорные параметры для его определения и выделения из среды соответствующих явлений. К тому же ценность того или иного произведения искусства в значительной степени относительна по отношению к воспринимающему. Шедевр — это законченное, завершенное в своем абсолютном значении суждение о реальности, цена которого определяется выраженной в нем полнотой человеческой индивидуальности в ее взаимодействии с духом.
Принято думать, что значимость произведения искусства способна проявляться в соотнесении его с людьми, в осуществлении контакта с обществом. В общей форме это верно, но парадокс состоит в том, что в этом контексте произведение искусства оказывается в полной зависимости от тех, кто его воспринимает: кто способен или не способен ощутить и потянуть нити, связывающие данное произведение как с миром в целом, так и с данной человеческой индивидуальностью, состоящей всякий раз в своих собственных взаимоотношениях с реальностью. Гёте тысячу раз прав, когда он говорит, что прочесть хорошую книгу так же трудно, как ее написать. Невозможно претендовать на объективность своей точки зрения, своей оценки. Некая лишь относительно объективная возможность оценки проступает через разнообразие интерпретаций. И иерархическая ценность того или иного произведения искусства в глазах масс и глазах большинства зачастую определяется довольно случайными обстоятельствами — например, насколько повезло данному произведению с его толкователями. Или по-другому: круг эстетических пристрастий того или иного человека иногда может характеризовать для других не столько эти произведения сами по себе, сколько индивидуальность воспринимающего их субъекта.
Исследователь, как правило, обращается к тем или иным примерам из области искусства чаще всего для иллюстрации своей концепции, и, к сожалению, гораздо реже зависит от непосредственного и живого эмоционального контакта с самим произведением. Для чистого восприятия нужна собственная недюжинная способность оригинального, независимого и «невинного» суждения. Обычно же человек ищет опору своему мнению в контексте известных ему примеров и явлений. И произведение искусства расценивается в соответствии и по аналогии с субъективной задачей или частными возможностями. Правда, с другой стороны, произведение искусства обретает свою особую изменчивую и разнообразную жизнь в множественности приложимых к нему суждений, часто обогащающих его и дающих некоторую дополнительную объемность существованию.
«…Творения великих поэтов еще не прочитаны человечеством — ибо читать их умеют лишь великие поэты. А массы читают их так же, как они читают по звездам — в лучшем случае, как астрологи, но не астрономы. Большинство людей научаются читать лишь для удобства, как учатся считать ради записи расходов и чтобы их не обсчитали. Но о чтении как о благородном духовном упражнении они почти не имеют понятия, а между тем только это и есть чтение в высшем смысле слова, — не то, что сладко баюкает нас, усыпляя высокие чувства, а то, к чему приходится тянуться на цыпочках, чему мы посвящаем лучшие часы бодрствования».
Так сказал Торо на одной из страниц своего замечательного «Уолдена».
Несомненно, что создание шедевра невозможно без максимально искреннего отношения художника к материалу. В черноземе алмазов не найдешь — их ищут подле вулканов. Художник не может быть отчасти искренним, как не может искусство быть лишь приближением к прекрасному. Искусство — это сама форма существования абсолютно прекрасного и завершенного.
А прекрасное и завершенное в искусстве — шедевральное — видится мне там, где не удается вычленить или предпочесть ни одну тенденцию — ни в идейном, ни в эстетическом смысле — без ущерба целостности произведения. В шедевре невозможно один из компонентов предпочесть другому, а его создателя как бы «поймать за руку», сформулировав его окончательные цели и задачи. «Искусство заключается в том, чтобы его не было заметно», — писал Овидий. Энгельс настаивал на том, что «чем больше скрыты взгляды автора, тем лучше для произведения искусства».
Произведение искусства живет и развивается, подобно любому естественному организму, через борьбу противоположных начал. Противоположности в нем переливаются друг в друга, как бы выводя его смысл в бесконечность. Идея, его определяющая тенденция скрывается за равновесием составляющих ее противоречивых начал — тогда конечная «победа» над произведением искусства (то есть однозначное прояснение его мысли и задачи) оказывается невозможной. Вот поэтому Гёте заметил, что «чем недоступнее рассудку произведение, тем оно выше».
Шедевр — это некое замкнутое в себе пространство, не переохлаждаемое и не перегреваемое внутри себя. Прекрасное заключено в равновесии частей. И парадокс заключается в том, что чем совершеннее творение, тем, на самом деле, определеннее осознается отсутствие рождаемых этим творением ассоциаций. Совершенное — уникально. Или способно породить бесконечное количество ассоциаций, что в конечном счете то же самое.
Чрезвычайно точны и выразительны соображения по этому поводу, высказанные Вячеславом Ивановым. Он говорит о целокупности художественного образа (только называя его символом) следующее:
Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении, когда он изрекает на своем сокровенном (иератическом и магическом) языке намека и внушения нечто неизлагаемое, неадекватное внешнему слову. Он многолик, многомыслен и всегда темен в последней глубине… Он органическое образование, как кристалл… Он даже некая монада, и тем отличается от сложного и разложимого состава аллегории, притчи или сравнения. …Символы несказанны и неизъяснимы, и мы беспомощны перед целостным смыслом…
Как много случайного в определении значимости или предпочтении искусствоведами одного произведения другому. Не претендуя, естественно, в силу всего вышесказанного, на объективность своего суждения, хочу воспользоваться примерами из истории живописи, в частности, итальянского Возрождения. Сколько здесь общепринятых оценок, способных вызывать у меня, например, только недоумение!
Кто только не писал о Рафаэле и его «Сикстинской Мадонне»? Считается, что идея человека, обретшего, наконец, свою личность во плоти и крови, идея человека, открывшего мир и Бога в себе и вокруг себя после векового коленопреклонения перед средневековым Господом, устремленный взгляд на которого отнимал нравственные силы человека, — все это как нельзя более последовательно и окончательно воплощено в полотне гения из Урбино. Положим, с одной стороны, это так. Ибо Святая Мария в изображении художника — обыкновенная горожанка, чье психологическое состояние, отразившееся на полотне, покоится на правде жизни: она страшится за судьбу своего сына, отдаваемого в жертву людям. Пусть даже во имя их спасения. Отдаваемого в борьбе с искушением защитить его от них.
Все это действительно ярко «прописано» в картине — с моей точки зрения, слишком ярко, ибо мысль художника прочитывается с недвусмысленной, к сожалению, определенностью. Поэтому раздражает аллегорическая тенденциозность автора, тяготеющая над всей формой, в угоду которой приносятся чисто живописные качества картины. Художник концентрирует волю на прояснении мысли, умозрительной концепции своей работы и расплачивается за это рыхлостью живописи, ее анемичностью.
Я говорю о воле, энергии и законе напряжения в живописи, который представляется мне обязательным и безусловным. Но я ведь нахожу этот закон выраженным в работах современника Рафаэля, венецианца Карпаччо. В своем творчестве он действительно решает нравственные проблемы, возникающие перед людьми Возрождения, ослепленными нахлынувшей на них предметной, вещественной и людской реальностью. Решает истинно живописными, а не литературными средствами в отличие от «Сикстинской Мадонны», попахивающей проповедью и измышлениями. Новые взаимоотношения личности с материальной реальностью выражены у него мужественно и достойно — он не впадает в сентиментальную крайность, умея скрыть свою пристрастность, трепетный восторг перед лицом человеческого раскрепощения.
Гоголь писал Жуковскому в январе 1848 года:
…не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить живыми образами, а не рассуждениями. Я должен выставить жизнь лицом, а не трактовать о жизни.
Как это верно! Иначе художник как бы навязывает свои мысли зрителю. Но кто сказал, что он умнее зрителя, сидящего в зале, читателя с книгой в руках, театрала в партере? Просто поэт мыслит образами и умеет, в отличие от публики, выразить свое мировоззрение с помощью этих образов. Очевидно, что искусство ничему научить не может, если за четыре тысячи лет человечество так ничему и не научилось?!
Мы давно стали бы ангелами, если были бы способны, внимая, узнавать опыт искусства и меняться в зависимости от нравственных идеалов, выраженных в творчестве.
Искусство способно лишь подготовить человеческую душу для восприятия добра через потрясение, катарсис.
Абсурдно предполагать, что человека можно научить быть добрым. Как нельзя научиться быть «верной» женщиной на «положительном» примере пушкинской Татьяны Лариной. Искусство может дать лишь пищу, толчок, повод для душевного переживания…
Но вернемся все-таки еще раз в ренессансную Венецию… Многофигурные композиции Карпаччо поражают волшебной красотой. Может быть, даже есть смысл рискнуть и сказать — Красотой Идеи. Стоя перед ними, испытываешь тревожное чувство обещания объяснения необъяснимого. До поры невозможно понять, что создает это психологическое поле, попадая в сферу которого, невозможно уйти из-под обаяния тотально потрясающей вас почти до испуга живописи.
Пройдет, может быть, немало часов, прежде чем начнешь ощущать принцип гармонии живописи Карпаччо. А поняв, наконец, сущность, навсегда останешься под обаянием красоты и первого нахлынувшего на тебя впечатления. Принцип же в конечном счете прост необычайно и в высшем смысле выражает гуманистическую суть искусства Возрождения. На мой взгляд, в гораздо большей степени, нежели Рафаэль. Дело в том, что центром многофигурных композиций Карпаччо является каждый из его персонажей. Сосредотачивая внимание на любой из фигур, начинаешь понимать со всей непреложной очевидностью, что все остальное — лишь среда, антураж, выстроенный как пьедестал для этого «случайного» персонажа. Круг замыкается, и воля созерцающего Карпаччо покорно и безвольно струится по руслу рассчитанной художником логики чувств, блуждая от одного к другому, как бы затерянному в толпе лицу.
Я далек от того, чтобы убеждать читателя в преимуществе моего взгляда на двух великих художников, внушив почтение к Карпаччо за счет Рафаэля. Я только хочу сказать, что, несмотря на то что всякое искусство тенденциозно в конце концов, что сам стиль — не что иное, как тенденция, и все-таки одна и та же тенденция может поглотиться многослойной бездонностью выражающих ее художественных образов, а может быть выражена до плакатности наглядно, как это сделал Рафаэль в «Сикстинской Мадонне». Даже Маркс говорил о том, что тенденцию в искусстве необходимо прятать, чтобы она не выпирала, как пружины из дивана.
Конечно, всякая самостоятельно выраженная тенденция — есть драгоценное достоинство одного из многих кусочков мозаики, которая, складываясь, образует узор общего отношения творящего человечества к действительности. И все же…
Если обратиться теперь для прояснения моей позиции к творчеству одного из наиболее близких мне кинематографистов, к Луису Бунюэлю, то мы обнаружим, что его картины всегда наполнены пафосом антиконформизма. Его протест — яростный, непримиримый и жесткий — выражается, прежде всего, в чувственной ткани фильма, заражая эмоционально. Этот протест не вычислен, не умозрителен, не сформулирован интеллектуально. У Бунюэля достаточно чисто художнического чутья, чтобы не впадать в пафос политический, который, с моей точки зрения, всегда ложен, прямо выражаемый в произведении искусства. Но по существу выраженного в его картинах протеста, и политического, и социального, — хватило бы на многих режиссеров рангом пониже.
Но Бунюэль носитель прежде всего поэтического сознания. Он хорошо понимает, что эстетическая структура не нуждается в декларациях, что искусство сильно другим — своей эмоциональной убедительностью, то есть уникальной жизненностью, о которой говорил Гоголь в выше цитированном письме.
Творчество Бунюэля уходит корнями в глубины классической испанской культуры. Его невозможно представить вне вдохновенной связи с Сервантесом и Эль Греко, Гойей, Лоркой и Пикассо, Сальвадором Дали и Аррабалем. Их творчество, исполненное страсти, гневное и нежное, напряженное и протестующее, рождено глубочайшей любовью к своей родине, с одной стороны, и клокочущей в них ненавистью к безжизненным схемам, бессердечному и холодному выдаиванию мозгов — с другой. Все, что лишено живого человеческого участия, искры Божьей и привычного страдания, которые веками впитывала в себя каменистая и знойная испанская земля, остается вне их поля зрения, ослепленного ненавистью и презрением.
Верность своему призванию, равному пророческому, делала этих испанцев великими. Не случайно напряженный и мятежный пафос эльгрековских пейзажей, истовое подвижничество его персонажей, динамика его удлиненных пропорций и яростная холодность колорита, столь несвойственные его времени и близкие скорее ценителям современной живописи, даже породили легенду об астигматизме, которым якобы страдал художник и которым объясняли его тенденцию к деформации пропорций предметов и пространства. Но, думаю, это было бы слишком простым объяснением!
Дон Кихот Сервантеса стал символом благородства, бескорыстной доброты и верности, а Санчо Панса — здравого смысла и благоразумия. Сам же Сервантес оказался, если это возможно, более верным своему герою, чем тот своей Дульцинее. Сидя в тюрьме, он в ревнивой ярости, вызванной жуликом, незаконно выпустившим вторую часть приключений Дон Кихота и оскорбившим самые чистые и искренние отношения между автором и его Детищем, пишет собственную вторую половину романа, убивая в финале своего героя, дабы уже никто не смог посягнуть на святую память Рыцаря Печального Образа.
Гойя один на один противостоит жестокой анемии королевской власти и восстает против инквизиции. Его жуткие «Каприччос» становятся воплощением темных сил, бросающих его от яростной ненависти к животному ужасу, от ядовитого презрения к почти донкихотской схватке с безумием и мракобесием.
Удивительна и поучительна судьба гения в системе человеческого познания. Эти избранные Богом страдальцы, обреченные разрушать во имя движения и переустройства, находятся в противоречивом состоянии неустойчивого равновесия между стремлением к счастью и уверенностью, что оно как воплотимая реальность или состояние попросту не существует. Ибо счастье — понятие абстрактное, нравственное. А счастье реальное, счастливое счастье, заключается, как известно, в стремлении к тому счастью, которое для человека не может не быть абсолютным. Жаждется, как абсолютное. Допустим, однако, что счастье достигнуто людьми — счастье как проявление совершенной человеческой свободы воли в самом широком смысле. И в ту же секунду личность рушится. Человек становится одиноким как Вельзевул. Связь между общественными людьми обрезается, как пуповина новорожденного. И, следовательно, разрушается общество. Предметы разлетаются в пространстве, лишенные силы земного притяжения. Конечно, найдется, кто скажет, что общество и должно быть разрушено, чтобы на обломках его создать нечто совершенно новое и справедливое… Не знаю, я не разрушитель.
Вряд ли можно назвать счастьем положенный в карман благоприобретенный идеал. Как сказал поэт: «На свете счастья нет, но есть покой и воля!» Ведь стоит только приглядеться внимательно к шедеврам, проникнуть в их укрепляющую и таинственную силу, чтобы стал ясен их лукавый и одновременно святой смысл. Они, как иероглифы катастрофической опасности, стоят на пути человеческого прогресса. Они гласят: «Опасно! Сюда не ходить!»
Они выстраиваются на местах возможных и предуготовляемых исторических катаклизмов, как предупреждающие вехи у скальных обрывов или болотных трясин. Они определяют, гиперболизируют и преображают диалектический зародыш опасности, грозящей обществу, и почти всегда становятся предтечей столкновения старого с новым. Благородная, но мрачная судьба!
Поэты различают этот барьер опасности раньше своих современников — в том смысле, что они сами ближе к гениальности. Потому-то зачастую они долгое время остаются непонятыми. До того самого времени, как вызреет в чреве истории гегелевское противоречие. Когда столкновение, наконец, происходит, то потрясенные и умиленные современники ставят памятник тому, кто выразил эту молодую, полную сил и надежд тенденцию, когда она уже с недвусмысленной ясностью символизирует победительное движение вперед.
Тогда художник и мыслитель становится идеологом, апологетом современности, катализатором предопределенной перемены. Величие и двусмысленность искусства состоят в том, что оно не доказывает, не объясняет и не отвечает на вопросы даже там, где выбрасывает предупреждающие надписи, вроде: «Осторожно! Опасно для жизни!» Его воздействие связано с моральным и нравственным потрясением. А те, кто останутся холодны к его эмоциональной аргументации, не поверят — рискуют схватить лучевую болезнь… Исподволь… Незаметно для себя… С глупой улыбкой на широком безмятежном лице человека, уверенного, что Земля плоская, как блин, и покоится на трех китах.
Шедевры, не всегда различимые и различаемые среди произведений, претендующих на гениальность, разбросаны в мире, как предупреждающие надписи на минном поле. Только везение помогает нам не взорваться. Однако везение это рождает недоверие к опасности и позволяет расцвести идиотическому псевдооптимизму. На фоне такого оптимистического взгляда на мир искусство начинает раздражать, как средневековый шарлатан или алхимик. Оно кажется опасным, потому что лишает покоя…
Вспоминается, как после появления фильма «Андалузский пес» Луис Бунюэль был вынужден прятаться от преследований разъяренных буржуа и выходить из дома с револьвером в заднем кармане штанов. Это было начало — он сразу начал писать, по известному выражению, поперек линованной бумаги. Обыватели, уже начавшие привыкать к синематографу как к развлечению, подаренному им цивилизацией, вздрагивали и приходили в ужас от душераздирающих, эпатирующих образов и символов этого поистине трудно переносимого фильма. Но и здесь Бюнюэль оставался в достаточной мере художником, чтобы говорить со своим зрителем не на языке плаката, но на эмоционально заразительном языке искусства. Как удивительно точно писал Л.Н.Толстой в своем дневнике от 21 марта 1858 года: «Политическое исключает художественное, ибо первое, чтобы доказать, должно быть односторонним!» Конечно! Художественный образ не может быть односторонним, чтобы по праву называться правдивым, он должен соединять в себе диалектическую противоречивость явлений…
Естественно поэтому, что даже искусствоведы не в состоянии достаточно тактично разъять для анализа идею произведения и его поэтическую образность. Ведь мысль в искусстве не существует вне своего образного выражения, а образ существует как некое волевое постижение действительности, предпринятое художником в соответствии со своими склонностями и особенностями миросозерцания.
В детстве моя мама предложила мне впервые прочитать «Войну и мир», а потом в течение многих лет она довольно часто цитировала куски из этого романа, обращая мое внимание на тонкости и детали толстовской прозы. Таким образом «Война и мир» явилась для меня как бы школой искусства, стала критерием вкуса и художественной глубины — после этого было уже невозможно читать макулатуру, вызывавшую у меня острое чувство брезгливости.
Мережковский в своей книге о Толстом и Достоевском считал неудачными те куски у Толстого, где его герои впрямую философствуют, формулируя вербально, как бы конечные идеи о жизни… Но, вполне соглашаясь с тем, что идея поэтического произведения не должна складываться чисто умозрительно, соглашаясь с этим в самой общей форме, я должен, однако, заметить следующее: речь пойдет о значении индивидуальности в художественном произведении, искренность выражения которой является единственным залогом его единственной ценности. Так мне кажется, что критика Мережковского имеет свои вполне резонные основания, но это не мешает мне любить толстовскую «Войну и мир» даже за эти куски, если хотите. Ведь гений проявляется не в абсолютной законченности произведения, а в абсолютной верности себе, последовательности своей страсти. Страстная целеустремленность художника к правде, к осознанию мира и себя в этом мире наделяет особой значимостью даже не очень внятные или так называемые «неудачные» места его произведений.
Пожалуй, даже более того: я не знаю ни одного шедевра, лишенного определенных слабостей, свободного полностью от несовершенств. Потому что личные пристрастия, формирующие гениев, одержимость собственной идеей творчества оказываются причиной не только их величия, но и срывов. Часто определяют невосприимчивость иного видения. Только можно ли назвать то, что входит органической частью в цельное мировоззрение, срывами? Гений несвободен. Как писал Томас Манн: «Свободно только равнодушие. Характерное не бывает свободным, оно отчеканено своим чеканом, обусловлено и сковано».
Глава третья
Запечатлённое время
СТАВРОГИН:…в Апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет.
КИРИЛЛОВ: Знаю. Это очень там верно, отчетливо и точно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо. Очень верная мысль.
СТАВРОГИН: Куда же его спрячут?
КИРИЛЛОВ: Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея. Погаснет в уме.
Время — это условие существования нашего «Я». Наша питательная атмосфера, которая разрушается за ненадобностью в результате разрыва связей личности с условиями ее существования. Когда наступает смерть. И смерть индивидуального времени тоже — в результате чего жизнь человеческого существа становится недоступной для чувств остающихся в живых. Мертвой для окружающих.
Время необходимо человеку, чтобы, воплотившись, он мог осуществиться как личность. Но я не имею в виду линейное время, означающее возможность успеть что-то сделать, совершить какой-то поступок. Поступок — это результат, а я рассуждаю сейчас о причине, оплодотворяющей человека в нравственном смысле.
История — еще не Время. И эволюция тоже. Это последовательности. Время — это состояние. Пламя, в котором живет саламандра человеческой души.
Время и память растворены друг в друге — они как две стороны одной и той же медали. Совершенно очевидно, что вне времени не существует и памяти. А память — понятие слишком сложное, и перечисления всех ее признаков не достаточно, чтобы определить всю ту сумму впечатлений, которой она на нас действует. Память — понятие духовное! Пусть, например, кто-нибудь расскажет о своих детских впечатлениях, и можно с уверенностью сказать, что в наших руках окажется материал, при помощи которого мы сможем получить о человеке самое полное впечатление. Человек же, лишенный памяти, оказывается в плену некоего иллюзорного существования — выпадая из времени, он не способен ухватить свою собственную связь с внешним миром, то есть он обречен на безумие.
Будучи нравственным существом, человек наделен памятью, которая сеет в нем чувство неудовлетворенности. Она делает нас уязвимыми и способными к страданию.
Когда искусствоведы или критики исследуют время, каким оно предстает в литературе, музыке или живописи, то они говорят о способах его фиксирования. Например, исследуя произведения Джойса или Пруста, они рассматривают эстетическую механику существования в них ретроспекций, саму фиксацию вспоминающей личности своего опыта. Они исследуют те объективные формы, в которых фиксируется время в искусстве, — меня же сейчас интересуют внутренние, нравственные, имманентно присущие самому времени качества.
Время, в котором существует человек, дает ему возможность осознать самого себя как существо нравственного, стремящееся к истине. Хотя — это одновременно и сладостный и горький дар, которым владеет человек. Жизнь — всего-навсего отведенный человеку срок, в течение которого он может и должен сформировать свой дух в соответствии с собственным пониманием Цели человеческого существования. Однако жесткие рамки, в которые она втиснута, выявляют еще резче нашу ответственность перед собою и перед другими. Человеческая совесть — зависима от времени, существует благодаря ему.
Говорят — время необратимо. Это справедливо лишь в том смысле, что, как говорится, прошлое не воротишь. Но что это, в сущности такое — «прошлое»? То, что уже прошло? Но что это означает — «прошло», если для каждого именно в прошлом заложена непреходящая реальность настоящего, каждого текущего мгновения? Прошлое, в определенном смысле, гораздо реальнее или уж во всяком случае стабильнее, устойчивее настоящего. Настоящее скользит и уходит, словно песок между пальцами, и определяет свою материальную весомость лишь в воспоминании о нем. В противоположность надписи на Соломоновом кольце, как известно, гласящей, что «Все проходит», мне хочется сосредоточить внимание на обратимости времени в этическом его значении. Время не может бесследно исчезнуть, потому что является лишь субъективной духовной категорией. Время, проживаемое нами, оседает в наших душах опытом, располагающимся во времени.
Причины и следствия взаимообусловлены прямой и обратной связью. Одно порождает другое с неумолимой предопределенностью, которая оказалась бы фатальной, если бы мы были способны обнаружить все связи сразу и до конца. Связь причины и следствия, то есть переход из одного состояния в другое, — и есть форма существования времени, способ воплощения в нашей повседневной практике этого понятия. Но причина, породившая некое следствие, вовсе не отбрасывается вон, точно отработанная ступень ракеты. Имея некое следствие, мы то и дело возвращаемся к его истокам, причинам — другими словами, говоря формально, мы при помощи совести возвращаем время вспять. Причина и следствие в нравственном смысле могут оказаться в обратной связи — и тогда человек как бы вернется в свое прошлое. В своих впечатлениях о Японии русский журналист Овчинников пишет:
…считается, что время само по себе способствует выявлению сущности вещей. Поэтому японцы видят особое очарование в следах возраста. Их привлекает потемневший цвет старого дерева, замшелость камня или даже обтрепанность — следы многих рук, прикасавшихся к краю картины. Вот эти черты древности именуются словом «саба», что буквально означает ржавчина. Саба, стало быть, — это неподдельная ржавость, прелесть старины, печать времени. Такой элемент красоты, как саба, воплощает связь между искусством и природой.
В каком-то смысле японцы стремились таким образом освоить время как материал искусства.
В этом контексте трудно удержаться от ассоциации с Прустом, когда он вспоминает о своей бабушке:
Даже когда ей предстояло сделать кому-нибудь так называемый практический подарок, вроде, например, кресла, сервиза, трости, она выбирала «старинные» вещи, как если бы, оставаясь долго без употребления, они теряли свой утилитарный характер и делались пригодными скорее для повествования о жизни людей минувших эпох, чем для удовлетворения наших житейских потребностей.
«Оживить огромное здание воспоминания» — эти слова также принадлежат Прусту, и мне думается, что именно кинематограф призван сыграть в этом процессе оживления свою особую роль.
В определенном смысле идеал японцев с их «саба» — именно кинематограф. То есть совершенно новый материал — время — осваивает кино и становится новой музой в полном смысле слова.
Я не хотел бы никому навязывать свою точку зрения на кинематограф. Я рассчитываю лишь на то, что у каждого, к кому я обращаюсь (а обращаюсь я к тем, кто знает и любит кино), есть собственные соображения, свои взгляды на принципы кинематографического творчества и его восприятия.
В профессии кинематографиста и вокруг нее существует масса предрассудков. Я имею в виду не традиции, а именно предрассудки, штампы мышления, общие места, которые обычно возникают вокруг традиций и которыми любая традиция постепенно обрастает. Но достигнуть чего-либо в области творчества можно только в том случае, если ты свободен от предрассудков. Следует выработать собственную позицию, свою точку зрения — перед лицом здравого смысла, разумеется, — и хранить ее во время работы, как зеницу ока.
Кинорежиссура начинается не в момент обсуждения сценария с драматургом, не в работе с актером и не в общении с композитором, но в тот момент, когда перед внутренним взором человека, делающего фильм и называемого режиссером, возник образ этого фильма; будь то точно детализированный ряд эпизодов или только ощущение фактуры и эмоциональной атмосферы, должное быть воссозданным на экране. Режиссер, который ясно видит свой замысел и затем, работая со съемочной группой, умеет довести его до окончательного и точного воплощения, может быть назван режиссером. Однако все это еще не выходит за рамки обыкновенного ремесла. В этих рамках заключено многое, без чего искусство не может осуществить себя, но этих рамок недостаточно, чтобы режиссер мог быть назван художником.
Художник начинается тогда, когда в его замысле или уже в его ленте возникает свой особый образный строй, своя система мыслей о реальном мире и режиссер представляет ее на суд зрителей, делится ею со зрителем как своими самыми заветными мечтами. Только при наличии собственного взгляда на вещи, становясь своего рода философом, он выступает как художник, а кинематограф — как искусство (однако философом в весьма условном смысле слова). Как в высказывании по этому поводу Поля Валери: «Поэты — философы. Все равно, что спутать художника-мариниста с капитаном корабля».
Каждое из искусств живет и рождается по своим собственным законам. Когда говорят о специфических закономерностях кино, то чаще всего его сопоставляют с литературой. На мой взгляд, необходимо как можно глубже понять и выявить взаимодействие литературы и кино, чтобы яснее отделить одно от другого и больше уже их не смешивать. В чем же сходны и родственны литература и кинематограф? Что их объединяет?
Вернее всего — несравненная свобода, с какою художники имеют возможность обращаться с материалом, представляемым действительностью, и последовательно организовывать этот материал. Определение это может показаться чрезмерно широким и общим, но, как мне кажется, оно вполне объемлет то, в чем кино и литература сходны. Далее возникают непримиримые различия, которые вытекают из принципиальной разницы между словом и экранным изображением. И основное различие в том, что литература описывает мир при помощи языка, а кино языка не имеет. Оно непосредственно демонстрирует нам самое себя.
Вопрос о специфике кино с давних пор и но сей день не имеет единого и общеобязательного толкования. Существует множество различных взглядов, которые сталкиваются между собой и — что значительно хуже — смешиваются, создавая эклектический хаос. Каждый из кинематографических художников может по-своему понимать, ставить и решать вопрос о специфике кино. В любом случае возникает необходимость в строгой концепции, которая позволила бы вам сознательно творить. Ибо творить, не осознавая законов своего искусства, попросту невозможно.
Какова же специфика кино? Каковы его возможности, средства, образы — не только в формальном отношении, но и, если угодно, в духовном? В каком, наконец, материале работает режиссер кино?
Я до сих пор не могу забыть гениальный фильм, показанный в прошлом веке, фильм, с которого все и началось, — «Прибытие поезда». Этот всем известный люмьеровский фильм был снят просто в силу того, что были изобретены съемочная камера, пленка и проекционный аппарат. В этом зрелище, длящемся всего полминуты, изображен освещенный солнцем участок вокзального перрона, прогуливающиеся господа и дамы и поезд, приближающийся прямо на камеру из глубины кадра. По мере того как поезд приближался, в зрительном зале начиналась паника: люди вскакивали и убегали. Мне кажется, вот в этот самый момент и родилось кино. Это не просто техника или новый способ репродуцирования мира, нет. Родился новый эстетический принцип.
Принцип этот заключается в том, что впервые в истории искусства, впервые в истории культуры человек нашел способ непосредственно запечатлеть время. И одновременно — возможность сколько угодно раз воспроизвести это время на экране, повторить его, вернуться к нему. Человек получил матрицу реального времени. Увиденное и зафиксированное время смогло теперь быть сохраненным в металлических коробках надолго (теоретически — бесконечно).
Именно в этом смысле впервые люмьеровские фильмы таили в себе зерно нового эстетического принципа. Сразу же после них кинематограф пошел по мнимо художественному пути, который был ему навязан, — по пути наиболее верному с точки зрения обывательского интереса и выгоды. В течение двух десятилетий была «экранизирована» чуть ли не вся мировая литература и огромное количество театральных сюжетов, кинематограф был использован как способ простой и соблазнительной фиксации театрального зрелища, кино пошло тогда по ложному пути, и нам нужно отдать себе отчет в том, что печальные плоды этого мы пожинаем до сих пор. Я даже не говорю о беде иллюстративности: главная беда была в отказе от художественного использования единственно ценной возможности кинематографа — способности на целлулоидной пленке запечатлеть реальность времени.
В какой же форме время запечатлевается кинематографом? Определим ее как фактическую. В качестве факта может выступать и событие, и человеческое движение, и любой реальный предмет, причем предмет этот может представать в неподвижности и неизменности (поскольку эта неподвижность существует в реально текущем времени).
Именно здесь следует искать корень специфики киноискусства. Мне возразят, что в музыке проблема времени также принципиальна. Но решается она там совершенно иначе: жизненная материальность в музыке находится на грани своего полного исчезновения. А сила кинематографа как раз состоит в том, что время берется в реальной и неразрывной связи с самой материей действительности, окружающей нас вседневно и всечасно.
Время, запечатленное в своих фактических формах и проявлениях, — вот, в чем заключается главная идея кинематографа как искусства. Она позволяет мне думать о богатстве неиспользованных возможностей кино, о его колоссальном будущем. Исходя из нее, я и строю свои рабочие гипотезы, практические и теоретические.
Зачем люди ходят в кино? Что приводит их в темный зал, где они в течение двух часов наблюдают игру теней на полотне? Поиск развлечения? Потребность в особого рода наркотике? Действительно, по всему свету существуют тресты и концерны развлечений, эксплуатирующие и кинематограф, и телевидение, и многие другие виды зрелищ. Но не из этого следует исходить, а из принципиальной сущности кино, связанной с потребностью в освоении и осознании мира. Я думаю, что нормальное стремление человека, идущего в кино, заключается в том, что он идет туда за временем — за потерянным или упущенным, или за не обретенным доселе. Человек идет туда за жизненным опытом, потому что кинематограф, как ни одно из искусств, расширяет, обогащает и концентрирует фактический опыт человека, и при этом не просто обогащает, но делает длиннее, значительно длиннее, скажем так. Вот в чем действительная сила кино, а не в «звездах», не в сюжетах, не в развлекательности.
В чем же суть авторской работы в кино? Условно ее можно определить как ваяние из времени. Подобно тому, как скульптор берет глыбу мрамора и, внутренне чувствуя черты своей будущей вещи, убирает все лишнее, кинематографист из «глыбы времени», охватывающей огромную и нерасчлененную совокупность жизненных фактов, отсекает и отбрасывает все ненужное, оставляя лишь то, что должно стать элементом будущего фильма, то, что должно будет выясниться в качестве слагаемых кинематографического образа.
Говорят, что кино есть искусство синтетическое, что оно основано на соучастии многих смежных искусств, как-то: драмы, прозы, актерского творчества, живописи, музыки и так далее. Но на деле оказывается, что эти искусства своим «соучастием» способны так страшно ударить по кинематографу, что он может мгновенно превратиться в эклектическую неразбериху или (в лучшем случае) в мнимую гармонию, где нельзя найти действительную душу кинематографа, потому что она именно в этот момент и погибает. Стоит раз и навсегда уяснить, что кино, если оно искусство, не может быть простым сочетанием принципов других смежных искусств, и уже после этого только отвечать на вопрос о том, что же такое эта пресловутая синтетичность киноискусства. Кинематографический образ не возникает из сложения хода литературной мысли с живописной пластикой — возникнет эклектичность, либо невыразительная, либо высокопарная. Также и законы движения и организации времени в фильме не должны подменяться законами сценического времени.
Время в форме факта! Я снова напоминаю об этом. Идеальным кинематографом мне представляется хроника: в ней я вижу не способ съемки, а способ восстановления, воссоздания жизни.
Я однажды записал на магнитную ленту случайный диалог. Люди разговаривали, не зная, что их записывают. Потом я прослушал запись и подумал: насколько же это гениально «написано» и «сыграно»! Логика движения характеров, чувство, энергия — как все ощутимо! Как звучат голоса, какие прекрасные паузы!.. Никакой Станиславский не мог бы оправдать эти паузы, а Хемингуэй со своей стилистикой выглядит претенциозным и наивным в сравнении с тем, как был построен этот записанный на магнитофон диалог…
Идеальный случай работы над фильмом рисуется мне следующим образом. Автор берет миллионы метров пленки, на которой последовательно, секунда за секундой, день за днем и год за годом прослежена и зафиксирована, например, жизнь человека от рождения до самой смерти, и из всего этого в результате монтажа получаешь две с половиной тысячи метров, то есть около полутора часов экранного времени. (Интересно также представить себе, что эти миллионы метров побывали в руках у нескольких режиссеров и каждый сделал свой фильм — насколько же они будут отличаться друг от друга!)
И хотя в действительности иметь эти миллионы метров невозможно, «идеальное» условие работы не так уж нереально, к нему и следует стремиться. В каком смысле? Дело заключается в том, чтобы отбирать и соединять куски последовательных фактов, точно зная, видя и слыша, что между ними находится, что за непрерывность их связывает. Это и есть кинематограф. А в ином случае мы легко сойдем на путь привычной театральной драматургии, на путь создания сюжетной конструкции, исходя из заданных характеров. Кино же должно быть свободно в отборе и соединении фактов, взятых из сколь угодно протяженной и широкой «глыбы времени». При этом я вовсе не хотел бы сказать, что нужно неотступно следовать за определенным человеком. На экране логика поведения человека может переходить в логику совершенно других (посторонних, казалось бы) фактов и явлений, взятый вами человек может исчезнуть с экрана, заменяясь чем-то совсем иным, если это необходимо для идеи, которая руководит автором в его обращении с фактом. Можно, например, сделать фильм, в котором вообще не будет сквозного героя-персонажа, а все будет определяться «ракурсом» человеческого взгляда на жизнь.
Кинематограф способен оперировать любым фактом, распространенным во времени, он способен отбирать из жизни все, что угодно. То, что в литературе оказывается частной возможностью, особым случаем (например, «документальные» вступления в книге рассказов Хемингуэя «В наше время»), для кинематографа есть проявление его основных художественных законов. Все, что угодно! Это «все, что угодно» могло бы оказаться неограниченным для ткани пьесы, для ткани романа, для фильма же оно оказывается наиболее ограниченным.
Сопоставить человека с бесконечной средой, сличить его с несчетным количеством людей, мимо него и вдали от него проходящих, соотнести человека со всем миром — вот смысл кинематографа!
Существует термин, который уже превратился в трюизм: «поэтическое кино». Под ним подразумевается кинематограф, который в своих образах смело отдаляется от той фактической конкретности, картину которой дает реальная жизнь, и вместе с тем утверждает свою собственную конструктивную цельность. Правда, в этом таится особая опасность. Опасность для кинематографа отдалиться от самого себя. «Поэтическое кино», как правило, рождает символы, аллегории и прочие фигуры этого рода, а они-то как раз и не имеют ничего общего с той образностью, которая естественно присуща кинематографу.
Здесь я хотел бы сделать еще одно необходимое уточнение. Если время в кино предстает в форме факта, то факт дается в форме простого, непосредственного наблюдения над ним. Главным формообразующим началом кинематографа, пронизывающего его от самых мельчайших клеточек, является наблюдение.
Всем нам известен традиционный жанр старой японской поэзии — хокку. Примеры хокку приводил Эйзенштейн:
Старинный монастырь.
В поле тихо.
Холодная луна.
Бабочка летает.
Волк лает.
Бабочка уснула.
Эйзенштейн видел в этих трехстишьях образец того, как три отдельных элемента в своем сочетании дают переход в новое качество. Но принцип этот не свойственен именно кино — он присутствовал уже в самих хокку!
Меня же привлекают в хокку чистота, тонкость и слитность наблюдения над жизнью.
Удочки в волнах
Чуть коснулась на бегу
Полная луна.
Или:
Выпала роса,
И на всех колючках терна
Капельки висят.
Ведь это чистое наблюдение. Его меткость, его точность заставляют даже людей с самым неизощренным восприятием почувствовать силу поэзии и ощутить тот, простите за банальность, жизненный образ, который был схвачен автором.
И хотя я очень настороженно отношусь к аналогиям, связанным с другими искусствами, данный пример из поэзии мне кажется близким к истине кинематографа. Не забыть только, что литература и поэзия, в отличие от кино, пользуются языком.
Фильм рождается из непосредственного наблюдения над жизнью — вот, на мой взгляд, настоящий путь кинематографической поэзии. Потому что кинообраз по сути своей есть наблюдение над явлением, протекающим во времени.
Есть фильм, который предельно далек от принципов непосредственного наблюдения, это «Иван Грозный» Эйзенштейна. Фильм этот не только в своем целом состоит из иероглифов, крупных, мелких и мельчайших, в нем нет ни одной детали, которая не была бы пронизана авторским умыслом. (Я слышал, что сам Эйзенштейн в одной из лекций даже иронизировал над этой иероглификой, над этими сокровенными смыслами: на доспехах Ивана изображено солнце, а на доспехах Курбского — луна, поскольку сущность Курбского в том, что он «светит отраженным светом…») Тем не менее картина эта удивительно сильна своим музыкально-ритмическим построением. Чередование монтажных кусков, смена планов, сочетание изображения и звука — все это разработано так тонко. И строго. Поэтому «Иван Грозный» и действует так убедительно: во всяком случае, на меня эта картина именно своим ритмом произвела в свое время завораживающее действие. А в построении характеров, в конструкции пластических образов, в своей атмосфере «Иван Грозный» настолько приближается к театру (к музыкальному театру), что даже перестает, с моей сугубо теоретической точки зрения, быть произведением кинематографа. Опера днем, как сказал Эйзенштейн об одном фильме своего коллеги. Фильмы, сделанные Эйзенштейном в 20-е годы, и прежде всего «Потемкин», были совсем иными. Они были полны жизни и поэзии. Итак, кинообраз в основе своей есть наблюдение жизненных фактов во времени, организованных в соответствии с формами самой жизни, с ее временными законами. Наблюдения подлежат отбору: ведь мы оставляем на пленке только то, что имеет право быть слагаемым образа. При этом кинематографический образ нельзя делить и членить вразрез с его временной природой, нельзя изгонять из него текущее время. Образ становится подлинно кинематографическим при том (среди прочих) обязательном условии, что не только он живет во времени, но и что время живет в нем, начиная с отдельно взятого кадра.
Любой «мертвый» предмет — стол, стул, стакан, взятый в кадре отдельно от всего, не может быть представлен вне протекающего времени, как бы с точки зрения отсутствия времени.
Отступление от этого условия сразу же создает возможность тащить в фильм огромное количество атрибутов любого соседствующего искусства. С их помощью можно делать даже очень эффектные фильмы, но с точки зрения кинематографической формы они пойдут вразрез с естественным развитием природы, сущности и возможностей кино.
Ни одно из искусств не может сравниться с кинематографом в той силе, точности и жесткости, с каким оно передает ощущение факта и фактуры, живущих и меняющихся во времени, — поэтому особенно раздражают претензии нынешнего «поэтического кино», приводящие к отрыву от факта, от реализма времени, рождающие вычурность и манерность.
Современный кинематограф имеет внутри себя несколько основных тенденций развития формы, но не случайно так выделяется и так привлекает умы та из них, которая тяготеет к хроникальности. Она очень важна, она многое обещает, и поэтому ей часто стремятся подражать, вплоть до прямых подделок и передразниваний. Но не в том смысл настоящей фактографичности и настоящей хроникальности, чтобы снимать с рук трясущейся камерой, нередко даже размыто (оператор, видите ли, не успел поставить объектив на фокус), и так далее в том же роде. Суть не в том, чтобы то, как вы снимаете, передавало конкретную и неповторимую форму развивающегося факта. Нередко кадры, снятые как будто бы небрежно, по существу своему не менее условны и не менее напыщенны, чем тщательно выстроенные кадры «поэтического кино» с их нищенской символикой: и там, и здесь пересекается конкретное жизненное и эмоциональное содержание снимаемого объекта.
Также следует внимательно разобраться в проблеме так называемой художественной условности. Ибо существуют условности, действительные для искусства, и условности мнимые, которые скорее можно назвать предрассудками.
Одно дело — условность, характеризующая специфику данного вида искусства: например, как живописец неизменно имеет дело с цветом и соотношениями цвета на плоскости холста.
И другое дело — условность мнимая, которая вырастает из чего-либо преходящего, например, из поверхностного понимания сути кинематографа, или из временных ограничений в выразительных средствах, или просто из привычек и штампов, или из умозрительного подхода к искусству. Сравните внешне понятую «условность» рамок кадра и живописного полотна. Так рождаются предрассудки.
Одна из очень серьезных и закономерных условностей кинематографа заключается в том, что экранное действие должно развиваться последовательно, несмотря на реально существующие понятия одновременности, ретроспекций и проч. Для того чтобы передать одновременность и параллельность двух или нескольких процессов, неизбежно приходится приводить их к последовательности, передавать их в последовательном монтаже. Другого пути нет. В фильме Довженко «Земля» кулак стреляет в героя, и для того, чтобы передать выстрел, режиссер сталкивает кадр внезапного падения героя с другим кадром: параллельным — где-то в поле кони испуганно подняли головы, — а потом снова следует возвращение к месту убийства. Для зрителя эти кони, поднявшие головы, были опосредованной передачей раскатившегося звука. Когда же кинематограф стал звуковым, надобность в такого рода монтаже отпала. И нельзя ссылаться на гениальные кадры Довженко, дабы оправдать ту легкость, с которой в нынешнем кино без надобности прибегают к «параллельному» монтажу. Вот человек падает в воду, а в следующем кадре, условно говоря, «смотрит Маша». В этом чаще всего нет необходимости, такие кадры выглядят как рецидив поэтики немого кино. Это вынужденная условность, превращенная в предрассудок, в штамп.
Развитие техники кино в последние годы породило (или возродило) соблазн: делить широкий кадр на две или несколько частей, в которых одновременно («симультанно») можно показать два или несколько параллельно происходящих действий. С моей точки зрения, это ложный путь, это выдуманные псевдоусловности, для кино неорганичные и поэтому бесплодные.
Некоторым критикам ужасно хочется видеть кинематографическое зрелище, показываемое одновременно на нескольких — например, на шести! — экранах. Представьте себе это, и вы поймете, что это абсурд. Движение кинокадра имеет свою природу, отличную от музыкального звука, и «полиэкранное» кино в этом смысле надо сравнивать не с аккордом, не с гармонией, не с полифонией, а уж скорее с одновременным звучанием нескольких оркестров, каждый из которых исполняет разную музыку. Кроме сумбура, вы не получите ничего, законы вашего восприятия будут нарушены, и перед автором полиэкранного фильма неизбежно возникнет задача как-то приводить одновременность в последовательность, то есть создавать специально для каждого случая хитроумную систему условностей. И это будет все равно, что трогать правой рукой свою правую ноздрю, обводя руку вокруг левого уха. Не лучше ли твердо усвоить простую и закономерную условность кино как последовательного изображения и прямо исходить из этой условности? Человек же попросту не может наблюдать несколько действий одновременно, это вне его психофизиологии.
Следует различать естественные условности, на которых основывается специфика данного вида искусства, условности, определяющиеся разницей между реальной жизнью и специфически ограниченной формой данного искусства, — мнимые, выдуманные, непринципиальные условности, оборачивающиеся либо рабством перед штампами, либо безответственным фантазированием, либо заимствованием специфических принципов у смежных искусств.
Если угодно, одна из важнейших условностей кино в том и состоит, что кинообраз может воплощаться только в фактических натуральных формах видимой и слышимой жизни. Изображение должно быть натуралистично. Говоря о натуралистичности, я не имею в виду натурализм в ходячем литературоведческом смысле слова (то, что вокруг Золя, и тому подобное), я подчеркиваю характер чувственно воспринимаемой формы кинообраза.
Мне могут сказать: а как же тогда быть с авторской фантазией, с миром внутренних представлений человека, как воспроизводить то, что человек видит «внутри себя» — всякого рода сновидения, ночные и «дневные»?..
Это возможно при одном условии: «сновидения» на экране должны складываться из тех же точно видимых, натуральных форм самой жизни. Иногда поступают так: снимают нечто рапидом или сквозь туманный слой, или употребляют старозаветное каше, или вводят музыкальные эффекты — и зритель, уже приученный к этому, сразу реагирует: ага, это он вспоминает! Это ей снится! Но ведь такими способами таинственного размазывания мы не достигнем настоящего кинематографического впечатления снов или воспоминаний. Кинематографу нет дела, не должно быть дела до заимствованных театральных эффектов. Что же нужно? Нужно прежде всего знать, какой сон приснился нашему герою. Нужно точно знать реальную, фактическую подоплеку этого сна: видеть все эти элементы реальности, которые преломились в бодрствующем среди ночи слое сознания (или которыми оперирует человек, воображая себе какую-то картину). И нужно точно, без затуманиваний и без внешних ухищрений, передать все это на экране. Мне снова могут сказать: как же быть со смутностью, неясностью, невероятностью сна? Я отвечу: для кинематографа так называемая «смутность» и «несказанность» сна не означает отсутствия четкой картины: это есть особое впечатление, которое производит логика сна, необычность и неожиданность в сочетании и столкновении вполне реальных элементов. Их же нужно видеть и показывать с предельной точностью. Кинематограф самой своей природой обязан не затушевывать реальность, а выявлять ее. (Кстати, самые интересные и самые страшные сны — это те, из которых вы помните все, вплоть до мельчайших деталей.)
Мне хочется еще и еще раз напомнить о том, что непременное условие любого пластического построения в фильме и его необходимый конечный критерий заключается каждый раз в жизненной подлинности, в фактической конкретности. Отсюда и возникает неповторимость, а не из того, что автор нашел особое пластическое построение и связал его с загадочным поворотом своей мысли, дал ему «от себя» какой-то смысл. Так рождаются символы, которые с легкостью переходят в общее употребление и превращаются в штампы.
Чистота кинематографа, его незаимствованная сила проявляются не в символической остроте образов (пусть самой смелой), а в том, что эти образы выражают конкретность и неповторимость реального факта.
В фильме Бунюэля «Назарин» есть эпизод, действие которого происходит в деревушке, где свирепствует чума, иссушенной, каменистой, сложенной из известняка. Что делает режиссер для того, чтобы добиться впечатления вымороченности? Мы видим пыльную дорогу, снятую вглубь, и два ряда уходящих в перспективу домов, снятых в лоб. Улица упирается в гору, поэтому неба не видно. Правая часть улицы в тени, левая освещена солнцем. Улица совершенно пуста. По середине дороги — из глубины кадра — прямо на камеру идет ребенок и волочит за собой белую, ярко-белую простыню. Камера медленно движется на операторском кране. И в самый последний момент — перед тем как этот кадр сменится другим, следующим, — поле кадра вдруг перекрывается опять-таки белой тканью, мелькнувшей в солнечном свете. Казалось бы, откуда ей взяться? Может быть, это простыня, которая сушится на веревке? И тут вы с удивительной силой ощущаете «дуновение чумы», схваченное прямо-таки невероятным образом, как медицинский факт.
Еще один кадр — из фильма «Семь самураев». Средневековая японская деревня. Идет схватка всадников с пешими самураями. Сильный дождь — все в грязи. На самураях старояпонская одежда, высоко обнажающая ноги, залепленные грязью. И когда один из самураев, убитый, падает — мы видим, как дождь смывает эту грязь, и его нога становится белой. Белой как мрамор. Человек мертв — это образ, который есть факт. Он чист от символики, и это образ.
А может быть, он получился случайно — актер бегал, потом упал, дождь смыл грязь, а уже мы воспринимаем это как режиссерское откровение?
В связи со всем этим — о мизансцене. В кино мизансцена, как известно, означает форму размещения и движения выбранных объектов по отношению к плоскости кадра. Чему мизансцена служит? На этот вопрос вам в девяти из десяти случаев ответят: она служит для того, чтобы выразить смысл происходящего. И все. Но ограничивать только этим назначение мизансцены нельзя, потому что это значит становиться на путь, который ведет в одну сторону — в сторону абстракций. Де Сантис в финальной сцене своей картины «Дайте мужа Анне Дзаккео» поместил, как все помнят, героя и героиню по обе стороны металлической решетки забора. Эта решетка так прямо и говорит: эта пара разбита, счастья не будет, контакт невозможен. Получается, что конкретная, индивидуальная неповторимость события приобретает банальнейший смысл из-за того, что ему придана тривиальная насильственная форма. Зритель сразу же ударяется в «потолок» так называемой мысли режиссера. Но беда в том, что многим зрителям такие удары приятны, от них становится спокойно: событие «переживательное», да и к тому же мысль ясна и не надо напрягать свой мозг, свой глаз, не надо вглядываться в конкретность происходящего. И зритель начинает разлагаться, если ему давать такую пищу. А ведь подобные решетки, заборы, загородки повторялись множество раз во многих фильмах, везде означая то же самое.
Что же такое мизансцена? Обратимся к лучшим литературным произведениям. Я еще раз напоминаю о том, о чем уже приходилось писать, — финальный эпизод из романа Достоевского «Идиот», когда князь Мышкин приходит в комнату с Рогожиным, где за пологом лежит убитая Настасья Филипповна и уже пахнет, как говорит Рогожин. Они сидят на стульях посреди огромной комнаты друг против друга так, что касаются друг друга коленями. Представьте себе все это, и вам станет страшновато. Здесь мизансцена рождается из психологического состояния данных героев в данный момент, он неповторимо выражает сложность отношений их. Так вот, режиссер, создавая мизансцену, обязан исходить из психологического состояния героев, во всей внутренней динамической настроенности ситуации и возвращать все это к правде единственного, как бы впрямую наблюденного факта и к его фактурной неповторимости. Только тогда мизансцена будет сочетать конкретность, многозначность истинной правды.
Иногда говорят: какая разница, как мы поставим актеров? — встали у этой стены, разговаривают, крупным планом снимаем его, крупным планом ее, а потом они разойдутся. Но ведь самое главное при этом не продумано. И дело тут бывает не только в режиссере, но и — очень часто — в сценаристе.
Если не отдавать себе отчета в том, что сценарий предназначается для фильма (и в этом смысле является «полуфабрикатом» — не более, но и не менее!), невозможно сделать хороший фильм. Можно сделать нечто другое, новое, и даже хорошо сделать, но сценарист останется недоволен режиссером. Не всегда справедливы обвинения по адресу режиссера в том, что он «разрушает интересный замысел». Ведь замысел бывает зачастую настолько литературен — и лишь в этом смысле интересен, — что режиссер просто вынужден его трансформировать и ломать, чтобы сделать фильм. Собственно литературная сторона сценария (помимо чистого диалога) в лучшем случае может быть полезна режиссеру для того, чтобы намекнуть на внутреннее эмоциональное содержание эпизода, сцены, даже фильма в целом. (Например, в одном сценарии Фридриха Горинштейна написано: в комнате пахло пылью, засохшими цветами и высохшими чернилами. Мне это очень нравится, потому что я начинаю представлять себе облик и «душу» интерьера, и если художник принесет его эскизы, я смогу сразу определить — какой «тот» и какой «не тот». Все же на таких ремарках невозможно основывать узловую образность фильма: они, как правило, помогают только находить атмосферу.) Во всяком случае, настоящий сценарий, с моей точки зрения, — это такой сценарий, который сам по себе не предназначен оказывать на читателя завершенное и окончательное воздействие, а рассчитан на то, что будет превращен в фильм и только тогда произведение приобретет законченную форму.
Однако перед сценаристами стоят очень важные задачи, выполнение которых требует настоящего писательского дара. Я говорю о психологических задачах. Вот тут уже осуществляется действительно полезное, действительно необходимое влияние литературы на кинематограф, не ущемляющее и не искажающее его специфики. Сейчас в кинематографе нет ничего более запущенного и поверхностного, чем психология. Я говорю о понимании и раскрытии глубинной правды тех состояний, в которых находится характер. Этим пренебрегают. А ведь это — то самое, что заставляет человека застывать на ходу в самой неудобной позе или прыгать с пятого этажа!
Кино требует и от режиссера, и от сценариста колоссальных знаний в каждом отдельном случае, и в этом смысле автор фильма должен быть родственен не только сценаристу-психологу, но и специалисту-психиатру. Потому что пластика кинематографа в огромной, часто решающей степени зависит от конкретного состояния человеческого характера в конкретных обстоятельствах. И своим знанием полной правды об этом внутреннем состоянии сценарист может и должен влиять на режиссера, он может и должен многое дать режиссеру, вплоть до того, как строить мизансцену. Можно написать: «Герои останавливаются у стены» — и дальше дать диалог. Но чем определяются говоримые слова и соответствует ли этому стояние у стены? Нельзя в высказанных персонажами словах сосредотачивать смысл сцены. «Слова, слова, слова» — в реальной жизни это чаще всего вода, и только изредка и на короткое время мы можем наблюдать полное совпадение слова и жеста, слова и дела, слова и смысла. Обычно же слово, внутреннее состояние и физическое действие человека развиваются в различных плоскостях. Они взаимодействуют, иногда слегка вторят друг другу, чаще противоречат, а подчас, резко сталкиваясь, друг друга разоблачают. И только при точном знании того, что и почему творится одновременно в каждой из этих «плоскостей», только при полном знании этого можно добиться той неповторимости, той истинности, той силы факта, о которой я говорил. И если брать мизансцену, то от ее точного соотнесения и взаимодействия с произносимым словом, от их разнонаправленности и родится тот образ, который я называю образом-наблюдением. То есть образ совершенно конкретный. Вот для чего сценарист должен быть настоящим писателем.
Когда режиссер получает в свои руки сценарий и начинает над ним работать, то всегда оказывается, что сценарий, как бы ни был он глубок по замыслу и точен по своей предназначенности, неизбежно начинает изменяться. Никогда он не получает буквального, дословного, зеркального воплощения на экране. Всегда происходят определенные деформации. Поэтому работа сценариста с режиссером, как правило, оборачивается борьбой и конфликтами. Полноценный фильм может получиться и тогда, когда в процессе работы сценариста и режиссера ломаются и рушатся их первоначальные замыслы и на их руинах возникает новая концепция, новый организм.
Вообще же говоря, работу режиссера становится все труднее отделять от работы сценариста. В современном киноискусстве режиссер все более стремится к авторству, и это естественно, а от сценариста требуется все больше режиссерского разумения, это тоже естественно. Поэтому, быть может, самым нормальным вариантом авторской работы над фильмом стоило бы считать тот случай, когда замысел не ломается, не деформируется, а развивается органически, а именно, когда постановщик фильма сам для себя написал сценарий — и наоборот — автор сценария сам начал ставить фильм.
Стоит отметить специально так же то, что авторская работа начинается с идейного замысла, с необходимости рассказать о чем-то важном. Это ясно, и иначе быть не может. Конечно, бывает и так, что автор находит для себя какой-то новый угол зрения, открывает для себя какую-то серьезную проблему, идя, казалось бы, от решений чисто формальных задач, тому немало примеров в разного рода искусствах, но все равно это происходит лишь тогда, когда идейная форма (как бы неожиданно) «ложится» на душу этого человека, на его тему, на идею, которую он — сознательно или безотчетно — давно несет через всю свою жизнь. (Примером такого произведения мог бы стать — если я его правильно понял — фильм Годара «На последнем дыхании».)
Очевидно, самое трудное для человека, работающего в искусстве, — создать для себя собственную концепцию, не боясь ее рамок, даже самых жестких, и ей следовать. Проще всего быть эклектичным, следовать шаблонным образцам, которых достаточно в нашем профессиональном арсенале. И режиссеру легче, и зрителю проще. Но здесь самая страшная опасность — запутаться.
Я вижу ярчайшее проявление гениальности в том, что художник следует своей концепции, своей идее, своему принципу так последовательно, что никогда не теряет контроля этой своей концепции, своей истины: даже ради собственного наслаждения во время работы.
Гениальных людей в кинематографе немного. Брессон, Мизогути, Довженко, Параджанов, Бунюэль… Каждого из них невозможно спутать ни с кем другим. Есть прямое русло, которым идет такой художник, пускай с большими издержками, со слабыми местами, с надуманностями даже, но все во имя единой цели, единой концепции.
В мировом кинематографе было немало попыток создать новые концепции фильма как раз в связи с общей идеей приближения к жизни, к правде факта. В свое время появились такие картины, как «Тени» Кассаветиса, «Связной» Ширли Кларк, «Хроника одного лета» Жана Руша. В этих примечательных картинах, помимо всего прочего, сказалась недостаточная принципиальность, недостаточная последовательность в этой самой погоне за полнотой и безусловностью фактической правды.
В Советском Союзе в свое время очень много говорили о фильме Калатозова и Урусевского «Неотправленное письмо». Его обвиняли главным образом в схематичности и незавершенности характеров, в банальностях любовного «треугольника», в несовершенстве сюжетного построения, а, на мой взгляд, беда фильма была не в этом, а в том, что авторы — и в общем художественном решении фильма, и в разрешении каждого характера — не пошли до конца по тому пути, который сами же нашли и наметили. Надо было неотступно прослеживать камерой, так сказать, фактические судьбы этих людей в тайге, не отвлекаясь на то, чтобы там или здесь соблюсти фабульные связи, заданные в сценарии. Авторы то восстают против заданного сюжета, то вдруг подчиняются ему. Характеры не то, что не созданы, они разрушены. Или разрушены не до конца. Придерживаясь остатков традиционного сюжета, авторы не смогли бы до конца быть свободны на своем собственном пути, на котором они могли бы увидеть и создать образы своих героев совершенно по-новому. Беда тут в недостаточной верности собственному принципу.
Художник обязан быть спокойным. Он не имеет права обнаруживать свое волнение, свою заинтересованность и изливать все это на зрителя. Любая взволнованность предметом должна обернуться олимпийским спокойствием формы. Только тогда художник может рассказать о волнующих его вещах.
Почему-то вспоминается работа над «Андреем Рублевым».
Действие фильма происходит в XV веке, и мучительно трудным оказалось представить себе «как там все было». Приходилось опираться на любые возможные источники: на архитектуру, на словесные памятники, на иконографию.
Если бы мы пошли по пути воссоздания живописной традиции и живописного мира тех времен, то возникла бы стилизованная и условная древнерусская действительность, такая, которая в лучшем случае напоминала бы тогда миниатюры или иконопись той эпохи. Но для кинематографа этот путь был бы ложным. Я никогда не понимал, как можно, например, строить мизансцену, исходя из каких-либо произведений живописи. Это значит создавать ожившую живопись, а потом удостаиваться поверхностных похвал, вроде: ах, как почувствована эпоха! ах, какие интеллигентные люди! Но это же значит целенаправленно изничтожать кинематограф…
Поэтому одна из целей нашей работы заключалась в том, чтобы восстановить реальный мир XV века для современного зрителя, то есть представить этот мир таким, чтобы зритель не ощущал «памятниковой» и музейной экзотики ни в костюмах, ни в говоре, ни в быте, ни в архитектуре. Для того чтобы добиться правды прямого наблюдения, правды, если можно так сказать, «физиологической», приходилось идти на отступления от правды археологической и этнографической. Условность возникала неизбежно, однако это была условность, прямо противоположная условностям «ожившей живописи». Если бы вдруг появился зритель из XV века, он воспринял бы отснятый материал как зрелище весьма странное. Но не более странное, чем мы сами и наша действительность. Мы живем в XX веке и именно поэтому лишены возможности сделать фильм, непосредственно пользуясь материалом шестисотлетней давности. Но я был и остаюсь при том мнении, что можно достигнуть наших целей даже при этих сложных условиях, если мы пойдем до конца по точно избранному пути, хотя для этого приходится работать «не видя белого света». Куда проще было бы выйти на сегодняшнюю московскую улицу и пустить в ход скрытую камеру.
Мы не можем восстановить XV век буквально, как бы мы ни изучили его по памятникам. Мы и ощущаем его совершенно иначе, нежели люди, в том веке жившие. Но вещь и рублевскую «Троицу» мы воспринимаем по-другому, не так, как ее современники. А все-таки жизнь «Троицы» продлилась сквозь века: она жила тогда, она живет сейчас, и она связывает людей XX века с людьми XV века. Можно воспринимать «Троицу» просто как икону. Можно воспринимать ее как великолепный музейный предмет, скажем, как образец живописного стиля определенной эпохи. Но есть еще одна сторона в восприятии этой иконы, этого памятника: мы обращаемся к тому человеческому духовному содержанию «Троицы», которое живо и понятно для нас, людей второй половины XX века. Этим определяется и наш подход к той реальности, которая породила «Троицу». Подходя так, мы должны были вносить в тот или иной кадр нечто такое, что разрушало бы ощущение экзотики и музейной реставрированности.
В сценарии был написан эпизод: мужик сделал себе крылья, влез на собор, прыгнул оттуда и разбился о землю. Мы «восстановили» этот эпизод, проверяя его психологическую суть. Очевидно, был такой человек, который всю жизнь думал о том, как он полетит. Как это могло происходить на самом деле? За ним бежали люди, он торопился… Потом он прыгнул. Что мог увидеть и почувствовать этот человек, впервые полетевший? Он ничего не успел увидеть, упал и разбился. Почувствовал он разве только свое падение, неожиданное и страшное. Пафос полета, символика полета уничтожены, ибо смысл тут самый непосредственный, первичный по отношению к тем ассоциациям, к которым мы уже привыкли. На экране должен был появиться простой грязный мужик, затем его падение, удар о землю, смерть. Это конкретное событие, человеческая катастрофа, наблюдаемая окружающими так же, как если бы кто-то сейчас на наших глазах кинулся почему-то навстречу автомобилю и вот лежит раздавленный на асфальте.
Мы долго искали возможность разрушить пластический символ, на котором строится этот эпизод, и пришли к мысли о том, что корень зла именно в крыльях. И чтобы разрушить «икарийский» комплекс эпизода, был выдуман воздушный шар. Нелепый, сделанный из шкур, веревок и тряпок. На наш взгляд, он убивал ложный пафос эпизода и делал событие уникальным.
Прежде всего, следует описать событие, а не свое отношение к нему. Отношение к событию должно определяться всей картиной и вытекать из ее целостности. Это как в мозаике: каждый кусочек имеет свой собственный ровный цвет. Он или голубой, или белый, или красный — они все разные. А потом вы смотрите на завершенную картину и видите, что имел в виду автор.
…Я очень люблю кино. Я еще сам многого не знаю: будет ли моя работа, например, так уж точно соответствовать той концепции, которой я придерживаюсь, той системе рабочих гипотез, что я сейчас выдвигаю. Кругом слишком много соблазнов: соблазн штампов, соблазн предрассудков, соблазн общих мест, чужих художественных идей. Ведь, в общем, так просто снять сцену красиво, эффектно, на аплодисменты… Но стоит лишь свернуть на этот путь — и ты погиб.
А ведь при помощи кинематографа можно ставить самые сложные проблемы современности — на уровне тех проблем, которые в течение веков были предметом литературы, музыки, живописи. Нужно только искать, каждый раз заново искать тот путь, то русло, которым должно идти искусство кинематографа. Я убежден, что для любого из нас работа практическая в кино может оказаться бесплодным и безнадежным делом, если он не поймет точно и недвусмысленно, в чем состоит внутренняя специфика этого искусства, если не найдет внутри себя собственный ключ к ней. Вот я и говорил о своем взгляде на эту специфику.
Глава четвертая
Предназначение и судьба
Таким образом, кино, как и любое другое искусство, имеет свой особый поэтический смысл. И свое собственное предназначение, свою судьбу: оно возникло, чтобы выразить особую специфическую часть жизни, часть Вселенной, которая до этого осмыслена не была и до поры не могла быть выражена другими жанрами искусства. Мы уже говорили об этом. Тот или иной вид искусства всегда возникает в результате духовной потребности в нем и играет особую роль в постановке глубинных проблем, встающих перед нашим временем.
Кстати отметить любопытное соображение, высказанное Павлом Флоренским в «Иконостасе», где он пишет об обратной перспективе. Он считает, что существование в древнерусской живописи обратной перспективы связано вовсе не с тем, что русские иконописцы якобы не знали оптических законов, освоенных итальянским Возрождением и которые в Италии начал разрабатывать Альберти. Флоренский не без основания считает, что, наблюдая природу, невозможно было пройти мимо открытия перспективы, не заметить ее. Правда, в ней можно было не нуждаться до поры до времени — то есть можно было ею пренебречь. Поэтому обратная перспектива в древнерусской живописи в отличие от перспективы возрожденческой выражает потребность в особом освещении особых духовных проблем, которые ставили перед собою древне-русские живописцы в отличие от итальянских живописцев Кватроченто (кстати, существует версия о том, что Андрей Рублев даже бывал в Венеции и не мог в таком случае не знать о том, как итальянские живописцы разрабатывали проблему перспективы).
Кино, если округлить дату его рождения, является ровесником XX столетия. Это не случайно. И означает, что более восьмидесяти лет назад возникли достаточно веские причины, обусловившие рождение новой Музы.
До кинематографа, пожалуй, ни один из видов искусства не возникал в результате технологического изобретения, которое было вызвано к жизни определенной насущной потребностью. Кинематограф явился тем инструментом нашего технического века, который понадобился человечеству для дальнейшего освоения реальности. Ведь каждое из искусств овладевает только одним из аспектов духовного и нравственного познания окружающей нас действительности.
Для того чтобы распознать эстетические рамки кинематографа, пределы его влияния — следует начать издалека. Если оно родилось на переломе столетий, то, видимо, какие-то возникшие на нашей памяти потребности человеческой души требовали этого. Какова же сфера его влияния? Действительно, закономерно ли время его рождения?
В процессе защиты человека от стихий, угрожающих ему на пути его эволюции, человечество вырабатывает, по выражению Оппенгеймера, иммунитет. Он дает нам возможность высвободить максимум своей энергии для труда, творчества и быть менее зависимыми от природных условий.
Процесс этот по необходимости втягивает в себя общественного человека. И в XX веке занятость человека в общественной деятельности многократно, неизмеримо возрастает: и в промышленности, и в науке, и в экономике, и во многих других областях жизни, требующих постоянного усилия и не ослабляемого внимания, то есть, прежде всего, времени.
Итак, к началу века возникло множество социальных групп, отдающих обществу иногда даже более чем треть своего времени. Стала расти специализация. Время же специалистов оказывалось все в большей и большей зависимости от их дела. Жизнь и судьба стали складываться в связи и во взаимоотношениях с профессией. Человек стал жить более замкнуто, часто по расписанию, резко ограничивающему его опыт в широком смысле этого слова, в смысле общения друг с другом или получения непосредственных жизненных впечатлений. Зато очень вырос так называемый узкоспециальный опыт, которым в конечном счете эти отдельные группы специалистов почти перестали обмениваться.
Возникла угроза ущербности информации в смысле ее однообразия и односторонности, рождающихся в замкнутой системе одной из общественных занятостей. Стало меньше возможностей обмениваться опытом, ослабли связи людей друг с другом. Одним словом, духовное совершенствование индивидуальности оказалось в опасном состоянии невозможности реализации, ограниченное рамками лишь индустриальной необходимости. Судьба человека становится стандартной, часто независимой от индивидуальных качеств личности. И вот когда человек оказывается поставленным в прямую зависимость от своей общественной судьбы, а стандартизация индивида превратилась во вполне реальную угрозу — именно тогда и родилось кино.
Оно чрезвычайно быстро и динамично завоевывало публику, становясь одной из наиболее доходных статей в экономике государства. Чем объяснить, что миллионные аудитории стали заполнять кинозалы и с душевным трепетом переживать волшебные мгновения, когда гаснет свет в зале и на экране вспыхивают первые кадры фильма?
Зритель, покупая билет в кино, словно стремится заполнить пробелы собственного опыта, и как бы бросается в погоню за «утерянным временем». То есть стремится восполнить тот духовный вакуум, который образовался вследствие специфики его нынешнего существования, связанного с занятостью и ограниченностью контактов, с бездуховностью современного образования.
Можно сказать, конечно, что недостаточность собственного духовного опыта восполняется также при помощи других искусств и литературы. В связи с поисками «утерянного времени», конечно, немедленно вспоминается Пруст с его томами, озаглавленными «В поисках утраченного временем». Но ни одно из старых и «почтенных» искусств не имеет такой массовой аудитории, как кинематограф. Может быть, тот ритм, тот способ, которым кинематограф сообщает зрителю тот сконденсированный опыт, которым хочет поделиться автор, наиболее точно соответствует ритмам современной жизни с ее дефицитом времени? Может быть, даже точнее сказать, что кинематограф не столько динамичен в завоевании аудитории, сколько завоевывает аудиторию самой своей динамичностью? Но каждому ясно, что гигантская эта аудитория — всегда палка о двух концах. Ведь динамичность и развлекательность импонируют как раз самой инертной части публики.
В наше время реакция зрителей на тот или другой фильм, выходящий на экраны, принципиально отлична от впечатления, которые производили ленты 20-х и 30-х годов. Когда тысячи людей шли на «Чапаева» в России, например, то это впечатление, или, точнее, воодушевление, вызванное картиной, было тогда в полном и, как тогда казалось, естественном согласии с ее качеством: зрителям предлагалось как бы подлинное произведение искусства, но оно привлекало их на самом деле, потому что являлось новым и неосвоенным жанром.
Теперь же сложилась ситуация, при которой очень часто зритель предпочитает коммерческую чушь бергмановской «Земляничной поляне» или «Затмению» Антониони. Профессионалы в этом случае недоуменно разводят руками, часто заранее прогнозируя серьезным значительным работам, что они де не будут иметь успеха у широкого зрителя…
В чем же здесь дело? В падении нравов или в оскудении режиссуры?
Просто теперь кинематограф существует и развивается в новых условиях, глубоко отличных от тех, к которым до сих пор нас достаточно произвольно отбрасывает память. То тотальное, захватывающее впечатление, которое ошеломило когда-то зрителей 30-х годов, объяснялось всеобщей радостью восторженных свидетелей рождения нового искусства, недавно обретшего к тому времени еще и звук. Само явление этого нового искусства, демонстрировавшего новую целостность, новую образность, вскрывающего неизведанные аспекты действительности, — поражало зрителей и не могло не превратить его в страстного поклонника фильма.
Менее двадцати лет отделяют нас от грядущего XXI века. За время своего существования, переживая спады и подъемы, кино прошло трудный и запутанный путь. Возникли сложные взаимоотношения между истинно художественными фильмами и коммерческой продукцией. Пропасть между ними увеличивается с каждым днем. Хотя постоянно рождаются картины, которые являются, без сомнения, вехами в истории кинематографа.
Это связано с тем, что зрители стали дифференцированно относиться к фильмам, главным образом, в силу того, что кино само по себе, как новое и оригинальное явление, давно уже не поражает их — а разнообразие духовных запросов людей возрастает. У зрителей появились свои симпатии и антипатии. Это значит, в свою очередь, что у художников кино образуется своя аудитория, свой круг зрителей. Размежевание зрительских вкусов выражено порою предельно резко. И в этом нет ничего дурного или опасного: наличие эстетических пристрастий свидетельствует о росте самосознания.
Режиссер, в свою очередь, более углубленно занимается интересующими его аспектами действительности. Появляются верные зрители и любимые режиссеры — поэтому не стоит сегодня ориентироваться и рассчитывать на тотальный успех у зрителя, если, конечно, быть заинтересованными в том, чтобы кинематограф развивался не как аттракцион, но как искусство. Более того, массовый успех фильма сегодня заставляет подозревать его в принадлежности не искусству, а так называемой массовой культуре.
Сегодняшнее руководство советским кинематографом, которое настаивает на том, что массовая культура живет и развивается на Западе, а советские художники призваны вершить «подлинное искусство для народа», — на самом деле заинтересовано в создании фильма массового спроса и, велеречиво рассуждая о развитии «подлинно реалистических традиций» в советском кинематографе, на самом деле исподволь поощряет к производству фильмы весьма далекие от действительности и тех проблем, которыми на самом деле живет народ. Кивая на успехи советского кино 30-х годов, они и сейчас мечтают о массовых аудиториях, всеми правдами и неправдами пытаясь делать вид, что ничего не изменилось с тех пор во взаимоотношениях фильма и публики.
Но прошлого, к счастью, не вернуть — растет индивидуальное самосознание, достоинство собственных взглядов на жизнь. Кино благодаря этому развивается, усложняется его форма, втягивающая в себя все углубляющуюся проблематику, вскрывающая вопросы, объединяющие самых разных людей с разной судьбой, противоречивыми характерами и несхожими темпераментами. Сейчас невозможно представить себе единодушной реакции даже на самое, что называется, бесспорное явление искусства, глубокое, яркое и талантливое. Коллективное сознание, насаждавшееся новой социалистической идеологией, под натиском реальных жизненных сложностей уступает место личностному самосознанию. Условие контакта между художником и зрителем определяется сейчас возможностью целенаправленного диалога между ними, целесообразного, желанного и необходимого для обеих сторон. Художника объединяют с его зрителем общие интересы, склонности, близкие точки зрения на предмет, наконец, общий духовный уровень. В ином случае даже самые интересные в индивидуальном отношении собеседники рискуют наскучить друг другу, вызвать неприязнь и взаимное раздражение. Это нормальный процесс, и совершенно очевидно, что даже классики далеко не равновелики в субъективном опыте каждой отдельной личности.
Человек, способный наслаждаться искусством, сам, в силу своих пристрастий, ограничивает сферу своих любимых произведений. Кстати, всеядна оказывается как раз посредственность, не способная к собственному суждению и отбору. Для человека, развитого в эстетическом и духовном смысле, не существует стереотипных, якобы «объективных» оценок. Кто эти судьи, поднявшиеся над миром ради «объективного» суда и оценки? Зато объективно существующая ситуация взаимоотношений художника со зрителем свидетельствует о том, что субъективно в искусстве оказываются заинтересованы самые широкие слои людей.
Произведения кинематографического искусства стремятся организоваться в некий сгусток опыта, материализованного художником в его фильме. Следует стремиться только к одному, но парадокс состоит в том, что правда в искусстве неизбежно оборачивается той или иной формой условности. Хотя всегда в них как бы иллюзия правды — ее образ. Индивидуальность режиссера предопределяет определенную конфигурацию взаимоотношений его с миром. Индивидуальность предопределяет и ограничивает связь с миром, избирательность связей усугубляет субъективность мира, воспринимаемого художником.
Достигнуть правды, кинематографического образа — это только слово, название мечты, констатация стремления, которое, однако, всякий раз, реализовавшись, продемонстрирует специфичность отбора, предпринятого режиссером, индивидуальное в его позиции. Стремиться же к своей правде (а другой, «общей» правды быть не может) — означает искать свой язык, свою систему выразительности, призванную оформить твои собственные идеи. Только фильмы разных режиссеров, собранные вместе, дадут некоторую относительно реальную и стремящуюся к полноте картину современного мира, его забот, волнений, проблем — воплотят в конечном итоге тот самый недостающий современному человеку обобщенный опыт, ради воплощения которого и живо искусство кино. Как, впрочем, и любой другой жанр искусства.
Должен сознаться, что до момента появления моей первой полнометражной работы «Иваново детство» ни я не чувствовал себя режиссером, ни кино не догадывалось о моем существовании.
К сожалению, вплоть до осознанной потребности в творчестве (уже после появления «Ивана») кино оставалось для меня настолько вещью в себе, что я с трудом представлял себе роль, к которой готовил меня мой учитель Михаил Ильич Ромм. Это было какое-то параллельное движение без мест соприкосновения и взаимовлияний. Будущее не соединялось с настоящим. Я не представлял себе своей духовной функции в дальнейшем. Я еще не видел той цели, которая достигается лишь в борьбе с самим собой и означает точку зрения на проблему, выраженную в определенном смысле раз и навсегда. В дальнейшем может меняться лишь тактика, цель же — никогда, ибо она означает этическую функцию.
Это был период накопления выразительных возможностей в профессиональном смысле, с одной стороны, и поиски предтечей, родителей, единой традиционной линии, которую бы я не смел оборвать из-за неграмотности и невежества — с другой. Я просто знакомился с предметом кино, в котором мне в будущем предстояло работать. Кстати, мой опыт лишний раз (и который раз!) доказывает невозможность научить быть художником посредством вуза. Для того чтобы им стать, недостаточно что-то выучить, приобрести профессиональные навыки и приемы. Более того, как сказано кем-то — чтобы хорошо писать, нужно забыть грамматику.
Человек, предпринявший попытку стать режиссером, рискует всей своей жизнью — и только он сам отвечает за этот риск. Так что риск этот должен быть осознанным поступком зрелого человека. Огромный же коллектив педагогов, «готовящий» художников, не может отвечать за годы, принесенные в жертву и потерянные неудачником, пришедшим очень часто прямо со школьной скамьи. К набору учеников в так называемые творческие вузы нельзя относиться чисто прагматически — здесь возникает этическая проблема. Когда 80 % учеников, обучавшихся «на режиссера» или «на актера», пополняют ряды профессионально непригодных людей, на всю жизнь втянутых в околокинематографическую орбиту. У подавляющего большинства таких неудачников не хватает сил бросить кино и овладеть другой профессией. Посвятив шесть лет изучению кино, людям трудно расстаться со своими иллюзиями.
В этом смысле появление первой генерации советских кинематографистов выглядит наиболее органичным. Их приход был ответом на призыв души и сердца. Это была не только удивительная, но и естественная по тем временам акция — в наше время многие не хотят понимать ее истинный смысл. Он заключается в том, что классическое советское кино делалось юношами, почти мальчиками, умевшими, однако, здраво оценивать смысл своих поступков и нести за них ответственность.
Тем не менее, достаточно поучительным оказался ВГИКовский путь, исподволь подготавливающий мою сегодняшнюю оценку опыта, на котором мы учились. Как сказал Гессе в своей «Игре в бисер»: «Истина должна быть пережита, а не преподана. Готовься к битвам!»
Движение становится истинным, то есть способным превратить традицию в общественную энергию, лишь тогда, когда судьба этой традиции, тенденция ее развития и движения совпадают с объективной логикой (пусть даже обгоняя ее) развития общества.
В этой связи стоит еще раз упомянуть здесь и о «Рублеве», которому в качестве эпиграфа вполне могла бы быть предпослана только что приведенная фраза из Гессе.
По существу концепция характера Андрея Рублева выстраивается по схеме возвращения «на круги своя», которая, надеюсь, возникает в фильме достаточно непроизвольно из более или менее естественно и органично воссоздаваемого на экране «свободного» течения жизни. История жизни Рублева для нас, по существу, история преподанной, навязанной концепции, которая, сгорев в атмосфере живой действительности, восстает из пепла как совершенно новая, только что открытая истина.
Воспитываясь в Троице-Сергиевой лавре под крылом Сергия Радонежского, нетронутый жизнью Андрей усвоил основной девиз: любовь, единство, братство. Во время междоусобных смут, братоубийственных столкновений и под пятой татар лозунг этот, инспирированный действительностью и политической прозорливостью Сергия, выражал необходимость объединения, централизации перед лицом татаро-монгольского ига как единственную возможность выжить, чтобы завоевать национальное и религиозное достоинство и независимость.
Юный Андрей воспринимал эти идеи умозрительно — он был просто воспитан на них, как говорится, «натаскан».
Выйдя из стен Троицкого монастыря, он сталкивается с неожиданной, неизвестной и поистине страшной действительностью. Трагизм этого времени может быть объяснен лишь созревшей необходимостью перемен.
Легко себе представить, как неподготовлен был Андрей к столкновению с жизнью, защищенный от нее условной монастырской стеной, искажающей ту действительную перспективу жизни, которая раскинулась далеко за ее пределами… И только пройдя по кругам страдания, приобщившись к судьбе своего народа, Андрей, потерявший веру в несовместимую с реальностью идею добра, снова приходит к тому, с чего начал. К идее любви, добра, братства. Но уже шкурой прочувствовав великую, высшую ее правду, выразившую чаяния замученного народа.
Традиционные истины остаются истинами только тогда, когда они подтверждаются собственным опытом… Вспоминая студенческие годы, годы подступа к профессии, которой я, видимо, обречен заниматься всю жизнь, и в свете моей теперешней нелегкой жизни, студенческие годы с их опытом кажутся мне довольно странными…
Мы много работали «на площадке», то есть практически занимались упражнениями в режиссуре и актерском исполнении в студенческих аудиториях, много писали, подготавливая для себя сценарии учебных работ. Но вот фильмов мы смотрели недостаточно — а теперь, насколько я знаю, ВГИКовцы смотрят их еще меньше — педагоги и начальство опасаются за дурное влияние западного кинематографа, который молодые студенты могут воспринимать недостаточно критично… Это нонсенс: невозможно понять, как возможно обучаться кинематографическим профессиям, минуя опыт современного мирового фильма. Это в конечно счете приводит к тому, что студенты изобретают велосипед. Можно ли представить себе живописца, не бывавшего в музеях или мастерских своих коллег, писателя, не читающего книг? Кинематографиста, не смотрящего фильмов? Пожалуйста — он перед вами: студент ВГИКа, который почти лишен возможности следить за достижениями мирового кинематографа, обучаясь в стенах института.
Я до сих пор помню первый фильм, который мне удалось посмотреть в институте накануне вступительных экзаменов, — «На дне» Ренуара, фильм, сделанный по мотивам М.Горького. От просмотра осталось какое-то странное загадочное впечатление и ощущение чего-то запретного, келейного и неестественного. Пепла играл Жан Габен, а Барона Луи Жуве.
Мое метафизически-созерцательное состояние как-то вдруг изменилось к четвертому курсу. В нас бурлили силы, и вся наша энергия была направлена на производственную практику, а затем на преддипломную работу, которую я снимал в режиссерском соавторстве с Александром Гордоном: мы учились на одном курсе. Это была относительно большая картина, осуществлявшаяся на средства учебной киностудии института и Центрального телевидения, — разминирование саперами склада с немецкими боеприпасами, оставшимися со времен войны.
Сняв ее по собственному, увы, совершенно беспомощному сценарию, я никак не почувствовал, что приближаюсь к пониманию того, что называется кинематографом. Беда осложнялась тем, что, снимая эту работу, нас все время тянуло к полнометражному, то есть, как нам вполне ошибочно казалось тогда, «настоящему» фильму. На самом деле снять короткий фильм едва ли не труднее полнометражного — здесь необходимо безупречное ощущение формы. Но нас обуревали в те времена в первую очередь производственно-организационные амбиции, тогда как концепция фильма как произведения искусства ускользала и не давалась в руки. Поэтому мы не сумели использовать работу над короткометражкой для определения своих эстетических задач…
Но даже теперь я не теряю надежды, что когда-нибудь мне еще удастся снять короткометражный фильм: на этот случай в моей записной книжке есть даже некоторые наметки. Вот, например, одна из них: стихотворение моего отца, поэта Арсения Александровича Тарковского, которое должен был бы читать мой отец. Должен был бы! Только увидимся ли мы теперь с ним когда-нибудь?..
Вот это стихотворение:
Я в детстве заболел
От холода и страха. Корку с губ
Сдеру — и губы облизну; запомнил
Прохладный и солоноватый вкус.
А все иду, а все иду, иду,
Сижу на лестнице в парадном, греюсь,
Иду себе в бреду, как под дуду
За крысоловом в реку, сяду — греюсь
На лестнице; и так знобит и эдак.
А мать стоит, рукою манит, будто
Невдалеке, а подойти нельзя:
Чуть подойду — стоит в семи шагах,
Рукою манит; подойду — стоит
В семи шагах, рукою манит,
Жарко
Мне стало, расстегнул я ворот, лег, —
Тут затрубили трубы, свет по векам
Ударил, кони поскакали, мать
Над мостовой летит, рукою манит —
И улетела…
И теперь мне снится
Под яблонями белая больница,
И белая под горлом простыня,
И белый доктор смотрит на меня,
И белая в ногах стоит сестрица
И крыльями поводит. И остались.
А мать пришла, рукою поманила —
И улетела…
А это изобразительный ряд, который мне давно грезился в связи с этим стихотворением:
Кадр 1. Общий дальний. Город, снятый сверху, осенью или в начале зимы. Медленный наезд трансфокатором на дерево, стоящее у оштукатуренной монастырской стены.
Кадр 2. Крупный. Панорама вверх, одновременный наезд трансфокатором. — Лужа, трава, мох, снятые крупно, должны выглядеть как ландшафт. С самого первого кадра слышен шум — резкий, назойливый — города, который затихает совершенно к концу второго кадра.
Кадр 3. Крупно. — Костер. Чья-то рука протягивает к угасающему пламени старый измятый конверт. Вспыхивает огонь. Панорама вверх. — У дерева, глядя на огонь, стоит отец (автор стихотворения). Затем он нагибается, видимо, для того, чтобы поправить огонь. Перевод фокуса на общий план. — Широкий осенний пейзаж. Пасмурно. Далеко, среди поля, горит костер. Отец поправляет огонь. Выпрямляется и, повернувшись, уходит от аппарата по полю. Медленный наезд трансфокатором до среднего плана сзади. — Отец продолжает идти.
Наезд трансфокатором с тем, чтобы идущий оказывался все время на одной и той же крупности. Затем он, постепенно поворачивая, оказывается расположенным к аппарату в профиль.
Отец скрывается за деревьями. А из-за деревьев, двигаясь в том же направлении, появляется его сын. Постепенно наезд трансфокатором на лицо сына, который в конце кадра двинется почти на аппарат.
Кадр 4. С точки зрения сына. — Движение аппарата вверх (ПНР) с приближением трансфокатором — дороги, лужи, жухлая трава. Сверху в лужу, кружась, падает белое перо.
(Это перо я потом использовал в «Ностальгии».)
Кадр 5. Крупно. Сын смотрит на упавшее перо, затем вверх на небо. Нагибается, выходит из кадра. Перевод фокуса на общий план. — Сын на общем плане поднимает перо и идет дальше. Скрывается за деревьями, из-за которых, продолжая его путь, появляется внук поэта. В руке у него белое перо. Смеркается. Внук идет по полю… Наезд трансфокатором на крупный план внука в профиль, который вдруг замечает что-то за кадром и останавливается. Панорама по направлению его взгляда. На общем плане на опушке темнеющего леса — ангел. Смеркается. Затемнение с одновременной потерей фокуса.
Стихи же должны звучать приблизительно с начала третьего кадра вплоть до конца четвертого. Между костром и упавшим пером. Почти одновременно с концом стихотворения, может быть, немного раньше начинает звучать конец финала «Прощальной симфонии» Гайдна, который заканчивается вместе с затемнением.
Правда, если бы мне на самом деле пришлось снимать эту картину, то, едва ли она была бы на экране в том виде, в каком она занесена в записную книжку: не могу согласиться с Рене Клером, сказавшим однажды, что «мой фильм уже придуман, теперь осталось только его снять». В моем случае воплощение написанного сценария на пленке происходит иначе. Мне, пожалуй, не приходилось ловить себя на том, чтобы первоначальный замысел картины изменялся в самом своем существе от замысла к воплощению. Изначальный толчок, спровоцировавший появление той или иной картины, остается неизменным, требуя своего завершения в работе. Однако в процессе съемок, монтажа, озвучания продолжают выкристаллизовываться более точные формы замысла, вся образная структура фильма до последнего момента для меня всегда неокончательна. Процесс создания любого произведения состоит из борьбы с материалом, который художник старается преодолеть во имя полной и совершенной реализации своей главной мысли, живущей в ее первом непосредственном ощущении.
Только бы не расплескать главное в процессе работы, ради чего и задумывался весь фильм!.. Тем более когда замысел воплощается кинематографическими средствами, то есть используются образы самой действительности: ведь замысел должен оживать во плоти фильма только в непосредственном соприкосновении с реальностью предметного мира.
Самая страшная, с моей точки зрения, губительная для будущего фильма тенденция состоит в том, чтобы стараться в своей работе точно соответствовать написанному на бумаге, переносить на экран заранее придуманные, часто лишь умозрительные конструкции. Эту нехитрую операцию способен произвести любой ремесленник-профессионал. Природа же живого творчества требует вкуса к непосредственному наблюдению за переменчивым вещественным миром, находящимся в непрестанном движении.
Живописец с помощью красок, литератор — слов, а композитор — звуков ведут борьбу, тяжелую, изнурительную и последовательную, за овладение материалом, ложащимся в основу их произведений.
Кино же родилось, как способ зафиксировать само движение реальности в ее фактографически-конкретной временной неповторимости, вновь и вновь воспроизведенное мгновение, мгновение за мгновением в его изменчивой текучести, которой мы оказываемся в состоянии овладеть, запечатлевая этот миг на пленке. Этим обусловлены средства кино. Авторский замысел становится живым человеческим свидетельством, волнующим и интересным для зрителя только тогда, когда мы сумеем «окунуть» его в поток стремительно убегающей действительности, закрепляемой нами в осязаемой конкретности каждого представленного мгновения, в его фактурной и эмоциональной неповторяемости и уникальности… Иначе фильм обречен — он состарится и умрет, еще не родившись…
После того как был закончен фильм «Иваново детство», я впервые ощутил, что кино где-то рядом. Как в игре «горячо — холодно», как ощущаешь присутствие человека в темной комнате, даже если тот затаивает дыхание и не дышит. Оно было где-то рядом. Я понял это по собственному волнению, похожему на беспокойство охотничьей собаки, взявшей след. Произошло чудо: фильм получился! Теперь от меня требовалось совсем другое. Я должен был понять, что такое кино.
Тут-то и возникла идея Запечатленного Времени. Идея, которая позволила мне начать конструировать концепцию, рамки которой ограничивали бы мою фантазию в поисках формы и образных решений. Концепцию, которая бы и развязывала мне руки, и дала возможность отсекать все ненужное, чуждое и необязательное. Когда бы сам собою решался вопрос, что необходимо фильму, а что ему противопоказано.
Я знаю теперь уже двух режиссеров, которые работали в жестких, но добровольных шорах, помогающих им создать истинную форму для воплощения своего замысла, — это ранний Довженко («Земля») и Брессон («Дневник сельского священника»). Но Брессон, может быть, единственный человек в кино, который достиг полного слияния своей практики с предуготованной им самим концепцией, теоретически оформленной. Я не знаю в этом смысле более последовательного художника. Его главным принципом было разрушение так называемой «выразительности» в том смысле, что он хотел сломать границу между образом и реальной жизнью, или, другими словами, саму реальную жизнь заставить звучать образно и выразительно. Никакой специальной подачи материала, никакого педалирования, никакого заметного глазу нарочитого обобщения. Словно именно о Брессоне сказал Поль Валери: «Совершенства достигает лишь тот, кто отказывается от всяческих средств, ведущих к сознательной утрировке». Видимость скромного и простодушного наблюдения за жизнью. Чем-то этот принцип близок к восточному искусству дзеновского толка, где наблюдение за жизнью парадоксальным образом переплавляется в нашем восприятии в высшую художественную образность. Может быть, только у Пушкина еще соотнесение формы и содержания так волшебно, так божественно органично. Но Пушкин, точно Моцарт: творил, как дышал, не конструируя никаких принципов по этому поводу. А вот Брессон наиболее последовательно, цельно и монолитно соединил в своем творчестве и теорию и практику в кинематографической поэзии.
Определенность и трезвость взгляда на условия своей задачи помогает находить точный эквивалент своим мыслям и ощущениям без экспериментов.
Эксперимент! Сказать еще — поиск! Может ли такое понятие, как эксперимент, иметь отношение, ну, скажем, к поэту, написавшему такие строки:
На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла:
Печаль моя полна тобою.
Тобой, одной тобой… Унынья моего
Ничто не мутит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может…
Нет ничего бессмысленнее слова «поиск» применительно к произведению искусства. Им прикрывается бессилие, внутренняя пустота, отсутствие истинного творческого сознания, ничтожное тщеславие. «Ищущий художник» — какая за этими словами мещанская амнистия убожества! Искусство — не наука, чтобы позволять себе ставить эксперимент? Когда эксперимент остается лишь на уровне эксперимента, а не интимным этапом, преодолеваемым художником на пути к законченному произведению, — тогда остается недостигнутой сама цель искусства. Небезынтересное соображение по этому поводу принадлежит тому же Валери в эссе «У Дега»:
Они (некоторые из современных Дега живописцев. — А. Т.) смешали упражнения с творчеством и превратили в цель то, что должно быть только средством. Это и есть «модернизм» (курсив мой. — А. Т.). «Закончить» произведение — значит скрыть все, что показывает или раскрывает его производственные моменты. Художник (согласно этому устаревшему требованию) должен себя утверждать только своим стилем и должен доводить свое усилие до того предела, когда работа уничтожает самый след работы. Но когда забота о мгновении и личном постепенно стала побеждать мысль о самом произведении и его длительном бытии, — требование законченности стало представляться не только личным и стеснительным, но и противоречащим «правде», «чуткости» и проявлению «гениальности». Личное стало казаться самым существенным — даже для публики! Набросок стал равнозначен картине.
Действительно, искусство второй половины XX века утеряло тайну. В наше время художник захотел мгновенного и полного признания — немедленной платы за то, что совершается в области духа. Поражает в этом контексте судьба Кафки, не напечатавшего при жизни ни одного произведения и завещавшего своему душеприказчику уничтожить написанное им. По своей душевной организации в нравственном смысле Кафка принадлежит прошлому. Поэтому он так и страдал, не способный соответствовать своему времени. А так называемое современное искусство чаще всего фикция, ибо ошибочно полагать, что метод может стать смыслом и целью искусства. Демонстрацией этого своего метода с каким-то необузданным эксгибиционизмом занимаются большинство художников нашего времени.
Проблема авангарда тоже возникла в XX веке — тогда, когда искусство постепенно теряло свою духовность. Хуже всего сейчас в этом смысле обстоит дело с современным изобразительным искусством: почти сплошь и категорически бездуховным. Принято думать, что подобное положение вещей отражает состояние обездуховленного общества. Если на уровне простой констатации этого трагического положения — то я согласен: да! отражает! Но не на уровне искусства, призванного преодолевать бездуховность — совершать эту констатацию опять-таки на духовном уровне, как это делал, например, Достоевский, первый, выразивший эту болезнь наступающего века с гениальной силой!
Понятие авангарда в искусстве лишено всякого смысла. Я могу понять, что это означает применительно к спорту, например. Но признавать авангард в искусстве — значит признавать в искусстве прогресс. Прогресс в технике — я понимаю, что это значит: это более совершенные машины, способные лучше и точнее выполнять возложенную на них функцию. Как можно быть более передовым в искусстве: возможно ли поэтому, что Томас Манн лучше Шекспира?
Об эксперименте и поиске, как правило, больше всего говорят в связи с авангардом. Но что значит эксперимент в искусстве? Попробовать и посмотреть, что получится? Но если не получилось, то и смотреть не на что: это частная проблема неудачника. Ибо произведение искусства несет в себе эстетическую и мировоззренческую цельность и завершенность — это организм, способный жить и развиваться по своим законам. Можно ли говорить об эксперименте при рождении ребенка? Это и безнравственно, и бессмысленно.
А может быть, об авангарде и эксперименте заговорили те, кто не способны были отделить зерна от плевел? И попросту терялись перед новыми эстетическими структурами и, заблудившись в действительных находках и свершениях, не способные найти свой критерий, подверстывали под эти определения все, что выходило за рамки привычного и понятного для них на всякий случай, чтобы не ошибиться? Смешно, что когда Пикассо спросили о его «поиске», то он ответил остроумно и точно, явно раздраженный вопросом: «Я не ищу, я нахожу».
Действительно, может ли понятие поиска ассоциироваться, скажем, с такой величиной, как Лев Толстой: старик, видите ли, искал! Смешно! Хотя некоторые советские искусствоведы почти так и говорят, указывая на его «заблуждения» в связи с «богоискательством» и «непротивлением злу насилием», — не там, значит, искал…
Поиск как процесс (иначе его понимать нельзя) имеет такое же отношение к целокупности произведения, как блуждание по лесу с лукошком в поисках грибов к уже найденному и собранному в лукошко. Только второе, то есть полное лукошко, и есть произведение искусства: содержимое лукошка есть реальный и безусловный результат, а «блуждание но лесу» остается личным делом, любителя прогулок и свежего воздуха. Обман на этом уровне равносилен злому умыслу. «Дурная привычка принимать метонимию за открытие, метафору за доказательство, словоизвержение за поток капитальных знаний, а себя самого за пророка — это зло рождается вместе с нами», — саркастически замечает все тот же Валери во «Введении в систему Леонардо да Винчи».
Тем более затруднены «поиски» и «эксперименты» в кинематографе. Тебе выдается пленка, аппаратура — и давай фиксируй на пленку то главное, ради чего делаешь фильм.
Замысел картины, ее цель должны быть известны режиссеру с самого начала. Здесь я уже не говорю о том, что никто не станет платить за неопределенные поиски. Как бы то ни было, неизменным остается только одно: сколько бы художник ни искал — это остается его частным, сугубо личным делом, с момента фиксации его поисков на пленке (пересъемки редки, и на производственном языке они означают — брак!), то есть с момента объективизации его замысла, предполагается, что художник уже нашел то, о чем он хочет рассказать зрителю средствами кино, а не блуждает в потемках поисков.
О замысле и формах его воплощения в фильме мы еще будем говорить подробно в следующей главе. Но пока необходимо коснуться другого распространенного вопроса «быстрого старения фильма», полагаемого его сущностным атрибутом. Об этом необходимо говорить в связи с вопросом «нравственной цели картины».
Абсурдно говорить, что устарела «Божественная комедия» Данте. Но фильмы, казавшиеся несколько лет назад крупными событиями, вдруг, неожиданно оказываются беспомощными, неумелыми, почти школярскими. В чем же здесь дело? Я вижу главную причину в том, что кинематографист, как правило, не отождествляет акт своего творчества с поступком, жизненно важным для себя предприятием, с нравственным усилием. Стареют намерения быть выразительным, современным. Нельзя им стать, если ты им не являешься. В искусствах, насчитывающих десятки веков своего существования, нет ничего естественнее и органичнее для художника, чем воспринимать себя не просто рассказчиком или интерпретатором, но, прежде всего, личностью, решившейся с максимальной искренностью оформить для людей свою истину о мире. А кинематографистов зачастую губит ощущение своей второсортности.
Впрочем, я даже нахожу этому объяснение. Кинематограф только ищет еще специфику своего языка, он лишь приближается к ее постижению. Движение на пути осознания кинематографом самого себя изначально тормозится его двусмысленным положением существования между искусством и фабрикой, первородным грехом его греховного ярмарочного происхождения.
Вопрос специфики киноязыка непрост, неясен еще даже профессионалам. Так, говоря о современном и несовременном киноязыке, мы часто подменяем его набором модных сегодня формальных приемов, к тому же частенько заимствованных из смежных искусств. Тут мы мгновенно попадаем в плен сиюминутных, временных и случайных предрассудков. Тогда оказывается возможным говорить, например, что сегодня «ретроспекция — последнее слово новизны», а завтра столь же амбициозно заявлять, что «всякий сдвиг во времени — отсталость, вчерашний день кино, тяготеющего ныне к классически последовательно развивающимся сюжетам». Но разве может тот или иной прием устареть сам по себе или сам по себе соответствовать духу времени? Наверное, все-таки в первую очередь следует понять, что хочет сказать автор, и лишь в связи с этим выяснить, почему он обращается к той или иной форме. Возможно, конечно, некритическое, эпигонское заимствование приемов, но тогда наш разговор выходит за пределы проблемы искусства, внедряясь в область подделок и ремесленничества.
Конечно, приемы кино, как и любого другого искусства, меняются. Как я уже упомянул, первые зрители кинематографа в панике бежали из зала при виде движущегося на них с экрана паровоза и вопили от ужаса, воспринимая крупный план как отрезанную голову, — сегодня эти приемы сами по себе ни у кого не вызывают специальных эмоций, и мы, как общеупотребимые знаки препинания, используем то, что вчера казалось ошеломляющим открытием. Правда, при этом никому не приходит в голову толковать о том, устарел ли крупный план…
Но открытие в области языка, прежде чем стать общеупотребимым, должно явиться как естественная и единственная возможность художника средствами своего языка максимально полно приблизиться к передаче своего мироощущения. Художник не ищет приемы сами по себе ради эстетики, а вынужден в муке изобретать средства, способные адекватно сформулировать авторское отношение к действительности.
Инженер изобретает машины, руководствуясь насущными потребностями человека — он хочет облегчить людям труд и тем самым жизнь. Но, как говорится, не хлебом единым… Можно сказать, что художник расширяет свой арсенал для того, чтобы облегчить людям общение, то есть возможность понимания друг друга на самом высоком интеллектуальном, эмоциональном, психологическом, смысловом уровне. Поэтому можно сказать, что усилия художника также направлены к тому, чтобы улучшить, усовершенствовать жизнь, облегчить взаимопонимание людей.
Иное дело, если художник далеко не всегда бывает прост и ясен, — отсюда возникают естественные сложности в его рассказе о себе и своих размышлениях о жизни, иногда не очень легко доступные пониманию. Но общение всегда требует усилий. Вне усилия, вне страстного желания — постижение одного человека другим попросту невозможно.
В таком случае открытие в области метода становится открытием человека, обретшего дар речи. И здесь можно говорить о рождении образа, то есть откровении. А те средства, которые были изобретены вчера, чтобы поведать о выстраданной, выношенной правде, — завтра вполне могут стать и становятся зачастую расхожим стереотипом.
Если ловкий ремесленник рассказывает о постороннем ему предмете на самом высоком уровне современного изложения, если он не глуп и наделен определенным вкусом, то он может ввести зрителя в заблуждение. Но все-таки преходящее значение фильма довольно скоро становится очевидным. Время рано или поздно неумолимо разоблачит то, что не выражает взглядов неповторимой личности. Ведь творчество не просто способ оформления объективно существующей информации, требующей некоторых профессиональных навыков. Оно является, в конце концов, самой формой существования человека, уникальным, единственно возможным для него способом выражения. И разве приложимо вялое слово «поиск» к вечно требующему нечеловеческих усилий преодолению немоты!
Глава пятая
Образ в кино
Скажем так: духовное, то есть значительное, явление «значительно» именно потому, что оно выходит за свои пределы, служит выражением и символом чего-то духовно более широкого и общего, целого мира чувств и мыслей, которые с большим или меньшим совершенством в нем воплотились, — этим и определяется степень его значительности…
Томас Манн «Волшебная гора»
Наивно предполагать, что в этой главе я попытаюсь сформулировать такое понятие, как художественный образ, в определенном тезисе, легко произносимом и усваиваемом. Это невозможно и нежелательно одновременно. Я могу только сказать, что для меня очевидно — образ устремляется в бесконечность и ведет к Богу. И даже то, что называется «идеей» образа в ее действительной многомерности и многозначности, принципиально невозможно выразить словами. Саму идею бесконечности нельзя выразить словами — это делает искусство. Когда я выражаю мысль в искусстве, то это означает, что я нахожу некоторую форму, которая бы максимально адекватно выражала ту идею, которая составляет мой мир, мои стремления к моему идеалу…
В этой главе я только постараюсь осмыслить рамки возможной системы, которую принято называть образной, в рамках которой я чувствую себя органично и свободно.
Бросив даже мимолетный взгляд назад, на ту жизнь, которая остается за тобою, вспоминая даже не самые яркие минуты прошлого, все-таки всякий раз поражаешься уникальности тех событий, в которых ты принимал участие, неповторимости тех характеров, с которыми ты сталкивался. Интонация уникального доминирует в каждом мгновении существования — уникален сам принцип жизни, который художник всякий раз заново старается осмыслить и воплотить, тщетно надеясь всякий раз на исчерпывающий образ Истины и Правды человеческого существования. Красота — в самой жизненной правде, если она вновь освоена и преподнесена художником со всей своей искренностью и неповторимостью.
Человек более или менее чуткий всегда отличит правду от вымысла, искренность от фальши, органичность от манерности в поведении. Существует некий фильтр, возникающий в восприятии на основании жизненного опыта, который мешает испытывать доверие к явлениям с нарушенной структурой связей. Намеренно нарушенной или невольно: от неумелости.
Есть люди, неспособные лгать. Иные лгут вдохновенно и убедительно. Третьи не умеют, но не могут не лгать. И лгут бездарно и безнадежно. В предлагаемых обстоятельствах — то есть особо точного соблюдения логики жизни — лишь вторые ощущают биение правды и способны вписываться в капризные изгибы правды жизни почти с геометрической точностью.
Образ — нечто неделимое и неуловимое, зависящее от нашего сознания и материального мира, который он стремится воплотить. Если мир загадочен, то и образ загадочен. Образ — это некое уравнение, обозначающее отношение правды и истины к нашему сознанию, ограниченному эвклидовым пространством. Несмотря на то, что мы не можем воспринимать мироздание в его целостности. Образ способен выразить эту целостность.
Образ — это впечатление от истины, на которую нам было дозволено взглянуть своими слепыми глазами. Воплощенный образ будет правдивым, если в нем постигаются связи, выражающие правду и делающие его уникальным и неповторимым, как сама жизнь в ее даже самых простых проявлениях.
Вячеслав Иванов в своих рассуждениях о символе такими словами высказывал свое отношение к нему (то, что он называет символом, я отношу к образу):
Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении, когда он изрекает на своем сокровенном (иератическом и магическом) языке намека и внушения нечто неизлагаемое, неадекватное внешнему слову. Он многолик, многосмыслен и всегда темен в последней глубине… Он — органическое образование, как кристалл. Он даже некая монада — и тем отличается от сложного и разложимого состава аллегории, притчи или сравнения… Символы несказанны и неизъяснимы, и мы беспомощны перед их целостным тайным смыслом.
Образ как наблюдение… Как тут снова не вспомнить японскую поэзию?!
В ней меня восхищает решительный отказ даже от намека на тот конечный смысл образа, который, как шарада, постепенно бы поддавался расшифровыванию. Хокку выращивает свои образы таким способом, что они не означают ничего, кроме самих себя, одновременно выражая так много, что невозможно уловить их конечный смысл. То есть: образ ее тем точнее соответствует своему предназначению, чем невозможней втиснуть его в какую-либо понятийную умозрительную формулу. Читающий хокку должен раствориться в ней, как в природе, погрузиться в нее, потеряться в ее глубине, как в космосе, где не существует ни низа, ни верха. Вот, например, хокку Басе:
Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.
Или:
Срезан для крыши камыш.
На позабытые стебли
Сыплется мягкий снежок.
А вот еще:
Откуда вдруг такая лень?
Едва меня сегодня добудились…
Шумит весенний дождь.
Какая простота, точность наблюдения! Какая дисциплинированность ума и благородство воображения! Эти строки прекрасны в неповторимости выхваченного и остановленного мгновения, падающего в вечность.
Японские поэты умели в трех строчках наблюдения выразить свое отношение к действительности. Они не просто ее наблюдали, но несуетно и несуетливо искали ее вечный смысл. Чем точнее наблюдение, тем оно уникальнее. И чем оно уникальнее, тем ближе к образу. Достоевский в свое время замечательно точно говорил о том, что жизнь фантастичнее любого вымысла!
Наблюдение тем более первооснова кинематографического образа, который изначально связан с фотографическим изображением. Кинообраз воплощается в трехмерном, доступном глазу измерении. Но, тем не менее, далеко не всякая кинематографическая фотография может претендовать на то, что она дает некий образ мира, — она чаще всего описывает лишь его конкретность. Фиксация натуралистических фактов совершенно недостаточна для того, чтобы создать кинематографический образ. Образ в кино строится на умении выдать за наблюдение свое ощущение объекта.
Обратимся к прозе и вспомним финал толстовской «Смерти Ивана Ильича». Недобрый, ограниченный человек, имеющий скверную жену и дурную дочь, умирая от рака, хочет просить у них перед смертью прощения. В этот момент, совершенно неожиданно для самого себя, он ощущает в душе такую доброту, что близкие его, озабоченные только тряпками и балами, бесчувственные и бессмысленные, вдруг представляются ему глубоко несчастными, достойными лишь жалости и всяческого снисхождения. В свои последние мгновения, умирая, ему кажется, что он ползет по какой-то длинной, мягкой, похожей на кишку черной трубе… Вдалеке как будто мерцает свет, он продирается к нему и никак не может преодолеть этот последний рубеж, разделяющий жизнь от смерти. У постели стоят его жена и дочь. Он хочет сказать им: «Простите», а вместо этого в последнее мгновение произносит: «Пропустите»…
Можно ли этот потрясающий нас до самых глубин образ трактовать как-то однозначно? Он связан с неизъяснимо глубокими нашими ощущениями и напоминает нам о наших собственных переживаниях и воспоминаниях. И потрясает, переворачивает душу как откровение. Простите за банальность, но все это настолько похоже на жизнь и на правду, о которой мы догадывались, что способно конкурировать с иными уже пережитыми или интимно воображаемыми обстоятельствами. Это узнавание, по аристотелевской концепции, знакомого нам и выраженного для нас гением. Оно обретает разную глубину и многомерность в зависимости от духовного уровня воспринимающего. А вот и «Портрет молодой женщины с можжевельником» Леонардо, использованный в моем фильме «Зеркало» в сцене короткого свидания отца, приехавшего с войны, со своими детьми.
Образы, создаваемые Леонардо, всегда поражают двумя вещами. Удивительной способностью художника рассмотреть объект извне, снаружи, со стороны — надмирностью взгляда, свойственного таким художникам, как, например, Бах или Толстой. И другое — что они воспринимаются в двояко-противоположном смысле одновременно. Невозможно выразить то окончательное впечатление, которое производит на нас этот портрет. Невозможным оказывается даже определенно сказать, нравится нам эта женщина или нет, симпатична она или неприятна. Она и привлекает, и отталкивает. В ней есть что-то невыразимо прекрасное и одновременно отталкивающее, точно дьявольское. Но дьявольское — отнюдь не в притягательно-романтическом смысле. Просто — лежащее по ту сторону добра и зла. Это обаяние с отрицательным знаком: в нем есть что-то почти дегенеративное и… прекрасное. В «Зеркале» нам этот портрет понадобился для того, чтобы, с одной стороны, найти меру вечного в протекающих перед нами мгновениях, а, с другой стороны, чтобы сопоставить этот портрет с героиней: подчеркнуть, как и в ней, так и в актрисе Тереховой эту же самую способность быть обаятельной и отталкивающей одновременно.
Если попробовать разложить портрет Леонардо на составляющие его элементы, то это попросту не принесет никаких плодов. Или, во всяком случае, это ничего не объяснит. И сама сила эмоционального воздействия, оказываемого на нас изображением этой женщины, зиждется на этой самой «невозможности предпочесть» в ней нечто законченно-определенное. Нельзя выхватить деталь из контекста целого, предпочесть одно мгновение впечатления другому и закрепить его для себя окончательно — обрести некое равновесие в отношении к представленному нам образу. Он открывает перед нами возможность взаимодействия с бесконечностью, улавливателем которой и является истинный художественный образ в своем высоком назначении… В бесконечность — с радостной, захватывающей поспешностью — устремляются наш разум и чувства.
Подобное ощущение вызвано целокупностью образа — он воздействует на нас именно этой своей невозможностью быть разъятым. Сам по себе вычлененный компонент мертв или, может быть, напротив — в каждой своей, сколь угодно малой составляющей он обнаруживает те же самые свойства, что и целое законченное произведение. А свойства эти возникают из противоположных начал, смысл которых будто в сообщающихся сосудах, переливается из одного в другой: лицо женщины, изображенной Леонардо, одухотворено высокой мыслью и в то же время она может казаться вероломной, приверженной низменным страстям. Портрет дает нам возможность увидеть в нем бесконечно много, — постигая его суть, вы будете блуждать по нескончаемым лабиринтам, не находя из них выхода. Вы почувствуете истинное наслаждение, ощущая, что неспособны его исчерпать, постигнуть до конца. Истинный художественный образ пробуждает в воспринимающем единовременное переживание в нем сложнейших, противоречивых, порою даже взаимоисключающих чувств.
Невозможно уловить момент, когда положительное в нем переходит в свою противоположность, а отрицательное устремляется к позитивному. Бесконечность — имманентно присуща самой структуре образа, но в жизненной практике человек непременно предпочитает одно другому, отбирает, ставит произведение искусства в контекст своего личного опыта. А так как в своей деятельности каждый неизбежно тенденциозен, то есть отстаивает свою собственную правду и в большом и в малом, то, приспосабливая искусство к своим насущным потребностям, начинает толковать художественный образ в соответствии со своей «выгодой». Он ставит произведение в свойственные ему жизненные контексты, сопрягает его с определенными смысловыми формулами. Ибо шедевры амбивалентны и дают основания для самых разных толкований.
Мне всегда претит намеренная тенденциозность, идеологичность, внедряемая художником в его образную систему. Во всяком случае, я сторонник того, чтобы приемы, используемые художником, не были заметны. И я сам иногда очень сожалею о некоторых кадрах, оставленных мною в моих собственных картинах, — теперь, мне кажется, это были компромиссы, возникшие в результате непоследовательности. Я бы с удовольствием, если бы не было так поздно, прокорректировал сцену с петухом в моем фильме «Зеркало», хотя многим зрителям именно эта сцена казалась весьма впечатляющей. Но это оттого, что я сыграл здесь со зрителями «в поддавки».
В эпизоде, когда замученная героиня фильма в каком-то полуобморочном состоянии решалась рубить или не рубить голову петуху, ее крупный план, заключающий сцену, мы сняли рапидом на 90 кадров в подчеркнуто неестественном освещении. Поскольку воспроизведение на экране этого кадра оказывается замедленным, то возникает ощущение раздвижения временных рамок — мы как бы погружаем зрителя в ее состояние — тормозим мгновение этого состояния, акцентируем его. Это очень плохо, потому что кадр начинает нести в себе чисто литературный смысл. Мы деформируем актрисе лицо, независимо от нее самой, как бы играя за нее. Мы педалируем, «выжимаем» нужную нам эмоцию режиссерскими средствами. Ее состояние оказывается слишком понятным, легко читаемым. А в состоянии человека, выраженном актером, всегда должна быть какая-то недоступная тайна.
Могу привести для сравнения пример удачного использования приема того же рода в том же «Зеркале»: в сцене типографии некоторые кадры также сняты рапидом, но на этот раз едва-едва заметным. Мы старались действовать деликатно и осторожно, чтобы зритель не почувствовал приема. Чтобы у него просто возникло какое-то неясное ощущение странности. Мы не старались, снимая рапидом, подчеркнуть здесь какую-то мысль. Мы хотели выразить состояние души, не прибегая к актерским средствам.
В связи с этим приходит в голову эпизод из «Трона в крови» по шекспировскому «Макбету». Как решает Куросава сцену, где Макбет заблудился в тумане. Режиссер более низкого класса, конечно, заставил бы актера метаться в поисках направления, натыкаться в тумане на деревья. А что делает гениальный Куросава? Он находит для этой сцены место с характерным, запоминающимся деревом. Всадники едут по кругу трижды, чтобы мы, наконец, поняли, снова увидев означенное дерево, что они едут мимо того же самого места, и поняли, что они заблудились. Всадники же продолжают оставаться в неведении по поводу того, что они давно сбились с пути. С точки зрения решения самой идеи пространства Куросава демонстрирует здесь высочайший уровень поэтического мышления, выражаясь просто, без всякой вычурности и претензий. Что, кажется, может быть проще, чем поставить камеру и трижды проследить путь персонажей по кругу?
Словом, образ — это не тот или иной смысл, выраженный режиссером, но целый мир, который отражается в капле воды.
В кино не существует технической проблемы выражения, если вы точно знаете, что сказать, если вы видите изнутри каждую клеточку своей картины и точно ощущаете ее. Например, в сцене, где героиня «Зеркала» случайно встречается с незнакомцем, роль которого исполнял Солоницын, нам было важно после его ухода протянуть как бы ниточку, соединяющую этих по видимости случайно столкнувшихся людей. Если бы, уходя, он просто оглянулся на героиню и выразительно посмотрел на нее, то все стало бы прямолинейным и фальшивым. Тогда и пришел в голову порыв ветра в поле, неожиданностью которого был привлечен незнакомец и оглянулся благодаря этому ветру… В этом случае, если можно так сказать, автора «нельзя поймать за руку», указав на определенность его намерения.
Когда зритель не знает причины, по которой режиссер использует тот или иной прием, тогда он склонен верить в реальность происходящего на экране, склонен верить той жизни, которую «наблюдает» художник, выращивая свои наблюдения. Если же зритель ловит, как говорится, режиссера за руку, точно зная, зачем и ради чего тот предпринимает очередную «выразительную» акцию, тогда он тут же перестает сочувствовать и сопереживать происходящему на экране. И начинает судить замысел и его реализацию. То есть вылезает та самая марксовская «пружина из матраса».
Образ призван выразить самое жизнь, а не понятия и соображения о жизни, как считал Гоголь. Он не обозначает, не символизирует жизнь, но воплощает ее, выражая ее уникальность. Но что же такое — типическое? Как соотнести уникальность и неповторимость с типическим в искусстве? Если рождение образа тождественно рождению уникального, то есть ли место типическому?
Парадокс состоит в том, что самое уникальное и неповторимое, воплощенное в образе, странным образом становится типическим. Как ни странно, но типическое находится в прямой зависимости от ни на что не похожего, единичного и индивидуального. Типическое возникает вовсе не там, как это принято считать, где фиксируется общность и похожесть явлений, а там, где выявляется их особенность. Я бы даже сформулировал таким образом: настаивая на индивидуальном, общее как бы опускается вообще, оставляется за рамками наглядного воспроизведения. Просто общее воспринимается как причина существования совершенно уникального явления.
Это может показаться странным на первый взгляд, но на самом деле не следует забывать, что художественный образ не должен вызывать никаких ассоциаций, кроме напоминания о правде. В этом контексте речь идет не столько о воспринимающем образ, сколько о художнике его создающем. Приступая к работе, художник должен верить, что он первым воплощает то или иное явление. Впервые и только так, как он его чувствует и понимает.
Художественный образ, как мы уже говорили, совершенно уникальное и неповторимое явление, в то время как жизненное явление может быть вполне банальным. Как в одном из хокку: «Нет, не ко мне, к соседу зонт прошелестел». Сам по себе прохожий с зонтом, увиденный нами в жизни, решительно ничего нового не представляет, он просто один из тех, кто куда-то спешит, укрываясь от дождя. Но в контексте указанного нами художественного образа с выразительным совершенством и простотой фиксируется жизненное мгновение, единственное и неповторимое для автора. Из двух строк мы можем легко представить себе его настроение, его одиночество, серую дождливую по¬году за окном и тщетное ожидание, что кто-нибудь чудом заглянет в его уединенное, Богом забытое жилье. Удивительная широта и емкость художественного выражения достигается через точную фиксацию ситуации и настроения.
В начале этого рассуждения мы намеренно исключили из ноля нашего зрения то, что называется образом-характером. В данном контексте кажется плодотворным привлечь его к нашему разговору. Скажем, Башмачкина или Онегина. Как художественные типы они аккумулируют в себе определенные социальные закономерности, обусловившие их появление. С одной стороны. А с другой — несут в себе некие общечеловеческие мотивы. Все это так — литературный персонаж может стать типичным, если он выражает целую группу родственных ему явлений, явившихся следствием общих закономерностей. Поэтому, как типы, тот же Башмачкин и Онегин имеют массу аналогов в жизни. Как типы — да! Это верно! Но как художественные образы они совершенно уникальны и неповторимы. Они слишком конкретны, слишком крупно увидены художниками, слишком полно несут в себе авторский взгляд, чтобы мы могли сказать, что Онегин — ну, это на самом деле прямо-таки мой сосед. Или нигилизм Раскольникова, определяемый в параметрах исторических и социологических, конечно, типичен, но в личностных, индивидуальных, образных своих параметрах совершенно неповторим. Гамлет, несомненно, тоже тип, но, грубо говоря, «где вы гамлетов-то видели, а?!»…
Возникает парадоксальная ситуация — образ знаменует собою наиболее полное выражение типического, а чем более полно он его выражает, тем индивидуальное, уникальное становится само по себе. Фантастическая вещь — образ! В определенном смысле он гораздо богаче самой жизни — пожалуй, в том именно смысле, что выражает идею абсолютной истины.
Что означают, например, в функциональном смысле Леонардо да Винчи или Бах? Ровным счетом ничего, кроме того, что означают сами по себе, — настолько они независимы. Они видят мир будто впервые, как бы не отягощенные никаким опытом. Их независимый взгляд уподобляется взгляду пришельцев!
Любое творчество тяготеет к простоте, к максимально простому способу выражения. Стремиться к простоте — это значит стремиться к глубине воспроизведения жизни. Но это и есть самое мучительное в творчестве — найти самый короткий путь от того, что ты хочешь сказать или выразить, до окончательного воспроизведения в законченном образе. Стремление к простоте означает мучительные поиски адекватной формы выражения постигнутой тобой истины. Так хочется достигнуть многого наиболее экономными средствами!
Стремление к совершенству побуждает художника делать духовные открытия, осуществляя максимальное нравственное усилие. В стремлении к абсолюту — движущая тенденция развития человечества. В связи с этой главной тенденцией связывается для меня понятие реализма в искусстве. Искусство реалистично в том случае, когда оно стремится выразить нравственный идеал. Реализм — это стремление к истине, а истина всегда прекрасна. Здесь эстетическая категория соразмерна этической.
О времени, ритме и монтаже
Начиная теперь разговор о специфических особенностях кинематографического образа, я сразу хочу отмести распространенную в теории кинематографа идею о якобы синтетической природе кинематографического образа. Эта мысль представляется мне неверной, ибо выходит, что кино основано на специфике своих собратьев и не имеет своей. Что означает, что кино не искусство.
Полновластной доминантой кинематографического образа является ритм, выражающий течение времени внутри кадра. А то, что само течение времени обнаруживается и в поведении персонажей, и в изобразительных трактовках, и в звуках, это всего лишь сопутствующие составляющие, которые, рассуждая теоретически, могут вовсе отсутствовать, а кинематографическое произведение, тем не менее, будет существовать. Например, легко можно представить себе фильм и без актеров, и без музыки, и без декораций, и даже без монтажа — но нельзя себе представить кинематографическое произведение без ощущения протекающего в кадре времени. Таким фильмом и было «Прибытие поезда» братьев Люмьер, о котором я уже говорил. Таковы некоторые фильмы американского «андеграунда» — мне вспоминается, например, один из них, фиксирующий спящего человека. Затем мы становимся свидетелями его пробуждения, заключающего в себе магией кинематографа неожиданный и поражающий эстетический эффект.
В этой связи можно вспомнить также десятиминутный фильм Паскаля Обье, состоящий из одного-единственного кадра. Вначале в нем фиксируется жизнь природы, величавая и неторопливая, безучастная к человеческой суете и человеческим страстям. По мере движения камеры, выполненного с виртуозным мастерством, в поле ее зрения малой точкой возникает фигура спящего человека, едва приметная в траве, на склоне холма. Немедленно возникает драматическая завязка. Бег времени точно ускоряется, подгоняемый нашим любопытством. Вместе с камерой мы словно подкрадываемся к нему и, наконец, приблизившись, понимаем, что человек мертв. Наша информированность растет с каждой секундой: человек не просто мертв, но убит. Это умерший от ран повстанец на лоне безучастной и прекрасной природы. Память властно отбрасывает нас к событиям, потрясающим наш сегодняшний мир.
Я напоминаю, что в фильме нет ни одной монтажной склейки, нет актерского исполнения и нет декораций. Но существует ритм движения в кадре, организующий сам по себе довольно сложную драматургию…
В целом фильме ни одна из его составляющих не может иметь самостоятельного смысла: произведением искусства является фильм. А о его составляющих мы можем говорить весьма условно, лишь ради теоретических рассуждений, искусственно расчленяя его на элементы.
Мне также трудно согласиться с тем, что монтаж является главным формообразующим элементом фильма, что фильм якобы создается за монтажным столом, как об этом говорили в 20-е годы сторонники так называемого «монтажного» кинематографа Кулешова и Эйзенштейна.
Уже много раз совершенно справедливо замечали, что любое искусство требует монтажа, то есть отбора и сборки, подгонки частей и кусков. Кинообраз возникает во время съемок и существует внутри кадра. Поэтому именно в процессе съемок я слежу за течением времени в кадре, стараясь точно его воспроизводить и фиксировать. А монтаж сочленяет кадры, уже наполненные временем, организуя целостный и живой организм фильма, в кровеносных сосудах которого пульсирует время разного ритмического напора, обеспечивающего ему жизнь.
Мне кажется, также совершенно противной природе кинематографа идея сторонников все того же «монтажного кино» о том, что монтаж, сочленяя два понятия, рождает новый третий смысл. В конце концов, игра понятиями не может быть целью никакого искусства, и не в прихотливой вязи понятий его существо. Может быть, имея в виду именно конкретность материального, к которой привязан образ, устремляющийся своими таинственными путями в запредельность духовного, — может быть, об этом думал Пушкин, говоря, что «Поэзия должна быть несколько глуповата»?
Поэтика кино, замешанная на самой низменной материальной субстанции, которую мы топчем ежечасно, противится символике. По тому, как отбирается и фиксируется материал художником, вот эта самая материя, — по одному кадру можно с уверенностью сказать, талантлив ли режиссер, одарен ли он кинематографическим видением.
Монтаж — в конечном счете, лишь идеальный вариант склейки планов, который уже априори заложен внутри материала, снятого на пленку. Правильно, грамотно смонтировать картину означает не мешать органичному соединению отдельных сцен и кадров, ибо они уже как бы заранее монтируются сами собой, ибо внутри них живет закон, по которому они соединятся и который надо лишь понять и ощутить и в соответствии с ним произвести склейку или подрезку тех или иных кадров. Закон соотношения, связи кадров почувствовать иногда совсем непросто (особенно тогда, когда сцена снята неточно) — тогда за монтажным столом происходит не простое — логическое и естественное — соединение кусков, а мучительный процесс поисков принципа соединения кадров, во время которого постепенно, шаг за шагом, однако все более наглядно будет проступать суть единства, заложенного в материале.
Здесь существует своеобразная обратная связь — самоорганизующаяся конструкция создает себя в монтаже благодаря особым свойствам материала, заложенным в нем еще во время съемок. Через характер склеек как бы проступает суть отснятого материала.
Опираясь на собственный опыт, могу рассказать о том, с каким чудовищным трудом монтировалось, например, «Зеркало». Существовало около двадцати с лишним вариантов монтажа картины. Я говорю о вариантах не в связи с изменением отдельных склеек некоторых планов, но о кардинальных переменах в самой конструкции, в самом чередовании эпизодов. Моментами казалось, что картина уже вовсе не смонтируется — а это означало бы, что при съемках допущены непростительные просчеты. Картина не держалась, не желала вставать на ноги, рассыпалась на глазах, в ней не было никакой целостности, никакой внутренней обязательной связи, никакой логики. И вдруг, в один прекрасный день, когда я с трудом изобрел еще одну возможность сделать еще одну последнюю отчаянную перестановку, — картина возникла. Материал ожил, части фильма начали функционировать взаимосвязанно, точно соединенные единой кровеносной системой. Когда в зале я смотрел этот отчаянный вариант, картина родилась на наших глазах. Я еще долго после этого не мог поверить в это чудо — что картина склеилась.
Это была серьезная проверка правильности того, что мы делали на съемочной площадке. Было ясно, что соединение частей зависело от внутреннего состояния материала. И если состояние это рождалось в нем во время съемок, если мы не обманывались в том, что оно все-таки возникало, то картина не могла не склеиться — это было бы противоестественно. Для того чтобы соединение произошло, было органичным и оправданным, нужно было ощутить смысл, принцип внутренней жизни снятых кусков. И когда это, слава Богу, произошло — какое же облегчение мы все испытали!
В «Зеркале» сочленялось само время, протекающее в кадре. В этой картине всего около двухсот кадров. Это очень немного, если учесть, что в картине такого же метража их содержится обычно около пятисот. Малое количество кадров определяется здесь их длиной. Склейка кадров организует их структуру, но не создает, как это принято считать, ритм картины.
Ритм же картины возникает в соответствии с характером того времени, которое протекает внутри кадра. Одним словом, ритм картины определяется не длиною монтируемых кусков, конечно же, а степенью напряжения протекающего в них времени. Монтажная склейка не может определить ритма — в этом случае монтаж не более чем стилистический признак. Более того, время течет в картине не благодаря склейкам, а вопреки им. Вот это течение времени, зафиксированное в кадре, и должен уловить режиссер в кусках, разложенных перед ним на полках монтажного стола.
Именно время, запечатленное в кадре, диктует режиссеру тот или иной принцип монтажа, а, как говорится, «не монтируются», то есть плохо склеиваются, те куски, в которых зафиксировано принципиально разное существование времени. Так, например, реальное время не может смонтироваться с условным, как невозможно соединить водопроводные трубы разного диаметра. Эту консистенцию времени, протекающего в кадре, его напряженность или, наоборот, «разжиженность» — назовем, ну, что ли, давлением времени в кадре. Тогда монтаж явится способом соединения кусков с учетом давления в них времени.
Единство ощущения в разных кадрах может быть вызвано единством давления, напора, определяющих ритм картины.
Как же ощущается время в кадре? Оно возникает там, где за происходящим чувствуется какая-то значительность правды. Когда совершенно ясно сознаешь, что-то, что ты видишь в кадре, не исчерпывается визуальным его изображением, а лишь намекает на нечто, бесконечно распространяющееся за кадр, намекает на жизнь. Как бесконечность образа, о которой мы говорили. Фильм — больше, чем он есть на самом деле. (Если это, конечно, настоящий фильм.) И мыслей, и идей в нем всегда оказывается больше, чем было сознательно заложено автором. Как жизнь, непрестанно движущаяся и меняющаяся, каждому дает возможность по-своему трактовать и чувствовать каждое отдельное мгновение, так же и настоящий фильм с точно зафиксированным на пленку временем, струясь за пределы кадра, живет во времени, если и время живет в нем, — специфика кино в особенностях этого обоюдного процесса.
Тогда фильм становится чем-то большим, нежели номинально существующая, отснятая и склеенная пленка, — больше, чем рассказ, и больше, чем сюжет. Фильм отделяется от автора и начинает жить собственной жизнью, изменяясь по форме и по смыслу при столкновении с личностью зрителя.
Я отрицаю так называемый «монтажный кинематограф» и его принципы потому, что они не дают фильму продлиться за пределы экрана, то есть не дают зрителю подключить свой собственный опыт к тому, что он видит перед собою на пленке. Монтажный кинематограф задает зрителю ребусы и загадки, заставляя его расшифровывать символы, наслаждаться аллегориями, апеллируя к интеллектуальному его опыту. Но каждая из этих загадок имеет свою вербально точно формулируемую отгадку. Таким образом, например; Эйзенштейн, с моей точки зрения, лишает зрителей возможности использовать в ощущениях свое отношение к виденному. Когда он (Эйзенштейн) сопоставляет в «Октябре» балалайку с Керенским — то сам его метод становится равен цели — в том смысле, в котором мы приводили выше слова Валери. Тогда сам способ конструирования образа становится самоцелью, а автор начинает вести тотальное наступление на зрителя, навязывая ему свое собственное отношение к происходящему.
Если сопоставить кинематограф с такими временными искусствами, как, скажем, балет или музыка, то отличительная особенность кинематографа выразится в том, что фиксируемое им время обретет видимую форму реального. Явление, зафиксированное однажды на пленку, воспринимается во всей своей непреложной данности. Даже если это крайне субъективное время…
Художники делятся на тех, что создают свой собственный внутренний мир или же воссоздают реальность. Я, несомненно, принадлежу к первым — и, тем не менее, это не меняет дело: созданный мною мир может кого-то интересовать, а кого-то оставлять равнодушным или даже раздражать — но, тем не менее, этот мир, воссоздаваемый средствами кино, всегда должен восприниматься некоторой как бы объективно восстановленной реальностью в непосредственности зафиксированного мгновения.
Музыкальное произведение может быть сыграно по-разному, может длиться разное время. Время в этом случае становится лишь условием причины и следствия, располагающихся в определенном заданном порядке, — оно носит в этом случае абстрактно-философский характер. Кинематографу же удается зафиксировать время в его внешних, эмоционально постигаемых приметах. И тогда время в кинематографе становится основой основ, подобно тому, как в музыке такой основой выступает звук, в живописи — цвет, в драме — характер.
Итак!
Ритм — не есть метрическое чередование кусков, а ритм слагается из временного напора внутри кадров. По моему глубокому убеждению, именно РИТМ — является главным формообразующим элементом в кинематографе, а не монтаж кадров, как это принято считать.
Монтаж, очевидно, существует в любом искусстве, как следствие необходимости отбора, производимого художником, отбора и соединения, без которых не может существовать ни одно искусство. Иное дело, что особенность киномонтажа состоит в том, что он сочленяет время, запечатленное в отснятых кусках. Монтаж — это склейка кусков и кусочков, несущих в себе разное время. И только их соединение дает новое ощущение существования этого времени, родившегося в результате тех пропусков, которые как бы урезаются, усекаются склейкой. Но, как мы говорили выше, особенности монтажных склеек уже заложены в монтируемых кусках. А монтаж сам по себе вовсе не дает нового качества, не воссоздает этого качества заново, а лишь проявляет существовавшее ранее в соединяемых кадрах. Монтаж предусматривается уже во время съемок, предполагается — изначально программируется характером снимаемого. Монтажу подлежат временные длительности, интенсивность их существования, фиксированные камерой, а вовсе не умозрительные символы, не предметные живописные реалии, не организованные композиции, изощренно распределенные в сцене. Не однозначные два понятия, в стыке которых возникает широко известный в теории кинематографа «третий смысл», а многообразие воспринятой жизни, фиксированное в кадре.
Правоту моего суждения подтверждает опыт самого Эйзенштейна. Ритм, который он ставил в прямую зависимость от склеек, обнаруживает несостоятельность его теоретических посылов тогда, когда интуиция изменяет ему, и он не наполняет монтируемые куски требуемым для данной склейки временным напряжением. Возьмем для примера битву на Чудском озере в «Александре Невском»…
Не думая о необходимости наполнить кадры соответственно напряженным временем, он старается добиться передачи внутренней динамики боя за счет монтажного чередования коротких, иногда чересчур коротких планов. Однако вопреки молниеносному мельканию кадров, ощущение вялости и неестественности происходящего на экране не покидает, во всяком случае, непредубежденного зрителя, которому еще не внушили, что это «классический фильм» и «классический пример монтажа», преподаваемого во ВГИКе. А происходит все это оттого, что у Эйзенштейна в отдельных кадрах не существует временной истинности. Кадры сами по себе совершенно статичны и анемичны. Так что естественно возникает противоречие между внутренним содержанием кадра, не запечатлевшим никакого временного процесса, и стремительностью совершенно искусственной, внешней и безразличной по отношению к времени, протекающему в кадре. Зрителю не передается ощущение, на которое рассчитывал художник, потому что он не позаботился о том, чтобы насытить кадр правдивым ощущением времени легендарной битвы. Событие не воссоздано. А разобрано — нарочито и кое-как.
Ритм в кино передается через видимую, фиксируемую жизнь предмета в кадре. Так по вздрагиванию камыша можно определить характер течения реки, его напор. Точно так же о движении времени сообщает сам жизненный процесс, его текучесть, воспроизведенная в кадре.
Прежде всего, через ощущение времени, через ритм режиссер проявляет свою индивидуальность. Ритм окрашивает произведение стилистическими признаками. Ритм не придумывается, не конструируется произвольными, чисто умозрительными способами. Ритм в фильме возникает органично, в соответствии с имманентно присущим режиссеру ощущением жизни, в соответствии с его «поисками времени». Мне, скажем, представляется, что время в кадре должно течь независимо и достойно — тогда идеи в нем размещаются без суеты, трескотни и поспешности. Ощущение ритмичности в кадре… как бы это сказать?.. сродни ощущению правдивого слова в литературе. Неточное слово в литературе и неточность ритма в кино разрушают истинность произведения. (Хотя понятие ритма применимо и к прозе. Правда, в другом совершенно смысле.)
Но здесь возникает вполне естественная сложность. Мне, предположим, хочется, чтобы время текло в кадре достойно и независимо для того, чтобы зритель не ощущал насилия над своим восприятием, чтобы он добровольно сдавался в плен художнику, начиная ощущать материал фильма как свой собственный, осваивая и присваивая его себе в качестве нового, своего опыта. Но, тем не менее, здесь возникает кажущееся противоречие. Ибо ощущение режиссером времени все-таки всегда выступает как форма насилия над зрителем — так же как и навязывание зрителю своего внутреннего мира. Зритель либо «попадает» в твой ритм (твой мир) — и тогда он твой сторонник, либо в него не впадает — и тогда контакт не состоялся. Отсюда и возникает свой зритель и зритель, совершенно тебе чуждый, что кажется мне не только естественным, но и, увы, неизбежным.
Итак, свою профессиональную задачу я усматриваю в том, чтобы создать свой, индивидуальный поток времени, передать в кадре свое ощущение его движения — от ленивого и сонного до мятущегося и стремительного. Кому как кажется, кому как глянется, кому что чудится…
Способ членения, монтаж — нарушает течение времени, прерывает его и одновременно создает новое его качество. Искажение времени есть способ его ритмического выражения.
Ваяние из времени!
Однако сочленение кадров намеренно разного временного напряжения должно вызываться к жизни не случайными соображениями, а внутренней необходимостью, должно быть органично для материала в целом. Если же органика таких переходов нарушена, то немедленно вылезают, выпирают, становятся заметны глазу монтажные акценты, которые режиссер хотел бы скрыть. Любое искусственное, не созревшее изнутри торможение или ускорение времени, любая неточность смены внутреннего ритма дают фальшивую, декоративную склейку.
Соединение неравноценных во временном смысле кусков неизбежно ведет к ритмическому сбою. Однако сбой этот, если он подготовлен внутренней жизнью соединяемых кадров, может стать необходимым для того, чтобы вычленить нужный ритмический рисунок. Возьмите разное временное напряжение: символически говоря, ручей, поток, река, водопад, океан, — их соединение и дает возникновение уникального ритмического рисунка, который как органическое новообразование есть вызванное к жизни авторское ощущение времени.
А поскольку ощущение времени есть органически присущее режиссеру восприятие жизни и ритмические напоры в монтируемых кусках диктуют ту или иную склейку, то монтаж выдает почерк того или иного режиссера. Через монтаж выражается отношение режиссера к самому замыслу, через монтаж получает свое окончательное воплощение мировоззрение художника. Думаю, что режиссер, легко и по-разному монтирующий свои картины, достаточно неглубок. Вы всегда узнаете монтаж Бергмана, Брессона, Куросавы, Антониони. Вы их никогда и ни с кем не спутаете… Ибо их восприятие времени, выраженное в ритме, всегда одно и то же.
Законы монтажа, конечно, необходимо знать, как необходимо знать законы своей профессии вообще, но творчество начинается с момента нарушения, деформации этих законов. Оттого что Лев Николаевич Толстой не был таким безупречным стилистом, как Бунин, и его романы отнюдь не отличаются той стройностью и завершенностью, как любой из бунинских рассказов, еще не дает никаких оснований утверждать, что Бунин «лучше» Толстого. Ты не только прощаешь Толстому тяжеловесные и не всегда необходимые длинные сентенции, неповоротливые фразы, но, более того, начинаешь любить их, как особенность, как составляющую толстовской индивидуальности. Когда перед тобою действительно крупная личность, то ее принимаешь со всеми ее слабостями, которые трансформируются уже в особенности и своеобразие ее эстетики.
Если вынуть из контекста произведений Достоевского описание им его героев, то поневоле становится не по себе — красивые, с яркими губами, бледными лицами и т. д. и т. п. Но это не имеет уже никакого значения — потому что речь идет не о профессионале или мастере, а о художнике и философе. Бунин, бесконечно уважая Толстого, считал, что «Анна Каренина» написана безобразно, и, как известно, пытался ее переписать — однако тщетно. Это как органические образования — хороши они или плохи — это живые организмы со своей кровеносной системой, нарушить которую нельзя.
То же и с монтажом — дело не в том, чтобы уметь виртуозно владеть им, а в том, чтобы ощущать органическую потребность в каком-то особом, своем собственном способе выражения… Прежде всего, необходимо знать, с чем же, собственно, ты пришел в кино, что ты хочешь сказать и почему именно с помощью его поэтики. К слову сказать, в последние годы все чаще и чаще встречаешь молодых людей, которые, приходя в киношколы, заранее готовы делать то, что «нужно» в России, и то, за что дороже платят — на Западе. Это поистине драма! А проблемы ремесла — это пустяки: научиться можно всему — невозможно только научиться мыслить независимо и достойно, невозможно научиться быть личностью. Невозможно заставить кого-то взвалить на себя тяжесть, которую не только трудно, а порою и просто невозможно тащить. Но другого пути нет. «Назвался груздем — полезай в кузов».
Человек, укравший для того, чтобы никогда больше не воровать, остается вором. Некто, однажды изменивший своим принципам, потом уже не сохранит чистоту своего отношения к жизни. Поэтому когда режиссер говорит, что сделает проходную картину, скопит силы и возможности для той, о которой мечтает, то это всего лишь обман или, что еще хуже, самообман. Он никогда уже не снимет своего фильма.
Замысел фильма — сценарий
С первых шагов и до окончания работы над фильмом сталкиваешься с таким количеством людей, всякого рода трудностями и почти неразрешимыми проблемами, что кажется, что кем-то специально были созданы все условия для того, чтобы режиссер напрочь забыл, во имя чего приступал к работе над картиной.
Должен сказать, что для меня круг проблем, определенных замыслом, всегда был связан не столько с его возникновением, сколько с сохранением его в девственном, первоначальном виде. Как стимул для работы. Как символ будущей картины. Замысел всегда рискует выродиться в производственной суете. Деформироваться, разрушиться в процессе реализации.
Путь фильма от рождения замысла до завершения его в студии перезаписи исполнен разного рода бесконечных сложностей. И дело здесь не только в сложной технологии создания фильма, но также и в том, что реализация кинематографического замысла зависит от огромного количества людей, вовлеченных в творческий процесс.
Если во время работы с актером режиссеру не удается настоять на своей трактовке в понимании характера или способа исполнения, то замысел в этом пункте немедленно дает крен в сторону. Если оператор неточно понял свою задачу, то картина, даже по видимым, формальным признакам снятая блестяще, окажется сдвинутой с оси скрепляющей ее идеи, то есть, в конце концов, лишится целостности.
Могут быть построены превосходные декорации, предмет гордости художника, но если они продиктованы не первоначальным замыслом режиссера, то декорации эти будут мешать фильму, и обернутся неудачей. Если композитор уйдет из-под режиссерского контроля и, вдохновленный своими собственными идеями, напишет пусть даже замечательную музыку, но далекую от той, что нужна фильму, то замысел в этом случае рискует не осуществиться.
Можно без преувеличения сказать, что режиссера на каждом шагу подкарауливает опасность оказаться всего лишь в роли свидетеля, наблюдающего, как сценарист пишет, художник строит декорации, актер играет, оператор снимает, а монтажер монтирует картину. Собственно говоря, в поточной коммерческой продукции так и происходит, где режиссеру, видимо, дается задание лишь скоординировать профессиональные усилия членов съемочной группы.
Короче говоря, очень трудно настаивать на своем авторском фильме, когда все твои усилия, направленные к тому, чтобы «не расплескать» до конца задуманное, сталкиваются с условиями привычной производственной рутины. Сохранить же свежесть и яркость режиссерского замысла означает надежду на возможность успеха.
Должен сразу оговориться, что я никогда не считал сценарий литературным жанром. И чем более кинематографичен сценарий, тем, видимо, менее он может претендовать на собственную литературную судьбу, как это часто происходит, скажем, с театральной пьесой. Да и на деле видно, что ни один кинематографический сценарий не поднялся на уровень настоящей литературы.
Я не очень понимаю, почему человеку, одаренному литературным талантом, вдруг захотелось бы быть сценаристом, — если исключить, конечно, проблему чисто меркантильную! Писатель должен писать, а человеку, мыслящему кинематографическими образами, пристало идти в режиссуру. Ведь и замысел фильма, и его идея, и оформление замысла в конечном итоге принадлежат режиссеру-автору — иначе он и не сможет по-настоящему руководить съемками фильма.
Конечно, режиссер может прибегнуть и действительно часто прибегает к помощи литератора, близкого ему по духу. И тогда литератор этот, уже в качестве соавтора, то есть сценариста, принимает участие в разработке литературной основы, если он разделяет режиссерский замысел, готов подчиниться ему до конца, способен творчески его развить, обогатить в задуманном направлении.
Если сценарий написан блестящим литературным языком, то ему должно лучше остаться прозой. Если же мы хотим все же видеть в нем лишь литературную основу для нашего будущего фильма, то из него, прежде всего, нужно сделать сценарий, то есть действительный повод для съемок картины. Но это будет уже новый, переработанный сценарий, где литературным образом будет найден соответствующий кинематографический эквивалент.
Если же сценарий с самого начала является точным проектом фильма, то есть в нем записано только то, что и как будет снято, тогда мы имеем перед собою своеобразную провидческую запись будущего фильма, не имеющую совсем уже ничего общего с литературой.
Когда первоначальный вариант сценария фильма видоизменяется в процессе съемок (как это почти всегда случается в моих картинах), тогда он, по сути, теряет свои очертания и становится интересным только специалистам, занятым историей того или другого фильма. Эти все время изменяющиеся варианты могли бы занять внимание исследователей природы кинематографического творчества, но никаким образом не претендовать на законченный литературный жанр.
Сценарий в завершенной литературной форме нужен только для того, чтобы убедить тех, от кого зависит постановка картины, в ее вящей целесообразности. Хотя, если говорить откровенно, никакой сценарий не может дать априори гарантий качества будущего фильма: мы знаем десятки примеров плохих фильмов, делавшихся по хорошим сценариям, равно как и наоборот. Ни для кого не является секретом, что только после того, как сценарий одобрен и куплен, начинается настоящая работа над ним, ради проведения которой режиссер должен уметь писать сам или работать в тесном соавторстве со своими литературными партнерами, умело направляя их литературный дар в нужном ему направлении. Конечно, я говорю о работе над так называемым авторским фильмом.
Раньше в процессе разработки режиссерского, то есть рабочего, постановочного сценария я старался видеть перед собою довольно точную модель будущего фильма, вплоть до мизансцен. Но сейчас склоняюсь к тому, чтобы весьма в общих чертах представлять себе будущую сцену, будущий кадр, чтобы они возникали непосредственно в процессе съемок. Ибо живые обстоятельства места действия, атмосферы съемочной площадки, настроения актеров толкают на совершенно новые — яркие и неожиданные решения. Жизнь оказывается богаче фантазии. Поэтому сейчас я все чаще думаю о том, что следует приходить на съемку подготовленным, конечно, но без предвзятых идей и настроений, чтобы зависеть от настроения сцены и быть более свободным в отношении мизансцен. Раньше я не мог появляться на площадке без заранее изобретенной концепции эпизода, а теперь часто замечаю, что концепция эта всегда умозрительна и засушивает фантазию. Может быть, есть смысл на некоторое время просто перестать думать о ней?
Помните у Пруста: «Купола казались такими далекими, и у меня было впечатление, что мы приближаемся к ним так медленно, что я был очень изумлен, когда через несколько минут мы остановились перед мартенвильской церковью. Я не понимал причины наслаждения, наполнявшего меня во время созерцания их на горизонте, и нахождение этой причины казалось мне делом очень трудным, мне хотелось лишь сохранить в памяти эти двигавшиеся в солнечном свете очертания и не думать о них больше… Я не сознавал, что таинственное содержание мартенвильских куполов должно иметь какое-то сходство с красивой фразой, но так как оно предстало мне в форме слов, доставивших мне наслаждение, то, попросив у доктора карандаш и бумагу, я сочинил, несмотря на тряску экипажа, для успокоения совести и чтобы дать выход наполнявшему меня энтузиазму, следующий отрывок… Никогда впоследствии не вспоминал я об этой странице, но когда я окончил свою запись, сидя на кончике козел, куда кучер доктора ставил обыкновенно корзину с птицей, купленной на мартенвильском рынке, по всему существу моему разлилось такое ощущение счастья, страница эта так всецело освободила меня от наваждения мартенвильских куполов и скрытой в них тайны, что я заорал во все горло, словно сам был курицей, которая только что снеслась».
Такие же точно переживания испытал и я в связи с моими детскими воспоминаниями: преследовавшие меня многие годы, не дававшие мне покоя, они вдруг канули куда-то, будто бы испарились, я перестал видеть во сне дом, в котором я жил давным-давно, который снился мне регулярно в течение многих лет… Я говорю об этом, забегая вперед, рассказывая о том, что случилось после того, как я закончил «Зеркало».
А тогда — еще за несколько лет до съемок — я просто решил изложить терзавшие меня воспоминания на бумаге, еще даже не помышляя о фильме. Когда я хотел писать повесть об эвакуации военных лет, все действие которой сосредотачивалось вокруг истории преподавателя военного дела в школе, инвалида-солдата из деревенских, но сюжет этот оказался не очень значительным для того, чтобы стать центром повести или даже большого рассказа. Я так и не написал ее, но история, глубоко поразившая меня в детстве, продолжала мучить меня, жить в моих воспоминаниях и, наконец, превратилась в небольшой эпизод фильма.
Когда первый вариант сценария «Зеркала», который назывался «Белый, белый день», был закончен, то стало ясно, что в кинематографическом смысле замысел его мне весьма и весьма неясен. Этот незамысловатый фильм-воспоминание, исполненный элегической тоски и ностальгической грусти о детстве, мне делать не хотелось. Я совершенно ясно почувствовал, что для будущего фильма в этом сценарии чего-то не хватает — чего-то весьма и весьма существенного. Таким образом, уже тогда, когда сценарий впервые стал предметом обсуждения, душа будущего фильма на самом деле еще витала вне тела, где-то в пространстве. Меня преследовала остро осознаваемая необходимость искать конструктивную идею, которая бы подняла его над просто лирическим воспоминанием.
Тогда возник новый вариант сценария: мне захотелось прослоить новеллы-эпизоды детства кусками прямого интервью с моей матерью, как бы сопоставив два сравнительных ощущения прошлого (матери и рассказчика), возникающих перед зрителями во взаимодействии двух его проекций в памяти двух близких людей, принадлежащих разным поколениям. Я до сих пор думаю, что на этом пути нас мог ожидать интересный, неожиданный, во многом непредсказуемый эффект…
Но, тем не менее, я не жалею, что впоследствии мне пришлось уйти и от этой все-таки слишком прямолинейной и грубой конструкции, заменив все намеченные в сценарии интервью с матерью игровыми сценами. Потому что я все-таки не ощущал органического единства предполагавшегося соединения игровой и документальной стихии. Они сталкивались, спорили друг с другом, их монтаж казался мне чисто формальным, умозрительным, идеологически задействованным, то есть весьма сомнительным единством. Обе стихии наполнялись материалом разной концентрации, заключали в себе разное время, время разного напряжения: документально точное реальное время интервью и авторское время в эпизодах воспоминаний, воссозданных игровыми средствами. Потом все это несколько напоминало cinema verite Жана Руша, чего бы очень не хотелось. Да, и эти переходы от деформированного субъективного времени к достоверному документальному показались мне вдруг сомнительными, условными и монотонными… Как игра в пинг-понг…
Но мой отказ делать картину, снятую в этих двух планах, вовсе не означает, что игровой и документальный материал принципиально и никогда не монтируемы. Напротив, в конечном счете в «Зеркале», как мне кажется, вполне естественно хроника разместилась рядом с игровыми эпизодами. До такой степени естественно, что я не раз слышал мнения о том, что хроникальные куски, вставленные мною в «Зеркало», на самом деле никакая не хроника, а просто сняты мною «под хронику», подделаны. Такая органичность документального материала для художественного фильма возникала оттого, что мне удалось отыскать хронику совершенно особого свойства.
Мне пришлось пересмотреть много тысяч метров пленки, прежде чем я натолкнулся на военные документальные кадры перехода Советской Армии через Сиваш, которые меня буквально ошеломили. Я никогда прежде не видел ничего подобного — как правило, приходилось сталкиваться всякий раз или с весьма недоброкачественными инсценировками, или с короткими, отрывочными кадрами буквально фиксируемых военных «буден», или с «парадными» съемками, в которых ощущалось слишком много запланированного и слишком мало подлинной правды. И я не видел никакой возможности объединить весь этот винегрет единым временным ощущением. И вдруг передо мною небывалый случай для хроники! — эпизод, целое и единое событие, развернутое во времени, снятое (редкий случай) в одном месте и рассказывающее об одном из самых драматических событий наступления 1943 года. Совершенно уникальный материал! Не верилось, чтобы такое огромное количество метров пленки было израсходовано на фиксацию одного-единственного объекта ради длительного его наблюдения. Ясно, что снимал его замечательно талантливый человек. Когда на экране передо мною, точно из небытия, возникли люди, измученные непосильным, нечеловеческим трудом, страшной и трагической судьбой, то мне стало совершенно ясно, что этот эпизод не может не стать самым центром, самой сутью — нервом и сердцем нашей картины, начинавшейся всего-навсего как интимное лирическое воспоминание.
На экране возник образ поразительной силы, мощи и драматизма — и все это было мое, словно именно мое, личное, выношенное и наболевшее. (Кстати, именно этот эпизод председатель Госкино требовал у меня изъять из фильма.) Эти кадры рассказывали о тех страданиях, которыми окупается так называемый исторический прогресс, о бесконечных человеческих жертвах, на которых он покоится извечно. Невозможно было даже на секунду поверить в бессмысленность этих страданий — этот материал заговорил о бессмертии, и стихи Арсения Тарковского оформляли и завершали смысл этого эпизода. Нас поразило то эстетическое достоинство, благодаря которому документ обретал удивительную эмоциональную мощь. Просто и точно зафиксированная правда, запечатлевшись на пленке, перестала быть похожей просто на правду. Она вдруг стала образом подвига и цены этого подвига, она стала образом исторического перелома, оплаченного невероятной ценой. (Без сомнения, этот материал был снят талантливым человеком!)
Образ этот звучал особенно щемяще и пронзительно, потому что в кадре были только люди. Люди, бредущие по колено в жидкой грязи, по бесконечному, до самого горизонта болоту, под белесым плоским небом. Оттуда не вернулся почти никто. Все это сообщало запечатленным на пленку минутам особую многомерность и глубину, порождая чувства, близкие потрясению или катарсису. Через некоторое время я выяснил, что военный оператор, снимавший этот материал, погиб в тот же самый день, который он зафиксировал с такой удивительной силой проникновения в суть творящихся вокруг него событий.
Когда нам оставалось доснять для «Зеркала» всего 400 метров пленки, что соответствует 13-ти минутам экранного времени фильма, как такового, все еще не существовало. Были придуманы и сняты детские сны рассказчика, но и они не помогли материалу оформиться в нечто целостное. Фильм в его действительном виде возник, только когда нам пришло в голову ввести в ткань повествования Жену рассказчика, которой не существовало ни в замысле, ни в сценарии.
Нам очень нравилось, как работала Маргарита Терехова, исполнявшая роль Матери рассказчика, но нам все время казалось, что роль, уготованная ей первоначальным замыслом, недостаточна для выявления и использования ее огромных актерских возможностей. Тогда мы решили написать новые эпизоды, и актриса получила еще одну роль — Жена рассказчика. А уже после этого явилась идея перетасовать в монтаже эпизоды прошлого рассказчика с его настоящим.
В диалоги новых эпизодов мы с моим одареннейшим соавтором Александром Мишариным поначалу намеревались ввести еще некоторые наши программные идеи касательно эстетических и нравственных основ творчества, но, слава Богу, этого удалось избежать, и некоторые наши размышления, смею надеяться, довольно неприметно расположились по всему фильму.
Рассказывая о том, как складывалось «Зеркало», мне хотелось продемонстрировать, какой хрупкой, живой, все время меняющейся структурой является для меня сценарий и что фильм возникает лишь в момент, когда работа над ним завершается полностью. Сценарий дает лишь повод к размышлениям, и меня каждый раз до самого конца не покидает тревожное чувство — а вдруг из этой затеи ничего не выйдет?!
Должен, правда, заметить, что в работе именно над «Зеркалом» эти мои творческие установки на сценарий получили свое крайнее выражение. Хотя другие мои фильмы строились на сценариях конструктивно более определенных, и в работе над ними очень многое домысливалось, оформлялось, достраивалось в процессе съемок.
Приступая же к съемкам «Зеркала», мы сознательно, принципиально не хотели вычислять и выстраивать картину заранее, раньше, чем будет снят материал. Мне было важно понять, каким образом, в каких условиях фильм может организоваться как бы «сам собою» — в зависимости от самих съемок, контакта с актерами, от процесса строительства декораций и вживания в места будущих съемок на натуре.
У нас не было предписанных самим себе замыслов кадра или эпизода как визуально оформленного законченного целого — но было ясным состояние атмосферы, ощущение духовного состояния, которые тут же, на съемочной площадке, требовали точных образных соответствий. Если я что-либо и «вижу» до съемок, представляю себе, то, скорее всего, это внутреннее состояние, характер внутреннего напряжения тех сцен, которые предстоит снимать, психологическое состояние персонажей. Но я еще не знаю точной формы, в которую все это отольется. Я выхожу на съемочную площадку для того, чтобы окончательно понять, каким образом это состояние может быть выражено на пленке. И, поняв, начинаю снимать.
В этой картине рассказывается, помимо всего прочего, о хуторе, на котором прошло детство рассказчика, где он родился, где жили его отец и мать. Мы по старым фотографиям в точности реконструировали, «воскресили» разрушенный временем дом на сохранившемся фундаменте. На том же месте, где он стоял сорок лет тому назад. Когда затем мы привезли туда мою мать, чья молодость прошла в этом месте, в этом доме, то реакция ее в момент, когда она его увидела, превзошла все мои самые смелые ожидания. Она словно пережила возвращение в свое прошлое. Тогда я понял, что мы на правильном пути — дом вызвал в ней те самые чувства, которые и предполагалось выразить в картине…
… Перед домом было поле. Мне помнится, что между полем и дорогой, ведущей в соседнюю деревню, было поле гречихи. Она бывает очень красива, когда цветет. Ее белый цвет, делающий поле похожим на снежное, сохранился в моей памяти как характерная и существенная деталь моих детских воспоминаний. Но когда мы приехали в это самое место в поисках мест для съемки, то гречихи никакой не обнаружили — колхозники уже много лет засевали эту землю клевером и овсом. Когда мы попросили их засеять ее для нас гречихой, то они наперебой стали нас уверять, что гречиха никогда не вырастет, ибо почва для нее здесь совершенно неподходящая. Когда же мы все-таки сами, на свой страх и риск, арендовали это поле и засеяли его гречихой, то колхозники не скрывали своего удивления, наблюдая, как славно она поднялась. Мы же восприняли нашу удачу как благое предзнаменование. Это была как бы иллюстрация особых свойств нашей памяти — ее способности проникать за покровы, скрываемые временем, о чем и должна была рассказать наша картина. Таков и был ее замысел.
Не знаю, что сталось бы с картиной, не зацвети гречишное поле. Оно зацвело!.. Как это было неизъяснимо важно для меня в то время.
Приступая к работе над «Зеркалом», я все чаще и чаще стал думать о том, что фильм, если ты серьезно относишься к своему делу, — это не просто следующая работа, а поступок, из которых складывается твоя судьба. В этом фильме я впервые решился средствами кино заговорить о самом для себя главном и сокровенном, прямо и непосредственно, безо всяких уловок.
После того как зрители посмотрели «Зеркало», самым трудным оказалось объяснить им, что в картине нет никакого другого запрятанного, зашифрованного смысла, кроме желания говорить правду. Эти мои заявления часто вызывали недоверие или даже разочарование. Некоторым этого действительно оказывалось мало: они искали скрытых символов, зашифрованного смысла, тайн. Ибо не привыкли иметь дело с кинематографической образной поэтикой. Меня это, в свою очередь, тоже разочаровывало. Это — оппозиционная часть зрителей. Коллеги же яростно набросились на меня, обвиняя в нескромности, в желании сделать фильм о себе.
В конечном счете, нас спасло только одно — вера — вера в то, что наша работа, настолько важная для нас самих, не может не стать столь же важной и для зрителя. Фильм этот должен был реконструировать жизнь людей, которых я бесконечно люблю и которые мне хорошо известны. Я хотел рассказать о страданиях человека, которому кажется, что он ничем не может оплатить своим близким их любовь, то, что они ему дали. Ему кажется, что он недостаточно любил их — и это является для него поистине мучительной и неизбывной идеей.
Когда начинаешь говорить о вещах сокровенных, то начинает особенно беспокоить реакция людей на высказанное, которое хочется защитить, уберечь от непонимания. Нас очень тревожило будущее зрительское восприятие картины, но при этом мы с маниакальным упорством верили, что нас услышат. Дальнейшие события подтвердили основательность нашего намерения — письма зрителей, процитированные в начале этой книги, многое объясняют в этом смысле. Я не мог рассчитывать на более высокий порог понимания. Для моей дальнейшей работы такая зрительская реакция была важна чрезвычайно.
В «Зеркале» мне хотелось рассказать не о себе, вовсе не о себе, а о своих чувствах, связанных с близкими людьми, о моих взаимоотношениях с ними, о вечной жалости к ним и своей несостоятельности по отношению к ним — о чувстве невосполнимого долга. События, которые вспоминает мой герой в состоянии тяжелейшего кризиса, до последней минуты причиняют ему страдания, вызывают в нем тоску и беспокойство.
Читая театральную пьесу, можно понять ее смысл, который может быть по-разному интерпретирован в разных постановках, но с самого начала имеет свое собственное лицо, — разглядеть лицо будущего фильма в сценарии невозможно! Сценарий умирает в фильме. И, заимствуя диалоги у литературы, кинематограф в существе своем никакого отношения к ней не имеет. Пьеса становится литературным жанром, потому что идеи — характеры, выраженные в существе: диалог всегда литературен. В кинематографе же диалог — лишь одна из составляющих материальной ткани фильма. Все же что претендует в сценарии называться литературой, прозой, должно быть принципиально и последовательно преодолено и переработано в процессе создания фильма. Литература переплавляется в фильме, то есть перестает быть литературой после того, как фильм уже снят. После завершения работы остается лишь возможность иметь литературную запись фильма, монтажный лист, который литературой уже никак не назовешь. Это скорее пересказ увиденного слепому.
Изобразительное решение фильма
Самое главное и сложное в общении с художником и оператором состоит в том, чтобы сделать их сообщниками, соучастниками замысла, как, впрочем, и всех остальных, кто работает с тобой над картиной. Принципиально важно, чтобы они ни в коей мере не оставались пассивными, равнодушными исполнителями, но стали полновластными участниками и творцами, с которыми ты делишься всеми своими чувствами и мыслями. Однако для того чтобы сделать оператора, скажем, своим единомышленником, иногда приходится быть дипломатом. Вплоть до утаивания своего замысла, своей конечной цели ради того, чтобы она реализовалась в операторском решении в оптимальном для замысла виде. Иногда мне приходилось и вовсе скрывать замысел для того, чтобы подтолкнуть оператора к нужному решению. В этом смысле у меня была довольно показательная история с Вадимом Юсовым, оператором, с которым мы снимали все мои картины, до «Соляриса» включительно.
Прочитав сценарий «Зеркала», Юсов отказался его снимать. Свой отказ он мотивировал тем, что ему претит с этической точки зрения его откровенная автобиографичность, смущает и раздражает лирическая интонация всего повествования, желание автора говорить только о себе самом (к слову о реакции на «Зеркало» моих коллег). Юсов, конечно, поступил по-своему честно и откровенно — он, видимо, действительно считал мою позицию нескромной. Правда, позднее, когда картина была уже снята другим оператором, Георгием Рербергом, он как-то признался мне: «Как это ни прискорбно, Андрей, но это твоя лучшая картина». Надеюсь, что это тоже было сказано откровенно.
Может быть, именно потому, что я знал Вадима Юсова очень давно, мне следовало бы быть немного хитрее: не открывать ему все свои замыслы до конца с самого начала, а давать ему сценарий кусками… Не знаю… Не умею кривить душой. Не умею быть дипломатом с друзьями.
Во всяком случае, в тех картинах, которые мне удалось до сих пор сделать, я всегда считал оператора своим соавтором. Работая в кино, недостаточно иметь со своими сотрудниками просто тесные контакты. Дипломатия, о которой я говорил только что, видимо, на самом деле нужна — но сам я, честно говоря, прихожу к такой идее post factum и, можно сказать, чисто теоретически. На практике у меня никогда не было никаких тайн от моих сотрудников; напротив, наша съемочная группа существовала всегда как нечто неделимое, как один организм. Потому что, пока мы не подключимся своими жилами и нервами друг к другу, пока кровь наша не станет циркулировать по нашей общей кровеносной системе, — настоящего фильма сделать нельзя!
Снимая «Зеркало», мы старались почти не расставаться: рассказывали друг другу обо всем, что мы знаем и любим, что нам дорого и гадко, — фантазировали все в равной мере по поводу будущего фильма. Причем совершенно не важно, какое место в фильме заняла работа того или иного члена группы. Вот, например, композитор Артемьев написал для фильма всего несколько музыкальных кусков — но он, несомненно, такой же полноправный и важный участник фильма, как и все остальные, — потому что без него фильм просто не мог бы состояться в том виде, в каком он был сделан.
Когда была выстроена декорация на месте разрушенного временем дома, мы все — члены одной съемочной группы — приходили туда рано утром, ждали рассвета, чтобы увидеть это место в разное время дня, почувствовать его особенности, изучить его в разных состояниях погоды, в разное время дня. Мы старались проникнуться ощущениями тех людей, что когда-то жили в этом доме, смотрели на те же восходы и закаты, дожди и туманы около сорока лет назад. Мы заряжались друг от друга настроением воспоминаний и ощущением святости нашего единства, так что, когда работа была завершена, то нам было больно и досадно — казалось, к ней надо было только теперь приступать: так к этому времени все мы прониклись друг другом.
Духовный контакт членов творческой группы оказался необыкновенно важен. В моменты кризисов (а их было несколько), когда мы с оператором переставали понимать друг друга, я полностью выбивался из колеи: все валилось из рук, и порою по нескольку дней мы были совершенно не в состоянии продолжать съемки. Лишь после того, как мы находили способ объясниться, равновесие восстанавливалось, и работа продолжалась. То есть наш творческий процесс организовывался и корректировался не дисциплинарными мерами и планом работ, а особым климатом внутри группы, что, однако, не мешало нам даже перевыполнять план по срокам съемки.
Кинематографическая работа, точно так же, как и любое другое авторское творчество, должна подчиняться в первую очередь внутренним задачам, а не внешним — дисциплинарным и производственным, которые на самом деле только разрушают рабочий ритм, если все возложить только на них. Можно сдвинуть горы, если люди, работающие над воплощением единого замысла, разные по характеру и темпераменту, прожившие разные жизни, разного возраста, объединяются как бы в единую семью, опаленные единой страстью. Если в ней рождается истинная творческая атмосфера, то становится совершенно не важно, кто же, в конечном счете, является автором той или иной идеи. Кто придумал решение вот этого крупного плана, а кто удачную панораму, кто первый додумался осветить именно таким образом снимаемый объект или снять его под особенно удачным углом зрения.
В этом случае поистине невозможно определить доминирующую роль в фильме оператора, режиссера или художника: просто снятая сцена становится органичной, то есть в ней исчезает всякая натужность и самолюбование.
А уж что касается конкретно «Зеркала», то посудите сами, какой такт надо было иметь всей съемочной группе, чтобы принять как свой, в сущности, чужой и совершенно интимный замысел, которым, честно говоря, так трудно было делиться со своими коллегами — гораздо, может быть, труднее, чем со зрителями: ведь до момента премьеры зритель все-таки кажется некоей далекой абстракцией!..
Многое надо преодолеть, чтобы твои товарищи начали действительно жить твоим замыслом. Зато когда «Зеркало» было завершено, то трудно было уже воспринимать его как историю только моей семьи. Ведь в этой истории приняла участие целая группа самых разных людей. Семья моя словно увеличилась…
При таком положении дел, при настоящем творческом содружестве, чисто технические проблемы сами по себе как бы перестают существовать. И оператор, и художник делали не просто то, что они умели делать, не просто выполняли требования, но каждый раз еще чуть-чуть выше поднимали потолок своих профессиональных возможностей, делали не то, что «можно» (то есть известно, как сделать), но то, что считалось необходимым. Это было уже нечто большее, чем просто профессиональный подход, характерный тем, что, скажем, оператор отбирает из предложенного режиссером только то, что он технически в состоянии реализовать. Только в таком состоянии можно достичь подлинности, истинности, не оставляющей у зрителя сомнений в том, что стены декораций населены человеческими душами.
Одна из самых серьезных проблем, связанных с изобразительным решением фильма, — конечно, проблема цвета. Необходимо, наконец, серьезно задуматься о парадоксе цвета в кино, чрезвычайно затрудняющего воспроизведение доподлинного ощущения правды на экране. Цвет в фильме сейчас скорее коммерческое требование, а не эстетическая категория. Не случайно, поэтому стали появляться все чаще и чаще черно-белые картины.
Восприятие цвета особого свойства физиологический и психологический феномен, и человек не обращает, как правило, на него своего специального внимания. Живописность кинематографического кадра (очень часто просто механическая, объясняемая свойством пленки) нагружает изображение еще одной дополнительной условностью, которую приходится преодолевать, если тебе важна жизненная достоверность. Цвет надо стараться нейтрализовать, избегая активности его воздействия на зрителя. Если же цвет сам по себе становится драматургической доминантой кадра, то это означает, что режиссер и оператор заимствуют у живописи способы воздействия на аудиторию. Именно поэтому сейчас очень часто восприятие крепко сколоченного среднего фильма оказывается сродни восприятию «роскошно» иллюстрированных журналов. Возникает конфликт выразительности изображения с цветным фотографированием.
Может быть, активность воздействия цвета следует нейтрализовать, чередуя цвет с монохромными сценами, чтобы разрядить, затушевать впечатление, получаемое от цвета в его полном спектре. Казалось бы, камера всего лишь точно фиксирует на пленке реальную жизнь — почему же от цветного кадра почти всегда веет столь немыслимой, чудовищной фальшью? Видимо, дело в том, что в механически точно воспроизведенном цвете отсутствует точка зрения художника, который теряет свою организующую роль, утрачивает в этой сфере возможность отбора. Цветовая партитура фильма, имеющая собственную логику развития, отсутствует, отобранная у режиссера технологическим процессом. Так же как становится невозможна избирательная переакцентировка цветовых элементов окружающего мира. Как ни странно, несмотря на то, что окружающий нас мир цветной, черно-белая пленка воспроизводит его образ ближе к психологической, натуралистической и поэтической правде искусства, основанной на свойствах нашего зрения (не только слуха). По существу настоящий цветной фильм — результат борьбы с технологией цветного кино и с цветом вообще.
Об актере в кино
В конечном счете, снимая картину, я за все отвечаю сам — и за актерское исполнение тоже. В театре уровень ответственности самого актера за результаты, достигнутые или нереализованные, несоизмеримо выше.
Актеру кино, приходящему на съемочную площадку, иногда очень вредит знание режиссерского замысла. В том смысле, что режиссер выстраивает роль сам, давая тем самым в отдельных кусках актеру несказанную свободу. Свободу, недоступную в театре. Выстраивая же свою роль сам, кинематографический актер лишает себя спонтанного, непроизвольного действия в предложенных замыслом обстоятельствах, диктующих ему его поведение. И режиссер, приведя его в нужное состояние, должен следить за тем, чтобы он этому состоянию не изменил. А погрузить актера в нужное состояние можно по-разному, пользуясь разными способами, — это зависит и от обстоятельств съемки, и от характера актера, с которым работаешь. В конечном счете, актер должен оказаться в таком психологическом состоянии, которое сыграть невозможно. Если человеку тяжело на душе, то он не сможет этого скрыть до конца. Вот так же и в кино — необходима правда душевного состояния, которую нельзя скрыть.
Можно, конечно, поделить роли: режиссеру разработать партитуру этих состояний для персонажей, а актерам их выразить, вернее, находиться в них во время съемок. Совместить это на съемочной площадке актер не может. Зато сделать это, работая над ролью в театре, он обязан.
Актеру перед объективом камеры требуется доподлинность и непосредственность существования в определенном драматургическими обстоятельствами состоянии. А затем режиссер, получая в свои руки куски пленки, куски-копии, куски-слепки как бы реально происходившего перед камерой, монтирует их в соответствии со своими внутренними художественными задачами, выстраивая внутреннюю логику действия. Кинематографу недоступно обаяние прямого контакта актера со зрительным залом, столь притягательное на театре. И именно поэтому кинематограф никогда не заменит театра. Кинематограф же жив возможностью сколько угодно воскрешать на экране одно и то же событие. Оно как бы носталъгично по своей природе. А на театре спектакль живет, развивается, общается… Это иной способ самоощущения творящего духа.
Режиссер кино напоминает коллекционера. Его кадры-экспонаты представляют собою жизнь, зафиксированную им однажды и навсегда во множестве дорогих ему деталей, кусочков, фрагментов, частью которых может быть и актер, персонаж, а может и не быть.
Актер в театре, как очень глубоко заметил кто-то (Лессинг?), подобен ваятелю из снега. Зато он счастлив общением со зрителем в момент вдохновения. И нет ничего важнее и выше этого единства, где актер и зритель творят искусство сообща. Спектакль существует лишь тогда, когда существует актер как творец, когда он присутствует, когда он есть, пока он физически и духовно жив. Нет актера — нет театра.
В отличие от актера в кино, каждый исполнитель на театре должен внутренне выстроить всю свою роль под руководством режиссера — от начала и до конца. Он должен как бы вычертить график своих чувств в соотнесенности с замыслом спектакля. В кино же собственные умозрительные построения, распределение акцентов, сил, интонаций актеру решительно противопоказаны, ибо он не может знать всех кусков, из которых сложится фильм. Его единственная задача — жить! И верить режиссеру. Режиссер же отберет моменты его существования, наиболее точно выражающие замысел. Актеру нельзя себе мешать, нельзя игнорировать свою свободу — несравненную и божественную.
Работая над фильмом, я стараюсь как можно меньше мучить актера разговорами и решительно восстаю против того, чтобы актер сам устанавливал связь отдельного сыгранного им кусочка с целым, даже со своими же собственными сценами. Когда, например, в «Зеркале», в сцене, где героиня фильма ждет своего мужа и отца ее детей, сидя на заборе и покуривая папиросу, я предпочел, чтобы Маргарита Терехова не была знакома со сценарием. То есть не знала, вернется ли к ней муж впоследствии или не вернется никогда. Зачем скрывать от актрисы сюжет? А затем, чтобы она бессознательно не реагировала на него идеологически, а существовала в данном мгновении так же, как существовала когда-то моя мать, прототип ее героини, не знавшая наперед своей судьбы. Согласитесь, что поведение ее в этой сцене было бы другим, знай она о своих будущих отношениях со своим мужем. И не просто другим, а отыгранным априорным знанием. Терехова непременно, уже заранее, в соответствии с финалом истории ее отношений с мужем, сыграла бы ее обреченность. Актриса, может быть, вскользь, бессознательно, сама не желая этого, если бы этого не хотел режиссер, но дала бы свое ощущение безнадежного ожидания, и мы бы почувствовали это — а в фильме мы должны были чувствовать лишь уникальность и единственность именно этого момента без его связи со всем остальным, что часто вопреки желанию актера лежит на совести режиссера. На театре, наоборот, мы должны ощущать в каждой сцене философскую концепцию образа — для театра это было бы естественно и единственно правильно. В театре прием не заказан. Прием в театре — его метафора, рифма и ритм. Его поэзия.
Итак, знание о будущем героини «Зеркала» не могло пройти бесследно для актрисы, игравшей эту сцену. А нам было необходимо, чтобы она прожила эти минуты адекватно тому, как она прожила бы их в собственной жизни, чей сценарий ей, к счастью, неизвестен. Наверное, надеялась бы, теряла надежду и обретала ее снова… В рамках предлагаемых обстоятельств — то есть в момент ожидания возвращения мужа — актриса должна была прожить свой собственный таинственный кусок жизни, и потому совершенно неизвестно, что именно обозначающий.
Самое важное, чтобы актер органично для себя, в соответствии со своей эмоциональной и интеллектуальной структурой выразил в предлагаемых обстоятельствах психологическое состояние, свойственное лишь ему, в форме ему одному свойственной. Как, каким способом он это сделает, мне совершенно безразлично. То есть я считаю, что не имею права навязывать актеру форму выражения, если это состояние переживается им по существу в соответствии с его индивидуальностью. Каждый переживает одну и ту же ситуацию по-своему и совершенно уникально. Когда у одного тяжелое душевное состояние, он стремится «выплеснуть душу», раскрыться. Другой, напротив, хочет остаться наедине со своим горем, закрывается, становится неконтактным.
Во многих фильмах мне приходилось видеть, как актер копирует жест и манеру поведения режиссера: я замечал это в поведении Васи Шукшина, находящегося под сильным впечатлением от Сергея Герасимова, ловил Куравлева, когда он работал с Шукшиным, на том, что он передразнивает режиссера. Я никогда не навязываю актерам рисунка роли и готов предоставить им полную свободу, если до начала съемок они продемонстрируют свою полную зависимость от замысла.
В кинематографическом актере важна его неповторимая выразительность уникальности — лишь она способна стать заразительной на экране и выразить правду.
Для того чтобы довести актера до нужного состояния, режиссеру самому необходимо понять, ощутить его в себе. Только так можно найти правильный тон всему действию. Нельзя, скажем, войти в незнакомый дом и начать снимать в нем заранее отрепетированную сцену. Это чужой дом, в нем живут незнакомые люди, и он, естественно, никак не поможет выразиться персонажам из другого мира. Во внушении актерам верного, нужного состояния и состоит главная и вполне конкретная задача режиссера в работе с актером над той или другой сценой фильма.
Разумеется, разные актеры требуют разного к себе подхода. Терехова, как я уже говорил, полностью сценария не знала, а играла отдельные его куски. Когда она, наконец, поняла, что я так и не расскажу ей сюжет, не открою смысл ее роли в целом, то была весьма озабочена… Таким образом, мозаика выполненных ею кусков, которая затем укладывалась мною в единый рисунок, создавалась ею интуитивно. Поначалу нам было нелегко работать — ей было трудно поверить в то, что я способен заранее, вместо нее, как бы «за нее» предугадать, как же сложится ее роль в конечном итоге, — другими словами, довериться мне…
Приходилось мне сталкиваться в работе с актерами, которые так до самого конца и не решались полностью довериться замыслу. Они почему-то все время стремились к режиссированию своей роли, вырвав ее из контекста будущего фильма. Такие исполнители мне кажутся непрофессиональными. В моем понимании, настоящий актер кино тот, кто способен легко, естественно и органично, во всяком случае, без видимой натуги, принять и включиться в любые предлагаемые ему правила игры, быть способным оставаться непосредственным в своих индивидуальных реакциях на любую импровизированную ситуацию. С иными актерами мне работать просто неинтересно, ибо они всегда играют более или менее упрощенные «общие места».
Каким в этом смысле блистательным актером был Анатолий Солоницын! Мне теперь так не хватает его! Маргарита Терехова, снимаясь в «Зеркале», в конце концов, тоже поняла, что от нее требуется, — и играла легко и свободно, безгранично доверяя режиссерскому замыслу. Такого свойства актеры верят режиссеру, как дети, и эта их способность довериться вдохновляет меня необыкновенно.
Анатолий Солоницын был прирожденным кинематографистом. Это был нервный, легко внушаемый актер — его было так легко эмоционально заразить, добиться от него нужного состояния.
Для меня очень важно, чтобы у актера не возникало вопроса, вполне традиционного для театрального актера и вполне уместного в работе над спектаклем в театре, поголовно воспитываемого в Союзе на обязательных вопросах в духе Станиславского: почему, зачем, каково зерно образа, какая сквозная идея и тому подобное. Такими, с моей точки зрения, абсурдными вопросами никогда не задавался Толя Солоницын… Ибо он понимал разницу между театром и кино.
Или Николай Григорьевич Гринько. Очень нежный и благородный актер и человек. И я его очень люблю. Несуетливая душа — тонкая и богатая…
Однажды, когда Рене Клера спросили, как он работает с актерами, он ответил, что не работает с ними, а платит им деньги. В том кажущемся цинизме, который некоторые могут усмотреть в словах известного французского режиссера (как его имя склоняли некоторые кинокритики в Союзе в связи с этим!), на самом деле кроется глубокое уважение к актерской профессии. В них — высокое доверие к профессионалу, знающему свое дело. Режиссер бывает вынужден работать с человеком, который менее всего годен в актеры. А что мы можем сказать о том, как работает с актерами Антониони в своем «Приключении», например?.. Орсон Уэллс в «Гражданине Кейне»?.. Просто у нас возникает ощущение уникальной убедительности. Но это качественно иная, особая экранная убедительность, принципиально отличная от актерской выразительности в театральном смысле…
У меня в свое время, к сожалению, не сложились творческие взаимоотношения с Донатасом Банионисом (главная роль в «Солярисе»). Он принадлежит к той категории актеров-аналитиков, которые не могут работать, не поняв, «зачем» и «для чего». Он не способен ничего сыграть спонтанно и изнутри. Он должен сначала выстроить роль: для этого он должен знать как соотносятся куски, как работают рядом другие актеры, и не только в его сценах, но и в фильме в целом, — таким образом, он пытается подменить собою режиссера. По всей вероятности, это является следствием его многолетней работы на сцене театра. Он не может смириться с мыслью о том, что актер не может себе представить, как будет выглядеть законченный фильм. Но ведь даже самый хороший режиссер в кино, точно зная, чего он хочет, далеко не всегда представляет себе результат. Тем не менее роль Кельвина очень удалась Донатасу, и я благодарен судьбе, что именно он ее играл. Но было невероятно трудно.
Актер аналитического, головного склада полагает, что знает будущий фильм, или, во всяком случае, изучив сценарий, мучительно старается представить его себе в окончательном виде. В этом случае он начинает играть «результат», то есть как бы концепцию роли, — тем самым, дезавуируя саму идею создания кинематографического образа.
Я уже говорил, что разные актеры требуют к себе разного подхода. Более того, иногда один и тот же актер требует к себе иного подхода в работе над новыми ролями. Режиссер вынужден быть изобретательным в поисках методов и средств достижения нужного ему результата. Вот Коля Бурляев в работе над Бориской, сыном колокольных дел мастера в «Андрее Рублеве»… Это его вторая работа у меня после «Иванова детства». Во время съемок мне приходилось через ассистентов доводить до его сведения, что я им чрезвычайно недоволен и, возможно, буду переснимать его сцены с другим актером. Мне было нужно, чтобы он чувствовал за своей спиной зреющую катастрофу, чтобы неуверенность владела им, и чтобы он был искренним в выражении этого состояния. Бурляев — актер чрезвычайно несобранный, декоративный и неглубокий. Его темперамент искусственен. Именно поэтому я был вынужден прибегать к столь суровым мерам. И, тем не менее, он в фильме не на уровне моих любимых исполнителей: Ирмы Рауш, Солоницына, Гринько, Бейшеналиева, Назарова. А Иван Лапиков, исполняющий роль Кирилла, тоже, для меня, очевидно, выбивается из общей тональности актерского исполнения в фильме. Он театрален: то есть играет замысел, свое отношение к роли, образ.
Чтобы пояснить, что я имею в виду, обратимся к фильму Бергмана «Стыд». В нем практически нет ни одного так называемого «актерского куска», где бы исполнитель «выдал» режиссерский замысел, то есть сыграл концепцию образа, свое отношение к нему, оценил бы его с позиции общей идеи. Он упрятан полностью за живой жизнью персонажей, растворен в ней. Герои фильма раздавлены обстоятельствами, подчинены только им и ведут себя соответственно, не пытаясь преподнести нам ни идею, ни отношение к происходящему, ни вывод из случившегося, предоставляя все это фильму в целом, режиссерскому замыслу. И сколь блестяще они справляются со своей задачей! Вы не сможете сказать про этих людей односложно, кто из них хорош, а кто плох, например. Я бы никогда не мог сказать, что герой фон Сюдова плохой человек. Все отчасти хороши и отчасти плохи по-своему. Нет приговоров, потому что в исполнителях нет ни капли тенденциозности, и обстоятельства фильма используются режиссером для того, чтобы исследовать человеческие возможности, испытываемые этими обстоятельствами, а вовсе не для того, чтобы иллюстрировать априори заданную идею.
Как глубоко разработана линия Макса фон Сюдова. Это очень хороший человек. Музыкант. Добрый и тонкий. Оказывается, что он трус. Но ведь далеко не каждый смельчак хороший человек, а трус вовсе не всегда мерзавец. Конечно, он слабый и слабохарактерный человек. Его жена гораздо сильнее его, и у нее достает сил, чтобы преодолевать свой страх. А у героя Макса фон Сюдова сил не хватает. Он страдает от своей слабости, ранимости, неспособности выстоять — он старается скрыться, забиться в угол, не видеть, не слышать — и делает это, как ребенок: наивно и совершенно искренне. Когда же жизненные обстоятельства вынуждают его защищаться, то он немедленно превращается в негодяя. Он теряет лучшее, что в нем было, но весь драматизм и абсурдность состоят в том, что в этом новом своем качестве он становится нужным своей жене, которая в свою очередь ищет в нем поддержки и спасения. В то время как раньше она его презирала. Она ползет за ним тогда, когда он бьет ее по физиономии и говорит: «Пошла вон!» Начинает звучать вечная как мир идея пассивности добра и активности зла. Но как сложно она выражается! Поначалу герой фильма не может убить даже курицу, но как только он находит способ защищаться, то становится жестоким циником. В характере его есть что-то гамлетовское: в том смысле, что, в моем понимании, принц датский гибнет не после дуэли, когда он физически умирает, а сразу же после «Мышеловки», как только он понимает неотвратимость законов жизни, принуждающих его, гуманиста и интеллектуала, уподобиться ничтожествам, населяющим Эльсинор. Этот мрачный тип (я имею в виду героя фон Сюдова) теперь ничего не боится: он убивает, не шевельнет пальцем во спасение себе подобного — он действует в свое благо. Все дело в том, что надо быть очень честным человеком, чтобы испытывать страх перед грязной необходимостью убийства и унижения; теряя этот страх и якобы тем самым обретая мужество, человек на самом деле утрачивает свою духовность, интеллектуальную честность, прощается со своей невинностью. И война особенно наглядно провоцирует в людях жестокие антигуманные начала. В этом фильме Бергмана война становится таким же обстоятельством, помогающим раскрыть его концепцию человека, как в фильме «Как в зеркале» таким обстоятельством становится болезнь героини…
Бергман никогда не позволяет своим героям быть выше обстоятельств, в которые поставлены их персонажи, и потому добивается блистательных результатов. В кино режиссер должен вдохнуть в актера жизнь, а не превращать его в рупор своих идей.
Я, как правило, не знаю заранее, кто из актеров будет у меня сниматься. Может быть, исключением был только Солоницын — он снимался в каждом моем фильме. У меня к этой проблеме было почти суеверное отношение. Сценарий «Ностальгии» писался тоже в расчете на его участие в фильме, и почти символично, что смерть актера как бы разрезала мою не только творческую жизнь на два куска: Россию и все, что было и будет после России.
Как правило, поиски исполнителей для меня долгий и мучительный процесс. Пока не снимешь половины материала, совершенно невозможно сказать, правильно ли ты выбрал актера на роль или ошибся. Более того, может быть, даже именно самое сложное для меня состоит в том, чтобы поверить в правильность выбранного исполнителя, в соответствие его индивидуальности задуманному.
Надо сказать, что в выборе актеров мне очень помогают мои ассистенты. Когда мы готовили «Солярис», то Лариса Павловна Тарковская, моя жена и всегдашний помощник, отправившись в Ленинград в поисках исполнителя роли Снаута, привезла нам превосходного эстонского актера Юри Ярвета. В это время он снимался в «Короле Лире» у Григория Козинцева.
С самого начала нам было ясно, что на роль Снаута нам нужен актер с наивным, испуганным и безумным взглядом — и Ярвет, с его удивительно детскими голубыми глазами, как нельзя более соответствовал тому, что мы себе представляли. (Я теперь очень сожалею, что заставлял его произносить текст его роли по-русски, тем более что его все равно пришлось дублировать, — он мог бы быть еще свободнее и потому ярче, богаче красками, произнося текст роли по-эстонски.) И хотя нам приходилось довольно трудно из-за незнания им русского языка, я был счастлив, работая с этим первоклассным актером с какой-то поистине дьявольской интуицией.
Однажды мы с ним репетировали одну из сцен, и я попросил Ярвета повторить все то же самое, но, чуть изменив состояние, я просил его быть «погрустнее». Он сделал все точно так, как мне хотелось, а когда мы закончили съемку этой сцены, то спросил меня на ужасном русском языке: «А что значит „погрустнее“?»…
Кино отличается от театра еще и тем, что в экранном изображении фиксируется личность, из мозаики отпечатков которой на пленке режиссер складывает художественное целое. В работе же с театральным актером очень важна умозрительная часть: важно выяснить принцип исполнения каждой роли в контексте всего замысла, прочертить схему действия персонажей, сферу их влияния друг на друга, разработать сквозную линию актерского поведения и его мотивов. А в кино требуется лишь правда сиюминутного состояния. Но как порой трудно она дается, эта правда! Как трудно не помешать актеру жить в кадре своей жизнью. Как трудно бывает докопаться до сокровенных глубин актерского психологического состояния, которое способно дать персонажу поразительно яркие способы выражения себя.
Учитывая, что кинематограф — всегда фиксируемая реальность, мне казались странными широко распространенные в 60-е и 70-е годы разговоры о «документальности» применительно к игровым лентам.
Инсценированная жизнь не может быть документальной. Когда анализируется игровое кино, то вполне возможно и следует говорить о том, как и каким образом режиссер организует жизнь перед объективизм, а не каким методом пользуется оператор, снимая действие. Отар Иоселиани, скажем, от «Листопада» через «Певчий дрозд» к «Пасторали» все плотнее приближается к жизни, стараясь воспроизвести ее во все большей непроизвольности… И только очень поверхностный и равнодушный, формальный взгляд упрется в документализированные детали, не видя за ними главного — поэтического мировоззрения Иоселиани. А «документальная» у него камера (в смысле манеры съемок) или поэтическая — мне совершенно безразлично. Каждый художник, как говорится, пьет из своего стакана. И для автора «Пасторали» нет ничего дороже, чем грузовик, увиденный им на пыльной дороге, чем последовательное и скрупулезное преследование дачников на их ничем не примечательной прогулке, полной поэзии. Об этом он хочет рассказать без специальной романтизации и внешнего пафоса. Таким образом, выраженная влюбленность во сто крат убедительнее, чем сознательно взвинченная псевдопоэтическая интонация Кончаловского в «Романсе о влюбленных». В этом фильме говорят велеречиво, в соответствии с законами какого-то выдуманного жанра, о котором столько раз высказывается постановщик еще во время съемок, широковещательно и широкоформатно. Но, главное, какой холодностью, какой непереносимой выспренностью и фальшью веет от этого фильма. Никакой жанр не в силах оправдать умысла режиссера, говорящего не своим голосом о вещах ему совершенно безразличных. Нет ничего ошибочнее, чем полагать, что в фильмах у Иоселиани царит ползучая проза, а у Кончаловского — высокая поэзия. Просто для Иоселиани поэтическое воплощается в том, что он любит, а не в том, что он придумывает, дабы продемонстрировать свой псевдоромантический взгляд на жизнь. Я вообще терпеть не могу всех этих наклеек и ярлыков! Мне странно, например, когда говорят о символизме Бергмана. Для меня очевидно обратное: через какой-то почти биологический натурализм он пробивается к важной для него правде человеческой жизни в ее духовном смысле.
Я хочу сказать, что решающим критерием ценностной ориентации того или иного режиссера, определяющей его глубину, является то, ради чего он снимает, — и совершенно несущественно, как, каким методом.
Единственное, как мне кажется, о чем следует помнить режиссеру, это не о «поэтическом», «интеллектуальном» или «документальном» стиле, а о том, чтобы быть последовательным до конца в утверждении своих идей. А какой камерой он при этом будет пользоваться — его личное дело. В искусстве не может быть документальности и объективности. В искусстве сама объективность — авторская, то есть субъективная. Даже если этот автор монтирует хронику.
Возникает вопрос: если актеры, как я настаиваю, должны играть в кинематографе только точные обстоятельства, то как же быть с трагикомедией, фарсом, мелодрамой, где, как говорят, и актерское исполнение может быть гиперболизированным?
Мне кажется также вполне предосудительным некритическое перенесение понятия жанра, связанного со сценой, на кинематограф, театр наделен иной мерой условности. А когда говорят о «жанре» в кинематографе, то речь идет, как правило, о коммерческой кинопродукции. Комедия положений, вестерн, психологическая драма, детектив, мюзикл, фильм ужаса, катастрофы, мелодрама и так далее. Разве это имеет какое-нибудь отношение к высокому искусству кино? Это «масс-медиа» — ширпотреб. Это навязанная кинематографу извне, продиктованная коммерческими соображениями форма его нынешнего, увы, почти повсеместного существования! В кино же есть только один способ мыслить — поэтический, он соединяет несоединимое и парадоксальное, делает кинематограф адекватным способом выражения мыслей и чувств автора.
Истинный кинообраз строится на разрушении жанра и в борьбе с ним. И художник, очевидно, стремится здесь выразить свои идеалы, которые трудно загнать в параметры жанра.
В каком жанре работает Брессон? Ни в каком! Брессон есть Брессон. Брессон сам по себе уже жанр. Антониони, Феллини, Бергман, Куросава, Довженко, Виго, Мидзогучи, Бунюэль — они просто тождественны сами себе. От самого понятия — жанр — веет могильным холодом. А Чаплин? Разве это комедия? Нет. Это просто Чаплин, и ничего более, уникальное явление, которое невозможно повторить. Это сплошная гипербола, но главное то, что каждую секунду существования в кадре он потрясает правдой поведения своего героя. В самой нелепой ситуации Чаплин совершенно естественен и поэтому-то смешон. Его герой словно не замечает гиперболизированного мира, который его окружает, его несусветной логики. Иногда кажется, что Чаплин умер лет триста назад. Настолько он классик. Он совершенно целостен.
Что может быть нелепее, неправдоподобнее ситуации, в которой человек, поедая спагетти, начинает незаметно для себя заглатывать серпантин, свисающий с потолка. Однако в исполнении Чаплина действие это становится органичным до натурализма. Мы знаем, что все это придумано и преувеличено, но исполнение гиперболизированного замысла совершенно правдоподобно, естественно и поэтому убедительно и безумно смешно. Он не играет. Он живет в этих порою идиотских ситуациях совершенно органично.
В кино своя собственная специфика актерского исполнения. Это, конечно, вовсе не значит, что все режиссеры в кино одинаково работают с актерами: и актеры Феллини, конечно, отличаются от актеров Брессона, потому что эти режиссеры нуждаются в разных человеческих типах.
Если теперь для примера взять немые фильмы русского режиссера Протазанова, кстати, весьма популярные в свое время у широчайшей аудитории, то сегодня мы с некоторой неловкостью замечаем, сколь полно подчинены здесь все актеры чисто театральной условности, как беззастенчиво используют устаревшие театральные штампы, жмут изо всех сил, форсируют актерскую пластику. Они очень стараются быть смешными в комедии, стараются быть максимально «выразительными» в драматических ситуациях, но чем больше они стараются в этом направлении, тем очевиднее и нагляднее стала с годами несостоятельность их «метода». Большинство фильмов тех лет стареют еще и потому, что не нащупали специфических особенностей актерского поведения, на которых возрастает кинематографическое произведение, — потому так короток был их век.
А если теперь снова вернуться к картинам Брессона, то мне представляется, что его исполнители никогда не покажутся старомодными, как и его фильмы в целом. Потому что в них нет нарочитого, специального, а есть глубочайшая правда человеческого самоощущения в предлагаемых режиссером обстоятельствах. Его актеры не играют образы, а живут на наших глазах своей глубокой внутренней жизнью. Вспомните «Мушетт»! Разве можно сказать, что исполнительница главной роли хоть на секунду задумывается о зрителе, вспоминает о нем, чтобы донести до него всю «глубину» того, что с ней происходит? Разве она «показывает» зрителю, как ей «плохо»? Никогда! Она как будто бы не подозревает, что ее внутренняя жизнь быть объектом наблюдения, может кем-то свидетельствоваться. Она живет, существует в своем замкнутом, углубленном и сосредоточенном мире. Потому она так властно притягивает к себе внимание, и я убежден, что через десятки лет этот фильм будет производить то же ошеломляющее впечатление, как и в день своей премьеры. Как до сих пор воздействует на нас немой фильм Дрейера о Жанне д'Арк.
Удивительно, что, как всегда, опыт ничему не учит, и современные режиссеры снова обращаются сплошь и рядом к манере исполнения, казалось бы, столь очевидно принадлежащей прошлому. В фильме Ларисы Шепитько «Восхождение» меня все-таки не до конца убедило ее настойчивое желание быть «выразительной», «многозначительной», что привело к однозначности ее «притчеобразного» повествования. Как и другие режиссеры, она почему-то захотела в этом фильме «потрясти» зрителя за счет преувеличенного, подчеркнутого переживания своих героев. Она как будто бы боялась, что ее не поймут, и поставила своих героев на невидимые котурны. Даже освещение актеров продиктовано заботой о том, чтобы придать рассказу особую «многозначительность». Но, к сожалению, «многозначительность» здесь оборачивается надуманностью и фальшью. Для того чтобы заставить зрителя сочувствовать героям картины, постановщик заставляет и актеров демонстрировать страдания своих персонажей. Все и мучительнее, и больнее, чем в жизни в этом фильме, даже сами мучения и боль, а главное — многозначительнее. И оттого от картины веет холодом и равнодушием — авторским непониманием собственного замысла. Он как бы устаревает, еще не успев родиться. Не надо стараться «донести до зрителя мысль» — это неблагодарная и бессмысленная задача. Покажи зрителю жизнь, и он сам найдет возможности в себе расценить и оценить ее. Очень грустно говорить это о замечательном режиссере, каким была Лариса Шепитько.
Кинематографу не нужны актеры, которые играют. Тошно становится, глядя на них, оттого, что зрители давно уже поняли, чего хотят эти актеры, а они настойчиво и членораздельно продолжают объяснять смысл текста: и первый план, и второй, и третий. Настаивают, не надеясь на нашу сообразительность. Но тогда объясните, чем отличаются эти новые исполнители от Мозжухина, звезды русского дореволюционного экрана, например? Только тем, что сами фильмы сделаны теперь на другом техническом уровне? Но технический уровень сам по себе ничего не определяет в искусстве — иначе нам придется признать, что кино вовсе не имеет никакого отношения к искусству. Это чисто зрелищные, коммерческие проблемы, не имеющие связи с существом дела, со спецификой кинематографического воздействия. Иначе нас не могли бы сегодня тронуть ни Чаплин, ни Дрейер, ни «Земля» Довженко. А они потрясают наше воображение и сегодня.
Быть смешным — не значит смешить. Вызывать сочувствие — не значит выжимать слезы у зрителя. Гипербола возможна только как целостный принцип построения произведения, как свойство его образной системы, но не как принцип методики. Почерк автора не должен быть натужен, подчеркнут, каллиграфичен. Иногда совершенно нереальное начинает выражать самое действительность. «Реализм, — как говорит Митенька Карамазов, — страшная штука!» Вот и Валери замечал по этому поводу, что реальное органичнее всего выражается через абсурд.
Любое искусство как способ познания тяготеет к реалистичности. Но реалистичность, конечно же, не означает бытописательства и натурализма. Разве ре-минорная хоральная прелюдия Баха не выражает отношения к истине и в этом смысле не реалистична?
Говоря о специфике театра, о его условности, стоит упомянуть также и его способ выстраивать образы по принципу намека. Театр по детали дает ощутить целое явление. Понятно, что каждое явление имеет множество аспектов. И чем меньше граней и аспектов этого явления, по которым затем зритель реконструирует само явление, воспроизводится на сцене, тем точнее и выразительнее использует режиссер театральную условность. А кинематограф воспроизводит явление в его деталях, подробностях, но здесь, чем точнее эти подробности воспроизведены в своей чувственной, конкретной форме, тем ближе режиссер к своей цели. На сцене кровь не имеет права литься. Но если мы видим, что актер скользит в крови, но самой крови не видно, — тогда это театр!
Работая над «Гамлетом», сцену убийства Полония мы хотели выстроить следующим образом: смертельно раненный Гамлетом, он появляется из своего укрытия, прижимая к ране красный тюрбан, который он носил на голове, — он как бы прикрывает им рану. Затем он роняет тюрбан, теряет его, пытается вернуться, чтобы его унести, чтобы как бы убрать за собой. Нечистоплотно при хозяине грязнить полы кровью, но силы покидают его. Когда Полоний роняет красный тюрбан, то для нас он был и тюрбан, как таковой, и некий знак крови. Ее метафора. Настоящая кровь в театре не может быть убедительной для доказательства поэтической правды, если она несет однозначно-натуральную функцию. Зато в кинематографе кровь — это кровь, не символ и не обозначение чего-то. Поэтому, когда герой «Пепла и алмаза», убитый среди развешанных простыней, прижимает, падая, одну из них к груди и на белом полотне расплывается алая кровь — красное и белое — символ польского флага, то это уже скорее не кинематографический, а литературный образ. Хотя чрезвычайно сильный в эмоциональном смысле.
Кино слишком зависит от жизни, слишком прислушивается к ней, чтобы сковывать жизнь жанром, чтобы выводить эмоции с помощью жанровых лекал. В отличие от театра, оперирующего идеями, где даже характер человека — идея!
Конечно, все искусство искусственно. Оно лишь символизирует истину. Это трюизм. Но нельзя искусственность, идущую от недостаточного умения, от отсутствия профессионализма, выдавать за стилистику, когда преувеличение идет не от свойств образности, а от преувеличенного старания и желания нравиться. Это признак провинциализма — желание во что бы то ни стало быть заметным в роли творца. Зрителя следует уважать. Уважать его достоинство. Не дуть ему в лицо. Этого не любят даже собаки и кошки.
Конечно, это еще вопрос доверия зрителю. Зритель — понятие идеальное. Речь не может идти о каждом отдельном человеке, сидящем в зале. Художник грезит о том, чтобы быть понятым максимально, хоть и способен дать зрителю в результате лишь кое-что. Правда, он должен быть специально этим озабочен. Единственное, о чем он должен пристально думать, это чтобы быть искренним в выражении своего замысла. Часто актерам говорят: «надо донести мысль». И вот актер послушно «несет мысль», принося в жертву правду образа. Но какое в этом недоверие к зрителю, несмотря на желание пойти ему навстречу.
В фильме Иоселиани «Жил певчий дрозд» главная роль была доверена непрофессионалу. И что же? Достоверность главного героя не оставляет никаких сомнений — он живет на экране безусловно полнокровной живой жизнью, в которой невозможно усомниться, невозможно не принять ее к сведению, не обратить внимания. Потому что живая жизнь имеет непосредственное отношение к каждому из нас и ко всему, что с нами происходит.
Чтобы актеру быть выразительным на экране, ему совершенно недостаточно быть просто понятным. Ему нужно быть правдивым. А правдивое чаще всего мало понятно. И всегда вызывает определенное чувство полноты, завершенности — это всегда уникальное переживание, не расчленяемое и необъяснимое до конца.
О музыке и шумах
Как известно, музыка возникла в кинематографе еще тогда, когда экран оставался немым, благодаря таперу, который иллюстрировал происходящее на экране музыкальным сопровождением, соответствующим ритму и эмоциональному накалу изображения. Это было достаточно механическое, случайное или в иллюстративном смысле примитивное наложение музыки на изображение, призванное усилить впечатление от того или иного эпизода. Как это ни странно, но до сих пор принцип использования музыки в кинематографе чаще всего остается таким же. Эпизод как бы подпирают музыкальным сопровождением, чтобы еще раз, проиллюстрировав ведущую тему, усилить ее эмоциональное звучание. А иногда и просто чтобы спасти неудавшуюся сцену.
Мне ближе всего представляется прием, при котором музыка возникает как рефрен. Когда мы встречаем в стихах поэтический рефрен, то, обогащенные знанием только что прочитанного, возвращаемся к первопричине, побудившей автора написать эти строки в первый раз. Рефрен возрождает в нас то первоначальное состояние, с которым мы вступили в этот новый для нас поэтический мир, делая его одновременно и непосредственным и обновленным. Мы как бы возвращаемся к его истокам.
В таком случае музыка не просто усиливает впечатление параллельно изображению, иллюстрируя ту же мысль, но открывает возможности нового, качественно преображенного впечатления от того же материала. Окунаясь в соответствующую, рефреном спровоцированную музыкальную стихию, мы вновь и вновь возвращаемся к пережитым чувствам, но с обновленным запасом эмоциональных впечатлений. В этом случае с введением музыкального ряда зафиксированная в кадре жизнь меняет свой колорит, а иногда способна даже изменить свою сущность.
Кроме того, музыка способна вносить в материал лирические интонации, рожденные авторским опытом. Например, в «Зеркале», картине биографической, музыка часто возникает как материал самой жизни, как часть духовного опыта автора — и являлась здесь важным компонентом в формировании духовного мира лирического героя этой картины. Музыка может использоваться в случае, когда материал, использованный в фильме в визуальном ряде, должен возникнуть в восприятии зрителя в нужной степени деформированным. Когда в процессе его восприятия с экрана он должен стать как бы тяжелее или легче, прозрачнее, тоньше или же, напротив, грубее… Используя ту или иную музыку, автор получает возможность подтолкнуть чувства зрителей в нужном ему направлении, расширив при этом границы отношения к видимому предмету. От этого не меняется сам смысл рассматриваемого предмета, но предмет как таковой получает дополнительную краску. Зритель воспринимает его (или, во всяком случае, получает возможность воспринимать) в контексте новой целостности, куда органической частью входит музыка. То есть в восприятии, как таковом, возникает еще один дополнительный новый аспект.
Но музыка не просто довесок к изображению — замысел должен быть органически замешен на совокупности с музыкой. Музыкальная интонация, если музыка использована точно, способна эмоционально менять весь колорит снятого на пленку куска и достигать в замысле такого единства с изображением, что если убрать ее вовсе из определенного эпизода, то изображение (образ) по самой своей идее станет не столько ослабленным по впечатлению, а как бы качественно иным.
Я не уверен, что мне самому всегда удавалось соответствовать в своих фильмах тем теоретическим требованиям, которые я здесь формулирую. Должен сознаться — моя тайная вера в том, что фильм вовсе не нуждается ни в какой музыке. Я, однако, такого фильма еще не сделал, хотя приближался к его решению от «Сталкера» к «Ностальгии». Во всяком случае, пока музыка оказывалась все-таки чаще полноправным компонентом моих фильмов, важным и дорогим.
Мне хотелось бы надеяться при этом, что музыка не была у меня плоской иллюстрацией к изображению. Мне не хотелось бы, чтобы она воспринималась просто некой эмоциональной аурой, возникающей вокруг изображаемых предметов, чтобы заставить зрителя видеть изображение в нужной мне интонации. Музыка для меня в отношении к кинематографу в любом случае — это естественная часть звучащего мира, часть человеческой жизни. Хотя вполне возможно, что в звуковом фильме, решенном теоретически-последовательно, музыке вовсе не останется места — ее вытеснят все более интересно осмысленные кинематографом шумы, чего я и добивался в двух последних своих работах — «Сталкере» и «Ностальгии».
Мне кажется, для того чтобы заставить зазвучать кинематографический образ по-настоящему полно и объемно, целесообразно отказаться от музыки. Ведь если говорить строго, то мир, трансформированный кинематографом, и мир, трансформированный музыкой, — это параллельные миры, находящиеся в конфликте. По-настоящему организованный в фильме звучащий мир по сути своей музыкален — это и есть настоящая кинематографическая музыка.
Прекрасно работает со звуком Иоселиани. Но его метод совершенно отличен от моего: он настаивает на шумовой атмосфере, используя натуральный бытовой шум. Он настаивает на этом шуме до назойливости, убеждая нас в итоге в закономерности того, что происходит на экране, до такой степени, что кажется уже невозможным существовать без его фонограммы подробностей.
Удивительно работает со звуком Бергман. Невозможно забыть его фильм «Как в зеркале», где он использует звук маяка на пределе слышимости.
Блестяще работает со звуком Брессон, Антониони в своей трилогии… Но, несмотря на все это, я чувствую, что есть какие-то другие пути работы со звуком, которые позволили бы быть более точными и адекватными тому внутреннему миру, который мы пытаемся воспроизводить на экране, и не только внутреннему миру автора, но и внутренней сущности мира как такового, его собственной, независимой от нас сущности.
Что такое натуралистически точно звучащий мир? В кино это невозможно даже себе вообразить: это значит, что должно смешаться все, если зафиксированное в кадре получит свое звуковое выражение и в фонограмме. Но эта какофония означала бы, что фильм вообще лишен какого бы то ни было звукового решения. Если отбор звуков не был произведен, то это означало бы, что фильм адекватен немому, ибо он лишен звучащего мира, звуковой выразительности. Технически записанный звук еще ничего не меняет в образной системе кинематографа — нет в нем еще никакой эстетической содержательности.
Стоит только у зримого мира, отраженного экраном, отнять его звуки или населить этот мир звуками посторонними, не существующими буквально ради данного изображения, или деформировать их не соответствующе данному изображению — фильм немедленно зазвучит.
Когда, например, Бергман использует звук, казалось бы, натуралистически — гулкие шаги в пустом коридоре, бой часов, шорохи платья, то на самом деле этот «натурализм» укрупняет звук, вычленяет его, гиперболизирует… Выделяется один из шумов и опускаются все побочные обстоятельства со своей звуковой жизнью, которые, несомненно, существовали бы в реальной жизненной ситуации. Вот в «Причастии», например: шум воды в потоке, на берегу которого обнаружен труп самоубийцы. На протяжении всего эпизода, идущего на общем и среднем планах, ничего не слышно, кроме не стихающего шума воды, — ни шагов, ни шорохов, ни слов, которыми перекидываются люди на берегу. Это и есть как раз звуковая выразительность куска, его звуковое решение.
Главная моя идея состоит в том, что мир так прекрасно звучит сам по себе, что если бы мы научились должным образом его слышать, то музыка не понадобилась бы кино вовсе.
Впрочем, современный кинематограф дает образцы превосходного, виртуозного использования музыки. Как у Бергмана в картине «Стыд», в плохеньком транзисторе среди хрипов и визгов возникают отрывки прекрасных музыкальных сочинений… Или как замечательна у Феллини музыка Нино Рота в «8 1/2» — грустная, сентиментальная, ироничная…
В «Зеркале» с композитором Артемьевым в отдельных сценах мы использовали электронную музыку. Я думаю, что ее возможности в применении к кинематографу очень велики.
Мы хотели приблизить ее звучание к опоэтизированному земному эхо, шорохам, вздохам. Оно должно было выражать условность реальности и в то же время точно воспроизвести определенные душевные состояния, звучание внутренней жизни. Электронная музыка умирает в тот момент, когда мы слышим, что она именно электронная, то есть понимаем, как она сконструирована. Артемьев добивался нужного звучания очень сложными путями. Электронная музыка должна быть очищена от «химического» своего происхождения, чтобы иметь возможность восприниматься как органическое звучание мира.
А инструментальная музыка настолько самостоятельна как искусство, что ей гораздо труднее раствориться в фильме, стать его органической частью. Так что применение ее — по существу всегда компромисс, ибо оно всегда иллюстративно. К тому же электронная музыка обладает способностью растворения в звуке. Она может скрываться за шумами и казаться чем-то неопределенным: голосом природы, неясных чувств… Она может быть похожа и на человеческое дыхание…
Глава шестая
Автор в поисках зрителя
Двусмысленное положение кинематографа между искусством и производством многое определяет в особенностях взаимоотношений авторов кино с их публикой. Исходя из этого общеизвестного факта, я и попытаюсь высказать некоторые соображения о многих сложностях, встающих перед кинематографом, рассмотреть некоторые частные последствия этой ситуации. Всякое производство, как известно, должно быть рентабельным; для своего нормального функционирования воспроизводства оно должно не только окупать себя, но и давать определенную прибыль. Таким образом, с точки зрения производственных показателей, успех или неуспех фильма, его эстетическая ценность начинают регулироваться, как это ни парадоксально, «спросом» и «потреблением», то есть законами рынка в чистом виде. Стоит ли говорить о том, что подобных критериев оценки в тотальном смысле не знало ни одно искусство? И до тех пор, пока кинематограф будет оставаться в этом теперешнем своем положении, до тех пор настоящим кинематографическим произведениям будет непросто появляться на свет Божий — пробивать себе пути к широкой аудитории.
Следует заметить, что критерий различия «искусства» от «неискусства», подделки настолько относителен, расплывчат, лишен объективной доказуемости, что, оказывается, не составляет никакой трудности незаметно подменить эстетические критерии оценки чисто утилитарными, которые, с одной стороны, продиктованы желанием получить максимально выгодную в экономическом отношении прибыль, а с другой стороны, диктуются той или иной идеологической задачей. С моей точки зрения, и тот и другой критерии равно далеки от собственных задач искусства как такового.
Искусство аристократично по своей природе и естественно, оказывает избирательное воздействие на аудиторию. Ибо сам характер этого воздействия, даже в таких «коллективных» его разновидностях, как театр или кинематограф, связан с интимными переживаниями каждого, кто вступает в контакт с произведением искусства. Оно становится тем значительнее в опыте каждого человека, чем более потрясена его душа, охваченная этим переживанием.
Однако аристократическая природа искусства отнюдь не снимает вопроса ответственности художника перед своей аудиторией и, если хотите, шире: перед человеком вообще. Напротив. Наиболее полно осознавая свое время и мир, в котором он живет, художник становится голосом тех, кто не умеет осмыслить и выразить своего отношения к действительности. В этом смысле художник действительно является гласом народа. И потому он оказывается призванным служить своему таланту, а тем самым и своему народу.
В этой связи мне совершенно непонятна проблема так называемой «свободы» и «несвободы» художника. Художник несвободен всегда. Нет более несвободных людей, чем художники. Они скованы своим даром, своей предназначенностью — служения своему дару и тем самым народу.
А с другой стороны, художник совершенно свободен в возможности или реализовать свой талант возможно более полно, или продать свою душу за тридцать серебряников.
Не с осознанием ли своей роли и своей предназначенности в человеческом обществе были связаны все духовные метания Толстого, Достоевского, Гоголя?
Я совершенно убежден, что ни один художник, осуществляя свою собственную духовную миссию, никогда не стал бы работать, если бы был уверен, что никто и никогда не ознакомится с его трудами. И в то же самое время, творя, художник должен как бы опустить занавес между собою и людьми, чтобы оградиться от суетных, мелочных, злободневных соображений. Ибо только полная искренность и честность, помноженные на осознание своей ответственности перед людьми, являются залогом того, что художник осуществит свою творческую судьбу.
В практике своей работы в Союзе я очень часто сталкивался с обвинениями, страшно распространенными, «в отрыве от действительности», как бы в сознательной самоизоляции от насущных народных интересов. Должен, однако, признаться совершенно откровенно, что никогда не понимал, что означают эти обвинения? Не идеалистично ли, в конце концов, полагать, что художник, как и любой другой человек, способен выпасть из общества, из времени, быть «свободным» от времени и пространства, в котором он рожден? Мне всегда казалось, что любой человек, как и любой художник (как бы далеко ни отстояли художники-современники друг от друга в своих позициях, эстетических и идейных пристрастиях), не может не быть закономерным порождением окружающей его действительности. Можно говорить, что художник осмысливает действительность с нежелаемой для кого-то точки зрения — но при чем же здесь «отрыв от действительности»? Ясно, что всякий человек выражает свое время и несет в себе определенные его закономерности независимо от того, приятно или неприятно кому-то с этими закономерностями считаться или знакомиться с теми сторонами действительности, на которые закрывают глаза.
Как я уже писал, искусство, прежде всего, воздействует не на разум человека, а на его эмоции. Оно рассчитывает размягчить, разрыхлить человеческую душу к восприятию Добра. Ведь когда смотришь хороший фильм, живопись, слушаешь музыку, то с самого начала не идея, не мысль как таковая как бы обезоруживает и завораживает тебя, если это, конечно, что называется, «твое» искусство. Тем более что идея крупного художественного произведения, как мы уже тоже выясняли, всегда двулика, двусмысленна (как сказал бы Томас Манн), многомерна и неопределенна, как сама жизнь. Поэтому автор и не может рассчитывать на однозначное, соответствующее его собственному восприятие его же произведения. Художник лишь пытается представить свой образ мира, чтобы люди взглядывая на мир его глазами, прониклись его ощущениями, сомнениями и мыслями…
При этом, должен сказать, я убежден, что зритель гораздо разнообразнее, интереснее и неожиданнее в своих требованиях к искусству, чем часто принято полагать теми, от кого зависит распространение произведений искусства. Поэтому всякое, даже самое сложное и изысканное, понимание вещей художником способно, я бы даже сказал, обречено найти отклик пусть небольшой, но закономерной для данного произведения аудитории. А разглагольствования о том, понятно или непонятно данное произведение так называемым «широким массам», какому-то мифическому большинству, — лишь затуманивают действительную картину взаимоотношений художника с аудиторией, то есть со своим временем.
Поэт и художник в истинных своих произведениях всегда народен; чтобы он ни делал, какую бы он ни имел цель и мысль в своем творчестве, он выражает, волею или неволею, какие-нибудь стихии народного характера и выражает их глубже и яснее, чем сама история народа… — писал Герцен в «Былом и думах».
Во взаимоотношениях художника и аудитории существует прямая и обратная связь. Оставаясь верным самому себе и независимым от злободневных суждений, художник сам создает, неуклонно развивая и поднимая, уровень восприятия публики. Но рост общественного сознания, в свою очередь, аккумулирует ту общественную энергию, которая затем способствует рождению нового художника.
Обращаясь к высоким образцам искусства, приходится признавать, что они существуют как часть природы, часть истины независимо ни от их автора, ни от публики. «Война и мир» Толстого или «Иосиф и его братья» Томаса Манна точно исполнены собственным достоинством, далекие от суетных веяний своего времени в его бытовом значении.
Эта дистанция, этот взгляд на вещи извне, с определенной нравственной и духовной высоты дают возможность произведению искусства жить в историческом времени, быть воспринимаемым всякий раз по-новому и по-разному.
Например, «Персону» Бергмана я смотрел много раз, и всякий раз воспринимал ее как-то иначе. Будучи истинно художественным произведением, этот фильм всякий раз дает возможность человеку интимно соотнестись с миром фильма. Каждый раз истолковывать его по-разному.
Художник не имеет морального права опускаться до какого-то абстрактно существующего усредненного уровня ради превратно понятой большей доступности и доходчивости. Это способствовало бы только упадку искусства, в то время как все мы ожидаем его расцвета, верим в потенциальные, нераскрытые возможности художника, с одной стороны, и рост духовных запросов публики, с другой. Во всяком случае, хотели бы верить…
Маркс говорил: «Если ты хочешь наслаждаться искусством, ты должен быть художественно образованным человеком». А у художника не может быть специальной идеи быть понятым — так же как абсурдно представить себе у художника противоположную цель: быть непонятым…
Художник, его произведение и зритель — представляют собою единое и неделимое целое: организм, объединенный единой кровеносной системой. И если происходит конфликт между частями этого организма, то он требует весьма компетентного врачевания и внимательного к себе отношения.
Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что усредненные коммерческие стандарты фильмов, поточная телевизионная продукция непростительно развращают публику, отнимая у нее возможность контакта с настоящим искусством.
Произошла почти полная утрата такого важнейшего критерия искусства, как критерий прекрасного, означающий для меня стремление выразить идеал. Всякое время отмечено поисками истины и правды. И какой бы суровой эта правда ни была, она способствует оздоровлению нации. Ее осознание является признаком здорового времени и никогда не может стать противоречием нравственному идеалу.
Если же правду стараются скрыть, спрятать, утаить, искусственно противопоставляя ее в этом случае ложно истолковываемому нравственному идеалу, полагая, что нелицеприятная правда способна дезавуировать идеал в глазах большинства, то это означает, что эстетические критерии в оценке искусства подменяются чисто идеологическими задачами. Лишь высокая правда о своем времени способна выразить действительный, а не искусственно пропагандируемый нравственный идеал.
Об этом шла речь в «Андрее Рублеве»: поначалу кажется, что наблюдаемая им жестокая правда жизни входит в кричащее противоречие с гармоническим идеалом его творчества. Однако суть вопроса состоит в том, что художник не может выразить нравственный идеал своего времени, не касаясь его самых кровоточащих язв, не изживая эти язвы в себе самом. В этом преодолении осознанной в полной мере суровой и «низкой» правды ради высокого духовного деяния и состоит предназначение искусства. Искусство почти религиозно по своей сути, освященное сознанием высокого духовного долга.
Бездуховное искусство несет в себе свою собственную трагедию. Даже констатация бездуховности времени, в котором живет художник, требует от него самого определенной духовной высоты. Настоящий художник всегда служит бессмертию — пытается обессмертить мир и человека в этом мире. Художник, не пытающийся отыскать абсолютную истину, пренебрегающий глобальными целями ради частностей, — всего лишь временщик.
Когда я заканчиваю очередную свою работу и она, долго или коротко, большей или меньшей «кровью», но, наконец, выходит в прокат, то, признаться, я перестаю о ней думать. Что ж? Картина точно отделилась, отпочковалась от меня и начала свою самостоятельную, «взрослую» жизнь, независимую от родителя. Жизнь, на которую я уже не в состоянии никак повлиять.
Мне заранее известно, что не следует рассчитывать на однородную реакцию зрительного зала. И дело не только в том, что одним картина может понравиться, а у других вызвать негодование, но я вынужден еще считаться с тем, что картина по-разному и в разном толковании воспринимается даже теми, кому она, кажется, небезразлична. Меня радует, если фильм действительно дает возможность для неодинакового понимания.
Мне кажется сколь бессмысленным, столь и бесплодным при создании фильма ориентироваться на «успех», подсчитываемый арифметически, числом кинопосещений. Очевидно, что ничто не воспринимается одинаково и однозначно. Смысл художественного образа состоит в том, что он неожиданен, потому что в нем зафиксировалась человеческая индивидуальность, воспринимающая мир в соответствии со своими субъективными особенностями. Эта индивидуальность, это восприятие — кому-то может быть близко, а кому-то бескрайне далеко. Что ж тут поделаешь? Искусство все равно независимо от чьей-то воли будет развиваться, как и развивалось прежде по своим собственным законам, а отстаиваемые ныне эстетические принципы будут вновь и вновь преодолеваться самими же художниками.
Итак, в определенном смысле будущий успех картины меня не занимает, потому что дело уже сделано, и я не в силах ничего изменить. И в то же время я не верю режиссерам, которые говорят, что их не интересует мнение зрителя. Каждый художник — смею утверждать это — в глубине думает о встрече его произведения со зрителем, думает, надеется и верит, что именно его произведение окажется созвучным Времени и потому необходимым зрителю, затронет наиболее сокровенные струны его души. Нет противоречия в том, что я, с одной стороны, не делаю ничего специально для того, чтобы понравиться зрителю, а с другой стороны, с трепетом душевным надеюсь, что моя картина будет принята и любима этим зрителем. В двуединстве этого утверждения видится мне суть проблемы отношения художника и зрителя. Отношения, исполненного глубокого драматизма!
То, что режиссер не может быть одинаково понимаем всеми, то, что художник имеет право на свою большую или меньшую зрительскую аудиторию — нормальное условие существования художественной индивидуальности и развития культурных традиций в обществе. Конечно, каждому из нас хочется быть близким и нужным как можно большему числу людей, быть признанным — однако никакой художник не может вычислить свой успех, бессилен отбирать принципы своей работы, гарантирующие его в оптимальной степени. Там, где речь идет о преднамеренной установке «на зрителя», там речь идет об индустрии развлечения, о зрелище и массах — о чем угодно, но только не об искусстве, которое неизбежно подчинено своим внутренним, имманентным законам развития, хотим мы того или нет.
У каждого художника творческий процесс осуществляется по-разному — но все одинаково, скрывая или прямо заявляя об этом, надеются и уповают на взаимопонимание и контакт с аудиторией, болезненно переживая всякий неуспех. Известно ведь, что Сезанн, признанный и превозносимый коллегами, был глубоко несчастен оттого, что его сосед не принимал его живопись, — однако он ничего не мог изменить в манере своего письма…
Я могу себе представить, что художник может принять заказ на какую-то тему. Но представить себе контроль за манерой исполнения, за способом решения этой темы кажется мне величайшей бессмыслицей и бестактностью. Существуют объективные причины, не позволяющие художнику ступить на путь зависимости от аудитории или от кого бы то ни было еще: в этом случае его собственные проблемы, проблемы его души, его боль и страдания немедленно подменятся совершенно для него чужеродными, извне привнесенными интонациями. Как раз самая сложная, выматывающая, изнуряющая задача художника возникает в плоскости чисто нравственной — от него требуется предельная честность и искренность перед самим собою. Это означает — быть честным и ответственным перед зрителем.
Режиссер не имеет права стараться нравиться кому бы то ни было. Он не имеет права контролировать себя в процессе работы с точки зрения предстоящего успеха — неизбежной расплатой за такого рода контроль становятся принципиально иные взаимоотношения, в которые вступает режиссер в этом случае со своим замыслом, способом реализации этого замысла. Это уже игра в «поддавки». Художник даже может предполагать, что его произведение не вызовет широкого отклика в зрительном зале, — и тем не менее он бессилен что-либо изменить в своей художественной судьбе.
Поразительно писал Пушкин по этому поводу:
Ты царь. Живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд:
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Когда я говорю, что не могу влиять на отношение зрителей к себе, то тем самым пытаюсь определить свою задачу профессионала. Она, видимо, очень проста: делать свое дело на пределе возможного и судить себя самым беспощадным образом. Как я могу думать при этом о том, чтобы «угодить зрителю» или заботиться о том, чтобы «дать зрителю пример для подражания»? Но кто этот зритель? Анонимная масса? Роботы?
Для восприятия искусства надо немного — иметь чуткую, тонкую, податливую душу, открытую красоте и добру, способную к непосредственному эстетическому переживанию. В России, например, среди моей аудитории, было много таких людей, часто не искушенных ни знаниями, ни специальным образованием. Мне кажется, что способность воспринимать искусство даруется человеку с рождением и зависит от его духовного уровня.
Меня всегда до крайности возмущала эта формула — «народ не поймет!» Что это? Кто берет на себя право изъясняться от имени народа, вынося при этом себя за скобки народного большинства? Кто это может знать, что поймет «народ», а что нет, что ему надо, а чего он не хочет? Или, может быть, хоть когда-нибудь кто-нибудь провел мало-мальски добросовестный опрос этого «народа», желая уяснить себе истинный круг его интересов, размышлений, чаяний и надежд — так же как и разочарований? Я сам часть своего народа: я жил в стране со своими согражданами, я пережил с ними соответственно своему возрасту ту же историю, я наблюдал и размышлял над теми же жизненными процессами, я и теперь, находясь на Западе, остаюсь сыном своего народа — а какого же еще? Я его капелька, его частичка и надеюсь, что выражаю идеи своего народа, уходящие в толщу его культурных и исторических традиций!
Когда снимаешь свой фильм, то, естественно, не сомневаешься в том, что волнующее и заботящее тебя интересно также и другим. Поэтому ты предполагаешь найти отклик у зрителя, не стараясь подольститься к нему или заискивать перед ним. Настоящее уважение к зрителю, к собеседнику покоится на уверенности, что он не глупее тебя. Однако для того, чтобы разговаривать с человеком, нужно как минимум владеть общим языком, понятным тому и другому. Как сказал Гёте, если ты хочешь получить умный ответ, то спрашивай умно. Настоящий диалог художника со зрителем возникает только тогда, когда оба они стоят на том же уровне понимания проблем или, во всяком случае, на уровне задач, которые ставил перед собою художник.
Что и говорить?.. Развитие, скажем, литературы насчитывает около двух тысяч лет (!). Кино не только доказывало, но и доказывает до сих пор свою возможность встать вровень проблемам своего времени, как стояли им вровень другие почтенные искусства.
До сих пор весьма сомнительно, существуют ли в кинематографе авторы, достойные встать вровень с создателями шедевров в мировой культуре. Я-то думаю, что действительно нет таких имен. И даже нащупываю для себя кое-какое тому объяснение: кинематограф все еще только ищет свою специфику, свой язык, может быть, лишь иногда приближаясь к его постижению… Вопрос специфики киноязыка не решен до сих пор, и эта книга всего лишь еще одна попытка кое-что прояснить в этой области. Во всяком случае, состояние современного кино вопиет подумать на тему достоинства искусства кинематографа снова и снова.
Мы до сих пор еще нетвердо знаем «материал», из которого «лепится» образ будущего фильма, как живописец знает, что его материал — краски, а писатель знает, что орудие его воздействия на аудиторию — слово. Кинематограф в целом все еще ищет свою специфику, а внутри нашего общего движения еще каждый художник кино ищет свой индивидуальный голос — одними и теми же красками пользуются все живописцы, а полотен создается великое множество. Так что для того, чтобы «самое массовое искусство» стало на самом деле подлинным искусством, необходимо приложить еще множество усилий как самим художникам, так и зрителям.
Я специально сосредоточился здесь на тех объективных трудностях, которые встают сегодня не только перед зрителями, но и перед художниками кинематографа. Избирательное воздействие художественного образа на аудиторию совершенно естественно, но применительно к кинематографу эта проблема приобретает особую остроту, поскольку производство фильма — весьма дорогостоящее удовольствие. Поэтому сегодня ситуация складывается таким образом, что зритель имеет право и возможность выбирать для себя близкого по духу режиссера, а режиссер сплошь и рядом лишен возможности откровенно заявить о том, что ему, скажем, неинтересна та часть киноаудитории, которая воспринимает кинематограф как развлечение и отвлечение от горя, нужд и забот повседневности.
Зритель, кстати, зачастую не виновен в своем дурном вкусе — жизнь не предоставляет нам равных возможностей для совершенствования своих эстетических критериев. В этом действительный драматизм ситуации. Но только не надо при этом делать вид, что зритель якобы «высший судия» художника. Кто именно? Какой зритель? Поэтому тем, кто вершит сегодня культурную политику, следует позаботиться о создании определенного культурного климата, определенного уровня художественной продукции, а не пичкать зрителя заведомыми эрзацами и подделками, развращающими его вкус безнадежно. Однако такого рода задача не решается художниками. Не они, к сожалению, вершат культурную политику. Мы можем отвечать только за уровень своих собственных произведений. Художник честно и до конца говорит обо всем, что его волнует, если зритель сочтет, что предмет разговора действительно глубок и значителен.
Надо признаться, что после завершения работы над «Зеркалом» у меня возникла мысль вовсе бросить свое занятие, которому я отдал долгие годы нелегкого труда… Но после того как я получил огромное количество зрительских писем, часть из которых я цитировал вначале, мне показалось, что я не имею права на столь решительный шаг. Мне показалось тогда, что если существуют зрители, способные к такой откровенности и чистосердечию, нуждающиеся по-настоящему в моих фильмах, то я обязан продолжать свою работу, чего бы мне это ни стоило.
Если существует зритель, которому важно и плодотворно вступить в диалог именно со мной, то что может быть большим стимулом для работы? Если существуют зрители, которые разговаривают на одном со мной языке, то почему я должен предать их интересы ради другой, чуждой и далекой мне группы людей? У них свои «боги и кумиры», и мы не имеем друг к другу никакого отношения.
Художник имеет только одну возможность — предложить зрителю свою честность и искренность в единоборстве с материалом. Зритель оценит и поймет смысл наших усилий.
Стараться понравиться зрителю, некритически перенимая его вкусы, означает не уважать этого зрителя. Мы просто хотим получить от этого зрителя деньги, а воспитываем не зрителя на высоких образцах искусства художника, чтобы он обеспечивал доход. Зритель же продолжает пребывать в сознании собственного довольства и правоты — правоты чаще всего весьма относительной. Не воспитывая в зрителе способности критического отношения к собственным суждениям, мы тем самым в конечном итоге проявляем к нему полное равнодушие…
Глава седьмая
Об ответственности художника
Для начала я хочу вернуться к сопоставлению или, скорее, противопоставлению литературы и кинематографа. Единственный, как мне кажется, признак, роднящий эти два совершенно самостоятельных и независимых вида искусства, — это великолепная свобода оперирования материалом.
Мы уже говорили о взаимообусловленности кинематографического образа с авторским и зрительским опытом. Проза, конечно, тоже обладает специфичным для любого искусства свойством опираться на эмоциональный, духовный и интеллектуальный опыт читателя. Но особенность литературы состоит в том, что как бы подробно ни разрабатывались писателем отдельные страницы книги, читатель «вычитывает» из них и «видит» только то, к чему его приспособил его и только его опыт, склад характера, выработав в нем устоявшиеся пристрастия и вкусовые особенности. Самые натуралистически детальные куски прозы как бы выходят из-под контроля писателя и воспринимаются читателем все равно субъективно.
Кино же — единственное искусство, где автор может чувствовать себя творцом безусловной реальности, собственного мира в буквальном смысле слова. Склонность к самоутверждению, заложенная в человеке, именно в кинематографе реализуется наиболее полно и непосредственно.
Фильм — это чувственная реальность, и он так и воспринимается зрителем — как вторая реальность.
Поэтому довольно широко распространившееся отношение к фильму как к знаковой системе кажется мне глубоко и принципиально ошибочным.
В чем видится мне коренная ошибка структуралистов?
Речь идет о способе взаимоотношения с реальностью, на котором базируется и развивается определенная характерологическая условность каждого из искусств. Так кинематограф и музыку я отношу к непосредственным искусствам, не нуждающимся в опосредованном языке. Это фундаментальное, определяющее свойство роднит музыку и кинематограф, далеко разводя по той же причине кинематограф и литературу, в которой все выражается при помощи языка, то есть системы знаков, иероглифов. Восприятие литературного произведения возможно только через символ, понятие, каковым является слово, а кинематограф, как и музыка, дает возможность самого непосредственного, чувственного восприятия художественного произведения.
Литература при помощи слова описывает событие, тот внутренний и внешний мир, который хочет воспроизвести писатель. Кино оперирует материалами, данными самой природой, непосредственно проявляющимся в пространстве с течением времени, которое мы наблюдаем вокруг себя и в котором мы живем. В сознании писателя вначале возникает некоторый образ мира, который затем он с помощью слов записывает на бумаге. А кинопленка уже механически запечатлевает черты безусловного мира, который попал в поле зрения камеры и из которого затем конструируется образ целого.
Таким образом, режиссура в кино — это буквально способность «отделять свет от тьмы и твердь от воды». Эта возможность кинорежиссуры создает иллюзию самоощущения демиурга. Отсюда зарождаются огромные, далеко заводящие соблазны режиссерской профессии. В этом контексте напрашивается мысль об огромной, специфической, почти «уголовной» ответственности, которую несет в кино режиссер. Его опыт самым наглядным и непосредственным образом, фотографически точно передается зрителю, а эмоции зрителя при этом оказываются сродни эмоции свидетеля, если не автора.
Хочу еще раз подчеркнуть, что вслед за музыкой кино еще одно искусство, оперирующее реальностью. Поэтому я сопротивляюсь попыткам структуралистов рассматривать кадр как некий знак чего-то иного, его смысловой итог. Это путь чисто формального и некритического перенесения методов исследования одного искусства на другое. Возьмем музыкальную частичку — она беспристрастна, не идеологична. Так же как и кадрик в кинематографе — всегда безыдейная частичка реальности; лишь фильм в его целостности несет в себе определенным образом идеологизированную реальность. В то время как слово — уже идея, понятие, какой-то уровень абстракции. Слово не может быть пустым звуком.
В «Севастопольских рассказах» Лев Толстой реалистически подробно описывает ужасы военного госпиталя. Но как бы старательно ни описал он самые страшные детали, у читателя всегда остается возможность переработать и приспособить, адаптировать натуралистически жестко воссозданные картины в соответствии с собственным опытом, желаниями и взглядами. Любой прочитанный текст читатель воспринимает избирательно, соотнося с законами собственного воображения.
Книга, прочитанная тысячами людей, это тысячи разных книг. Читатель, обладающий необузданной фантазией, может за самыми лаконичными описаниями увидеть гораздо ярче и больше, чем даже рассчитано писателем (а часто писатель рассчитывает на домысливание). Сдержанный же, задавленный моральными рамками и ограничениями читатель самые точные и жестокие подробности воспринимает с пропусками, через сформированный ранее моральный и эстетический фильтр. Происходит своеобразная коррекция на субъективное восприятие. Она принципиальна для проблемы взаимоотношения писателя со своими читателями и является своеобразным троянским конем, в чреве которого писатель вторгается в душу своего читателя. Здесь кроется существенная особенность, инспирирующая необходимость читательского сотворчества. Поэтому, кстати, бытует мнение, что прочитать книгу «гораздо труднее» (требуется больше усилий), нежели посмотреть фильм, восприятие которого в привычных случаях совершенно пассивно. Как говорят: «Зритель сидит, механик крутит пленку»…
Существует ли в кино свобода выбора у зрителя?
Ведь каждый отдельно взятый кадр, каждая сцена или эпизод не описывают, а буквально фиксируют действие, пейзаж, лица персонажей. Поэтому в кино происходит своеобразное навязывание эстетических норм, недвусмысленное обозначение конкретности, против которой часто восстает личностный опыт зрителя.
Если взять для сравнения еще и живопись, то там всегда существует дистанция между картиной и зрителем, дистанция, заранее обозначенная, предуготавливающая некий пиетет в отношении изображаемого, осознание того, что перед воспринимающим, понятный ему или непонятный, но образ действительности — никому не придет в голову отождествлять жизнь с картиной. Можно, конечно, говорить о том «похоже» или «непохоже» изображенное на полотне на жизнь, но только в кинематографе зрителя не покидает ощущение «всамделишности» жизни, разворачивающейся на полотне экрана. Поэтому очень часто зритель судит фильм по законам самой жизни, незаметно подменяя законы автора, по которым создавался фильм, своими собственными законами, приобретенными в бытовом, привычном, каждодневном опыте. Отсюда известные парадоксы зрительского восприятия.
Почему массовый зритель часто предпочитает видеть на экране экзотические сюжеты, не имеющие ничего общего с его жизнью? Зная, как ему кажется, о своей собственной жизни достаточно, он утомлен этим знанием по горло и предпочитает познакомиться в зале кинотеатра с чужим опытом; и чем более этот опыт экзотичен, чем менее похож на его собственный, тем он для него интереснее и увлекательнее, как ему кажется, богаче информацией.
Но здесь вступают в силу скорее социологические проблемы.
Действительно, почему одни категории людей ищут в искусстве только развлечение, а другие — умного собеседника? Почему одни люди воспринимают как подлинное лишь внешнее, будто бы «красивое», а по сути пошлое и безвкусное, бездарное, ремесленническое, а другие способны к самому тонкому, подлинно эстетическому переживанию? В чем кроются причины эстетической, а иногда и нравственной глухоты огромного числа людей? Кто виноват в этом? И можно ли помочь этим людям приобщиться к возвышенному и прекрасному, к благородным душевным движениям, побуждаемым настоящим искусством?..
Ответ, кажется, напрашивается сам собою, но сейчас мы не будем говорить об этом подробно и ограничимся единственной констатацией. По тем или другими причинам при разных социальных системах широкого зрителя «пичкают» ужасающими суррогатами, не заботясь о том, чтобы воспитывать и прививать этому зрителю вкус. С той, конечно, разницей, что на Западе каждому человеку все же предоставляется свобода выбора, и, коли он того хочет, фильмы крупнейших художников к его услугам — их свободно можно увидеть. Но воздействие произведений кинематографического искусства, видимо, незначительно, потому что это искусство на Западе часто гибнет в неравной схватке с коммерческим фильмом, заполоняющим экраны. В условиях конкуренции с коммерческим фильмом у режиссера кино особая ответственность перед зрителями. В чем здесь дело? А в том, что самые немыслимые суррогаты коммерческого кино в силу «специфики кинематографического воздействия на аудиторию» (речь идет об отождествлении экрана с жизнью) способны оказывать на некритического и непросвещенного зрителя то же магическое действие, совершенно аналогичное тому, что получает взыскательный зритель от настоящих картин. Но при этом трагическая и решающая разница состоит в том, что если искусство пробуждает эмоции и мысли у аудитории, то массовое искусство кино в силу особой легкости и неотразимости воздействия на аудиторию гасит остатки мысли и чувств окончательно и бесповоротно. Люди уже не нуждаются в прекрасном, духовном и потребляют фильм, как бутылку кока-колы.
Специфически кинематографическая особенность контакта художника со зрительным залом возникает на передаче опыта, запечатленного на пленку, в его наиболее неоспоримо чувственных и убедительных потому приметах. Зритель испытывает потребность в этом опыте другого человека, чтобы частично восполнить утерянное и упущенное им самим, за которым он пускается, как в «поиски утраченного времени». И в этой ситуации только от автора картины зависит, насколько этот новый обретенный опыт будет истинно человеческим. Это огромная ответственность!
Поэтому я очень мало представляю себе, о чем идет речь, когда художники говорят об абсолютной свободе творчества. Я не понимаю, что означает такая свобода, — напротив, мне кажется, что, ступив на путь творчества, ты оказываешься в цепях бесконечной необходимости, скованный своими собственными задачами, своей художественной судьбой.
Все происходит в условиях той или иной необходимости, и если было бы возможно увидеть хоть одного человека в условиях полной свободы, то он напоминал бы глубоководную рыбу, вытащенную на поверхность. Странно вообразить себе, что гениальный Рублев работал в рамках канона! И чем дольше я живу на Западе, тем более странной и двусмысленной вещью видится мне свобода. Свобода употреблять наркотики? Свобода убивать людей? Вершить самосуд?
Чтобы быть свободным, нужно просто им быть, не спрашивая ни у кого на это разрешения. Надо иметь собственную гипотезу своей судьбы и следовать ей, не смиряясь и не потакая обстоятельствам. Но такая свобода требует от человека очень серьезных духовных ресурсов, высокой степени самосознания и осознания своей ответственности перед собою и тем самым перед другими людьми.
Но, увы, драма заключается в том, что мы не умеем быть свободными — мы требуем свободы для себя за счет других и не желаем поступиться ничем ради другого, полагая, что в этом ущемление моих личностных прав и свобод. Невероятный эгоизм характеризует сегодня всех нас! Но не в этом свобода — свобода в том, чтобы научиться ничего не требовать от жизни и от окружающих, но требовать от себя и легко отдавать. Свобода — в жертве во имя любви.
Я не хочу, чтобы меня превратно поняли читатели, я говорю о свободе в высоком нравственном смысле этого слова. Я не собираюсь полемизировать или подвергать сомнению те бесспорные ценности и завоевания, которые характеризуют европейские демократии. Но и в условиях этих демократий обозначена, скажем, проблема бездуховности и одиночества человека. Мне кажется, что в борьбе за политические свободы, несомненно, очень важные, современные люди забыли о той свободе, которой располагали люди во все времена: а именно о свободе отдать себя в жертву своему времени и своему обществу.
Оглядываясь сегодня на фильмы, которые я сделал до сих пор, я заметил, что всегда хотел рассказывать о людях, внутренне свободных, независимо от того, что их окружают люди внутренне зависимые и несвободные. Я рассказывал о людях, казалось бы, слабых, но я говорил о силе этой слабости, вспоенной нравственным убеждением и нравственной позицией.
Сталкер кажется слабым, но, по существу, именно он непобедим в силу своей веры и своей воли служения людям… Художники, в конце концов, занимаются своей профессией не для того, чтобы кому-то что-то рассказать, а для того, чтобы продемонстрировать свою волю служения людям. Меня поражают художники, полагающие, что они свободно творят самих себя, что это возможно делать, — художник обречен на то, чтобы понять, что его создает время, люди, среди которых он живет. Как писал Пастернак:
Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну…
Ты вечности заложник,
У времени в плену…
И если художнику удается что-то сделать, то я убежден, что это происходит только оттого, что в этом нуждаются люди, даже если в этот момент они это не осознают. Поэтому получается, что всегда побеждает и получает зритель, а художник всегда что-то теряет и проигрывает.
Я не могу вообразить себе жизнь настолько свободной, чтобы я делал то, что мне хочется, — я вынужден делать то, что мне кажется важнее и нужнее на данном этапе. А единственный способ общения со зрителем состоит в том, чтобы оставаться самим собою и не считаться с теми 80 % зрителей, которые, неизвестно почему, возомнили, что мы должны их развлекать. И в то же время мы настолько перестали уважать эти 80 % зрителей, что готовы их развлекать, потому что от этих 80 % зависят деньги на следующую постановку. Мрачная ситуация!
Но если теперь снова вернуться к тому зрительскому меньшинству, которое, однако, ждет настоящих эстетических впечатлений, к тому идеальному зрителю, на которого подсознательно уповает любой художник, то он откликнется душою на картину только тогда, когда в ней будет выражен авторский опыт, выстраданный и пережитый. Я уважаю зрителя настолько, что не хочу и не смогу обманывать его: я доверяю ему и потому решаюсь рассказывать о самом для меня важном и сокровенном.
Ван Гог, утверждавший, что «долг есть нечто абсолютное», и признававшийся, что «никакой успех не мог порадовать меня больше, чем то, что обыкновенные рабочие люди хотят повесить мою литографию у себя в комнате или мастерской», который солидаризировался с Херкомером в том, что «искусство в полном смысле слова делает для себя народ», — был всегда чрезвычайно далек от желания кому-то специально понравиться и кому-то угодить. Именно потому, что он относился к своей деятельности ответственно, понимая всю ее общественную значимость, — и поэтому видел свою задачу как художника в том, чтобы до последних сил, до последнего дыхания «биться» с жизненным материалом, чтобы выразить ту идеальную правду, которая в нем сокрыта. В этом он видел долг перед своим народом и свое почетное бремя. В дневнике он писал:
«Когда человек ясно выражает то, что хочет выразить, разве этого, строго говоря, недостаточно? Когда он умеет выражать свои мысли красиво, его, не спорю, приятнее слушать; но это не слишком прибавляет к красоте правды, которая прекрасна сама по себе».
Искусство, выражая духовные потребности и надежды человеческие, играет, в конечном счете, колоссально важную роль в нравственном воспитании. Или, во всяком случае, призвано играть… А если этого не происходит, то это означает, что в обществе что-то неблагополучно… Нельзя ставить перед искусством чисто утилитарные и прагматические задачи. Если в фильме очевиден такого рода умысел, то фильм разрушается как художественное целое. А воздействие кинематографа, как и любого другого искусства, на человека гораздо сложнее и глубже. Искусство облагораживающе влияет на человека самим фактом своего существования. Оно рождает те особые духовные связи, которые объединяют человечество в общность, и ту особую нравственную атмосферу, в которой, как в питательной среде, вновь способно зарождаться и процветать все то же искусство. Иначе оно гибнет, как яблоня в брошенном саду, превращаясь в дичок. Если искусство не используется по назначению, то оно умирает, и это означает, что никто не нуждается в его существовании.
Я неоднократно замечал в своей практике, что если внешний эмоциональный строй образов в фильме опирается на авторскую память, на родство впечатлений собственной жизни с тем, что используется в картине, — то он способен эмоционально воздействовать на зрителя. Если же сцена умозрительно сконструирована пусть в высшей степени добросовестно и убедительно, но по рецептам литературной основы, то зритель останется холоден. И даже если в период выхода фильма на экран он покажется кому-то интересным и убедительным, — на самом деле такой фильм нежизнеспособен, и время обозначит момент начала его умирания.
То есть уж коли ты не можешь, объективно не можешь в кино использовать зрительский опыт в том смысле, в каком он используется в литературе, предполагающий ту «эстетическую адаптацию», которая происходит в восприятии каждого читателя, то следует с максимальной искренностью поделиться своим собственным. Но это не так-то просто — на это надо решиться! Вот почему сейчас, когда даже профессионально не очень грамотные люди имеют возможность снимать фильмы, кинематограф продолжает оставаться тем искусством, которым по-настоящему во всем мире владеют всего лишь несколько человек.
Я, например, в корне не согласен с тем, как работал Эйзенштейн с его интеллектуальными формулами, шифруемыми в кадре. Мой способ передачи опыта зрителю глубоко отличен от эйзенштейновского. Конечно, мне кажется справедливым заметить, что Эйзенштейн вообще не пытался передавать кому-то свой опыт, он хотел передавать мысли и идеи в чистом виде. Но мне совершенно противопоказан такой кинематограф. А монтажный диктат Эйзенштейна, с моей точки зрения, нарушает основу основ специфики воздействия на киноаудиторию… Он лишает своего зрителя главной привилегии, которую может дать экран в специфичности его восприятия, отличного от литературного или философского. Он лишает зрителя возможности пережить происходящее на экране, как свою собственную жизнь, — перенять опыт, запечатленный на экране во времени, как глубоко личностный и свой собственный, соотнеся свою жизнь с тем, что демонстрирует экран.
Мысль у Эйзенштейна деспотична — она не оставляет «воздуха», той невысказанной ее неуловимости, что составляет едва ли не самую пленительную особенность искусства как такового — то, что предоставляет зрителю возможность соотнести фильм с собою. А мне бы хотелось делать фильмы, которые не имели бы значения ораторской, пропагандистской речи, а давали возможность глубоко интимного их переживания. На этом направлении я ощущаю свою ответственность перед зрителем и считаю, что могу дать ему некоторое уникальное и необходимое для него переживание, за которым он специально идет в темный зал кинотеатра.
Пусть каждый, кто пожелает, заглянет в мой фильм, как в зеркало, и увидит там самого себя. Если кинематограф фиксирует замысел в жизнеподобных формах, организуя чувственное его ощущение прежде всего, а не настаивает на умозрительных формулах так называемого «поэтического кадра», то есть кадрах подчеркнуто смыслового мизансценирования, то тогда зритель имеет возможность отнестись к этому замыслу с поправкой на собственный опыт.
Как я уже говорил, мне кажется, совершенно необходимым утаивать свою пристрастность, а не настаивать на ней — в ином случае произведение искусства будет иметь, может быть, и более злободневное, но и более преходящее и утилитарное значение. Когда искусство занимается не тем, чтобы углубиться в свою собственную сущность ради наиболее полного выявления той специфики воздействия, которая является его определяющей ценностью, а идет на службу пропаганде, журналистике, философии и тому подобным отраслям знания и организации общественной жизни, имеющей чисто утилитарное значение.
Правдивость явления, воссозданного в произведении искусства, выражается, видимо, в попытке восстановить его логические жизненные связи в их целокупности. При этом и в кинематографе художник несвободен в отборе и соединении фактов, изъятых им из сколь угодно протяженной и широкой «глыбы времени». Личность художника своевольно и необходимо проявляется в отборе и соединении отобранного в художественное целое.
Но действительность обусловлена многими причинными связями, а художник может охватить только какую-то их часть. Для него остаются лишь те связи, которые он сумел уловить и воспроизвести. В этом проявляется его индивидуальность и неповторимость. И чем больше претензия автора на реализм изображаемого, тем ответственнее он за содеянное. От художника требуются искренность, правдивость и чистые руки.
Беда (или первопричина, родившая искусство?) состоит в том, что никто не может реконструировать перед объективом всю правду. Поэтому о «натурализме», который критики (во всяком случае, советские) используют как ругательство (объявляя «натуралистичными» кадры, с их точки зрения, излишне жестокие). Так одно из главных обвинений «Андрея Рублева» было в «натурализме», (то есть преднамеренной и самоценной эстетизации жестокости), то, о чем на самом деле говорить бессмысленно применительно к кинематографу.
Натурализм — это известный литературоведческий термин, обозначающий известное течение в европейской литературе XIX века и связанный, прежде всего, с именем Золя. Но «натурализм» — это лишь условное понятие для искусства, потому что воссоздание объекта в его доподлинной натуральности невозможно. Это нонсенс!
Каждый человек склонен считать мир таковым, каким он его видит и воспринимает. Но, увы, он иной! И «вещь в себе» только в процессе человеческой практики становится «вещью для нас» — в этом смысл движения познавательной потребности человека. Люди ограничены в своем познании мира данными им природой органами чувств, и если бы мы, как писал Гумилев, «родили» бы этот «орган для шестого чувства», то, очевидно, и мир предстал бы перед нами в иных своих измерениях. Точно так же каждый художник ограничен своим мировосприятием, своим пониманием связей окружающего его мира. Поэтому бессмысленно говорить о натурализме в кино как о каком-то явлении, которое фиксируется камерой вне отбора, то есть вне каких бы то ни было художественных принципов, так сказать, в «натуральном виде». Такого натурализма не может существовать!
Другое дело, что проблема «натурализма» придумывается критиками, дабы иметь теоретическое и «объективное научное» основание, чтобы усомниться в правомочности художника рассматривать факты, вынуждающие зрителя содрогаться от ужаса. «Проблема», вызванная к жизни «охранительными» тенденциями, предписывающими ласкать зрение и слух зрителя. Такого рода обвинения можно громоздить против Довженко, Эйзенштейна, поставленных ныне на пьедестал, против той хроники концентрационных лагерей, которая нестерпима своей немыслимой правдой человеческого страдания и унижения…
Когда в связи с отдельно вырванными из контекста сценами и эпизодами «Андрея Рублева» (например, в связи с эпизодом «Ослепления» или некоторыми сценами из «Взятия Владимира») меня обвиняли в «натурализме», то я совершенно искренне не понимал и не понимаю до сих пор сути этих обвинений. Я не салонный художник и не беру на себя ответственность за хорошее настроение публики!
Более того, моя задача прямо противоположная: поведать людям правду нашего общего существования, какой она мне открылась в силу моего опыта и понимания вещей. А правда эта едва ли обещает быть легкой и приятной. И только через постижение этой правды и этого «реализма» лежит путь к ее нравственному преодолению в самом себе.
Вот, если бы я лгал в искусстве, претендующем на самое полное сближение с действительностью, прикрываясь видимой «достоверностью» кинематографического зрелища как такового, наиболее убедительного для зрителя формами своего воздействия, фальшивил бы с каким-то своим умыслом — вот тогда бы меня следовало привлечь к ответу…
И в связи с ответственностью, какую несет именно в кинематографе его автор, я не случайно в самом начале главы упомянул слово «уголовная»? И пусть это будет некоторым преувеличением, но этим заострением мысли мне хотелось подчеркнуть тот факт, что в самом убедительном из искусств следует быть и особенно ответственным в своей работе. Потому что с помощью кинематографических средств воздействия разложить и духовно обезоружить публику значительно проще и быстрее, чем используя старые и традиционные искусства. А духовно вооружить и направить человека к Добру, наверное, сложно всегда…
Задача режиссера воссоздавать жизнь: ее движение, ее противоречия, ее тенденции и борьбу. Его долг в том, чтобы не утаить и капли постигнутой им правды — даже если эта правда кому-то не по душе. Художник, конечно, может заблуждаться, но если эти заблуждения искренни, то они все равно достойны внимания, потому что воспроизводят реальность духовной жизни художника, его метаний и борьбы, рожденных все той же окружающей действительностью. А кто владеет истиной в конечной инстанции?.. А разговоры и дискуссии о том, что можно изображать, а чего изображать не следует, — это обывательские и безнравственные попытки исказить истину.
Достоевский говорил:
Вот, говорят, творчество должно отражать жизнь и прочее. Все это вздор: писатель (поэт) сам создает жизнь, да еще такую, какой в полном объеме до него и не было…
Замысел художника возникает где-то в самых сокровенных глубинах его «Я». Он не может быть продиктован какими-то внешними «деловыми» соображениями. Замысел этот не может быть безотносителен его психике, его совести — он возникает как результат всего его отношения к жизни — иначе с самого начала затея обречена стать пустой и непродуктивной в художественном отношении. Можно профессионально заниматься кинематографом или литературой и не быть при этом художником, а оставаться чем-то вроде реализатора чужих идей.
Настоящий художественный замысел всегда мучителен для художника и почти жизненно опасен. И реализация такого замысла может уравниваться только с жизненным поступком — так было всегда и со всеми, кто занимался искусством. А то иногда создается впечатление, что все мы сейчас более или менее заняты пересказом каких-то историй, древних как мир. Будто есть публика, к которой мы приходим, как бабушка в платочке и с вязаньем, и начинаем рассказывать ей на потеху разные небылицы. Рассказ может быть забавным и увлекательным, но он поможет публике только в одном — скоротать время в пустой болтовне.
Художник не имеет права на замысел, в котором он социально не заинтересован и в случае исполнения которого его профессиональная деятельность может быть отделена от всей его остальной жизни. Есть частная жизнь, в которой мы совершаем поступки: поступки порядочного или бесчестного человека. И мы готовы к тому, что, совершая честный поступок, мы можем испытать на себе давление окружения, а иногда спровоцировать и прямой конфликт. Отчего же мы не готовы к трудностям, спровоцированным нашей профессиональной деятельностью? Почему мы боимся ответственности, приступая к работе над картиной? Почему заранее перестраховываемся, чтобы результат оказался сколь безопасным, столь и бессмысленным? Не потому ли, что мы хотим немедленно получить расчет за нашу деятельность, выраженный в денежных знаках и комфорте? В этом смысле поражает высокомерие современных художников, если сравнить его, скажем, со скромностью строителей Шартровского собора, которых не знает никто! Художника должно отличать бескорыстие служения долгу, но мы все давно забыли об этом.
Человек, который стоит у станка или выходит работать в поле, созидатель материальных ценностей, в условиях социализма считает себя хозяином жизни. И этот человек платит деньги за то, чтобы получить свою толику «развлечения», подготовленного для него услужливыми «художниками». Но услужливость таких «художников» продиктована равнодушием: они цинично отнимают свободное время этого честного человека, труженика, воспользовавшись его слабостью и непониманием, его эстетическим невежеством, чтобы духовно разоружить его, заработав на этом деньги. Деятельность таких «художников» неважно пахнет, и художник имеет право на творчество лишь тогда, когда оно является его жизненной потребностью. Когда творчество для него не посторонняя случайная деятельность, а единственный способ существования его репродуцирующего «Я».
В литературе, в конце концов, не так важно в духовном смысле, какую книгу ты напишешь: в определенной степени это может оставаться твоим личным делом, потому что, в конце концов, читатель решит, купить ли ему твою книгу или оставить пылиться на книжных полках магазинов. В кинематографе сходная ситуация лишь в формальном смысле: зритель может пойти на фильм, а может не пойти… Но на самом деле кинематограф, требующий больших, а иногда огромных капиталовложений, беспрецедентно наступателен и навязчив в способах извлечения максимальных прибылей из проката. Мы как бы продаем свои картины на корню — и от этого опять же повышается ответственность за наш «товар».
… Меня всегда поражал Брессон. Как он сосредоточен! У него не может быть случайной, «проходной» картины. Его аскетизм в отборе выразительных средств буквально подавляет! А своей серьезностью, глубиной и благородством он принадлежит к тем мастерам, каждый фильм которых становится фактом их духовного существования. Он снимает картину, кажется, только в предельной, крайней для себя внутренней ситуации. Зачем? Кто знает…
В фильме Бергмана «Шепоты и крики» есть один очень сильный эпизод. И едва ли не главный. Две сестры приезжают в отчий дом, где умирает их старшая сестра. Ожидание ее смерти — исходная ситуация в картине. И вот они, оставшись наедине, в какой-то момент ощущают необыкновенную родственную, человеческую тягу друг к другу: они говорят… говорят… говорят… не могут наговорится… ласкают друг друга… Все это создает ощущение щемящей человеческой близости… Хрупкое и желанное… Тем более желанное, что в фильме Бергмана подобные мгновения мимолетны и преходящи — гораздо чаще сестры не могут примириться, простить друг друга даже перед лицом смерти. Они полны ненависти, готовы к истязаниям и самоистязаниям. В сцене их короткой близости Бергман вместо реплик положил на фонограмму виолончельную сюиту Баха, что многократно усилило впечатление, сообщило ему дополнительную глубину и емкость. Пусть в фильме Бергмана этот выход во что-то духовно высокое и позитивное подчеркнуто иллюзорен — это мечта: то, чего нет и быть не может. Это то, к чему устремляется человеческий дух, что ему грезится: гармония, некий как будто бы ощущаемый в этот момент идеал. Но даже этот иллюзорный выход дает зрителю возможность пережить катарсис, духовное освобождение и очищение с помощью искусства.
Я говорю здесь об этом, чтобы подчеркнуть, что я сторонник искусства, несущего в себе тоску по идеалу, выражающего стремление к нему. Я за искусство, которое дает человеку Надежду и Веру. И чем более безнадежен мир, о котором рассказывает художник, тем более, может быть, должен ощущаться противопоставляемый им идеал — иначе просто невозможно жить!
Искусство символизирует смысл нашего существования.
Ради чего стремится художник нарушить ту стабильность, к которой стремится общество? Как говорит Сеттембрини в «Волшебной горе» у Томаса Манна: «Надеюсь, вы ничего не имеете против злости, инженер? Я считаю, что она самое блестящее оружие разума против сил мрака и безобразия. Злость, сударь мой, это душа критики, а критика — источник развития и просвещения». Художник стремится к нарушению стабильности, которой живет общество, во имя движения к идеалу. Общество стремится к стабильности, художник — к бесконечности. Художника занимает абсолютная истина, поэтому он смотрит вперед и видит раньше других.
А последствия? Мы отвечаем не за них, а за сделанный нами выбор — выполнять или не выполнять свой долг. Такая точка зрения вменяет художнику в обязанность ответственность за свою судьбу. Мое собственное будущее — это чаша, которая не минует меня, — следовательно, ее надо испить…
Во всех моих фильмах мне казалось важным попытаться установить связи, которые объединяют людей (вопреки чисто плотским интересам!), связи, которые объединяют меня, в частности, с человечеством, если хотите, и всех нас со всем тем, что нас окружает. Мне необходимо ощущать свою преемственность и неслучайность в этом мире. Внутри каждого из нас должна существовать какая-то ценностная шкала. В «Зеркале» я постарался передать ощущение, что и Бах, и Перголези, и письмо Пушкина, и солдаты, форсирующие Сиваш, и домашние совсем камерные события — все это в определенном смысле равнозначно для человеческого опыта. Для человеческого духовного опыта может быть одинаково важно и то, что произошло с ним вчера, и то, что происходило с человечеством столетие назад…
Во всех картинах, которые я делал, мне всегда была очень важна тема корней, связей с отчим домом, с детством, с отечеством, с Землей. Для меня всегда было очень важно установить свою принадлежность традиции, культуре, кругу людей или идей.
Для меня чрезвычайное значение имеют русские культурные традиции, идущие от Достоевского, по сути, не имеющие развития во всей своей полноте в современной России. Более того, этими традициями, как правило, пренебрегают или опускают их вовсе. Тому несколько причин, и прежде всего — это принципиальная враждебность этой традиции материализму. Кроме того, тот духовный кризис, который переживают все герои Достоевского, и который инспирировал его собственное творчество и творчество его последователей, тоже вызывает настороженное восприятие. Почему так боятся этого состояния «духовного кризиса» в современной России?
Для меня через «духовный кризис» всегда проступает здоровье. Духовный кризис — это попытка найти себя, обрести новую веру. Состояние духовного кризиса удел всех тех, кто ставит перед собой духовные проблемы. А как же иначе? Душа жаждет гармонии, а жизнь дисгармонична. В этом несоответствии стимул движения, истоки нашей боли и нашей надежды одновременно. Подтверждение нашей духовной глубины и наших духовных возможностей.
Об этом тоже шла речь в «Сталкере» — он переживает минуты отчаяния, колеблется в вере, но всякий раз вновь чувствует свое призвание в служении людям, утерявшим свои надежды и иллюзии. Мне было очень важно, чтобы сценарий этого фильма отвечал трем требованиям единства: времени, пространства и места действия. Если в «Зеркале» мне казалось интересным монтировать подряд хронику, сны, явь, надежды, предположения, воспоминания — сумятицу обстоятельств, ставящих главного героя перед неотступными вопросами бытия, то в «Сталкере» мне хотелось, чтобы между монтажными склейками фильма не было временного разрыва. Я хотел, чтобы время и его текучесть обнаруживались и существовали внутри кадра, а монтажная склейка означала бы продолжение действия, и ничего более, чтобы она не несла с собою временного сбоя, не выполняла функцию отбора и драматургической организации материала — точно я снимал бы весь фильм одним кадром. Такое простое и аскетическое решение, как мне кажется, давало большие возможности. Я выбрасывал из сценария все, чтобы свести до минимума внешние эффекты. Мне принципиально не хотелось развлекать или удивлять зрителя неожиданными сменами места действия, географией происходящего, сюжетной интригой — я стремился к простоте и скромности всей архитектоники фильма.
Я старался еще более последовательно заставить зрителя поверить в то, что кино как инструмент искусства обладает собственными возможностями, не меньшими, чем проза. Я хотел продемонстрировать возможности кино, наблюдающего жизнь, как бы без грубого и видимого вмешательства в ее течение. Потому что на этом пути видится мне настоящая поэтическая сущность кинематографа.
Я видел некоторую опасность в том, что чрезмерное упрощение формы может показаться вычурным и манерным. Стараясь обойти эту трудность, я постарался свести на нет всякую туманность и недоговоренность в кадре, которые принято называть «поэтической атмосферой» фильма. Такую атмосферу старательно воссоздают, а мне было ясно, что об атмосфере вообще не следует заботиться. Атмосфера сопутствует главному, возникая из задачи, которую решает автор. И чем эта главная задача сформулирована вернее, чем точнее обозначен для меня смысл происходящего, тем значительнее будет атмосфера, которая вокруг него возникает. По отношению к этой главной ноте начнут резонировать вещи, пейзаж, актерская интонация. Все станет взаимосвязанным и необходимым. Одно будет вторить другому, перекликаться между собой, и атмосфера возникнет как результат, как следствие возможности сосредоточиться на главном. А создавать атмосферу саму по себе — это странно. Поэтому, кстати, мне всегда была чужда живопись импрессионистов с их задачей запечатлеть мгновение само по себе, передать мимолетное. Это может быть средством, но не задачей искусства. А в «Сталкере», где я постарался сосредоточиться на главном, возникшая попутно атмосфера, как мне кажется, оказалась наиболее активной и эмоционально заразительной, нежели в других моих фильмах, предшествовавших этому.
Какова та главная тема, которая должна была прозвучать в «Сталкере»? В самой общей форме это тема достоинства человека, в чем это достоинство, и тема человека, страдающего от отсутствия собственного достоинства.
Напомню, что когда герои фильма отправляются в свое путешествие в «зону», то цель их путешествия некая комната, в которой якобы исполняются все самые сокровенные желания. А пока Писатель и Ученый в сопровождении Сталкера преодолевают странные пространства «зоны», проводник рассказывает им в какой-то момент то ли реальную историю, то ли легенду другого Сталкера по прозвищу Дикобраз. Он пришел к заветному месту, чтобы попросить вернуть к жизни своего брата, погибшего по вине Дикобраза. Но когда Дикобраз вернулся домой, побывав в «комнате», то обнаружил, что он стал несметно богат. «Зона» реализовала его действительное самое сокровенное желание, а не то, которое он хотел и старался себе вообразить. И Дикобраз повесился.
И когда наши герои достигают цели, многое пережив, передумав и переосмыслив в себе, они не решаются перейти границы комнаты, к которой они шли, рискуя жизнью. Они поднялись до осознания той мысли, что нравственность их несовершенна на всей трагической глубине ее осознания. Они не находят в себе духовных сил, чтобы поверить в самих себя, — но у них достало сил заглянуть в самих себя и — ужаснуться!
Приход жены Сталкера в кафе, где они отдыхают, ставит Писателя и Ученого перед загадочным и непонятным для них феноменом. Они видят перед собою женщину, бесконечно много пережившую горестей в жизни из-за своего мужа, родившую от него больного ребенка, но продолжающую любить его с той же беззаветностью и безотчетностью, как она любила его в дни своей юности. Ее любовь и ее преданность — это и есть то последнее чудо, которое можно противопоставить неверию, цинизму, опустошенности, пронизавшими современный мир, жертвами которого стали и Писатель, и Ученый.
В «Сталкере», может быть, впервые я ощутил потребность быть недвусмысленно определенным в обозначении той главной позитивной ценности, которою, как говорится, жив человек и не скудеет душа его.
… В «Солярисе» речь шла о людях, затерянных в Космосе и вынужденных, хотят они того или нет, добывать и осваивать еще один следующий кусочек знания. Эта как бы извне заданная человеку бесконечная устремленность к познанию по-своему очень драматична, ибо сопряжена с вечным беспокойством, лишениями, горем и разочарованиями — ведь конечная истина недостижима. К тому же человеку дана еще и совесть, заставляющая его мучиться, когда его действия не соответствуют законам нравственности, — значит, и наличие совести в определенном смысле трагично. Разочарования преследовали героев в «Солярисе», и выход, который мы им предлагали, был достаточно иллюзорен. Он был в мечте, в возможности осознания своих корней, тех корней, которые навсегда связали человека с породившей его Землей. Но и эти связи были для них в сущности уже нереальны.
Даже в «Зеркале», где речь идет о глубоких, вечных, непреходящих человеческих чувствах, эти чувства трансформировались в непонимание, недоумение героя, который не мог осознать, почему ему суждено вечно мучиться из-за этих чувств, мучиться из-за собственной любви и привязанности. В «Сталкере» я договариваю кое-что до конца — человеческая любовь и есть то чудо, которое способно противостоять любому сухому теоретизированию о безнадежности мира. Это чувство — наша общая и, несомненно, позитивная ценность. Хотя и любить-то мы разучились…
Писатель в «Сталкере» рассуждает о том, как скучно жить в мире закономерностей, где даже случайность — результат закономерности, только пока еще скрытой от нашего понимания. Писатель, может быть, для того и направляется в «зону», чтобы столкнуться с Неизвестным, удивиться и поразиться ему. Однако по-настоящему поражает его простая женщина: ее верность и сила ее человеческого достоинства. Так все ли поддается логике, все ли можно расчленить на составные элементы и вычислить?
Мне было важно вычленить в этом фильме то специфически человеческое, нерастворимое, неразложимое, что кристаллизуется в душе каждого и составляет его ценность. Ведь при всем том, что внешне герои, казалось бы, терпят фиаско, на самом деле каждый из них обретает нечто неоценимо важное: веру! Ощущение в себе самого главного. Это главное живет в каждом человеке.
Таким образом, в «Сталкере», как и в «Солярисе», меня меньше всего увлекала фантастическая ситуация. К сожалению, в «Солярисе» было все-таки слишком много научно-фантастических атрибутов, которые отвлекали от главного. Ракеты, космические станции — их требовал роман Лема — было интересно делать, но теперь мне кажется, что мысль фильма выкристаллизовалась бы отчетливее и крупнее, если бы всего этого удалось избежать вовсе. Думаю, что реальность, которую привлекает художник для выражения своего миропонимания, должна быть, простите за тавтологию, реальной, то есть понятной человеку, знакомой ему с детства. И чем реальнее в этом смысле будет фильм, тем убедительнее окажется автор.
В «Сталкере» фантастической можно назвать лишь исходную ситуацию. Эта ситуация была нам удобна потому, что помогла наиболее выпукло и рельефно обозначить главный для нас нравственный конфликт фильма. Но по сути того, что происходит с героями, никакой фантастики нет. Фильм делался так, чтобы у зрителя было ощущение, что все происходит сейчас, что «зона» рядом с нами.
Меня часто спрашивали, что такое «зона», что она собою символизирует, и высказывались немыслимые догадки. Я прихожу в состояние бешенства и отчаяния, слыша такие вопросы. «Зона», как и всё в моих фильмах, ничего собою не символизирует: «зона» это «зона», «зона» это жизнь, пройдя через которую, человек либо ломается, либо выстаивает. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различить главное и преходящее.
Я вижу свой долг в том, чтобы натолкнуть на размышления о том специфически человеческом и вечном, что живет в душе каждого. Но это вечное и главное чаще всего игнорируется человеком, хотя его судьба в его руках: он гоняется за призрачными идолами. А ведь, в конечном счете, все расчищается до этой простой элементарной частички, единственно на которую человек может рассчитывать в своем существовании, — способности любить. Эта частичка может разрастись в душе каждого в вершащую жизненную позицию, которая способна придать смысл человеческой жизни. Я вижу свой долг в том, чтобы человек ощущал в себе потребность любить, отдавать свою любовь, ощущал зов прекрасного, когда смотрит мои фильмы.
Глава восьмая
После «Ностальгии»
Итак, позади мой первый фильм, сделанный вне родины, но по официальному разрешению кинематографических властей, которое в свое время меня не удивило: ведь я делал фильм для родины и ради нее… Казалось, что всем это ясно, хотя дальнейшие события продемонстрировали еще раз, что, как и прежде, мои намерения и мои фильмы оказываются фатально чуждыми кинематографическому руководству…
Я хотел рассказать о русской ностальгии — том особом и специфическом для нашей нации состоянии души, которое возникает у нас, русских, вдали от родины. Я видел в этом, если хотите, свой патриотический долг, каким я сам его чувствую и осознаю. Я хотел рассказать о роковой привязанности русских к своим национальным корням, к своему прошлому, своей культуре, к родным местам, близким и друзьям — о привязанности, которую они несут с собою всю свою жизнь, независимо от того, куда их закидывает судьба. Русские редко умеют легко перестроиться и соответствовать новым условиям жизни. Вся история русской эмиграции свидетельствует о том, что, как говорят на Западе, «русские плохие эмигранты» — общеизвестна их драматическая неспособность к ассимиляции, неуклюжая тяжеловесность в попытках приспособиться к чужому стилю жизни. Мог ли я предполагать, снимая «Ностальгию», что состояние удушающе-безысходной тоски, заполняющее экранное пространство этого фильма, станет уделом всей моей жизни? Мог ли я подумать, что отныне и до конца дней моих я буду нести в себе эту болезнь, спровоцированную моим безвозвратно утерянным прошлым?..
Работая в Италии, я снимал фильм глубоко русский во всех его аспектах: моральных, нравственных, политических и эмоциональных. Я делал фильм о русском человеке, приехавшем в Италию в длительную командировку, и его впечатлениях об этой стране. Но я не ставил перед собою задачи еще раз продемонстрировать на экране Италию, поражающую туристов своими красотами и разлетающуюся по всему миру видовыми открытками в миллионных тиражах. Я делал фильм о русском человеке, совершенно выбитом из колеи, с одной стороны, нахлынувшими на него впечатлениями, а с другой стороны, трагической невозможностью разделить эти свои впечатления с самыми близкими людьми, фатальной невозможностью включить свой новый опыт в то прошлое, с которым он связан самой своей пуповиной. Я сам переживал нечто подобное, надолго отлучаясь из дома, — когда столкновение с другим миром и другой культурой, возникающая привязанность к ним начинают вызывать почти безотчетное, но безнадежное раздражение — как неразделенная любовь, как знак невозможности «объять необъятное» и соединить несоединимое, как напоминание конечности твоего земного опыта и земного пути. Как знак ограниченности и предопределенности твоей жизни, поставленный отнюдь не внешними обстоятельствами (это было бы так просто решить!), а твоим собственным внутренним «табу»…
Я могу сколько угодно поражаться теми средневековыми японскими художниками, которые, работая при дворе своего феодала, добившись признания и основав свою школу, находясь на вершине славы, меняли всю свою жизнь — они уходили в новое место, чтобы под другим именем и в другой художественной манере продолжить свое творчество. Известно, что некоторые из них умудрялись в течение своего физического существования прожить как бы до пяти совершенно различных жизней. Этот образ всегда волновал мое воображение, может быть, именно в силу того, что я сам совершенно неспособен что-либо изменить в логике своей жизни, своих человеческих и художественных пристрастиях, точно заданных мне кем-то раз и навсегда…
Горчаков — герой фильма «Ностальгия» — поэт. Он приезжает в Италию, чтобы собрать материал о русском крепостном композиторе Березовском, о жизни которого он пишет либретто для оперы. Березовский — реальная фигура. Проявив способности в музыке, он был послан своим помещиком в Италию учиться, долго оставался там, концертируя, имел огромный успех, но, видимо, подгоняемый все тем же неизбывным чувством русской ностальгии, спустя много лет решил вернуться в крепостную Россию, где он вскоре повесился… Конечно, сама история этого композитора, вставленная в фильм, не случайна, а служит определенным парафразом судьбе Горчакова и того состояния, в котором мы его застаем, когда он особенно остро ощущает себя «посторонним», лишь со стороны и издалека наблюдающим чужую жизнь, подавляемый воспоминаниями прошлого, навязчиво всплывающими в памяти лицами близких, звуками и запахами родного дома…
Должен сказать, что когда я впервые увидел весь отснятый материал фильма, то был поражен неожиданной для меня беспросветной мрачностью представшего зрелища. Материал был совершенно однороден по своему настроению и тому состоянию души, которое в нем запечатлелось. Я не ставил перед собою задачи такого рода, но симптоматическая для меня уникальность возникшего передо мною феномена состояла в том, что, независимо от моих конкретных частных умозрительных намерений, камера оказалась в первую очередь послушна тому внутреннему состоянию, в котором я снимал фильм, бесконечно утомленный разлукой с моей семьей, отсутствием привычных условий жизни, новыми для меня производственными правилами, наконец, чужим языком. Я был изумлен и обрадован одновременно, потому что результат, запечатлевшийся на пленке и возникший передо мною впервые в темноте просмотрового зала, свидетельствовал о том, что мои соображения, связанные с возможностями и призванием экранного искусства стать слепком души человеческой, передать уникальный человеческий опыт, — не плод досужего вымысла, а реальность, которая предстала передо мною во всей своей неоспоримости…
Меня не интересовало внешнее движение, интрига, состав событий — я все менее нуждаюсь в них от фильма к фильму. Меня всегда интересовал внутренний мир человека — и для меня гораздо естественнее было совершить путешествие внутрь его психологии, питающей ее философии, тех литературных и культурных традиций, на которых покоится его духовная основа. Я отдаю себе отчет в том, что переноситься с места на место, вводить в фильм все новые и новые эффектные точки съемки, экзотическую натуру и «впечатляющие» интерьеры гораздо выгоднее с коммерческой точки зрения. Но для существа того, чем я занимаюсь, внешние эффекты лишь отдаляют и смазывают цель, к осуществлению которой направлены мои усилия. Меня интересует человек, в котором заключена Вселенная, — а для того, чтобы выразить идею, смысл человеческой жизни вовсе не обязательно подстраивать под эту идею некую событийную канву.
Может быть, излишне напоминать в этой связи о том, что с самого начала идея кинематографа не связывалась для меня с американской приключенческой, авантюрной лентой. Я против монтажа аттракционов. От «Иванова детства» к «Сталкеру» я старался все больше избегать внешнего движения, все более концентрируя действие почти в классическом триединстве. С этой точки зрения даже композиция «Андрея Рублева» кажется мне сегодня слишком раздерганной и разбросанной…
В конце концов, я стремился к тому, чтобы в сценарии «Ностальгии» не было ничего лишнего или побочного, мешающего основной моей задаче — передать состояние человека, переживающего глубокий разлад с миром и с собою, не способного найти равновесия между реальностью и желанной гармонией, — переживающего ностальгию, спровоцированную не только его удаленностью от Родины, но и глобальной тоской по целостности существования. Сценарий не устраивал меня до тех пор, пока, наконец, не собрался в некое метафизическое целое.
Италия, воспринятая Горчаковым в момент его трагического разлада с действительностью, не с условиями жизни, а с самой жизнью, которая всегда не соответствует претензиям личности, простирается перед ним величественными, точно из небытия возникшими руинами. Это осколки всечеловеческой и чужой цивилизации — точно надгробие тщете человеческих амбиций, знак пагубности пути, на котором заплутало человечество. Горчаков умирает, неспособный пережить собственный духовный кризис, «соединить» и для него, очевидно, «распавшуюся связь времен»…
В соотнесенности с этим состоянием главного героя необыкновенно важен, на первый взгляд, довольно странный персонаж фильма, итальянец Доменико. Этот не защищенный своим обществом, напуганный человек находит в себе силы и духовную высоту для сопротивления унижающей человека действительности. Бывший учитель математики, а теперешний «аутсайдер», попирая «малость» свою, он решается говорить о катастрофичности сегодняшнего состояния мира, призывая людей к сопротивлению, в глазах так называемых «нормальных» людей он выглядит просто «сумасшедшим», но Горчакову бесконечно близка глубоко выстраданная им идея не отдельного, индивидуального, но общего спасения людей от безумия и безжалостности современной цивилизации…
Все мои фильмы так или иначе говорили и о том, что люди не одиноки и не заброшены в пустом мироздании — что они связаны бесчисленными нитями с прошлым и будущим, что каждый человек своею судьбой осуществляет связь с миром и всечеловеческим путем, если хотите… Но эта надежда на осмысленную значительность каждой отдельной жизни и каждого человеческого поступка бесконечно повышает ответственность индивида перед самым общим движением Жизни.
В мире, где угроза войны, способной уничтожить человечество, реальность, где социальные бедствия поражают своим размахом, а человеческие страдания вопиют, — необходимо искать пути друг к другу. Это святой долг человечества перед своим же собственным будущим и долг каждого в отдельности. Горчаков привязывается к Доменико, чувствуя внутреннюю потребность постараться оградить его от «общественного» мнения сытых и успокоенных эгоистичных слепцов, полагающих его всего лишь нелепым «безумцем». Хотя Горчаков не сумеет оградить Доменико от того пути, который он сам себе безжалостно предначертал, не прося у жизни, чтобы его «миновала чаша сия»…
Горчакова поражает детский максимализм Доменико, потому что он сам, как и все взрослые люди, в той или иной мере компромиссен — это условие жизни. Но Доменико решается на самосожжение, чтобы этим крайним, чудовищно атрактивным поступком продемонстрировать людям свое бескорыстие в безумной надежде, что они прислушаются к его последнему крику предостережения. Горчаков поражен поступком Доменико, его внутренней целостностью, почти святостью. В то время когда Горчаков только рефлектирует, переживая несовершенство жизни, Доменико берет на себя право реагировать и действовать самым решительным образом. Доменико чувствует свою действительную ответственность перед жизнью, если берет на себя смелость совершить такой поступок. А Горчаков на этом фоне оказывается всего лишь обывателем и тяготится сознанием собственной непоследовательности. Если угодно, смерть оправдывает его, обнаруживая глубину пережитых им терзаний…
Я писал о том, что меня поразило при просмотре материала передавшееся экрану мое собственное состояние, в котором я снимал «Ностальгию», — это глубокая, все более изнуряющая тоска вдали от дома, вдали от своих близких, пронизывающая каждое мгновение существования. Это становящееся фатальным, навязчивое ощущение своей зависимости от собственного прошлого — как все более невыносимый недуг, имя которому «Ностальгия»… Но я все же хотел бы предостеречь читателя против прямого отождествления автора с его лирическим героем — это было бы слишком прямолинейно. Использование в творчестве непосредственных жизненных впечатлений естественно — другим опытом мы, увы, не располагаем! Но заимствование даже из собственной жизни настроений и сюжетов все же чаще всего не дает оснований для идентификации художника с тем, что он делает. Возможно, это кого-то разочаровывает, но лирический опыт автора редко совпадает с его бытовыми, жизненными поступками.
Поэтическое авторское начало, будучи результатом переживания автором окружающей его действительности, может подниматься над этой действительностью, спорить с ней, входить в непримиримый конфликт. И что самое важное и всегда парадоксальное — не только с «внеположной действительностью», но и с действительностью в тебе самом. Например, как считают многие исследователи, Достоевский открывал бездны в себе самом — и его святые, равно как и негодяи, это как бы он сам… Но ни один персонаж не равен ему самому. Каждый характер итожил его жизненные впечатления и размышления, но ни один не вбирал в себя его как такового, во всей объемности и полноте его собственной человеческой индивидуальности.
В «Ностальгии» мне было важно продолжить свою тему «слабого» человека, не борца по внешним своим приметам, но, с моей точки зрения, победителя этой жизни. Еще Сталкер произносил монолог в защиту слабости, которая и есть действительная ценность и надежда жизни. Мне всегда нравились люди, которые не могут приспособиться к действительности в прагматическом смысле. В моих фильмах не было героев (может быть, исключая Ивана), но всегда были люди, сильные своей духовной убежденностью и принимающие на себя ответственность за других (включая сюда, конечно, и Ивана). Такие люди вообще часто напоминают детей с пафосом взрослого человека — так нереалистична и бескорыстна их позиция с точки зрения «здравого» смысла. Монах Рублев смотрел на мир незащищенными детскими глазами, исповедуя непротивление злу, любовь и доброту. И хотя он оказывался свидетелем самых грубых и тяжелых форм насилия, которое, казалось, правит миром, пережив угрюмое разочарование, он возвращался к единственной ценности, вновь обретенной им, ценности человеческой доброты и нерассуждающей простодушной любви, которую люди могут дарить друг другу. Кельвин, казавшийся поначалу простым обывателем, скрывал в своей душе те истинно человеческие «табу», которые органически не позволяли ему ослушаться голоса собственной совести, сбросить с себя тяжелое бремя ответственности за свою собственную и чужую жизнь. Герой «Зеркала» был слабым, эгоистичным человеком, не способным одарить самых близких своих людей бескорыстной, ни на что не претендующей любовью ради них самих, — его оправдывали только те душевные терзания, с которыми он приходил к концу жизни, осознавая неоплатность своего долга перед жизнью. Странный, легко впадающий в истерику Сталкер все-таки неподкупно противопоставлял голос своей убежденной духовности миру, пораженному точно опухолью всепроникающего прагматизма. Доменико, подобно Сталкеру, выдумывает свою собственную концепцию, избирает свой собственный мученический путь, только бы не поддаться всеобщему цинизму погони за своими личными материальными привилегиями и еще раз личным усилием, примером личной жертвы попытаться перекрыть тот путь, по которому человечество, точно обезумев, устремилось к своей гибели. Самое главное — это неуснувшая совесть человека, не позволяющая ему благодушествовать, урвав свой жирный кусок от жизни. Это особое состояние души, традиционно свойственное лучшей части русской интеллигенции, совестливое, чуждое самоуспокоенности, всегда сострадающее обездоленным в этом мире и истовое в поисках Веры, Идеала, Добра, мне хотелось еще раз подчеркнуть в характере Горчакова…
Человек интересен мне своей готовностью служения высшему, своим нежеланием, а то и неспособностью воспринять обыденную и обывательскую жизненную «мораль». Мне интересен человек, который осознает, что смысл существования в первую очередь в борьбе со злом, которое внутри нас, чтобы в течение своей жизни подняться хоть на ступенечку выше в духовном смысле. Ибо пути духовного совершенствования противостоит, увы, единственная альтернатива — путь духовной деградации, к которой обыденное существование и процесс приспособляемости к этой жизни так располагает!..
Герой моей следующей картины «Жертвоприношение» тоже слабый человек в вульгарном, обыденном понимании этого слова. Он не герой, но он мыслитель и честный человек, как оказывается способный на жертву ради высших соображений. Когда того требует ситуация, он не увиливает от ответственности, не пытается переложить ее на плечи другого. А рискуя остаться непонятым, он поступает не столько решительно, сколько вопиюще разрушительно с точки зрения своих близких — в этом особая острота драматизма его поступка. Но он все же совершает этот шаг, переступает черту допустимого и нормального человеческого поведения, не опасаясь быть квалифицированным попросту сумасшедшим, ощущая свою причастность к целому, к мировой судьбе, если угодно. При этом он всего лишь покорный исполнитель своего призвания, каким он ощутил его в своем сердце, — он не хозяин своей судьбы, а ее слуга, индивидуальными усилиями которого, может быть, никому незаметными и непонятными, поддерживается мировая гармония…
Здесь, на Западе, люди особенно обеспокоены собственной персоной. Попробуйте им сказать, что смысл человеческого существования в жертвенности во имя другого, то они, наверное, засмеются и не поверят — также они не поверят, если сказать им, что человек рожден совсем не для счастья и что есть вещи гораздо более важные, чем личный успех и личное меркантильное преуспеяние. Никто, видно, не верит, что душа бессмертна!
Говоря о человеческой слабости, привлекающей меня, я имею в виду отсутствие внешней экспансии личности, отсутствие агрессии по отношению к другим людям и жизни в целом, желания поработить и приспособить другого к осуществлению своих намерений ради собственного утверждения. Словом, меня привлекает энергия человека, сопротивляющегося материальной рутине, — здесь свивается клубок моих новых и новых замыслов.
С этой точки зрения меня интересует и шекспировский «Гамлет», которого я надеюсь экранизировать в скором будущем. В этой величайшей из пьес рассмотрена вечная проблема человека, стоящего на более высоком духовном уровне и вынужденного вступить во взаимодействие с низкой и грязной действительностью. Это как если бы человек будущего принуждался жить в своем прошлом. И трагедия Гамлета, какой она представляется мне, состоит не в том, что он гибнет, а в том, что перед смертью он вынуждается отказаться от собственных духовных притязаний и стать обыкновенным убийцей. После этого смерть для него благодатный исход — иначе он должен был бы покончить жизнь самоубийством…
Приступая к работе над моей следующей картиной, я хочу сказать только одно — я постараюсь продвинуться еще дальше в искренности и убедительности каждого ее кадра, опираясь на те непосредственные впечатления, которые мне даст натура и в приметах которой снова оставит след своего воздействия время. Натурализм — это форма существования природы в кино, и чем натуралистичнее предстает эта природа в кадре, тем, с одной стороны, больше мы ей доверяемся и, с другой стороны, тем благороднее образ, который возникает: сама одухотворенность природы возникает в кино через натуралистическое правдоподобие.
За последнее время мне приходилось много выступать перед зрителями, и я заметил, что когда я утверждаю, что в моих фильмах нет символов и метафор, то аудитория всякий раз выражает свое недоверие. Меня снова и снова с пристрастием выспрашивают о том, что означает в моих фильмах дождь, например? Почему он переходит из фильма в фильм, почему повторяется образ ветра, огня, воды? Я прихожу в замешательство от таких вопросов…
Можно сказать, что дожди — это особенность той природы, в которой я вырос: в России бывают долгие, тоскливые, затяжные дожди. Можно сказать, что я люблю природу — я не люблю больших городов и чувствую себя превосходно вдали от новшеств современной цивилизации, как прекрасно чувствовал себя в России в своем деревенском доме, отделенный от Москвы тремя сотнями километров. Дождь, огонь, вода, снег, роса, поземка — часть той материальной среды, в которой мы обитаем, правда жизни, если хотите. Поэтому мне странно слышать, что когда люди видят на экране природу, неравнодушно воссозданную, то они не просто наслаждаются ею, а ищут в ней какой-то потаенный якобы смысл. Конечно, можно видеть в дожде только плохую погоду, а я создаю, скажем, используя дождь, определенным образом эстетизированную среду, в которую погружается действие фильма. Однако это вовсе не означает, что природа призвана в моих фильмах что-то символизировать, упаси Боже. В коммерческом кино, скажем, погоды зачастую как бы вовсе не существует, существует наиболее благоприятный световой и интерьерный режим для быстрых съемок — все следят за сюжетом, и никого не смущает условность приблизительно воссозданной среды, небрежение деталью, атмосферой. Когда же экран приближает мир, действительный мир к зрителю, дает возможность увидеть его полно и объемно, что называется, почувствовать его «запах», как бы кожей ощутить его влажность или сухость — то зритель, оказывается, уже настолько потерял способность просто отдаться эмоциональному, эстетически-непосредственному впечатлению, что немедленно корректирует и перепроверяет себя вопросами: а зачем? отчего? почему?
Затем, потому и оттого, что я хочу создать на экране мой собственный мир в идеале, как можно более завершенный, каким я сам его чувствую и ощущаю. Я не утаиваю от зрителя каких-то своих специальных умыслов, не кокетничаю с ним — я воссоздаю этот мир в тех приметах, которые кажутся мне наиболее выразительными и точными, выражают для меня ускользающий смысл нашего существования.
Чтобы прояснить свою мысль, приведу пример из Бергмана: в «Источнике» меня всегда поражал один план умирающей героини, чудовищно изнасилованной девушки. Весеннее солнце пронизывает ветви, и сквозь них мы видим ее лицо — она то ли умирает, то ли уже умерла, но, очевидно, уже не чувствует боли… Наше предчувствие как бы зависает неопертым, как неопертый звук… Кажется, что все понятно, но есть какая-то недостаточность… Чего-то не хватает… Начинает идти снег, уникальный снег весною… Это то самое пронзительное «чуть-чуть», которого нам и не хватало, чтобы привести свои чувства в некоторую завершенность: ахнуть, замереть! Снег цепляется и застревает в ее ресницах… Это все тоже время оставляет свой след в кадре… Но можно ли, правомерно ли говорить о том, что означает этот падающий снег, хотя в длительности и ритме кадра именно он доводит наше эмоциональное ощущение до кульминации? Конечно, нет. Просто этот кадр был найден художником для точной передачи случившегося. Но при этом ни в коем случае не следует путать творческую волю с идеологией — иначе мы вовсе лишимся возможности непосредственного и душевно точного восприятия искусства…
Пожалуй, я могу согласиться с тем, что финальный кадр «Ностальгии» отчасти метафоричен, когда я помещаю русский дом в стены итальянского собора. Этот сконструированный образ грешит налетом литературности. Это как бы смоделированное внутреннее состояние героя, его раздвоенность, не позволяющая ему жить, как прежде. Или, если угодно, напротив — его новая целостность, органически включающая в себя в едином и неделимом ощущении родного и кровного и холмы Тосканы, и русскую деревню, которые реальность повелевает разделить, вернувшись в Россию. Горчаков так и умирает в этом новом для себя мире, где естественно и органично сопрягаются вещи, раз и навсегда почему-то и кем-то поделенные в этом странном и условном земном существовании. И все-таки, сознавая, что в этом кадре нет кинематографической чистоты, я надеюсь, что в нем нет вульгарного символизма — это итог, как мне кажется, довольно сложный и неоднозначный, образно выражающий происшедшее с героем, но не символизирующий все-таки ничего другого, постороннего, нуждающегося в разгадке…
В этом случае меня, видимо, можно обвинить в непоследовательности, но, в конце концов, художник и изобретает принцип и нарушает его. Едва ли можно найти много произведений искусства, которые бы точно укладывались в эстетическую доктрину, исповедуемую художником. Как правило, художественное произведение входит в сложные взаимоотношения с чисто теоретическими идеями, которыми руководствовался автор, и не исчерпывается ими — художественная ткань всегда богаче того, что укладывается в теоретическую схему. И, написав книгу, я задаю себе вопрос — а не начинают ли меня сковывать мои собственные рамки?
Итак, фильм «Ностальгия» позади, но мог ли я думать, приступая к его съемкам, что вскоре моя собственная, вполне конкретная ностальгия защемит мою душу уже навсегда?
Заключение
Книга эта создавалась в течение многих лет. Поэтому я чувствую особенно настойчивую потребность подвести итоги всему сказанному в ней с позиции моего сегодняшнего дня.
С одной стороны, я вижу, что книжке, может быть, не хватает той цельности, которая могла бы быть достигнута в том случае, если бы она создавалась, как говорится, «на одном дыхании»… С другой стороны, она дорога мне как дневник, последовательно выражающий модификации всех тех проблем, с которыми я пришел в кино и с которыми продолжаю сегодня работать — свидетелями формирования которых стали теперь долготерпеливые читатели этой книги.
Сегодня мне кажется гораздо более важным говорить не столько об искусстве вообще или предназначении кинематографа в частности, сколько о жизни как таковой, не осознав смысла которой, художник едва ли способен произнести языком своего искусства что-либо членораздельное. Поэтому в завершение этой работы я решил коротко высказать свои соображения о проблемах нашего времени в том плане, в каком они стоят передо мною и кажутся мне существенными, носящими, если угодно, вневременной характер, о смысле нашего существования.
Только в контексте понимания этих самых общих вопросов можно судить о положении художника в современном мире, о его психологическом состоянии, о характере задач, стоящих перед искусством. Чтобы определить свои задачи не только художника, но, прежде всего, человека, мне пришлось поставить перед собою вопрос о состоянии нашей цивилизации в целом, о личной ответственности каждого человека и его участии в историческом процессе.
Мне кажется, что наше время завершает и исчерпывает целый исторический этап, вершителями которого были «великие инквизиторы», вожди и отдельные «выдающиеся личности», движимые идеей преобразования общества в целях его более «справедливой» и целесообразной организации. Они стремились овладеть массовым сознанием, навязывая ему новые идеологические и социальные идеи, призывая к обновлению организационных форм жизни во имя счастья народного большинства. Еще Достоевский предостерегал людей от таких «великих инквизиторов», решающихся взять на себя ответственность за счастье других. Мы стали свидетелями того, как утверждение интересов класса или какой-то группы людей, заклинания интересами человечества и «всеобщего блага» приходили в такое кричащее противоречие с интересами фатально отчужденной от общества личности, что, получая «объективное», «научное» обоснование «исторической необходимости», начинали ошибочно осознаваться в субъективном значении на уровне онтологическом.
По существу вся история цивилизации, весь исторический процесс свелся к тому, что ради спасения мира и улучшения положения человека в нем людям предлагался каждый раз более «верный» и «правильный» путь, созревший в умах идеологов и политиков. Чтобы приобщиться к этому общему переустройству, нужно было всякий раз поступиться «немногим»: своим собственным образом мыслей, и направить свои усилия во вне в соответствии с предлагаемым планом действий. В этих условиях динамичного внешнего действия на благо «прогресса», спасая будущее и человечество, человек забывал о своем конкретном, личном, настоящем, растворяясь в общем усилии, он обманывался касательно значимости его конкретного духовного качества — в результате этого процесса формировался все более безнадежный конфликт личности и общества. Заботясь об интересах всех, никто не думал о своем собственном интересе в том смысле, каком заповедовал Христос: «Возлюби ближнего своего, как самого себя», то есть люби себя настолько, чтобы уважать в себе то сверхличностное, божественное начало, которое не позволит тебе уйти в свои личные, корыстные, эгоистические интересы, а повелевает тебе отдать себя другому, не мудрствуя и не рассуждая, а любя другого. Для этого необходимо истинное чувство собственного достоинства, то есть осознание той истины, что мое «Я», становящееся центром земной жизни, имеет объективную ценность и значимость, достигая определенного духовного уровня, стремясь к духовному совершенству, лишенному, прежде всего, эгоцентрических намерений. Интерес к самому себе, борьба за свою собственную душу требует от человека огромной решимости и колоссальных усилий. В моральном и нравственном смысле человеку гораздо легче опуститься, нежели подняться хоть чуточку выше над своими собственными прагматическими, эгоцентрическими интересами. Для того чтобы обрести настоящее духовное рождение, требуются огромные внутренние усилия. И человек легко попадается на удочку «ловцов человеческих душ», отказываясь от своего личностного пути во имя якобы более общих и благородных задач, не сознаваясь себе в том, что на самом деле предает себя и свою жизнь, для чего-то ему данную…
Взаимоотношения людей сложились таким образом, что, не требуя ничего от самих себя, освобождая себя от нравственных усилий, они направляют все свои претензии к другим людям, к человечеству как таковому. Люди предлагают другим смириться или пожертвовать собою, наконец, просто принять участие в строительстве будущего, но сами в этом процессе никак не участвуют, уклоняясь от личной ответственности за происходящее в мире. Находятся тысячи оправданий своей позиции неучастия, нежелания поступиться своими корыстными интересами ради более общих и благородных, внутренне значимых задач — никто не решается и не желает взглянуть трезво на самого себя и взять на себя ответственность за собственную жизнь, за собственную душу. Ссылаясь на то, что «мы» все вместе, то есть человечество, создаем некоторую цивилизацию, мы постоянно уходим от личной ответственности, незаметно для себя перекладывая ответственность за происходящее в мире на плечи других. Из этой коренной предпосылки разрастается все более безнадежный конфликт личности с обществом, растет стена отчуждения индивида от человечества.
Короче говоря, мы живем в сложившемся обществе, созданном нашими «общими» усилиями и ничьими усилиями в частности, где претензии личности направляются к другим, а не к самому себе. Эта ситуация приводит к тому, что человек становится либо орудием чужих идей и амбиции, либо вождем, формирующим и использующим энергию и усилия других людей, не считаясь с интересами каждой отдельной личности. Проблема личной ответственности как бы исчезла, принесенная в жертву фальсифицированному «общественному» интересу, обслуживая который человек получил право безответственного отношения к самому себе.
С того момента, как мы передоверили кому-то решать наши проблемы, пропасть между материальным и духовным процессом все углубляется. Мы живем в мире идей, заготовленных для нас другими людьми, либо развиваясь по стандартам этих идей, либо все более безнадежно от них отчуждаясь и вступая с ними в противоречие.
Согласимся, что это невероятная и дикая ситуация!
Я верю, что изжить этот конфликт частного и общего можно лишь на пути соответствия человека общественным тенденциям. Что значит «пожертвовать собою ради общего дела»? Это ли не драматический конфликт личного и общественного? Если человек лишен внутренне укрепленного в нем чувства ответственности за будущее общество, чувствуя за собой право распоряжаться только другими, извне направляя их судьбы и навязывая им понимание их роли в общественном развитии, то разногласия индивида с обществом начинают приобретать все более антагонистический характер.
Свобода воли является гарантией того, что мы способны оценить общественные явления, так же как и свое собственное положение среди других людей. Способны сделать добровольный выбор между добром и злом. Но тогда рядом с проблемой свободы возникает проблема совести. И если все понятия, вырабатываемые общественным сознанием, являются продуктом эволюции, то понятие совести не связано с историческим процессом. Понятие о совести и чувство совести имманентно и априори свойственно человеку, подрывая основы того общества, которое явилось продуктом нашей вполне ошибочной цивилизации. Совесть мешает стабилизации этого общества, часто возникая вопреки выгоде и даже спасению вида. В эволюционно-биологическом смысле сама категория совести вполне бессмысленна, но она для чего-то все же существует, сопутствуя человеку на протяжении всего его существования и развития как вида.
Сейчас всем очевидно, что человечество развивалось не синхронно в процессе освоения материальных благ и духовного совершенствования. Это привело к тому, что мы, кажется, фатально не способны справиться со своими же собственными материальными достижениями, чтобы использовать их на свое же собственное благо. Мы создали цивилизацию, грозящую уничтожением человечества.
Перед лицом такого рода глобальной катастрофы мне кажется единственно и принципиально важным поставить вопрос личной ответственности человека, его готовности к духовной жертве, без которой отпадает всякий вопрос о духовном начале как таковом.
Жертвенность, о которой я говорю и которая должна стать органической и естественной формой существования каждого человека высокой духовной организации, не может осознаваться им как вынужденное несчастье или наказание, посланное ему кем-то. Я говорю о жертвенности, которая есть добровольное служение другим как единственно возможная форма существования, естественно принятая на себя человеком.
Однако в чем смысл самого распространенного на сегодняшний день общения людей друг с другом? Чаще всего в стремлении как можно больше урвать и получить от другого для себя, не желая поступиться никакими своими собственными интересами. Но парадокс нашего существования состоит в том, что, унижая себе подобных, мы чувствуем себя всё более неудовлетворенными и обделенными в этом мире. Это расплата за наш грех, за отказ добровольно выбрать и предпочесть истинно героический путь нашего развития, восприняв его всем сердцем как единственно возможный, правильный и истинно желаемый насилия над собою.
В ином случае, ощущая жертвенность своего пути и своего выбора, человек лишь еще более углубит предпосылки своего конфликта с обществом, ощущая его орудием насилия над собою. Пока мы являемся свидетелями того, как духовное умирает, а материальное давно сформировало свою собственную кровеносную систему, ставшую основой нашей жизни, больной склерозом и чреватой параличом. Всем ясно, что прогресс материальный не дает людям счастья, и, тем не менее, мы, как маньяки, преумножаем его «достижения». Тем самым мы добились того, что, как говорится в «Сталкере», настоящее уже, по существу, слилось с будущим, то есть в настоящем заложены все предпосылки неотвратимой катастрофичности нашего ближайшего будущего, осознавая которую, мы, тем не менее, способны ее предотвратить.
Таким образом, оказалась нарушенной связь поступков человека с его судьбой. Этот трагический разрыв определяет нестабильность самоощущения человека в современном мире. В сущностном смысле человек, конечно, зависим от поступков, которые он совершает, но в силу того, что он воспитан на том, что от него ничего не зависит и что своим личным опытом он не способен повлиять на будущее, зреет ошибочное и пагубное для человека ощущение неучастия в личной судьбе.
То есть все связи личности и общества до такой степени нарушены в нашем мире, что сейчас кажется единственно важным искать пути восстановления роли человека в своей собственной судьбе. Для этого человеку придется вернуться к понятию своей души, к страданию этой души и попытаться увязать свою совесть со своими же собственными поступками. Придется согласиться с тем, что твоя совесть не может быть спокойна, если ты осознаешь, что все идет вопреки тому, что ты сам об этом думаешь. И ощутить это положение вещей страданием души, требующей твоей ответственности и осознания собственной вины. Тогда ты не сможешь оправдаться перед собою и перед другими спасительными для своего покоя и лени формулами о том, что в происходящем нет моей вины, а есть фатальная воля других. Я убежден, что попытка восстановить гармонию жизни лежит на пути реставрации проблемы личной ответственности.
Маркс и Энгельс заметили как-то, что история выбирает для своего развития худший вариант из существующих. Это верно, если смотреть на проблему лишь с материальной стороны бытия, они пришли к этому выводу, когда история выжала из себя последние капли идеализма, и духовная значимость личности перестала иметь какое бы то ни было значение в контексте исторического процесса. Они констатировали данное положение вещей, не анализируя его причин. А причина эта была следствием человеческой забывчивости своей ответственности перед собственными духовными принципами. Сначала человек превратил историю в некую бездуховную и отчужденную систему, а затем машине истории понадобились винтики человеческих жизней для осуществления своего хода.
Вследствие этого человек рассматривается, прежде всего, как общественно-полезное животное. Вопрос только состоит в том, в чем видеть общественную пользу? И если, настаивая на общественной полезности чьей-то деятельности, мы забываем при этом об интересе личности как таковой, то совершаем непростительную ошибку, создавая все предпосылки для человеческой драмы.
Рядом с проблемой свободы встает вопрос опыта и воспитания. Потому что современное человечество, борясь за свободу, требует личного освобождения, то есть возможностей для личности делать все, что ей заблагорассудится. Но это иллюзия освобождения, и на этом пути человечество поджидают лишь новые разочарования. Высвобождение энергии человеческой духовности возможно только вследствие огромной внутренней работы, на которую решается сама личность. Воспитание человека сменяется его самовоспитанием, без которого невозможно понять, что делать с обретенной свободой, как избежать чисто потребительского и вульгарного ее истолкования.
Опыт Запада дает в этом смысле богатейший материал для раздумий. Существуют несомненные демократические свободы Запада при том, что всем очевиден чудовищный духовный кризис, переживаемый его «свободными» гражданами. В чем дело? Почему, несмотря на свободу личности на Западе, действительный конфликт личности с обществом стоит здесь по-своему очень жестко. Думаю, что опыт Запада свидетельствует о том, что пользоваться свободой, как данностью, как водой из ручья, не платя за это ни копейки, не совершая над собою никаких духовных усилий, означает невозможность для человека воспользоваться благами этой свободы, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Никакая свобода не может устроить человека раз и навсегда без той духовной работы, которой она оплачена. В своих внешних проявлениях человек в принципе несвободен, потому что он не один, а внутренняя свобода дана изначально каждому, только надо иметь мужество и решимость ею воспользоваться, осознав общественную значимость своего внутреннего опыта.
По-настоящему свободный человек не может быть свободным в эгоистическом смысле слова. Свобода индивида не может стать следствием общественных усилий. Наше будущее не зависит ни от кого, кроме нас самих. А мы привыкли за все платить чужим трудом и чужим страданием — только не своим. Мы отказываемся считаться с тем простым фактом, что «все связано в этом мире» и случайностей не существует, потому что мы сполна наделены свободой воли и нравом выбора между добром и злом.
Возможности твоего свободного проявления, конечно, ограничены волей других, но важно сказать о том, что несвобода всегда является следствием внутренней трусости и пассивности, отсутствия решимости к собственному волеизъявлению, согласованному с голосом совести.
В России любят повторять слова писателя Короленко, что человек, якобы, «рожден для счастья, как птица для полета». Мне кажется, нет ничего более далекого и не относящегося к сути проблемы человеческого существования, чем это утверждение. Я не представляю себе, что означает для человека понятие «счастье» как таковое? Удовлетворенность, что ли? Гармоничность? Но человек всегда неудовлетворен, устремленный не к каким-то конкретным и конечным задачам, а к самой бесконечности… Даже церковь неспособна утолить эту жажду человеком Абсолюта, существуя, увы, как придаток, слепок, как карикатура на общественные институты, организующие практическую жизнь. Во всяком случае, сегодня церковь оказалась неспособной сбалансировать крен в материально-техническую сторону призывом к духовному пробуждению.
В контексте этой сложившейся ситуации функция искусства видится мне в том, чтобы выразить идею абсолютной свободы духовных возможностей человека. Мне кажется, что искусство всегда было орудием борьбы человека против материи, стремящейся поглотить его дух. Не случайно на протяжении почти двух тысячелетий существования христианства искусство развивалось в русле религиозных идей и задач очень долгое время. Своим существованием оно поддерживало идею гармонии в негармоничном человеке.
Искусство воплощало идеал, давая пример равновесия нравственных и материальных начал, доказывая своим существованием, что такое равновесие не миф, не идеология, а некая реальность, способная существовать в нашем измерении. Искусство выражало потребность человека в гармонии и готовность воевать с собою и внутри своей собственной личности за обретение деланного равновесия материального и духовного.
А коль скоро искусство выражает идеал и стремление к бесконечности, то невозможно использовать его в потребительских целях, не рискуя нарушить его самости… Идеал выражает вещи, не существующие в обыденной данности, но напоминает о долженствовании своего существования в сфере духовного. Произведение искусства выражает идеал, который в будущем должен принадлежать человечеству, но поначалу принадлежит лишь некоторым, и прежде всего, гению, который позволил обыденному сознанию столкнуться с идеальным, воплощенным в его искусстве. Поэтому искусство, конечно, аристократично по своей природе и своим существованием создает ту разницу двух потенциалов, которые обеспечивают движение духовной энергии от низшего к высшему в целях духовного совершенствования личности. Конечно, я не имею в виду, говоря об искусстве, аристократизм в его сословном понятии, а имею в виду намерение человеческой души искать нравственное оправдание и смысл своему существованию, совершенствуясь на этом пути. В этом смысле все находятся в одинаковом положении и имеют равную возможность причислить себя к аристократам и духовной элите, но суть вопроса как раз и состоит в том, что далеко не все хотят воспользоваться этой возможностью… А искусство снова и снова предлагает расценить себя и свое существование в контексте выражаемого им идеала.
Возвращаясь к смыслу человеческого существования, определяемого Короленко как право на счастье, мне вспоминается Иов, высказавший в своей книжке, как известно, прямо противоположную идею: «Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». То есть смысл человеческого существования в страдании, без которого невозможно «устремиться вверх». А что такое страдание? Откуда оно? Страдание от неудовлетворенности, от конфликта между идеалом и уровнем, на котором ты находишься. Гораздо важнее, чем ощутить себя, «счастливым», утвердить свою душу в борьбе за истинно божественную свободу.
Искусство утверждает то лучшее, на что способен человек: Надежду, Веру, Любовь, Красоту, Молитву… Или о чем он мечтает, на что надеется… Когда человека, не умеющего плавать, бросают в воду, то его тело, не он сам, начинает совершать интуитивные движения — он начинает спасаться. Так же и искусство существует, как брошенное в воду человеческое тело, — оно существует, как инстинкт человечества не утонуть в духовном значении. У художника проявляется духовный инстинкт человечества. А в творчестве проявляется стремление человека к вечному и возвышенному, всевышнему часто вопреки греховности даже самого поэта.
Что такое искусство? Добро оно или Зло? От Бога оно или от дьявола? От силы человека или от его слабости? А может быть, это залог совместной жизни и образ социальной гармонии? И в этом его функциональность? Как объяснение в любви. Как осознание своей зависимости от других людей. Признание. Акт бессознательный, но отражающий истинный смысл жизни — Любовь и Жертва.
Почему, оглядываясь назад, мы видим на пути человечества исторические катаклизмы, катастрофы, обнаруживаем останки разрушенных цивилизаций? Что случалось с этими цивилизациями в действительности? Почему у них не хватало дыхания, воли к жизни, нравственных сил? Разве можно поверить в то, что все это случалось лишь по причине чисто материальных нехваток? Мне кажется диким само предположение, что дело может быть только в этом, и я убежден, что мы снова оказались на краю уничтожения новой цивилизации именно в силу того, что совершенно не учитываем духовную сторону исторического процесса. Мы не хотим признаться себе в том, что многие несчастья, постигающие человечество, происходят потому, что мы стали непростительно, греховно, безнадежно материалистичными. То есть, воображая себя сторонниками науки, так сказать для вящей убедительности наших так называемых научных намерений, мы единый и неделимый процесс человеческий расщепляем вдоль и, обнажив одну, но видимую пружину и считая ее единственной причиной всего, пытаемся не только квалифицировать ошибки прошлого, но и конструировать наше будущее! А может быть, смысл этих крушений означает терпение Истории, ее ожидание от Человека истинного выбора, в результате которого ей, Истории, не будет оснований упираться в тупик, вычеркивать очередную попытку в ожидании новой, успешной. В этом аспекте приходится соглашаться с распространенным мнением об истории, которая ничему не учит и с опытом которой человечество не считается. Словом, всякая катастрофа цивилизации означает, что эта цивилизация была ошибочной. И если человек вынужден заново начинать свой путь, то это свидетельствует о том, что весь его предыдущий путь не был путем духовного совершенствования.
Искусство, в этом смысле, образ процесса, дошедшего до конца, до результата. Имитация обладания абсолютной истиной (хотя всего лишь в образном смысле), минуя длительный, может быть, бесконечный исторический путь.
Как хочется иногда отдохнуть, поверив, отдав, подарив себя концепции чем-то похожей, ну, скажем, на Веды. Восток был ближе к Истине, чем Запад. Но западная цивилизация съела Восток своими материальными претензиями к жизни.
Сравните восточную и западную музыку. Запад кричит: «Это я! Смотрите на меня! Послушайте, как я страдаю, как я люблю! Как я несчастлив, как я суетлив! Я! Мое! Мне! Меня!»
Восток ни слова о самом себе! Полное растворение в Боге, Природе, Времени. Найти себя во всем! Скрыть в себе все! Таоисткая музыка. Китай за 600 лет до Рождества Христова.
Но почему же не победила в таком случае, но рухнула величественная идея? Почему цивилизация, возникшая на этой основе, не дошла до нас в виде какого-то завершенного исторического процесса? Они, видимо, столкнулись с материальным миром, их окружающим. Так же, как личность сталкивается с обществом, так эта цивилизация столкнулась с другой. Их погубило не только столкновение, но и сопоставление с материальным миром, «прогрессом», технологией. Они результат, соль соли земной, который итожит истинное знание. Борьба же по восточной логике греховна по самой своей сути.
Дело все в том, что мы живем в воображаемом мире, мы сами творим его. И потому сами же зависим от его недостатков, но могли бы зависеть и от его достоинств.