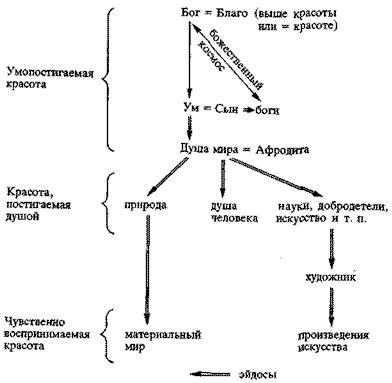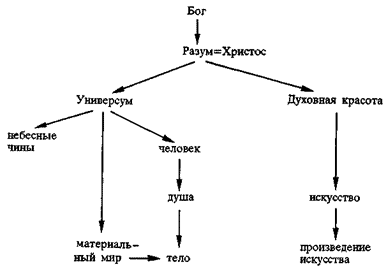ВВЕДЕНИЕ
AESTHETICA PATRUM, эстетика Отцов Церкви - кому-то это словосочетание может показаться неожиданным, а кому-то даже и модернизаторским...
Публика, интересующаяся духовной культурой, важной составной частью которой и является эстетика, хорошо знает, что существует античная эстетика, средневековая эстетика (западноевропейская, византийская, русская и т. п.), эстетика Возрождения и, само собой разумеется, разнообразные эстетические учения Нового и Новейшего времени по наш век включительно. Изучению этих этапов истории эстетики посвящены многочисленные научные труды
[2]. Однако среди них и по сей день нет специального исследования по эстетике Отцов Церкви, хотя вскользь иногда и упоминается об эстетических суждениях отдельных представителей патристики. Как правило, с них начинается разговор о средневековой европейской эстетике
[3]. Больше всего в этом плане повезло Блаженному Августину. Его эстетическим взглядам посвящен ряд специальных работ, на которых мы остановимся подробнее во второй части книги. Что касается других Отцов Церкви, историки эстетики упоминают лишь имена «великих каппадокийцев» (Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского), безымянного автора «Ареопагитик» да иногда еще Иоанна Дамаскина.
Между тем даже из тех кратких экскурсов в патристическую эстетику, которые существуют на сегодняшний день в историко-эстетической науке, а также из исследований (далеко еще не полных) по эстетике Августина видно, что эстетические взгляды Отцов Церкви занимают важное место в истории средиземноморско-европейской эстетики, представляя собой переходное звено от античной эстетики к средневековой. И звено это - ключевое, ибо именно у Отцов Церкви II-IX вв. (и даже несколько уже - II-VI вв.) сформировалось то эстетическое сознание и многие из тех представлений и категорий, которые легли затем в основу средневековой (как западной, так и византийской) эстетики, определили во многом ее своеобразие. Без основательного знания этого звена многие аспекты средневековой (да и возрожденческой) эстетики предстают в неясном свете, сдвигаются акценты и ракурсы в изучении тех или иных собственно средневековых художественно-эстетических феноменов, т. е. в целом искажается общая картина развития эстетики на протяжении многих столетий. Этим в первую очередь и объясняется острая необходимость в систематическом научном изучении феномена aesthetica раtrum.
Особое значение углубленное изучение святоотеческой эстетики имеет для понимания византийской и древнерусской (и шире - православной) эстетики и художественной культуры
[4]. Это не означает, конечно, что византийская или древнерусская эстетики сводятся к патристической, но последняя составляла сущностное ядро эстетического сознания и византийцев, и средневековых русичей. Без знания этого ядра практически невозможно понять и саму художественно-эстетическую культуру Византии и Древней Руси, оценить их самобытность, реконструировать византийскую или древнерусскую эстетику.
Понятно и невнимание историков эстетики к aesthetica patrum. Во-первых, эстетика - достаточно молодая дисциплина. Если философия осознала себя наукой еще в Древней Греции, то с эстетикой это случилось только в XVIII в., хотя эстетическое сознание значительно древнее философского: на протяжении тысячелетий оно не испытывало потребности в саморефлексии, довольствуясь выражением в многообразных феноменах культуры, и особенно - в искусстве. Поэтому не случайно, что основное внимание представителей этой молодой науки было направлено на определение ее предмета (а он трудноуловим для дискурсивного мышления), разработку метода и категориального аппарата. До своей истории эстетика добралась только в нашем столетии, но и здесь она оказалась в полосе кризиса неопределенности. Мощные сдвиги, которые происходят в культуре, философии, искусстве на протяжении всего XX в., особенно сильно сказываются на таких еще не успевших в достаточной мере определиться науках, как эстетика. Отсюда и невнимание к оставшимся не изученными в прошлые столетия периодам своей истории, хотя его в известной мере можно объяснить. Не исключено, однако, что именно в этих периодах эстетика сможет обрести новые импульсы для своего развития, как это случилось со многими направлениями современного искусства, обратившимися к Средним векам, древним культурам и культурам Востока...
Во-вторых, эстетика как наука возникла в рамках западноевропейской культуры Нового времени, когда актуальными стали рационалистические, позитивистские, атеистические тенденции; когда историческим идеалом научного подхода к бытию считался Аристотель, а Средние века, и особенно византийские, были зачислены в разряд «темных веков» - веков господства церковного мракобесия. В XIX - XX вв. этот взгляд поддерживался практически всеми позитивистски и сциентистски ориентированными движениями и направлениями, очень влиятельными в обществе. Ясно, что возникшая в этой атмосфере наука меньше всего интересовалась тем, что творилось в «антинаучных», с ее точки зрения, сферах культуры, и особенно - в клерикальных, к которым и относилась патристика.
Кардинальные изменения в отношении к средневековой культуре, наметившиеся в гуманитарных науках XX в., причем не без влияния русских ученых и мыслителей нескольких поколений, только в последнюю очередь коснулись эстетики, и она обратила наконец взгляд и на свой средневековый период. В первую очередь это, естественно, относится к схоластике, в которой некоторые эстетические проблемы лежат на поверхности, а из патристики - к Августину, как одному из могучих предшественников схоластики.
Однако этот интерес почти на затронул восточнохристианское (греко-византийское и православно-славянское) Средневековье, что объясняется рядом причин. Для западных ученых, занимающихся эстетикой (как правило материалистическо-атеистической ориентации), остается закрытой сама суть православного менталитета, сформировавшегося во многом именно у греческих Отцов Церкви. Отсюда - или отсутствие интереса, или полное непонимание греческой патристики. Для русских ученых бывшего Советского Союза вся религиозная культура вообще была под запретом, точнее - ее объективное научное исследование. И здесь уже было не до религиозной эстетики. В среде же русской эмиграции практически не оказалось ученых, занимающихся профессионально эстетикой. И это тоже понятно, ибо на Западе жила, прежде всего, православно ориентированная интеллигенция, а ей, как правило, эстетика представлялась делом настолько пустячным и незначительным, что заниматься ею всерьез, пожалуй, считалось даже неприличным.
Дело в том, что в России XVIII - XIX вв. эстетику разрабатывали (да и то как чисто учебную дисциплину университетского цикла) в основном так называемые западники, естественно, не пошедшие дальше азов, усвоенных из западных учебников эстетики. Понятно, что ничего практически оригинального в этом плане они создать не могли. Собственно православное эстетическое сознание, имплицитно одухотворявшее русскую средневековую культуру, в XVIII - XIX вв. было отодвинуто на периферию русской культуры, да и по сути своей не имело потребности в рефлективно-дискурсивном выражении. Всерьез об эстетике как науке, достойной внимания, в православной среде в начале XX в. заговорил о. Павел Флоренский, но и у него не дошли руки до занятий ею специально, хотя некоторые важные методологические положения к разработке православной эстетики мы находим в его работах, как и в трудах С. Н. Булгакова. В частности, эти крупнейшие русские мыслители первой половины нашего века убедительно показали всем своим философско-богословским творчеством, что ключ к пониманию кардинальных проблем православной духовной культуры находится в патристике, и прежде всего - греческой.
Aesthetica patrum. таким образом, представляется нам сущностным основанием и ядром всей православной эстетики, включающей в качестве своих исторических этапов византийскую эстетику, эстетику южных славян, древнерусскую эстетику и русскую религиозную эстетику Нового времени (XVIII-XX вв.).
При этом необходимо иметь в виду, что каждая из названных «эстетик» шире собственно патриотической эстетики, охватывая и иные формы, течения, направления эстетического сознания, отличные от святоотеческого наследия. Последнее, однако, составляет как бы структурный, семантический, мировоззренческий костяк, который в каждой из названных культур обрастает своей плотью, не скрывающей тем не менее исходной фундаментальной архитектоники. Aesthetica patrum - это эстетический эйдос, эстетический лик всех названных конкретно-исторических этапов православной эстетики. Кстати, это касается не только эстетики, но и богословия и философии православных культур. Philosophia patrum составляет основу и византийской, и древнерусской, и русской религиозной философии начала XX в. Это убедительно показали П. А. Флоренский и С. Н. Булгаков.
Аргументом в пользу сказанного для автора являются его многолетние исследования в области византийской, древнерусской, неоправославной, а также собственно самой патристической эстетики. Обозначенная выше важность последней как культурно-исторического феномена побудила его заняться ею вплотную. Результатом этих штудий и является данная книга, выносимая на суд заинтересованной публики.
Методология автора хорошо известна читателям его работ. Она не претерпела существенных изменений. Однако в связи с тем, что она не совсем традиционна (во всяком случае с точки зрения западной науки), автор считает нелишним и здесь сделать некоторые методологические разъяснения.
Отцы Церкви, как и вся древность, естественно, не знали ни о какой эстетике и не писали никаких специальных трактатов на эту тему. Aesthetica patrum - это условное, в какой-то мере образное выражение, неологизм, указывающий на предмет исследования. Этим предметом для автора является реконструкция
эстетического сознания Отцов Церкви, под которым имеется в виду достаточно пестрый и многомерный комплекс эстетических чувств, ощущений, переживаний, представлений, идей, концепций Св. Отцов, нашедший отражение в их писаниях, т. е. во всем корпусе патристической литературы
[5].
К сфере эстетического, как автор попытался показать в «Малой истории византийской эстетики» (Киев, 1991), относятся все компоненты системы неутилитарных взаимоотношений человека с миром (природным, предметным, социальным, духовным), в результате которых он испытывает духовное наслаждение. Суть этих взаимоотношений сводится или к выражению некоторого смысла в чувственно воспринимаемых формах, или к самодовлеющему созерцанию некоего объекта (материального или духовного). Духовное наслаждение (в пределе - эстетический катарсис) свидетельствует о сверхразумном узрении субъектом в эстетическом объекте сущностных основ бытия, сокровенных истин духа, неуловимых законов жизни во всей ее целостности и глубинной гармонии, об осуществлении в конце концов духовного контакта с Универсумом (а для верующего человека - с Богом), о прорыве потока времени и, хотя бы мгновенном, выходе в вечность или, точнее, об ощущении себя причастным вечности. Эстетическое выступает, таким образом, некой универсальной характеристикой всего комплекса неутилитарных взаимоотношений человека с миром, основанных на узрении им своей изначальной причастности к бытию и вечности, своей гармонической вписанности в Универсум.
Это, может быть, более широкое понимание эстетического и, соответственно, предмета эстетики, чем традиционное западноевропейское. Однако многолетние размышления автора, его собственный духовный и научно-исследовательский опыт, в частности по изучению истории художественно-эстетической культуры, убеждают его в том, что оно более адекватно феномену, для постижения которого и возникла специальная наука - эстетика.
Таким образом, в поле нашего внимания попадает практически все то в святоотеческой письменности, что касается прежде всего иррационального сверхразумного опыта, сопряженного с созерцанием и духовным наслаждением, а также - широкий круг проблем, связанных с формами и приемами выражения (т. е. проблемы символа, образа, знака и т. п., в том числе и изображения, как частного случая выражения). Ясно, что многие из этих проблем имеют отношение не только к эстетике, но и к другим сферам духовной культуры, ибо возникли они первоначально не как эстетические (но как культово-церковные, мистические, богословские, философские и т. п.). Однако косвенно именно в них нашло выражение эстетическое сознание их авторов, и только на их основе оно и может быть реконструировано. Понятно, что такая реконструкция чревата известной неадекватностью (из-за временного фактора - различия менталитетов) и определенной модернизацией (на сведение ее к минимуму и направлены усилия автора). Тем не менее при бережном, корректном подходе к материалу есть принципиальная возможность в разумных пределах дать более или менее адекватную картину эстетического сознания Св. Отцов, и автор надеется, что со своей задачей он успешно справится.
При этом он понимает, что перед ним стоит трудно выполнимая для одного человека работа - изучение бескрайнего моря святоотеческих текстов под углом выявления в них следов эстетического сознания их авторов (отнюдь не самого главного уровня сознания у Отцов Церкви). Однако автора укрепляют в этом намерении несколько весомых аргументов. Во-первых, как уже было показано выше, он хорошо сознает значимость этой работы для истории культуры, и прежде всего российской. Во-вторых, он выполняет наказ своего учителя и духовного наставника А. Ф. Лосева, который много лет назад благословил его на это нелегкое дело и до последних дней своей жизни постоянно поддерживал его морально и ценными советами. И, наконец, в-третьих, даже если автору и не удастся в полном объеме и на должном уровне выполнить свою задачу (которая по плечу, пожалуй, только таким титанам русской культуры, как А. Ф. Лосев, но их уже, увы, не осталось на бренной и многострадальной земле российской), утешением ему и духовной радостью будет сам факт ежедневного многолетнего общения с великими мудрецами христианской культуры, а читателям, как он надеется, - знакомство с тем слоем святоотеческой письменности, который до сих пор никем не был систематически разработан. Независимо от того, удастся ли нам в конечном счете получить целостную картину эстетического сознания Св. Отцов в его исторической динамике, изучение патристического понимания таких важнейших философско-эстетических проблем, как творчество, искусство, созерцание, духовное наслаждение, образ, символ, знак, аллегория, порядок, красота, прекрасное, возвышенное и т. п., будет иметь самостоятельную научную ценность.
В связи с тем, что эти проблемы возникли, как правило, не в эстетическом контексте культуры, но в, каких-то иных, хотя часто имели и эстетическое значение, важным методологическим приемом становится изучение их в связи с этими первоначальными контекстами. Исследование, таким образом, по необходимости приобретает более широкое культурологическое значение, чем этого можно было бы ожидать от традиционной историко-эстетической работы. Успешный опыт А. Ф. Лосева по применению подобной методологии в его восьмитомной «Истории античной эстетики» убеждает нас в плодотворности этого пути применительно, по крайней мере, к «донаучному» этапу истории эстетики, т. е. к периоду до появления эстетики как науки (фактически до XVIII в.).
К
патристике современная наука относит огромный пласт литературного наследия греческих и латинских христианских мыслителей и церковных писателей II - VIII вв.
[6]. Завершителем патристики и предтечей схоластики традиционно считается Иоанн Дамаскин (ок. 675 - ок. 749). Однако, как известно, у византийских Отцов Церкви схоластика не получила столь широкого развития, как на Западе, и Иоанн Дамаскин фактически не имел продолжателей в Византии до самого конца ее истории (XV в.). Поэтому применительно к греческим Отцам Церкви и особенно в связи с эстетической проблематикой автор считает целесообразным завершать патристический период IX в., т. е. концом иконоборческой полемики. Именно в процессе этой полемики были сформулированы многие важные для эстетики положения святоотеческой мысли, ставшие затем практически догмой для всего православного мира. Да, собственно, и византийские богословы IX - XV вв. по характеру своих писаний стоят ближе к патристике, чем к схоластике. К тому же Ж.-П. Минь, издавший в прошлом веке знаменитые «Патрологии» греческих Отцов Церкви в 166 томах и латинских - в 221-м, включил в них практически всех известных ему византийских и средневековых богословов, т. е. жестко определенной верхней границы патристики в науке практически не существует.
Итак, aesthetica patrum охватывает Отцов Церкви II - IX вв., ибо именно в этот период и было наиболее полно сформировано и закреплено в письменных источниках святоотеческое эстетическое сознание. Исследование строится в хронологическом плане и будет включать в себя несколько томов.
Предлагаемый вниманию читателей первый том состоит из двух частей. Первая посвящена анализу ранней патристики (II - III вв.), представители которой вошли в науку под названием апологетов, ибо основной мотив их сочинений - защита и оправдание христианства в глазах позднеантичной (в основной массе еще языческой) публики. И даже не столько защита в прямом смысле слова, сколько просвещение гонителей христианства относительно нового учения, стремление обратить их в свою веру. В полемике с уходящей античностью (как греко-римской, так и ближневосточной) апологеты закладывали фундамент новой культуры - христианской.
По духу и содержанию своей писательской деятельности к апологетам примыкает и Блаженный Августин (особенно раннего периода, когда им были написаны основные работы, содержащие богатый эстетический материал). Его фундаментальное богословско-философское сочинение «О граде Божием» - последняя и самая грандиозная апология христианства, завершающая ряд аналогичных произведений II - III вв. И хотя, следуя строгой хронологии, Августина полагалось бы расположить после Отцов Церкви IV в. (он творил в конце IV - 1-й трети V в.), тематически и типологически он стоит ближе к апологетам, фактически во многом подводя итог апологетической традиции (особенно в плане эстетического сознания). Поэтому мы сочли целесообразным поместить его во второй части первого тома. Второй же том, работа над которым в настоящее время завершается, будет полностью посвящен IV в. - «золотому веку», по выражению многих исследователей, святоотеческой письменности.
В данный том вошли материалы в основном уже апробированные и опубликованные в свое, не очень благоприятное для подобных штудий время. Первая часть была выпущена в качестве отдельной книги под маскирующим названием «Эстетика поздней античности. II - III века» (М., «Наука», 1981). Благодаря доброму отношению редакторов издательства (Н. А. Алпатовой, В. Р. Аронова, А. Б.Стерлигова) к проблематике и автору книга вышла практически без сокращений и каких-либо цензурных изменений, за что он, пользуясь случаем, выражает им глубочайшую признательность. Скандал разразился уже после того, как книга увидела свет и была в несколько дней распродана. Возмущенные письма «профессиональных» атеистов пошли в идеологический отдел ЦК КПСС, в Госкомиздат, в Дирекцию Института философии, под чьим грифом вышла книга. В чем только не обвиняли автора (в конечном счете все эти письма с грозными резолюциями стекались в Институт философии и предъявлялись в качестве обвинительных документов автору)! Но так как он не состоял в рядах КПСС, то, постращав, ему милостиво простили его «идеологическую необразованность». Да и «обвинения» были шиты белыми нитками.
Отделавшись легким испугом, автор приступил к изданию уже в издательстве «Искусство» книги по эстетике Блаженного Августина. Однако и ее постигла печальная участь. Бдительные издательские «цензоры» (в лице директора издательства и заведующего редакцией) уже на стадии верстки вдруг обнаружили в ней в конце 1982 г. «идеологическую крамолу». Автору инкриминировалось, что в книге по эстетике он «протаскивает» богословскую проблематику. И тогда энергично заработали ножницы. Эстетику крупнейшего Отца Церкви пытались «очистить» от богословия, а автора - подправить идеологически. Нельзя сказать, что процедура эта проходила без борьбы. Автора в его сопротивлении произволу активно поддерживал издательский редактор книги В. С. Походаев, которому автор имеет сейчас возможность выразить публично свою признательность, но право решать: «быть или не быть», - увы, принадлежало не ему.
Потери, которые понесла работа, сегодня может видеть каждый, сравнив данное издание с книгой, выпущенной в свет в 1984 г. Тогда, в 1983 г., автор уже готов был отказаться вообще от издания работы в урезанном виде. Однако был переубежден своим умудренным в издательских делах наставником А. Ф. Лосевым. «Ну что толку,- говорил Алексей Федорович,- что ты заберешь рукопись. Они «прозевали» ее, подписали в набор, набрали, теперь им самим неловко ее выбрасывать. Они только и ждут, когда ты заберешь ее, устав бороться. Так никто у нас и не узнает, что был такой Блаженный Августин и что у него была интереснейшая эстетика. Это же первая в России книга об Августине после 17-го года, и неизвестно, будет ли следующая. Так что не хандри, дожимай их - все-то ведь не сократят...»
И действительно, сократили далеко не все даже из того, что намеревались. Многое спас на свой страх и риск В. С. Походаев. Однако немало и урезали. Существенно пострадали первые главы, многое было опущено во взглядах позднего Августина, кое-где даже нарушена логика изложения, добавилось несколько совершенно ненужных для данной работы цитат из классиков марксизма - «огнетушителей», как их называли тогда в издательской среде. Хотя «тушить», собственно, было нечего. Досаду вызывал не столько сам факт «чистки», ибо автору не раз приходилось бороться практически за каждую свою печатную (в родном отечестве, естественно) страницу, начиная с первой аспирантской статьи, в которой малообразованная издательская цензура сняла перед сдачей в набор сноски на Библию и Отцов Церкви, не зная, разрешено ли их цитировать, и не удосужилась даже хоть как-то замаскироваться - статья так и появилась с белыми пустотами на месте заклеенных «крамольных» источников. Подобные акции, хотя и не в столь грубой форме, осуществлялись со многими работами автора до самых последних лет. Досадно было другое - что сокращают уже набранный и сверстанный текст. Каких-то нескольких месяцев не хватило, чтобы книга увидела свет в 1983 г. в первоначальном виде. При этом пафос «чистки» доходил порой до абсурда. Помимо богословия, что как-то можно было понять в тоталитарно-атеистическом государстве, «вычистили» и немецкое резюме (притом уже из последней корректуры - сверки), и даже посвящение книги 90-летию А. Ф. Лосева. Сегодняшний читатель, пожалуй, и не поверит в это, однако автору о тех печальных страницах нашего бытия напоминают сохранившиеся экземпляры первой полной корректуры и последующих урезанных версток.
В настоящем томе «Эстетика Блаженного Августина» печатается в восстановленном и дополненном виде. Первая часть (посвященная апологетам) также существенно расширена (введен параграф по эстетике Филона, глава по Оригену, материал по Дионисию Александрийскому и др.). В целом перед читателями фактически новая работа - первый том «Aesthetica patrum».
Автор считает своей приятной обязанностью выразить признательность Международному научному фонду за поддержку его проекта «Aesthetica patrum». В сегодняшнее трудное для российской гуманитарной науки время Фонд много делает для ее выживания. Эту же благородную миссию выполняет и научно-издательский центр «Ладомир», в чей адрес автор также не может не высказать сердечных слов благодарности.
Москва, ноябрь 1994 г.
Часть первая. ХРИСТИАНСКИЕ АПОЛОГЕТЫ. II-III века
Глава I. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОЗДНЕАНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ И ЭСТЕТИКИ
1. Перекресток культурных традиций
Культура поздней античности, может быть как никакая иная культура переходных периодов, пестра, противоречива и богата удивительными и для нас уже мало понятными феноменами. Многие из них остались уникальными фактами только этого периода, но многие, так или иначе трансформируясь и модифицируясь, легли в основу новой зарождающейся культуры европейского Средневековья, определив ее лицо и характер на долгие столетия.
II и III вв. н. э. были временем расцвета и начала кризиса Римской империи, временем, сконцентрировавшим в себе наиболее острые моменты столкновения старой и новой духовных культур, временем активного становления новой системы культурных ценностей. Начался этот процесс значительно раньше II в. и кончился на несколько веков позже III в., однако основной накал духовной борьбы приходится именно на эти столетия, что дает основания для специального их рассмотрения. Ясно, что при этом нам не обойтись без экскурсов в более ранние периоды, и прежде всего в культуру эллинизма, которая подготовила позднюю античность и незаметно переросла в нее, а иногда и без заглядывания вперед, в IV - V вв., когда многие идеи, наметившиеся во II - III вв., получили свое завершение.
История расцвета и упадка Римской империи, история позднеантичной культуры в целом, хорошо изучена отечественной и мировой наукой
[7].
Коренные сдвиги в духовной культуре античности наметились еще в период эллинизма. Походы Александра Македонского привели к соприкосновению и взаимопроникновению греческой и восточных культур. При этом греческая культура, всегда благоговевшая перед таинственной мудростью Востока, стремилась и в этот период именно в ней найти выход из тупиков своей мировоззренческой системы. Барьер эллинского снобизма, столетиями отделявший эллина от варвара (неэллина), начал рушиться.
В период римского господства эти явления развивались еще активнее. В Римской империи возникают и крепнут космополитические тенденции, реализация которых усматривалась в установлении мировой монархии с единой универсальной культурой. Римская империя, простиравшаяся к I в. от Евфрата до Атлантического океана и от Северной Африки до берегов Рейна, явила миру образец такой монархии. Под ее началом народы Европы, Азии и Африки приобщались к высокой греко-римской культуре, оказывая на нее и свое влияние.
Культура поздней античности представляла собой пеструю смесь разнообразных феноменов, архаических и новаторских, восточных и западных в сферах быта и философии, религии и науки, искусства и колдовства, утонченной духовности и неприкрытого шарлатанства. Активно развивался процесс, возникший еще во времена Александра Македонского, соединения и соответствующего переосмысления на основе греко-римской культуры египетских, ассиро-вавилонских, индийских, персидских и древнееврейских идей и культурно-исторических традиций. Многие высокообразованные эллины и римляне путешествуют по Востоку, изучая культуру его народов. Неопифагореец Аполлоний Тианский за «высшей мудростью» отправляется даже в Индию, к брахманам, которые представляются ему неземными существами.
Кризис античного рационализма обусловливает переключение внимания как духовной элиты, так и народных масс в сторону восточных мистико-символических культов, мистерий, гаданий и заклинаний. Растет потребность в чудесном и таинственном; пышно расцветает астрология. Восточные маги, волшебники и пророки наводняют Римскую империю. В области религии намечается всеобъемлющий синкретизм, признающий всех и всяческих богов, божеств и демонов
[8], т. е. всебожие, внутренне тяготеющее к своему антитетическому завершению - единобожию, монотеизму. Эллинистический Олимп переполнен массой восточных «чужестранцев», принявших вид богов и вытесняющих его исконных обитателей, вынужденных, по известной сатире Лукиана (II в.), даже бороться за свои права. Ведь эти непрошеные гости «так заполнили небо,- сетуют старожилы Олимпа,- что пир наш стал теперь похожим на сборище беспорядочной толпы, разноязычной и сбродной, что начало не хватать амбросии и нектара и кубок стал стоить целую мину из-за множества пьющих»
[9]. Не истинно ли эллинский пафос звучит в обличениях Мома: «Но Аттис, о Зевс, но Корибант и Сабазий, - откуда они приведены к нам вместе с этим мидийцем Митрой, в персидской одежде и с тиарой, даже не говорящим по-гречески, не понимающим, когда пьют за его здоровье? <...> Ты же, египтянин с собачьей мордой, завернутый в пеленки,- ты кто таков, милейший, и как можешь ты, лающий, считать себя богом? И почему пятнистому быку из Мемфиса воздаются почести, почему вещает он, окруженный пророками? Уж о козлах, ибисах, обезьянах и многом другом, еще более нелепом, что неизвестно как проползло к нам из Египта и заполнило все небо, мне и говорить стыдно»
[10]. Однако этот классический пафос, пронизанный у Лукиана глубокой иронией и в отношении самих исконных обитателей Олимпа, был, конечно, чужд разноплеменным гражданам огромной Римской империи. Сами боги эллинского Олимпа, слишком уж антропоморфные, не могли удовлетворить изощрившееся религиозное сознание человека позднеантичного мира.
Уже в VII в. до н. э. осуществлялось более или менее регулярное знакомство греков с египетской культурой
[11], мудростью, религией, которые постоянно вызывали у них благоговейное восхищение (вспомним «Тимей» Платона). Существовали легенды о посещении Египта Пифагором, Ликургом, Платоном. Геродот преклонялся перед величием египетской религии. Плутарх в трактате «Об Исиде и Осирисе» не устает восхвалять египетскую религию за глубину и мудрость, присущие ее культу. При этом на первый план он выдвигает не обрядовую, а гносеологическую функцию религии. «Людям, обладающим рассудком, следует искать всех благ у богов, а более всего познания самих богов, насколько оно для человека достижимо... Нет ничего выше стремления к истине, в особенности той, которая касается богов и заключает в себе жажду приобщения к божественному началу, так что изучение мудрости является восстановлением подлинного богослужения» (De Isid. 1 - 2)
[12]. Пересказав миф об Исиде и Осирисе, Плутарх замечает, что его ни в коем случае не следует понимать буквально, ибо главное значение мифа заключено в его таинственном внутреннем смысле, раскрывающем глубинные движущие силы мироздания. «...Миф Озириса и Изиды, - писал русский философ начала века С. Н. Трубецкой, - является Плутарху откровением изначальных божественных потенций, действующих в мировом процессе». Плутарх не отвергает мифы, «как бы ни были они нелепы, а объясняет их как символы философских истин»
[13].
Официальный Рим недоверчиво относился к восточным культам, а к некоторым, наиболее изуверским, в высшей степени отрицательно, как к грубым суевериям варварских народов. Однако стремление держать в повиновении эти народы заставляло римлян признавать и даже возводить в ранг государственных наиболее популярные из этих культов. Но еще задолго до того, как восточные культы были признаны официальным Римом (в основном в III в.), они нашли широкое распространение в кругах простого народа, особенно среди угнетаемых низов, но также и у некоторой части духовно изощренной римской аристократии. Чем привлекали к себе греко-римское население Империи культы восточных богов и сами эти боги?
В период ломки социальных устоев древности, кризиса старых духовных ценностей, социальных, нравственных и религиозных идеалов, в условиях активного взаимопроникновения восточных и западных культур, нестабильности всех социально-значимых ценностей внимание человека, все его духовные силы направляются на вдруг открывшийся ему в период поздней античности мир его внутреннего духовного бытия, мир глубинных переживаний, неосмысляемых побуждений, стремлений, духовного томления, ярких озарений, блаженства и беспричинных страданий. Возбуждению этих феноменов духовного мира человека во многом способствовали восточные, таинственные, как правило, несуразные с точки зрения здравого смысла мистерии и культы, приводившие, однако, своих участников в возбужденное, часто дикое состояние.
Сладостность культового экстатического страдания осмыслялась как почти физическое слияние с божеством
[14]. Страдание в культовом экстазе как бы очищало и умиротворяло человека. Не случайно почти все восточные боги, получившие признание в Империи,- это страдающие, гибнущие и воскресающие боги, искупающие своими страданиями грехи мира и воскресающие для новой, радостной жизни, чего так страстно желали и для себя угнетенные массы.
Огромную роль в религиозной жизни поздних римлян играл культ персидского бога света и правды Митры, который был, пожалуй, главным и самым серьезным конкурентом Христа
[15]. В культе и религии Митры была предпринята одна из наиболее удачных попыток организации на основе эллинистических верований монотеистической религии, удовлетворявшей потребностям духовной чистоты, нравственной дисциплины, мистической углубленности в таинство, дававшей надежду на бессмертие
[16]. В его культе соединились мистериальные элементы, восходившие к орфическим и пифагорейским тайнодействам, с формами персидских культов солнца и света. В религии Митры господствовали космические начала. По своему духу она была ближе к неоплатоническому мистицизму, чем к христианской религии спасения. В митраизме отсутствовало женское божественное начало со всем комплексом женских чувств, переживаний, чаяний, присущих отнюдь не только женщинам, но общих для всего человечества. Митраизм мало что давал скорбящей и любящей душе и никак не поощрял ее
[17].
На уровне философского мышления пестрое многообразие духовной культуры поздней античности способствовало возникновению и процветанию новых философских систем: стоицизма, эпикурейства, скептицизма, неопифагорейства и неоплатонизма,- стремившихся на интеллектуальном уровне удовлетворить духовные потребности гражданина ойкумены. В частности, предпринимаются попытки сохранения и классической религии путем аллегорически-символического толкования древней мифологии (стоики, неоплатоники).
Культурная жизнь в эпоху поздней античности пестра и многообразна. Особенно активна она была в крупных городах Империи - Александрии (пожалуй, главном духовном центре эллинизма), Риме, Афинах, Пергаме, Родосе, Карфагене. Александрия считалась в до-Константинову эпоху вторым городом Римской империи и первым торговым центром мира
[18]. Здесь концентрировалась вся мудрость Востока и Запада; жаждущих знаний привлекала огромная библиотека и центр всех наук - Мусейон.
Карфаген по количеству жителей и богатству немногим уступал Александрии «и был, бесспорно, вторым городом латинской половины Империи, самым оживленным и, быть может, самым испорченным городом Запада после Рима и самым крупным центром латинской науки и литературы»
[19]. Африканские провинции были житницей Рима, и поэтому Карфаген процветал во всех отношениях. Там был свой сенат, свой капитолий и почти самостоятельное управление. Карфаген был также известен на всю Империю своими риторами, поэтами, учеными, особо славился он юридической школой. Этот, по выражению Ювенала, «рассадник адвокатов» поставлял своих питомцев в Рим и другие города Империи.
В Афинах в тот период функционировали важнейшие философские школы: Платоновская Академия и основанный Аристотелем Ликей. Философия процветала и в Риме, Александрии и некоторых других центрах Империи. Мыслители того времени активно развивали идеи стоиков, киников, эпикурейцев, скептиков. Возникли неопифагорейство и неоплатонизм. Последний сыграл важную роль в духовной жизни Средневековья и Возрождения, активно питал христианство и ислам и дожил в ряде философских направлений до XX в.
В эпоху поздней античности творили такие известные философы, как Филон Александрийский, стоики Луций Анней Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий (римский император), пропагандист кинизма Дион Хрисостом, главный представитель позднего скептицизма Секст Эмпирик, неопифагореец Аполлоний Тианский, неоплатоники Плотин, Порфирий, Ямвлих, раннехристианские мыслители Климент Александрийский, Ириней Лионский, Тертуллиан, Ориген, Киприан, Арнобий, Лактанций.
В области гуманитарных наук и искусства поздняя античность дала миру писателя, философа-моралиста и историка Плутарха, сатириков Лукиана из Самосаты и Юния Ювенала, крупнейшего поэта «золотого века» римской литературы Овидия и писателя Апулея, историков Иосифа Флавия, Корнелия Тацита, Аппиана, Кассия Диона, баснописца Федра, автора трактата «О возвышенном» и прославившегося своими «Жизнеописаниями двенадцати цезарей» Светония. В этот период были созданы знаменитые трактаты Филостратов (Старшего и Младшего) «О картинах» и «Описание статуй» Калистрата, положившие начало европейскому искусствознанию. В 20-е гг. н. э. появился капитальный труд по географии Страбона, а во 2-й пол. I в. Плиний Старший издал свою грандиозную «Естественную историю», фундаментальную энциклопедию по географии, ботанике, зоологии, минералогии.
Литература поздней античности создавалась на греческом и латинском языках
[20]. Однако со II в. греческий язык начинает преобладать над латинским, исконные римляне постепенно исчезают в культурном движении, «уступая место грекам, эллинизированным египтянам, сирийцам, малоазийцам и романизованным африканцам»
[21].
Со времен эллинизма в греко-римском мире развивается настоящий культ книги, появляются свои «книжники», быстро растет число любителей чтения
[22]. Вслед за знаменитой Александрийской библиотекой возникает ряд публичных библиотек в Риме, расширяется торговля книгами и соответственно их производство. Книги, как известно, в тот период были рукописными, но стоили достаточно дешево, так что издатели не получали от них никакой прибыли
[23]. Писать и издавать книги могли только обеспеченные люди. Многие поэты и писатели того времени должны были искать себе состоятельных покровителей, влиятельных патронов. Таково было положение всей интеллигенции Империи, и положение, вообще говоря, мало завидное, ибо «те, кому удавалось заручиться наконец покровительством и поддержкой патрона, терпели бесконечные унижения, играя роль чуть ли не домашних шутов, так как патрон оказывал им свои милости только до тех пор, пока они умели развлечь его, угодить его часто грубым вкусам, безропотно сносили его высокомерие и оскорбления со стороны его друзей, членов семьи, избалованной приближенной челяди»
[24]. Отсюда - недовольство и оппозиционность многих интеллигентов к власть имущим
[25].
В худшем положении находились художники и актеры. Живописцы и скульпторы причислялись в Риме к ремесленникам, и их деятельность считалась недостойной уважения, как дело рабов
[26]. Еще на более низкой ступени социальной лестницы пребывали актеры: свидетельства актера не принимались в суде, его обидчиков не наказывали, на дочери актера не имел право жениться свободнорожденный римский гражданин и т. п., хотя наиболее знаменитые актеры становились часто любимцами императоров и обладали большими состояниями
[27].
В сфере художественного творчества поздняя античность известна рядом уникальных памятников, но также - общим упадком античного искусства и зарождением нового - христианского. Яркой страницей истории искусства являются великолепные росписи Помпеи, Стадий и Геркуланума, погребенные в 79 г. под пеплом Везувия и тем сохраненные от уничтожения в христианский период. Стилистически к этим росписям примыкают и развивают их иллюзионистические тенденции, но выполняя уже совсем иные культурные функции, египетские погребальные портреты I - IV вв., найденные в Фаюмском оазисе. Впоследствии эти портреты дали толчок и послужили прототипом для развития христианской (византийской) иконописи
[28].
Для римской скульптуры этого периода характерна волна «классицизма» - копирования и подражания памятникам греческой классики. Основное внимание уделяется равновесию и гармонизации форм. Большое распространение получает римский скульптурный портрет, в котором намечается тенденция к выявлению внутреннего мира портретируемого.
Римляне много строят, опираясь, в частности, на великолепную теорию архитектуры Витрувия («Десять книг об архитектуре»). По всей стране прокладываются дороги, сооружаются грандиозные водопроводы, огромные амфитеатры, храмы, термы, триумфальные арки и колонны. В I в. появляется уникальный по величине амфитеатр Флавиев - Колизей, рассчитанный на 50 000 зрителей. Во времена Адриана в Риме был построен храм «всем богам» - Пантеон, сочетавший в своей архитектуре цилиндр, сферу и параллелепипед. Бетонный купол этого сооружения по своей величине (43,2 м в диаметре) не был превзойден до конца XIX в.
Много внимания уделялось в императорском Риме украшению жизни, бесчисленным развлечениям, роскошным многодневным праздникам и зрелищам. Знать изощрялась в гурманстве, немыслимых туалетах, хитроумном услаждении своей чувственности.
Позднеантичные писатели и философы Корнелий Тацит, Валерий Максим, Веллий Патеркул, Сенека, Эпиктет рисуют нам яркую картину быта и нравов римской аристократии. В пирах и оргиях проводили многие ее представители большую часть своего времени. Огромные суммы денег уходили на эти мероприятия, с необычайной помпой проводившиеся в просторных залах римских дворцов (их стены и потолки были покрыты золотом, коврами или дорогими шелками) с использованием золотой и серебряной посуды, с шеренгами молодых рабов в раззолоченных одеждах. Чудеса механики и гидротехники использовались для развлечения гостей. Изощренные сексуальные наслаждения были неотъемлемой частью жизни римской знати поздней Империи. Этому способствовало достаточно свободное и независимое положение женщины в Риме того времени
[29]. Римлянки обладали большими правами и свободой как в семье, так и в обществе. Знатные дамы соревновались в изобретении немыслимых, дорогостоящих нарядов, носили массу драгоценных украшений. Наравне с мужчинами посещали они зрелища, театр. «Достоинству» знатных матрон служило наличие многих любовников и любовных связей. «Целомудрие свидетельствовало разве что об уродстве»
[30]. Женщины часто выбирали себе любовников среди рабов, гладиаторов, актеров, мимов. Разводы были обычным делом; процветала проституция. В период поздней Империи женщины нередко выступали в мимических труппах и даже в роли гладиаторов. Некогда пуританский Рим начал привыкать к виду обнаженного женского тела. В общих банях женщины и девушки мылись в одних залах с мужчинами, в мимических представлениях женщины-актрисы нередко полностью разоблачались на потребу любителей античного стриптиза, гетеры носили платья из полупрозрачных тканей.
В III - IV вв. в Риме строятся грандиозные бани. Особенно знамениты термы Каракаллы (нач. ΙΪΙ в.), представлявшие собой сложный комплекс сооружений, занимавший территорию в 12 га и рассчитанный на одновременное пребывание в нем 1500 человек. Здесь были большие залы и разнообразные по архитектуре сооружения с холодной, теплой и горячей водой, специальные помещения для отдыха и развлечений, парк с библиотеками. Залы терм были роскошно украшены мраморами, драгоценными материалами, великолепными мозаиками и скульптурами.
Приверженцы доброй старины, как и многие философы (киники, стоики, неоплатоники), усматривали в быту и поведении римской знати явный упадок нравов. Особо острой была критика в адрес аристократии со стороны киников - приверженцев Диона Хрисостома, и стоиков - последователей Эпиктета. В определенных кругах позднеримского общества возникает естественная реакция на гедонистическую устремленность знати - аскетизм, как важнейшее условие духовного совершенствования человека.
Тяжелым было положение народных масс в Империи, особенно в III - IV вв. «Римское государство,- писал Ф. Энгельс,- превратилось в гигантскую сложную машину исключительно для высасывания соков из подданных. Налоги, государственные повинности и разного рода поборы ввергали массу населения во все более глубокую нищету; этот гнет усиливали и делали невыносимым вымогательства наместников, сборщиков налогов, солдат»
[31]. В Риме и других крупных городах Империи велика была численность неимущего «пролетариата», который представлял реальную угрозу для общества. Его недовольство сдерживалось регулярными раздачами хлеба за счет казны и устройством зрелищ и всенародных праздников. В середине II в, праздникам в Риме отводилось 180 дней в году. В цирках и в амфитеатрах постоянно устраивались различные состязания, скачки на колесницах, травля зверей. Смертные казни обставлялись в амфитеатре нередко как театрализованные зрелища, в которых осужденный исполнял роль героя или злодея, по-настоящему погибавшего в ходе представления, что придавало особую остроту зрелищу. Здесь видели римляне и Геркулеса, охваченного огнем Этны, и Муция Сцеволу, сжигавшего в пламени руку в доказательство своего бесстрашия, и распятых разбойников
[32]. Казни христиан в первые века новой эры также часто проводились на арене амфитеатра, куда их выгоняли на растерзание диким голодным зверям.
В театрах этого периода древние греческие и латинские трагедии и комедии уступали место более посещаемым грубым пантомимам и мимическим представлениям, насыщенным непристойными сценами, жестами, телодвижениями.
В то же время в подземных катакомбах Рима, где ранние христиане тайно встречались на своих религиозных собраниях и хоронили своих единоверцев, делает первые шаги и христианское искусство, ищущее новых эстетических идеалов, новых форм выражения. Наметившаяся в позднеримском изобразительном искусстве (прежде всего в скульптуре) тенденция к отказу от классических форм, от иллюзорного подражания действительности, к возрождению форм греческой архаики активно поддерживается и раннехристианским искусством. Изображения начинают приобретать плоскостной характер (даже в скульптуре). Фигуры утрачивают тяжесть и как бы парят над землей. Схематизм в изображении тел вытесняет былую пластичность. Предметная действительность теряет свою ценность. Художника начинает более интересовать духовная реальность
[33].
Важное место у ранних христиан начинают занимать символические изображения. Крест, якорь, корабль, виноградная лоза, овцы, пастух с ягненком на плечах - все эти незамысловатые изображения были для христиан символами и знаками глубоких религиозных тайн.
Христианство - естественный продукт эллинистической культуры
[34]. Это тот новый в греко-римском мире феномен, который возник на основе главных тенденций эллинизма к космополитизму, монотеизму, новой морали, наконец, к новому иррационализму. Это тот духовный результат, на который была внутренне ориентирована культура эллинизма и который она дала миру в качестве образца развития на последующие две тысячи лет.
В первый период своего существования христианство, как новая система мировосприятия, развивалось параллельно со всеми основными философско-религиозными течениями эллинизма, многое отрицая в них, многое заимствуя и оказывая подчас сильное влияние на некоторые из них.
Возникшее не на эллинской, а на восточной основе (древнееврейской религии), христианство отвергло многие принципы античного мышления и античной культуры, пытаясь тем самым найти новые пути развития духовной культуры. В данной ситуации и оказался возможным тот синтез основных характеристик восточных и греко-римской культур, к которому вела эллинизм логика исторического развития. Этот синтез, как активное преодоление культур древнего мира на новом уровне, и начал осуществляться в рамках христианского эллинизма (I - IV вв.).
Духовная культура христианства возникла в результате взаимопроникновения двух наиболее зрелых и целостных культур древнего мира, противоположных друг другу по целому ряду своих основных параметров, - греко-римской и ближневосточной. Последняя оказалась в состоянии дать грекоязычному, а затем и латинскому миру в период его духовного кризиса обильную пищу (в виде собрания своих основных культурно-исторических, религиозных, философских и поэтических текстов в составе Библии) для развития новой культуры, снимающей путем синтезирования многие противоречия предшествующих культур.
Активное взаимодействие культур Востока и Запада началось, как известно, в период эллинизма и характеризовалось бурным проникновением греческого языка и эллинской культуры
[35] на Восток и определенной открытостью этой культуры для восточных влияний. Большинство элементов ближневосточных культур, включая и египетскую
[36], нашло отражение в этом конечном синтезе и может быть реконструировано по своду библейских (называемых в христианстве ветхозаветными) текстов, фактически уникальному по объему и культурной значимости письменному источнику ближневосточных культур того времени. В качестве религиозного текста он полностью вошел в канон христианской литературы, став актуальной духовной пищей для всего Средневековья. На него мы и опираемся при кратком сравнении ближневосточной культуры с греческой, на основе которых возникла раннехристианская литература.
Столкновение двух, по-своему замкнутых в себе, культур
[37] возбудило в них мощную волну литературной деятельности
[38], которая, с одной стороны, острее выявила противоположные аспекты этих культур, а с другой - наметила пути их сближения. Каковы же основные духовные оппозиции этих культур, требовавшие их снятия или принятия в рамках новой культуры?
[39]Прежде всего бросающееся в глаза различие способов, или типов, мышления, познания мира и Первопричины в эллинской и ближневосточной традициях. Греческому логическому мышлению, как основе интеллектуального познания, противостоял ветхозаветный иррационализм, «психологическое понимание» как путь непосредственного знания
[40]. Познание мира и Бога библейский мудрец осуществлял не путем созерцания жизни (ср. βίος θεωρητικός Аристотеля) и понятийно-логического осмысления ее, а непосредственно в самой жизни, переживая и постигая ее в глубинах своего духа. Эллинский мир дал культуре тип философа, стоящего над жизнью, извне созерцающего жизнь. Ветхозаветная литература рисует нам мудреца (Моисей, Давид, Соломон, пророки), находящегося внутри жизненной ситуации, активно действующего, использующего всю полноту жизненных возможностей, к чему-то стремящегося и таким образом достигающего высшего совершенства и знания. Философ сам приходит к познанию истины, библейского мудреца Бог призывает в пророки, открывается ему в особых образах, понятийно невыразимых. Пророк как бы «захватывает» Бога своей волей, и Бог (активное волевое начало, динамическая сила) обращается к миру его устами. Отсюда пророки часто говорят в первом лице от имени Бога.
У греческого мыслителя на первом месте стоит онтология. Вечный и неизменный макрокосм, природа - вот предмет постоянных устремлений его разума. Человек для него лишь ступень в природном порядке, особый вид животного - «общественное животное» (ср. πολιτικόν ζώον Аристотеля). Для ветхозаветного мудреца человек - творение Божие. Он - господин природы (Пс 8, 6 - 9). Он даже не всегда повинуется своему Богу, но «судится» с ним как «верный» (!) Иов; он стоит перед Богом и жаждет интимного общения со своим единым личностным Богом;
[41] он боится Бога. Весь этот противоречивый комплекс чисто человеческих отношений и переживаний выдвигает на первое место в древнееврейской культуре психологию, и психологию личностную, ибо и весь библейский народ часто идентифицируется с личностью и понимается как индивид, персонификацией которого служил женский образ
[42]. Характерной чертой ближневосточной эллинистической философии является стремление к осуществлению практических целей. Не логика и физика, но этика выступает в ней на первый план. Не абстрактное созерцание, но практическое «воспитание человека в истинной нравственности и благочестии» становится главной ее целью
[43]. Греческой философии слова она противопоставляет «философию дела». В греко-римском мире, пожалуй, только киники, слывшие чудаками, настойчиво ратовали за «практическое» воспитание людей, но совсем в ином культурно-идеологическом плане.
Различно отношение в этих культурах и к таким понятиям, как
пространство, время, история. Уже неоднократно показывалось в научной литературе, что пространство играло для греков значительно большую роль, чем время, а у библейских народов - наоборот
[44]. Греки мыслили пространственными категориями
[45], а древние евреи - временными. «Для грека содержание мира в первую очередь пространственно, для израильтянина главным образом - временно»
[46]. Грек понимал бытие как существование в определенном месте космоса - некой неизменной пространственной структуры. Для ветхозаветного человека бытие - это участие в живом потоке событий, потоке времени
[47], который обозначается всеобъемлющим еврейским термином olam. «Олам» - это бесконечный поток времени, вмещающий все существующее
[48]. Бог открывался пророку в «оламе». В эллинистический период евреи переводили греческое слово κόσμος как olam. Но космос неизменен, его красоту можно созерцать, а «олам» динамичен, внутри него надо действовать; его содержание - история. История же - движение к цели, установленной Богом, и человеку необходимо в нем участвовать. Для древних греков история - часть природы, духовная жизнь аисторична
[49], поэтому грек так мало интересуется своим прошлым (оно для него сразу же становится мифом, теряет реальное значение). Он живет настоящим. История для него - вечное повторение, ибо время в греческой культуре циклично и его символом является круг
[50]. Напротив, для библейских народов время линеарно и необратимо
[51]. Отношение библейской традиции ко времени двойственно. С одной стороны. Бог открывается во времени, поэтому устремления древних евреев связаны с ожиданием лучшего будущего, а с другой - Бог все же находится вне времени, над ним; время - его творение и, следовательно, стоит вне ряда абсолютных ценностей.
В эллинистический период греческая мысль в лице стоицизма и эпикурейства отрицает загробную жизнь, а ближневосточный памятник Книга Еноха (II в. до н. э.) дает развернутое учение о грядущих после смерти наградах.
Различие основных мировоззренческих принципов библейской и эллинской культур отразилось и в эстетическом сознании.
Античная духовная культура вся пронизана искусством, на что указывал еще Винкельман. Греческая философия теснейшим образом связана с эстетикой и без последней, как убедительно показал А. Ф. Лосев
[52], не может быть понята. Греческая математика, философия, физика, астрономия, религия - «скульптурны и осязательны»;
[53] греческая поэзия «пластична»
[54].
Пластичность - основа греческого миропонимания. Греки - созерцатели, и пластика создана для созерцания, видения зрительно осязаемых форм. Поэтому зрение играло важнейшую роль в древнегреческой гносеологии. «Идея» и «эйдос» восходят в греческом языке к глаголу «видеть»
[55]. Отсюда любовь эллинов прежде всего к пластическим, статичным видам искусства - архитектуре и скульптуре, чьи произведения можно спокойно и длительно созерцать. Они неизменны, пространственны и не зависят, по крайней мере в течение человеческой жизни, от потока времени. Это равноправные члены космоса, хотя и неравноценные с его природными членами. Отсюда и онтологичность основных категорий греческой эстетики. Хорошая пластика прекрасна. Красота связана с покоящимся, неизменным. Структурными принципами красоты у греков выступали гармония, мера, соразмерность.
Библейская эстетика основывалась на иных принципах. Пластичность ей чужда и неприемлема. Динамизм, волитивность, психологизм, активность бытия-мышления в потоке жизненных событий обесценивают все статичное, неподвижное, пластическое, визуально воспринимаемое. Слушание играло более важную роль в библейской гносеологии, чем видение
[56]. «Олам» никак нельзя увидеть, но внутри него может звучать голос Бога. Отсюда главные виды искусств ветхозаветной культуры - музыка и поэзия. Пением и музыкой славил древний еврей Яхве. Греки сооружали своим богам храмы и статуи.
Красота и гармония мира во всем его многообразии значимы для ближневосточного человека лишь как отражение божественной мудрости. «Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих» (Пс 103, 24). Красота и благо у древних евреев, как и у греков, слабо различимы. Греческому το καλόν в этом плане соответствует ветхозаветная категория tob
[57]. Прекрасной (tob) считается вещь, если она соответствует своему назначению, т. е. функционализм является важной чертой ветхозаветной эстетики. С другой стороны, ближневосточные народы, в отличие от греков, видели прекрасное во всем том, что живет, движется, играет, но особенно в силе и власти. Ощущение красоты доставляли им свет, цвет, звук, голос, вкус и т. п. явления
[58].
Особое место занимает в древнееврейской эстетике категория «свет» (or). Для библейских народов он был идеалом красоты и практически играл в их культуре ту же роль, что красота - в античной. «Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце»,- восклицает автор Екклесиаста (Еккл 11, 7).
Свет солнца, огня, световые метафоры, светоносные цвета: белый и красный - важнейшие элементы ветхозаветной эстетики. Свет здесь - эстетически-гносеологическая категория, ибо, согласно Ветхому Завету, в образе света Бог является миру и может быть чувственно воспринят, т. е. познан. Одним из таких световых образов Бога выступает его светящаяся «слава» (kabod) (см. Ис 60, 1 - 2). В «несозданном свете» божественной «славы» невидимый и молчаливый библейский Бог «говорил» со своими пророками
[59]. В «славе», вид которой «был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий» (Исх 24, 17), Бог явился Моисею и беседовал с ним.
Свет играл важную роль и в античной эстетике и культуре, особенно у Платона и его последователей
[60]. Здесь у греков и народов Ближнего Востока много общего как между собой, так и с учениями других древних народов о свете, солнце, огне. Однако «у Платона, - замечает А. Ф. Лосев, - мы находим только зародыши и, может быть, только первые ростки этой мировой антично-средневековой философии света»
[61]. С еще большим основанием это можно сказать относительно удельного веса «света» в системе античных эстетических категорий. Здесь (за исключением неоплатонизма) он был мало заметен за такими собственно эстетическими понятиями, как
красота, гармония, мера, соразмерность и т. п. При этом античные представления о свете значительно материалистичнее
[62], чем ветхозаветные. У древних евреев свет (наряду со звуком) был важнейшим посредником между человеком и Богом. Отсюда и его первостепенная роль в их гносеологии и эстетике. Синтез ближневосточных и платоновских представлений о свете у Филона Александрийского, неоплатоников, Августина положил начало средневековой метафизике и эстетике света.
Наряду со светом ветхозаветные мудрецы придавали большое значение понятию «чистота» во всех формах. Чистота этически и эстетически прекрасна. Так, в музыке под «чистотой» понимается унисонная гомофония - звучание нескольких инструментов и голосов в один тон: «...и были, как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа» (2 Пар 5, 13). Чистота - одно из свойств эстетического объекта. В античной эстетике «катарсис» (очищение), как известно,- психологический процесс, результат воздействия произведения искусства на человека.
Греческая эстетика хорошо различала форму и содержание как в явлениях и предметах природы, так и в произведениях искусства, хотя относительно последних эллинистическая мысль уже не была единой. Если, к примеру, автор трактата «О возвышенном» и Плутарх в сочинении «Как юноше слушать поэтические произведения» не сомневались в наличии того и другого в произведениях искусства (в частности, в поэзии), то некоторые стоики полагали, что только произведение природы имеет и форму и содержание. Искусству же присущ лишь внешний облик, а «внутреннее его содержание неизваянно»
[63].
Форма в понимании древнего грека - это что-то вроде сосуда, из которого можно вынуть содержимое и внутри останется пустота. Форма имеет вполне конкретный контур, ясное очертание, которое в изображениях хорошо передается линией. Такое понимание формы опиралось на пространственный характер мышления древнего грека.
В Ветхом Завете не существовало ни понятия, ни термина, соответствующего греческой «форме»;
[64] форма здесь практически неотделима от содержания. Важно и значимо лишь само явление в целом, свойства этого явления или предмета, а не его пластическая реализация. В греческой культуре красота тела ценилась сама по себе и как выражение «идеи» красоты; для библейского человека внешний вид важен был только как
знак, или
символ, внутренних свойств предмета, явления. Этот эстетический принцип получил свое дальнейшее развитие и конкретную реализацию в решении художественного пространства в византийском искусстве
[65].
Пластическое миропонимание эллинов, их интерес к форме, к внешнему виду, к созерцанию его красоты в литературе воплотились в особый прием фиксирования пластической формы -
экфрасис. Начиная с Гомера греческая литература систематически дает описания внешнего вида предметов, человека, пейзажа, как бы лепит его перед внутренним взором читателя. Описание является основным структурообразующим приемом греческой литературы
[66]. Особое значение для эстетики имеют описания городов, архитектуры, произведений скульптуры и живописи, часто встречающиеся в греческой прозе и поэзии. Они положили начало европейскому искусствознанию.
Древнего еврея не интересовал статический внешний вид предмета, человека, сооружения, и в Ветхом Завете практически нет ни одного описания (в греческом смысле) внешнего вида. В описаниях различных построек, сооружений, одежд у авторов Библии выступал на первый план жизненный практицизм. При подходе к любому сооружению их прежде всего интересовал вопрос: как это сделано?
[67] В Ветхом Завете даются описания не собственно внешнего вида Ноева ковчега, скинии, «ковчега завета», храма и дворца Соломона, одежд священнослужителей, а изображается точная, говоря современным языком, технология изготовления этих предметов и сооружений. Внешний вид неподвижных предметов как бы расчленяется во времени, наполняется динамикой и движением в процессе их изготовления (см. Исх 36-39; 3 Цар 6-7 и др.).
Вот пример такого «экфрасиса»: «И сделал завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона, и искусною работою сделал на ней херувимов. И сделал для нее четыре столба из ситтим и обложил их золотом, с золотыми крючками, и вылил для них четыре серебряных подножия. И сделал завесу ко входу скинии из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона, узорчатой работы, и пять столбов для нее с крючками; и обложил верхи их и связи их золотом, и вылил пять медных подножий» (Исх 36, 35-38).
А вот фрагменты из «описания» храма Соломона: «И сделал он в доме окна решетчатые, глухие с откосами. И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и давира; и сделал боковые комнаты кругом. Нижний ярус пристройки шириною был в пять локтей, средний шириною в шесть локтей, а третий шириною в семь локтей; ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма.
Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни; ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам всходили в средний ярус, а от среднего в третий. И построил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками. И пристроил ко всему храму боковые комнаты вышиною в пять локтей; они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен... И обложил стены храма внутри кедровыми досками; ...На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов; все было покрыто кедром, камня не видно было. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня... И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи пред давиром, и обложил его золотом. Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который пред давиром, обложил золотом. И сделал в давире двух херувимов из масличного дерева, вышиною в десять локтей... И поставил он херувимов среди внутренней части храма... И обложил он херувимов золотом. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев и распускающихся цветов, внутри и вне» (3 Цар 6, 4-29).
Характерной чертой этих «экфрасисов» является зачин «И сделал...», показывающий динамику изображения. Здесь не дается описания самого предмета, как находящегося пред взором писателя, но образ его постепенно возникает (специально строится) в воображении читателя. Это специфическая черта библейского художественного мышления вообще. Живший в потоке времени древний еврей был лишен статических представлений. Архитектура, как и вся природа (горы, деревья, водоемы), представлялась ему также только живущей, движущейся. Эти представления он воплотил и в своей литературе. Основным изобразительным приемом ветхозаветных текстов является впечатление
[68]. Их авторы не описывают объективно явления, людей, предметы, природу, а передают свои субъективные впечатления о них. При этом впечатления эти, как правило, своеобразны и экспрессивны. Сложная метафорика лежит в основе ветхозаветного мышления, что хорошо почувствовал уже Филон Александрийский, а затем и христианские экзегеты, справедливо основывая на этом многозначность восприятия ветхозаветных текстов.
Экспрессивными поэтическими образами, не поддающимися визуально-пластическому воплощению, наполнена древнееврейская поэзия. Неожиданными и смелыми (с точки зрения классической поэтики) метафорами, сравнениями, гиперболами насыщены Псалмы Давида и Песнь Песней - эти классические образцы древнееврейской поэзии. Приведем здесь лишь несколько фрагментов описания возлюбленной из Песни Песней:
- Как прекрасна ты, милая, как ты прекрасна - твои очи - голубицы из-под фаты.
Твои волосы - как козье стадо, что сбегает с гор гилеадских,
Твои зубы - как постриженные овцы, возвращающиеся с купания,
Родила из них каждая двойню, и нет среди них бесплодной,
Как багряная нить твои губы, и прекрасен твой рот,
Как разлом граната твои щеки из-под фаты,
Как Давидова башня твоя шея, вознесенная ввысь,
Тысяча щитов навешано вокруг,- все щиты бойцов,
Две груди твои - как два олененка, как двойня газели,-
Они блуждают меж лилий. (4, 1-5)
- Как прекрасны твои ноги в сандалиях, знатная дева!
Изгиб твоих бедер, как обруч, что сделал искусник,
Твой пупок - это круглая чашка, полная шербета,
Твой живот - это ворох пшеницы с каемкою красных лилий,
Твои груди, как два олененка, двойня газели,
Шея - башня слоновой кости.
Твои очи - пруды в Хешбоне у ворот Бат-раббим,
Твой нос, как горная башня на дозоре против Арама,
Твоя голова - как гора Кармел, и пряди волос - как пурпур,
Царь полонен в подземельях. (7, 2-6)
- Как ты прекрасна, как приятна, любовь, дочь наслаждений!
Этот стан твой похож на пальму, и груди - на гроздья,
Я сказал: заберусь на пальму, возьмусь за фиников кисти, -
Да будут груди твои, как гроздья лозы, как яблоки - твое дыхание, и нёбо твое - как доброе вино!
- К милому поистине оно течет, У засыпающих тает на губах
[69]. (7, 7-10)
Еще одно значимое для эстетики различие этих культур усматривается в принципах организации художественного текста
[70]. Если греческая литература обладает «пластически замкнутой формой», требующей, как показал С. С. Аверинцев, выявления «личного авторства», то ветхозаветные тексты, функционирующие внутри общежизненной ситуации, построены на принципе «открытой формы». С этим связана «сущностная «анонимность» литературы ветхозаветного типа, присутствующая даже тогда, когда текст несет на себе имя его создателя (как сочинения пророков)»
[71].
Различие художественной стилистики античного (гомеровского) и библейского текста внимательно исследовал и описал Э. Ауэрбах, показав, что именно эти два стиля «оказали основополагающее воздействие на изображение действительности в европейских литературах»
[72]. Проводя сравнительный анализ одного из эпизодов «Одиссеи» с библейским описанием жертвоприношения Авраама, автор заключает: «Итак, трудно представить себе большую стилистическую противоположность, чем между этими двумя текстами, хотя оба они - древние и эпические. В одном законченный и наглядный облик ровным светом освещенных, определенных во времени и пространстве, без зияний и пробелов соединенных между собой явлений, существующих на переднем плане: мысли и чувства высказаны; события совершаются неторопливо, с расстановкой, без большого напряжения. В другом - из явлений выхватывается только то, что важно для конечных целей действия, все остальное скрыто во мраке; подчеркиваются только решающие кульминационные моменты действия, все находящееся между ними лишено существенности; время и пространство оставлены без определения и нуждаются в особом истолковании; мысли и чувства не высказаны, их лишь подсказывают нам молчание и отрывочные слова; целое пребывает в величайшем напряжении, не знающем послаблений, все в совокупности обращено к одной-единственной цели, все гораздо более едино и цельно, но остается загадочным и темным задним планом»
[73]. Люди, подчеркивает Ауэрбах, «в библейских рассказах «темнее», чем гомеровские герои; у них больше глубины во времени, в судьбах и в сознании»; их характеры многосложны и многослойны. Библейским писателям «удалось показать единовременно существующие слои сознания, накладывающиеся один на другой, и выразить разгорающийся между ними конфликт»
[74]. Библейский текст, в отличие от античного, тиранически претендует на истинность. «Писание заявляет, что его мир - единственно истинный, единственно призванный господствовать над всем сущим». Библейский рассказ «стремится не заставить нас на несколько часов позабыть о нашей собственной действительности - что происходит с нами при чтении Гомера, - а поработить нас: мы должны включить в мир сказания нашу действительность и нашу собственную жизнь, должны почувствовать себя кирпичиками всемирно-исторического здания, им возведенного»
[75].
Период эллинизма стал временем наиболее плодотворного взаимодействия ближневосточной и греческой культур. Особенно характерно это было для Александрии, чему немало способствовали жившие там эллинизированные иудеи
[76], создавшие огромную литературу самого различного содержания на греческом языке
[77], ибо в период позднего эллинизма «знание древнееврейского языка среди александрийских иудеев встречалось приблизительно так же редко, как в наши дни в христианском мире знание языков подлинников Священного Писания»
[78]. Большое культурно-историческое значение имел перевод Библии на греческий язык. По легенде, берущей начало в известном письме Аристея и подхваченной затем иудейскими и раннехристианскими писателями, Птолемей II Филадельф (285-243 гг. до н. э.) приказал перевести Пятикнижие на греческий язык для помещения его в Александрийскую библиотеку. По его просьбе первосвященник Елеазар прислал из Иерусалима 72 переводчика, по 6 человек из всех 12 колен иудеев. Переводчики были отправлены на остров Фарос, где работали в полной изоляции друг от друга в течение 72 дней. Предъявленные ими затем переводы оказались идентичными до единого слова, что убедило царя в божественной значимости этого текста. Он и назван был по округленному числу переводчиков (70) - Септуагинта. Научная библиистика давно расценивает сообщение Аристея как легенду, полагая, что Библия была переведена на греческий язык не по инициативе языческого царя, но для религиозных нужд египетских иудеев, не понимавших еврейского текста. И переводили ее, конечно, не палестинские иудеи, а евреи александрийской диаспоры, для которых греческий был языком повседневной жизни в течение долгого времени. Септуагинта - собрание различных переводов
[79]. Она ценилась в качестве Св. Писания у «иудеев рассеяния» до начала II в. Затем с усилением христианства, включившего Септуагинту в свой канон священных книг, евреи отказались от нее и дали своим грекоязычным верующим, по крайней мере, еще три греческие редакции Ветхого Завета
[80].
Синтезу ближневосточных и греко-римских культур содействовал также особый род литературы, созданной иудеями на греческом языке для пропаганды своей идеологии среди язычников,- это произведения, сознательно приписанные известным в греческом мире авторитетам, мифологическим или исторически существовавшим
[81]. Среди них особое значение по историческому воздействию на последующее развитие духовной культуры имели «пророческие» книги Сивилл, которые нередко цитировались ранними христианскими мыслителями.
Взаимодействие столь несхожих культурных традиций (Востока и Запада) породило в эллинистический период ряд новых форм эстетического сознания, нашедших позже отклик в христианской эстетике. Среди них можно указать хотя бы на следующие.
Прежде всего это идущий еще от пифагорейцев, всегда тяготевших к восточной мудрости, интерес к проблеме психологического воздействия искусства. Музыка и танец обладали, по их убеждению, «психагогической» (от ψυχαγωγία - руководство душой) силой, ибо основа этих искусств - ритмы являются «подобиями» (ομοιώματα) психики, «знаками», выражающими характер человека
[82]. В эллинистический, а позже и в христианский периоды эти идеи находят широкий отклик.
Стоики, положив в основу своего учения идеал нравственного совершенствования индивида, подчиняют эстетические ценности этическим.
В эстетике эллинизма и поздней античности основные классические категории подвергаются переосмыслению. Термин «красивый» часто употребляется Дионисием Галикарнасским (I в. до н. э.) в смысле «великий», «возвышенный», «торжественный»
[83]. Анонимный автор I в., «в равной мере почитавший Гомера и Моисея»
[84], вводит в эстетику новую категорию «возвышенное» (το ϋψος) и посвящает ей специальное сочинение
[85]. Мимесис античной эстетики часто вытесняется новой категорией - «воображение» (φαντασία), которое считалось Филостратом «более мудрой художницей, чем подражание» (Vit. Apol. VI, 19)
[86], а еще ранее Цицерон полагал, «что если бы искусство содержало только правду, то оно не было бы необходимым»
[87]. Римская эстетика стремится объединить прекрасное с утилитарным, практически-значимым; Плотин, напротив, переносит прекрасное в сферу чистого созерцания, освобождая его от традиционных свойств соразмерности, симметричности и т. п. «сложностей», понимая его как нечто абсолютно простое и единое. Художник же, по его мнению, должен стремиться не к воссозданию физически видимой красоты, но к выявлению ее «идеи»
[88].
На эти эстетические положения во многом и ориентировалось искусство поздней античности.
В период поздней античности взаимодействие восточных и западных культурных традиций породило целый ряд философско-религиозных течений, стремившихся к снятию и синтезированию многих противоположных принципов этих культур. Среди наиболее значимых в истории культуры следует указать на гностицизм и одну из его полуавтономных разновидностей - манихейство, а также на неоплатонизм и христианство.
Гностицизм, достигший своего расцвета в I-II вв., имел два главных направления: восточное (офиты, Василид, Маркион и Саторнил), опиравшееся на персидские дуалистические учения, и александрийское (Валентин, Карпократ), исходившее из платонизма и неопифагорейства. Кроме того, к гностической литературе относят Оракулы Сивилл, ряд герметических текстов, некоторые христианские апокрифы
[89].
Основой космической организации гностики считали всемогущее, непостигаемое, в себе замкнутое божество. Ему противостояла злая, инертная материя. Из божества истекали особые существа - эоны. У эона, наиболее удаленного от первопричины, ослабли божественные свойства и появилось желание погрузиться в материю. В результате этого погружения возник Демиург - творец материального мира. Отсюда созданный им мир состоит из смеси духовных и материальных начал. Вскоре отпавший эон и порожденные им человеческие души начинают тяготиться своей земной оболочкой и стремятся вырваться из нее. Но материя цепко держит их, им не хватает своих сил, чтобы подняться к божеству. Они вынуждены только уповать на божественное спасение. Божестве, естественно, как всеблагое, не может примириться с тем, что его частица страдает в плену злой и грубой материи. Для освобождения духовного начала от гнета темной материи на землю направляется один из высших эонов - Христос, Спаситель. Он принимает призрачный видимый облик человека, а по другим сказаниям - входит при крещении в земного человека Иисуса и таким образом попадает в человеческое общество. Главной его задачей является сообщение «истинного знания» (гносиса) лучшей части человечества о таинственных путях возвращения в божественное лоно. В результате должно восстановиться исходное равновесие и гармония божественной жизни, а грубая материя будет истреблена в ней же заключенным огнем. Человек представлялся гностикам микрокосмом, состоящим из духа, души и тела и отражающим трехчленную структуру макрокосма: бог, демиург, материя. Все люди делились гностиками на три группы: «пневматиков», в которых духовное начало преобладало; «психиков», у которых духовное и материальное уравновешивали друг друга, и «соматиков» (от σώμα - тело), которые полностью находились во власти материи. Все этические нормы гностиков относились к «психикам» для того, чтобы привести их на путь спасения. Пневматики и без этого должны были спастись, а соматики обрекались на неминуемую смерть.
Замысловатая мифология гностиков способствовала и развитию у них своеобразных эстетических представлений. Одно из их направлений отождествляло высшее божество с абсолютной красотой, полагая, что созерцание прекрасного равносильно познанию абсолюта. «Кто однажды воспринял прекрасное, - читаем мы в одном из гностических текстов, - уже не может созерцать ничего иного и ни о чем другом говорить; он не может двигать своим телом. Он утрачивает способность любого чувственного восприятия... Прекрасное купает разум человека в свете, высветляет его душу и устремляет ее в высоту» (Askl. 19). Другое направление (валентиниане) разрабатывало иную эстетическую проблематику. Опираясь на библейскую мысль о том, что человек был создан «по образу и подобию» Божию (Gen. 1, 26), они начинают разрабатывать теорию образа, занявшую видное место в эстетической мысли Средневековья. У гностиков образу соответствует материальная (соматическая) часть человека, а подобию - психическая (берущая начало от демиурга).
Другое, широко распространившееся в позднеантичном мире (охватившее всю цивилизованную ойкумену от Китая до Италии) философско-религиозное дуалистическое течение - манихейство, ревностным сторонником которого многие годы был молодой Августин, возникло в III в. в Сасанидском Иране. Основателем его был проповедник Мани (ок. 215-276), закончивший свою жизнь на кресте по требованию зороастрийского жречества, обвинившего его в ереси. Манихейство - это синкретическая религия, причудливо объединившая вавилонские, персидские, древнееврейские, гностические и раннехристианские представления
[90].
По манихейской космологии от века существуют две божественные субстанции со своими царствами: Свет и Мрак, Ормузд с многочисленными ангелами и Ариман - с демонами. Царство мрака (материальной природы и носитель зла) начинает борьбу с царством света, в результате которой происходит смешение некоторых световых частиц с материей, возникает видимый мир, создается человек, имеющий две души - световую и темную (злую). В царстве света принимается решение освободить свою плененную частицу. На землю спускается царствующий на солнце Христос, световая душа мира. Он принимает видимый (но иллюзорный) образ человека и проповедует о том, как следует постепенно освобождаться от материи и возвращаться в свое царство света. Христиане, по мнению манихеев, не поняли и извратили учение Христа, поэтому для восстановления истинной религии Сын вечного света послал людям Утешителя в образе Мани. Освобожденные из материальных темниц души перейдут сначала на луну и солнце, затем в эфир и царство чистейшего света. Не достигшие совершенства души будут странствовать по различным телам (в том числе животных и растений) до тех пор, пока весь материальный мир не сгорит в результате страшной огненной катастрофы.
В сфере эстетического манихеи выдвинули на первый план такую категорию, как свет, отождествляя его с красотой.
Этим причудливым мифам, как и активно развивающемуся христианству, античное мышление противопоставило философию неоплатонизма. Его основоположником и главным представителем был Плотин (III в.)
[91], получивший образование в Александрии, а в 243 - 244 гг. преподававший философию в Риме. Неоплатонизм подводил в какой-то мере итог развитию всей античной философии. Его представители стремились систематизировать древнюю философию на основе учений Платона, Аристотеля, стоиков, придав ей вид целостной, законченной, удовлетворяющей потребностям человека поздней античности мировоззренческой системы. В основе мира по учению неоплатоников лежит абстрактная умонепостигаемая первопричина - Единое, из которого последовательно и постоянно «истекают» космический Ум и мировая Душа. Последняя является виновницей возникновения материи и всего космоса.
Душа человека, как духовное начало, стремится к постижению изначальной триады, что, по мнению неоплатоников, недостижимо с помощью разума и формально-логического мышления. Только мистический экстаз, состояние внутреннего озарения позволяет душе приобщиться к высшей Истине - к Единому. Особенно активно проблемами культа, мистического восхождения, астрологии занималась сирийская школа неоплатонизма во главе с Ямвлихом
[92].
Неоплатонизм, опираясь на пифагорейские традиции, связал искусство с гносеологией, хорошо ощущая механизм внесознательного воздействия искусства на человека. Плотин был убежден в том, что искусство может и должно уловить сущность мировой Души, ибо высшая мудрость выражается не в логических конструкциях философа, но только в образах. В связи с этим, видимо, и трактаты самого Плотина наполнены причудливыми образами. В процессе восприятия (созерцания) произведения искусства, полагал Плотин, в акте «умного видения» (слияния объекта и субъекта видения) можно достигнуть познания сущности вещей, мировой Души.
Красота также понималась неоплатониками не с онтологической, но скорее с гносеологической точки зрения. Соответственно не гармония, мера и симметрия определяли у них красоту произведения искусства, а степень выявленности в нем идеи, «формы», замысла художника. Мировая Душа выявлялась в «симпатии» вещей, привлекающих своей красотой человека, что и способствовало, по мнению неоплатоников, реализации эстетически-мистического пути восхождения к Единому.
Таким образом, в период поздней античности общий кризис классической культуры направлял основные мыслительные потоки в русло идеализма. Материалистические представления утратили свою значимость, обесценилась роль разума в познании. Гносеология ориентируется теперь на эмоционально-мистическую сферу, внесознательные процессы человеческой психики начинают интересовать философию значительно больше, чем формально-логическое мышление. Главные мыслительные направления времени устремили всю свою энергию из внешнего мира внутрь человека. Происходит открытие самых потаенных глубин духовного мира человека, и культура бросает все силы на их завоевание. Философия во многом смыкается, с одной стороны, с религией, а с другой - с художественным мышлением. Значительно возрастает роль в культуре эмоционально-образного мышления, в связи с чем активизируется эстетическая теория, как правило - не сама по себе, но внутри гносеологии. Таким образом, если для истории философии период поздней античности представляется, может быть, малоплодотворным, то для истории эстетики он содержит интересный и богатый материал, который еще ждет своего исследователя.
Однако ни неоплатонизм (в целом продолжавший античные традиции), ни манихейство (возникшее на прочной восточной основе), ни даже гностицизм (вдохновлявшийся как восточным, так и греческим духом) не стали магистральным направлением примирения, объединения и синтезирования восточных и западных традиций, хотя во многом способствовали этому. Волею истории эта миссия выпала на долю христианства, осуществившего ее наиболее последовательно уже в следующий исторический период - в Средние века. Однако многие основные тенденции новой культуры и эстетики зародились еще в период поздней античности у ранних христиан и у «отца христианства» (по выражению Ф. Энгельса) александрийского мыслителя Филона (ок. 20 до н.э. - ок. 40 н.э.), предвосхитившего во многом не только христианство, но и неоплатонизм, и поздний гностицизм
[93].
2. Попытка эллинистического синтеза
«Филон... - отмечал один из исследователей его творчества,- представляет из себя в высшей степени сложное литературное явление, в котором перекрещивается чрезвычайно много умственных течений»
[94]. Типичный представитель эллинизма, живший в одном из главных центров эллинистической культуры на рубеже двух грандиозных эпох, он остро ощущал культурную ситуацию своего времени и его духовные потребности
[95]. Верующий иудей, родным языком которого был греческий, получивший великолепное классическое образование, знаток и поклонник античной литературы и философии, мыслитель, знавший учения египетских мудрецов и тексты Авесты
[96], он был выдающимся эклектиком своего времени. Логика развития духовной культуры эллинизма породила осознанное стремление к синтезу двух культурных потоков - ближневосточного и греческого, и одной из главных ступеней на этом пути явилась эклектическая система Филона Александрийского. Его эклектизм находился на грани перехода в новое качество, но этот переход не мог осуществиться на уровне спекулятивного мышления. Новая духовная культура начала формироваться в другом месте, в других слоях населения и, прежде всего, на уровне религиозного сознания. Спекулятивная система Филона оказалась во многом родственной уже следующему этапу новой культуры - начальному этапу ее самосознания, попыткам ее понятийного самоосмысления и, прежде всего, самооправдания перед уходящими, но все еще живыми культурами древности. Здесь Филон во многом предвосхитил христианских мыслителей. Не случайно современный историк философии Г. А. Вольфсон использует философию Филона в качестве «координатной системы» при анализе философских концепций Отцов Церкви
[97].
Все сказанное относится и к эстетическим воззрениям Филона. Для истории эстетики важным является не скрупулезный анализ того, что и у кого заимствовал Филон, хотя и это следует знать, но, прежде всего, общая картина его эстетических взглядов, ибо они через александрийских христиан оказали сильное влияние на раннехристианскую, а затем и византийскую эстетику. Кроме того, воздействие филоновских идей сильно ощущается в эстетике неоплатонизма, эстетических взглядах Талмуда и в мусульманской культуре.
В античной эстетике, начиная со времен Аристотеля, наметилась тенденция к появлению специальных эстетических дисциплин - таких, как поэтика, филология, риторика, музыка, даже нечто близкое к описательному искусствознанию, - тенденция, развитая впоследствии западноевропейской наукой. Филон, а за ним и вся средневековая эстетика (особенно последовательно - восточнохристианская), уходит от этой тенденции, возвращаясь на позиции недифференцированного знания. Продолжая традиции ветхозаветной культуры, он воспринимал искусство как органический элемент общежизненной ситуации. Его эстетика функционировала внутри его мировоззренческой системы и практически не имела значимости вне этой системы.
Филоновская теория познания насыщена противоречиями, порожденными попыткой соотнести на понятийном уровне рационализм античной философии и иррационализм древнееврейской религии. Нас она интересует здесь лишь в связи с его эстетикой
[98].
Филон заостряет до предела наметившуюся в Ветхом Завете и ранней талмудической литературе идею трансцендентности Божества. Первопричина всего выступает у него как бескачественное, «лишенное всякого определенного признака бытие» (Quod Deus sit. im. 55)
[99], как некая абсолютная замкнутая в себе («страна себя самого» - De somn. Ι, 63) сущность, противостоящая во всем миру. Только Божеству принадлежит истинное бытие (τό είναι), предметы же материального мира причастны лишь «быванию» (τό γίνεσθαι - Quod det. pot. insid. sol. 160 - 161). Поэтому и единственным именем его (ибо имя, по мнению Филона, выражает сущность предмета) является «сущее» (τό όν, ό ών). Сущее же, как в-себе-сущее, «ни к чему не имеет никакого отношения»
[100]. С другой стороны, у Филона намечается идея имманентности Бога миру. Наряду с античным философским пониманием Первопричины как «абстрактной всеобщности» Филон усвоил и библейскую идею Бога, как личности, с которой возможно
интимное общение
[101], конечно, не в сфере формальной логики. Здесь он абсолютно трансцендентен. Все зная и объемля, он сам остается необъемлемым (De fuga 75) и непознаваемым.
В основном вопросе своей гносеологии - о познаваемости Первопричины - Филон пытается найти компромисс между эллинским философским стремлением к знанию и ветхозаветным агностицизмом дискурсивного уровня. Первопричина - трансцендентна. Стремиться к познанию ее сущности - «Огигиева глупость». Даже самому Моисею в этом было отказано (De post. Caini 168 - 169). Ни чувством, ни разумом человек не может постигнуть сущности «поистине сущего» (De mutat. nom. 7).
Между тем вся литературная «продукция» Филона, по сути, не что иное, как несистематизированная наука о познании. Его исследовательская мысль направлена на понятийную фиксацию «умонепостигаемых истин божественного откровения», скрытых в тексте Писания. Смысл человеческой жизни заключается, по его мнению, в стремлении к познанию Первопричины. «Познание и знание Бога - высшая цель [жизненного] пути» (Quod Deus sit. im. 143) человека. Удаление мысли от познания Бога влечет за собой наказание и «вечную смерть» (De post. Caini 1 - 8).
Чтобы как-то выйти из этой противоречивой ситуации, Филон вводит множество
посредников между трансцендентным Божеством и миром, используя идеи греческой философии и древнееврейской теологии. Это силы, идеи, херувимы, логос. Все они, за исключением логоса, слабо дифференцированы и имеют общее назначение. Они являются архетипами, прообразами материального мира
[102], и с другой стороны - творческими, формирующими мир принципами, активно действующими в мире и выполняющими к тому же карательную функцию
[103]. Следует подчеркнуть онтологическую неопределенность посредников в филоновской системе, идущую от принципиального «эстетизма» этой системы. Как справедливо подчеркивает К. Борман, у Филона нет четкого различия «между понятийно отделенными от Бога силами и реально отличными от него»
[104]. Силы и идеи суть наделенные самостоятельным бытием свойства Бога, часто совершенно неотделимые от него. Толкуя ветхозаветные метафоры, Филон сам постоянно использует метафорическое мышление.
Мир невидимых идей, сил, энергий объединен у Филона в Логосе - личностном посреднике между Богом и миром, творческом Разуме и Слове Божием, являющемся одновременно образом Бога, прообразом мира и органом его творения
[105]. Определяя Логос в антиномических терминах, Филон стремится снять онтологическое противоречие между трансцендентностью и имманентностью Божества - решить задачу, остро стоявшую в этот период в духовной культуре эллинизма. Филоновский Логос выполняет и важную гносеологическую функцию в качестве органа «божественного откровения». Вне Логоса неосуществимо познание трансцендентной Первопричины, но Логос открывается человеку только в результате длительного пути познания. Первой ступенью на этом пути является познание мира. Это период ученичества, состоящий из трех этапов. На первом «любитель знаний» наблюдает явления природного мира, небесные светила, звезды, ибо «духовный мир постигается посредством познания чувственного мира; последний - ворота к первому» (De somn. I, 188). На втором этапе он изучает подготовительные, пропедевтические науки общеобразовательного цикла, такие как грамматика, геометрия, астрономия, риторика, музыка и логика (De congr. erud. 11). На третьем, высшем, этапе Филон, продолжая традиции античной духовной культуры, предлагает изучать истинную философию. Пропедевтические науки, как «искусства среднего типа» (μέσαι τέχναι - 140), несут далеко не полное и не точное знание. Они лишь подготовительный этап - «служанка философии» (79). Философия - госпожа всех наук. Она изучает не отдельные частности, а мир в целом, разъясняя достижения отдельных наук, ибо их основные положения коренятся в философии. То, что другие науки должны принимать на веру, философия подвергает подробному анализу (142 - 150). Но и сама философия состоит рабыней при мудрости (79), «ибо философия является стремлением к премудрости; премудрость же содержит знание божественных и человеческих [предметов] и их причин» (79). Поэтому стремление к истинному знанию (επιστήμη), к премудрости составляет основу гносеологической системы Филона. При этом премудрость у него часто сливается с Логосом (Leg. alleg. Ι, 65), хотя, с другой стороны, Логос является «источником премудрости» (De fuga 97), и, следовательно, премудрость, открывающаяся философу, и есть «откровение» Логоса - высшая информация об истине. К области философии Филон относит и толкование Писания, на чем мы остановимся ниже.
После изучения внешнего мира человеку необходимо обратить свой взор внутрь себя, ибо «познание себя ведет к познанию сущего» (De somn. I, 60). Это вторая ступень гносеологии Филона. Обращение к самопознанию, анализу своего внутреннего мира найдет в дальнейшем широкое распространение в теории познания неоплатоников и в «мистическом гносисе» христиан. Но и этот этап еще не дает высшего знания. Оно возможно лишь на третьей ступени, когда сам Бог придет на помощь человеку, открывая доступные ему знания о себе (De Abrah. 68-88).
Для истории философии и эстетики наиболее интересными и значимыми представляются первые две ступени филоновской гносеологии.
Здесь, помимо традиционной для античности похвалы философии и определения ее места и роли в цикле других наук, Филон, опираясь во многом на стоиков, разрабатывает психологический механизм чувственного и интеллектуального восприятия, что уже имеет определенное отношение к эстетике.
Пропедевтические науки, к числу которых Филон относит и некоторые виды искусства, основываются на чувственном восприятии (αϊσ-θησις), дающем лишь неясные знания о мире. Философия же руководствуется разумом (νούς) и является более высокой ступенью познания (De congr. erud. 143). Разум (ум) ценится Филоном значительно выше, чем чувственное восприятие, однако Филон хорошо ощущает их глубокую взаимосвязь, хотя и не всегда может ее до конца объяснить. Поэтому часто он просто заостряет противоречия, не пытаясь снять их на понятийном уровне. Своеобразная форма изложения, на которой мы еще остановимся, позволяет ему это делать, не порывая с античной традицией.
Путем аллегорического толкования истории Адама и Евы Филон показывает взаимосвязь разума и чувства (De cherub. 54 - 65). Чувство потенциально содержится в разуме. Без чувства разум пассивен, он как бы спит и ничего не видит. Чувство вычленяется из разума, как Ева из ребра Адама. Вступив в связь с чувством, разум начинает познавать мир явлений. Сами чувства без поддержки разума также не в состоянии что-либо познать. Они - лишь глаза разума, и он постоянно поддерживает их деятельность и руководит ими (De post. Caini 127). Без такого руководства разум сам может подпасть под влияние чувств. Излишняя увлеченность чувством породила в результате первой связи разума с ним неразумие (De cherub. 65), хотя обычно чувства способствуют правильному восприятию внешнего мира и только удовольствие (ηδονή) искажает это восприятие (Leg. alleg. III, 61 - 64). Однако удовольствие не является отрицательным фактором в системе Филона. Стремление постигнуть логику взаимосвязи чувственного и интеллектуального познания заставляет его диалектически подойти к этой важнейшей в его мировоззрении категории. С ее помощью Филон стремится объяснить противоречивость духовной жизни, что приводит его к попытке ввести в свою теорию познания непонятийные элементы, т. е. апеллировать к иррациональной сфере. Это приводит к психологизации, и в частности эстетизации (введением категории ηδονή) гносеологии.
Гедоне - необходимое звено в структуре познания, ибо оно способствует соединению противоположностей - разума и чувства. Без него, как без змея в истории Адама и Евы, разум не может вступить в контакт с чувством (II, 71). С точки зрения психологии восприятия, познание невозможно без гедоне, и как философ Филон ясно сознает это. Но с точки зрения морально-этической, гедоне - отрицательный фактор, и, если дать ему волю, оно превращается во зло. Гедоне как чувственное наслаждение стремится очаровать человека, парализовать разум, дать ему фальшивые образы вещей. «Ничто не влечет так душу к смерти, как безмерность наслаждений» (II, 77). С гедоне Филон связывает и искусство. Различные виды искусства (живопись, скульптура, музыка) созданы для возбуждения «многообразных наслаждений» (II, 75). Отсюда основным назначением искусства является услаждение чувств - зрения, слуха, осязания, в соответствии с видом искусства. Более того, Филон и абсолютную красоту, присущую только Божеству, связывает с наслаждением. «Процесс отыскания красоты, даже если он не увенчается успехом, сам по себе доставляет наслаждение» (προευφραίνειν εστίν - De post. Caini 21), т. е. важен не только конечный результат этого отыскания, но и сам процесс его. Здесь древнееврейский утилитаризм уступает у Филона место греческому эстетизму. Филон, хотя и не очень четко, различает наслаждение, связанное с восприятием красивых форм и произведений искусства, и наслаждение, доставляемое стремлением к абсолютной красоте. Первый тип гедоне - чисто чувственное наслаждение, второй - наслаждение более высокого уровня. Не случайно во втором случае он использует не глагол ήδομαι, а προευφραίνω, имеющий общий корень с φρόνησις (умственная деятельность). На двойственность иного характера категории гедоне у Филона указывал в свое время и немецкий филолог К. Зигфрид. По его мнению, Филон отличает гедоне как чувственное наслаждение от гедоне как потребности в чувственном наслаждении. При этом первое находится во чреве, а второе живет в груди человека
[106].
Таким образом, гедоне занимает в системе Филона важное место, хотя его вряд ли можно зачислить в приверженцы гедонизма. Скорее наоборот, он проповедует закон Моисея, окрашивая его в тона стоической нравственности. К гедоне Филон относится очень подозрительно, а часто и отрицательно. С явным одобрением описывая в трактате «О созерцательной жизни»
[107] обычаи и строгие нравственные правила общины терапевтов, Филон говорит о наслаждении как болезни души, от которой исцеляют терапевты (De vit. cont. 2). Они «презирают телесные наслаждения» и «изо всех сил отвращаются от чувственных удовольствий» (68; 69).
Что же заставляет Филона так тщательно исследовать эту категорию? Дело в том, что в эстетической по сути своей концепции наслаждения Филон усматривает выход из формально-логического агностицизма своей гносеологии. Коль скоро в познании Божества цель и смысл всей человеческой деятельности, а Божество трансцендентно, т. е. непознаваемо, и даже многочисленные посредники не могут до конца удовлетворить ищущее сознание, то Филон приходит к выводу, что сам процесс познания Бога доставляет наслаждение (De spec. leg. I, 39-40). Может быть, этого и достаточно для человека, стремящегося к познанию абсолюта? Метод и практика философствования самого Филона (на чем мы еще остановимся) убеждают нас в том, что для себя он ответил на этот вопрос утвердительно. Ясно, что эта концепция гедоне могла возникнуть только на основе таких противостоящих культур, как эллино-античная и ближневосточная. С другой стороны, гедоне как важному гносеологическому принципу и гедоне как нравственному злу - этой антиномии, слабо еще нащупанной Филоном, но уже объединившей его этику, эстетику и науку о познании, суждена была длительная жизнь в истории европейской духовной культуры.
Интерес эллинистической эстетики к категории
фантасия нашел отражение и в работах Филона. Фантасия связана у него с процессом чувственного восприятия, является практически его результатом и может быть понята как
представление. При этом Филон убежден, что одно чувство дает лишь «неясные представления» (φαντασία άκματάλ-ηπτος)
[108] об объекте и только чувственно-интеллектуальное (чувство + разум) восприятие формирует в психике адекватный образ воспринимаемой действительности (φαντασία καταληπτική). Таким образом, фантасия, в соответствии со стоической традицией, понимается Филоном не как воображение, а как психический образ воспринимаемого мира.
Из чувственных органов Филон, продолжая античную традицию, отдает предпочтение зрению (όρασις). В трактате «О жизни Авраама» аллегорическое толкование гибели Содома и Гоморры (147 - 166) позволяет ему изложить свое отношение к зрению. Зрение - это основной орган души, поэтому все душевные движения, стремления и заблуждения находят отражение в глазах, как в зеркале. Зрение - наиболее одухотворенное из чувств. С его помощью душа может видеть не только физический свет, но и духовный, т. е. это важнейший орган познания как чувственных, так и духовных предметов. Не случайно высшей наградой для аскета считается, по мнению Филона, видение Бога (De praem. et poen. 36), являющееся и его ведением - знанием одновременно. Доставляя человеку большую часть сведений о мире, зрение побуждает его к философствованию, так что «мудрость и философия берут свое начало не от чего иного в нас, как от главенствующего из чувств - зрения» (De Abrah. 164)
[109]. Даже в познании истинно сущего главную роль играет зрение, а не слух, как бы полемизируя с ветхозаветной традицией, заявляет Филон (De post. Caini 167 - 168), опираясь на фразу из Второзакония: «Видите, видите, что это я и нет Бога, кроме меня» (Deut. 32, 39).
Божество прекрасно, а прекрасное можно прежде всего созерцать, и это приводит Филона даже к убеждению в возможности зрительного восприятия голоса Бога, давшего Моисею заповеди (De decal. 47- 48). Подтверждение этого он видит в ветхозаветном выражении: «И весь народ видел (έώρα) звук (τήν φωνήν) и свет и звук трубный...» (Exod. 20. 18). Конечно же, развивает свою мысль Филон, божественный голос воспринимается не слухом, а зрением души. В отличие от него «чувственное зрение» видит все за исключением звука.
Глаза души, глаза разума, духовное видение - эти наполовину образные выражения, наполовину рабочие понятия психологии Филона выступают позитивными элементами в его мировоззренческой системе. К чувственному же зрению, как и к гедоне, у него двойственное отношение. Конечно, зрение - главный орган восприятия материального мира, побудивший разум к философствованию. Но ведь внешний мир - это ничто, тень и пустое сновидение (De gigant. 177). Так ли уж важно его знание? Кроме того, зрение несет много ложных сведений и часто возбуждает в человеке гедоне. И все же Филон много внимания уделяет физическому зрению. Опираясь на теорию Аристотеля и других античных авторов, Филон излагает свои взгляды на процесс зрительного восприятия. Для истории эстетики они интересны тем, что к ним, так или иначе их трансформируя, будут обращаться и неоплатоники, и многие христианские мыслители. Последние свяжут проблему зрительного восприятия с теорией образа и изображения.
«Физиология» зрительного восприятия Филона была еще в конце прошлого века подробно исследована М. Фрейденталем в его не утратившей до сих пор научной ценности работе, посвященной теории познания Филона
[110]. Суть ее сводится к следующему.
Органом зрения является глазное яблоко. Предметы реального мира, и в частности цвета, существуют объективно. Необходимым элементом процесса зрительного восприятия является свет. Без него невозможен контакт между предметом и глазом. Темнота прячет все под своим покровом. Свет, падая на предметы (цвета), выявляет их. Лучи от внешнего источника света (солнца или огня), смешанные с воздухом, объединяются с внутренним светом глаз. Источником этого света является душа. Встреча двух противоположно направленных световых потоков в глазном яблоке создает необходимые условия для зрительного восприятия.
Интерес к зрению, видению, созерцанию как в античной эстетике, так и у Филона тесно связан с понятиями
красоты и
прекрасного. Эти категории занимают видное место в его системе. Продолжая традиции своих античных предшественников, Филон не дифференцирует их и практически не отделяет от понятия
блага. Прекрасное играет у него важную роль одновременно в учении о познании, этике и эстетике, объединяя их в единой системе его миропонимания. Прекрасное (красота - το καλόν), как уже указывалось, важнейшее свойство Первопричины, в идеале доступное духовному созерцанию. Стремление к нему, даже не достигающее цели, доставляет человеку наслаждение. Необходимо постоянно размышлять о прекрасном, с тем чтобы оно утверждалось в душе и вытесняло оттуда пороки (Leg. alleg. III, 16). Существуют определенные «границы прекрасного» (όροι τού καλού - De post. Caini 88), установленные здравым смыслом и божественными ангелами. Пороки нарушают эти границы, в результате чего прекрасное заменяется «чувственным и бездушным» (99). Терапевты видят во сне, по мнению Филона, «красоту божественных добродетелей» (De vit. cont. 26). Прекрасное выступает здесь особым духовно-добродетельным состоянием души, а в целом оно понимается Филоном как высшая ступень блага
[111], которая не может быть ничем заменена. Как видим, у Филона заметна тенденция к дифференциации
прекрасного и
благого, но пока больше в этической плоскости, а не в эстетической. «Границы прекрасного» - это прежде всего границы нравственного порядка, и установлены они в душе человека. Не внешний вид человека, а его моральный облик меняется при нарушении этих границ. Поэтому Бог у Филона не прекраснее, но «лучше» (κρείττων), чем красота (De opif. mundi 8).
Однако этико-психологическое понимание прекрасного вряд ли могло бы существовать у Филона вне его онтологически-гносеологических представлений о прекрасном. Широко используя в своей системе платоновскую концепцию идей, согласно которым был создан видимый мир, Филон отказывается или по крайней мере не настаивает на платоновском принижении красоты материального мира или произведений искусства. Ветхозаветная идея творения и принцип целесообразности всего существующего, а также глубоко символический подход к миру самого Филона заставляют его признать в красоте мира лишь «прекрасное подражание» (μίμημα καλόν), созданное на основе «прекрасного образца» (καλόν παράδειγμα - 16). Видимый мир создан по образу прекрасного «мира идей», является его символом; в нем и через него постигается этот мир (духовное через чувственное), и у Филона нет оснований отказывать ему в определении прекрасный.
Здесь следует указать на различное отношение Филона к материи и к материальному миру. Опираясь на учение стоиков, Филон полагает, что косная, бесформенная материя существовала вечно
[112], являя собой антитезу Богу как разумному и духовному началу. Бог сформировал мир из материи, придав ей форму. К предвечной материи Филон относится отрицательно, а к материальному миру - двойственно. Поскольку он создан из материи - он чужд Богу, пассивен и ничтожен; но поскольку он сформирован, одушевлен и пронизан божественным Логосом - он совершенен и прекрасен. Это двойственное отношение к миру - не случайное противоречие во взглядах Филона, а принципиальный антиномизм мышления, который он в ряде основных положений заостряет до предела и не пытается снять его на понятийном уровне.
Одухотворенный Логосом мир понимается Филоном как живое разумное существо, как совершеннейший в отношении добродетели сын Божий (Quaest. in Gen. IV, 188), стоящий выше человека. Он служит посредником между Богом и человеком.
Однако если в понимании прекрасного Филоном мы еще не можем констатировать резкого отхода от платоновской концепции, то в отношении к искусству его расхождение с Платоном очевидно. Платон считал красоту в искусстве незначительной и малоценной, «подражанием подражанию». Филон же в трактате «О провидении» утверждает, что красота человека «стоит гораздо ниже красоты художественных произведений»
[113]. По его мнению, человек, постигнувший красоту природы и искусства, конечно же не будет восхищаться быстротечной красотой человеческого тела. «И почему тот,- вопрошает Филон,- кто наилучшим образом [все] понимает, будет волноваться из-за красоты тела, которую гасит быстрое время, заставляя ее, вообще обманчивую (особенно обманывающую глаза людей), убывать и слабеть, прежде чем она расцветет на некоторое время? И особенно после того, как он видел это [красоту. -
В. Б.] в неодушевленных предметах и травах, в прекрасных творениях живописцев и скульпторов, а также в живых картинах (vivis picturis) и образах других мастеров...» (De provid. Π, 21). Грек, даже времен эллинизма, вряд ли отважился бы на такое утверждение. Красота человека, лежащая в основе не только эстетики, но и всего миропонимания античности, красота человеческого тела как идеал античного искусства - эта красота обесценивается, ставится ниже изделий художника. Искусство, таким образом, поднимается на более высокую ступень, чем просто ремесло, и намечается принципиально новая эстетическая тенденция. Она одинаково чужда как античной, так и ветхозаветной эстетике, хотя к последней стоит ближе. Древние евреи не знали и не ценили красоту в искусстве, но они также мало ценили и красоту человеческого тела. Субординация, вводимая Филоном, не затрагивала интересов этой эстетики, но подрывала основы эстетических идей платонизма.
Эстетизм филоновского мышления, последовательный, хотя, видимо, не всегда осознаваемый, приводит его к смелому для религиозного мыслителя сравнению. Искусство, по его мнению, для художника является тем же, чем Бог для мудрецов - высшим пределом всех устремлений - «олимпийским подвигом» (De plant. 71).
Красота материального мира и прекрасное в искусстве ценились Филоном выше красоты человека в связи с его резко отрицательным отношением к человеческому телу (продолжение этических традиций киников и стоиков). В теле Филон видел причину всех несчастий человека. Чувственные вожделения тела омрачают душу и разум и препятствуют познанию Бога. Тело - это «грязная темница», в которой заключена душа (De migr. Abrah. 9), могила души. При этом красота человека преходяща (De provid. II, 21), а прекрасное - постоянно. Мудрец радуется «постоянству прекрасного» (De plant. 170).
Отделяя «искусство» (τέχνη) от «ремесла», Филон понимает искусство все же очень широко. Он применяет термин «искусство» ко всякой предметной или духовной деятельности, ведущей к познанию или выявлению (а следовательно, тоже познанию) красоты, прекрасного. Рассуждая, например, о безграничности знаний, о бесконечности процесса познания (ибо чем больше человек познает, тем яснее понимает, что этот процесс безмерен), Филон считает возможным назидательно закончить свое рассуждение древним изречением: «жизнь коротка, искусство вечно» (De somn. I, 10).
Относительно собственно искусства, в частности изобразительного, Филон не питает особых иллюзий и подходит к нему с реалистических позиций. Он не отрицает его, но и не видит в нем никакой святости. Активно выступая против идолопоклонства как темного невежества, он заявляет, что художник, конечно, выше и достойнее творения рук своих. Идолопоклонники же украшают статуи золотом и драгоценными камнями, а их творцов обрекают на безвестность и нищету. И уж полным безумием является почитание в качестве священных изображений, сделанных своими собственными руками (De decal. 66-67). Скульптура и живопись привлекают людей красотой внешних форм, а поэзия - ритмом и гармонией стихов (De spec. leg. I, 28 - 29), поэтому нет никаких оснований почитать их за нечто божественное. Эти идеи в дальнейшем почти дословно будут повторять и ранние христианские апологеты.
Привыкший под всякой вещью, фразой, всяким словом и даже буквой искать скрытый смысл высших истин, Филон с тех же позиций подходит и к красоте в искусстве. Он призывает не увлекаться красотой формы, а видеть за ней красоту содержания, ибо «введенный в заблуждение красотой слов и предложений» человек может отказаться «от истинной красоты, содержащейся в данных произведениях» (De migr. Abrah. 20). Здесь Филон опять выступает активным продолжателем лучших традиций античности. Не случайно его мысли перекликаются с идеями не менее известного в эстетике современника Филона - автора трактата «О возвышенном», утверждавшего, что в искусстве различные формальные приемы типа риторических фигур, особой композиции, тропов, метафор, специального подбора слов и т. п. служат лучшему выражению содержания. Сближает этих авторов еще и то, что оба они, хорошо чувствуя духовные потребности времени, часто говорят практически об одном и том же, используя различные термины: Филон - традиционное прекрасное (το καλόν), а Псевдо-Лонгин - новую категорию возвышенное (τό ϋψος).
Итак, красота (прекрасное) занимает в системе Филона одно из видных мест, хотя он ясно сознает, «что все чрезмерно прекрасное [вообще] редко (τα λίαν καλά σπάνια)» (Quod omn. prob. lib. sit. 63), поэтому-то «ничто прекрасное не должно замалчиваться» (De vit. cont. 1). Категория эта имеет у него много значений и оттенков, что позволяет использовать ее в различных областях духовной культуры как некий связующий элемент. В этике прекрасное противостоит пороку, служит для обуздания страстей и телесных вожделений (De post. Caini 182). В гносеологии красота - предел стремлений субъекта познания, но также и стимул влечения к науке, истине и одновременно символ науки и истины (не только конечной, но и промежуточных истин - пропедевтических наук)
[114]. Наконец, в эстетике прекрасное - главная характеристика Первопричины, божественных идей, Логоса, видимого мира. Красота - оценочный показатель образов (είκών - Quis rer. div. her. sit. 231), произведений искусства. Повсюду «возникновение прекрасного несет смерть безобразному», как воссияние света уничтожает тьму (Quod Deus sit im. 123).
При этом на каждом из уровней прекрасное у Филона имеет свою антитезу, что свидетельствует о ясном понимании им различных значений этой категории и о сознательном стремлении к использованию ее в качестве объединяющего элемента своей несистематизированной системы. На гносеологическом уровне прекрасному противостоит незнание, неразумие, на этическом - порок, на эстетическом - безобразное (αίσχρός).
Не меньшую роль, чем прекрасное, играет в эстетике Филона категория свет (φως), берущая свое начало в восточных культурах. Филон хорошо осведомлен о роли света в философско-религиозных и эстетических воззрениях Ближнего и Среднего Востока и активно вводит его в свою систему наряду с понятием прекрасного. Как указывалось, свет - важнейшая категория ветхозаветной эстетики, но он играл незначительную роль в классической эстетике древних греков.
Оппозиция
свет - тьма имеет у Филона тройную семантическую нагрузку. На гносеологическом уровне она тождественна оппозиции
знание - незнание[115], на этическом, восходящем к древнеперсидским культам,-
добро - зло, и на эстетическом, развитом самим Филоном на основе ветхозаветной эстетики,-
прекрасное -
безобразное. Практически именно с Филона берет начало широко известная «световая эстетика» Средних веков.
По степени материализации Филон различает несколько световых уровней. Каждый из них имеет свой носитель света: Божество, Логос, душа человека, солнце и звезды и, наконец, тьма
[116]. Определенный свет соответствует каждой из ступеней - от сверхчувственного божественного через духовный, разумный и естественный, воспринимаемый зрением свет до его полного отсутствия - тьмы. Каждый вид света играет роль посредника на одной из ступеней познавательного процесса
[117]. Естественный свет, как было уже показано, является посредником чувственного зрения. Однако зрительное восприятие возможно только при контакте этого света с более духовным, «изливаемым душой» (ab anima irrigatur) человека, «ибо душа в высшей степени светоподобна» (Quest. in Exod. II, 80). Логос тоже является носителем духовного, ноэтического света, который способствует познавательной деятельности на уровне разума (νούς или διάνοια), т.е. на высшей ступени мыслительной деятельности. И, наконец, божественный, не воспринимаемый чувственными органами свет выступает посредником высшего знания, даруемого человеку Богом - знания Бога (επιστήμη θεοΰ). Лишь избранные мудрецы достигают этой ступени познания. Божественный свет, тождественный «объективному знанию» (αδιαφορούν έπιοτήμης), воспринимается только «глазами души» (De mígr. Abrah. 39).
С помощью категории
свет, равно как и категории
красота, Филон стремится преодолеть агностицизм формально-логического уровня своей «системы» (а практически и всей эллинистической философии). Не разумом, но путем эмоционально-эстетического переживания постигается Божество. В соответствии с распространенной в эллинистической гносеологии идеей «подобное познается только подобным»
[118], Филон считает, что человек прежде всего должен быть «просвещен» (φωτίζειν, illurninare) божественным светом, в результате этого он в сверхчувственном и сверхразумном экстазе может постигнуть божественную Истину. Таким образом, «световая эстетика» у Филона, как и у его христианских последователей, тесно переплетена со «световой мистикой» как одним из способов постижения Первопричины.
Важное место играет в эстетике Филона и категория гармонии. Однако Филон не вносит в ее понимание ничего нового по сравнению с античными учениями. Гармония понимается им в пифагорейском смысле, лишаясь, однако, космического абсолютизма. Мир гармоничен и законосообразен, но эта гармоничность и законосообразность мира лишь следствие божественного творения и управления миром. Логос соединяет многообразные и разновеликие элементы материального мира в единой гармонии (De plant. 8 - 10). Принцип гармонической организации мира отражается и в лучших произведениях человеческой деятельности. Музыка гармонична, и мелодичный звон колокольчиков - символ «гармонии и созвучия» видимого мира (De vita Mos. II, 119). Гармония, наряду с ритмом, является важным структурным принципом и поэзии. Именно ритмом и «гармонией стихов» прельщает поэзия людей (De spec. leg. I, 28).
Особое место в эстетике Филона, а точнее во всей его философии, занимает еще одна категория, практически как таковая впервые вводимая им в эстетику, хотя и на основе стоических изысканий в этом направлении. Эта категория, сыгравшая впоследствии важную роль во всей европейской средневековой эстетике, не нашла еще четких дефиниций и определенного термина для своего обозначения в системе александрийского мыслителя, но сущность и значимость ее были хорошо прочувствованы Филоном и определили основу метода его философствования. Речь идет о категории, которая обобщенно может быть обозначена как символический (или аллегорический) образ. Категория эта имеет множество, порой трудно уловимых, семантических оттенков, ибо с ее помощью Филон пытался связать принципиально несвязуемое, доказать формально-логически недоказуемое - имманентность миру трансцендентного Бога. Удалось ли это Филону - вопрос в данном случае не представляющий для нас особого интереса. Важно другое: стремление решить сложнейшую для философского мышления эллинизма задачу привело Филона к введению в свой категориальный аппарат нового понятия, при этом понятия очень емкого, принципиально многозначного и многоаспектного. Естественно, что Филон затрудняется обозначить эту емкую категорию каким-либо одним термином. Он употребляет практически в качестве синонимов (хотя и с еле уловимыми семантическими оттенками) такие термины, как образ (μίμημα, τρόπος), изображение (είκών, άπεικόνισμα), символ (σύμβολον), аллегория (αλληγορία) и ряд близких к ним по значению слов.
Весь видимый мир, включая философские, религиозные и литературные тексты, а также произведения искусства, является отображением и системой символов мира невидимого. Солнце у Филона - изображение (μίμημα καί είκών) божественного света, одежда первосвященника - отображение (άπεικόνισμα καί μίμημα) мира в целом, цветы на одеждах - символ (σύμβολον) земли, а отдельные персонажи Ветхого Завета - «образы душевных состояний» (τρόποι ψυχής) и т. п. Чтобы яснее представить роль и значение новой категории в системе Филона, время обратиться к особенностям его философского метода.
Этот метод основывается на символико-аллегорическом толковании книг Ветхого Завета. Еще стоики аллегорически понимали древние мифы, полагая, что их натуралистический антропоморфизм неприличен при суждениях о богах и является невежественным предрассудком. Среди евреев рассеяния широко распространились традиции символико-аллегорического восприятия каждого библейского слова, что способствовало и более широкому распространению Ветхого Завета в эллинистическом мире
[119]. Современник Филона, один из авторов Мишны, Гиллель разработал семь приемов толкования Писания. Однако филоновская экзегеза далеко выходит за узкие рамки этого литературного жанра. Толкование и комментирование текстов Св. Писания для Филона только повод и удобная форма изложения своей философии.
Постоянное обращение к ближневосточной культуре, выдвижение эстетически окрашенной этики на первый план
[120] позволили Филону наметить плодотворный для того времени выход из ряда философских противоречий эллинистической культуры. Прежде всего, Филон отказывается от логически последовательного изложения своих философских, религиозных, этических и эстетических взглядов. Его привлекает нерасчлененность мифологического мышления. Однако непосредственно заниматься мифотворчеством столь изощренному в эллинских науках приверженцу философии, как Филон, было невозможно, и он обращается к приему, более соответствовавшему развитому понятийному мышлению и духу времени - к экзегезе религиозных текстов. Полагая априорным источником истины тексты Св. Писания, он облекает свою мировоззренческую систему в форму свободного толкования Септуагинты, причем толкования вдохновенного, блещущего удивительной игрой мысли, неистощимой фантазией, облеченного в яркую, часто художественную форму. По меткому замечанию С. Н. Трубецкого, у Филона «суеверное отношение к тексту легко уживается с произволом»
[121].
Яркое описание филоновского метода находим мы в работе В. Ф. Иваницкого: «В области символов и отвлечения от конкретного Филон чувствует себя необыкновенно свободно. Однако далеко не так свободно следит за мыслями автора читатель. В быстрой смене различных символов, самым причудливым образом переплетающихся один с другим, где одна аллегория нагромождается на другую, один символ нанизывается на другой, мысль читателя в конце концов запутывается, и он теряет нить рассуждений автора. С горечью вспоминает он слова Полония о речах Гамлета: «безумие... но систематическое». Жаль ему становится этого, несомненно свежего и сильного ума, который иссушил свою душу в бесплодных аллегориях»
[122].
Но так ли уж бесплоден был аллегорический метод Филона в духовной атмосфере I в.? Видимо, нет и скорее - наоборот, он оказался плодотворным и перспективным для определенного этапа развития человеческого мышления. Свободное комментирование Ветхого Завета, переход мысли от одной идеи к другой, с ней внешне никак не связанной, позволяет Филону без демонстративных выпадов против формальной логики поставить ряд проблем и заострить многие противоречия, не снимаемые на понятийном уровне. Снятие их для себя самого Филон, видимо, нашел в полухудожественной форме изложения. Нанизывая один символ на другой, он с упоением погружается в поток свободных ассоциаций, забывая иногда даже об исходном пункте своих рассуждений. Сам поток ассоциаций, часто оппозиционных, доставляет ему невыразимое удовольствие. Он наслаждается их свободной игрой, их перетеканием одна в другую, их неуловимостью и многозначностью. А ведь это толкование (Писания!) и есть, по мнению Филона, один из путей познания истины, и он доставляет духовное наслаждение - не в этом ли главный эстетический смысл и значение его аллегорического метода?
Сам Филон вряд ли до конца сознавал это, но интуитивно он уже нащупал путь, по которому через несколько столетий устремится греческо-византийское мышление - путь эмоционально-эстетического гносиса. Полагая, что важным результатом познания Первопричины является уже само наслаждение процессом познания, независимо от интеллектуального постижения конечной истины, Филон своим творчеством, формой своего философствования вольно или невольно стремится показать, что одним из путей не понятийного познания является сам процесс творчества. Филон не дает эксплицитного ответа на многие острые вопросы эллинистической философии, но имплицитно, в неформализованном виде, они содержатся в системе метафор, символов, образов и ассоциативных связей его аллегорического комментария книг Ветхого Завета. Именно здесь находится источник эмоционально-эстетического гносиса византийцев. Это подтверждает не только полухудожественная форма филоновского философствования
[123], но и содержание многих его комментариев. Эротический акт, к примеру, является у Филона устойчивым символом познавательного процесса (см. упоминавшиеся уже толкования «познания» Авраамом Агари, Адамом Евы и т. п.). В качестве психофизиологического обоснования этой символики у него выступает теория
гедоне. Но если эрос у Филона еще символ, то уже у Плотина сам акт мистического познания Единого по эффекту эмоционального наслаждения подобен эротическому акту (см. Еn. VI, 9,9).
Для истории эстетики филоновский метод «аллегорического комментария» важен не только использованием в процессе познания эмоционально-эстетической информации. Его развернутое применение, в частности и к анализу художественного текста, привело Филона к постановке таких значимых для эстетики и искусствознания проблем, как интерпретация художественного текста и роль символа, аллегории, изображения в нем. Конечно, не следует видеть в Филоне эстетика новейшего толка. Филону и в голову не могла прийти идея специально заняться таким незначительным делом, как эстетические проблемы или хотя бы анализ искусства. С него хватало и философии. Однако стихия культурно-исторического процесса предназначила ему в качестве материала для интеллектуальных упражнений среди прочих и художественные тексты в составе Септуагинты. Обладая высокой философской и филологической культурой и будучи уверен в том, что анализируемые им тексты имеют не только буквальное содержание, используя опыт предшествующих экзегетов, как греческого, так и еврейского происхождения, Филон среди многих проблем вольно или невольно должен был поставить вопросы, имеющие отношение к эстетике. Они-то и интересны для нас прежде всего.
Тексты Септуагинты, по глубокому убеждению Филона, наделены тайным, глубинным смыслом, скрытым от профанов под оболочкой общедоступного изложения древнееврейской истории. Соответственно и своей задачей Филон ставит прочтение этих текстов как символических и аллегорических, т. е. выявление их скрытого смысла. При этом исходным постулатом его анализа является убежденность в том, что исследуемые тексты - целостная, замкнутая в себе структура
[124], каждый элемент которой вплоть до отдельных слов, артиклей, даже отдельных букв и грамматических ошибок, а также все приемы организации текста обладают своей особой (небуквальной), зависящей от конкретного контекста семантикой
[125]. Ясно, что этот принцип, примененный к обычному тексту, чреват субъективистским произволом, к чему на практике часто и приходит сам Филон, но в отношении художественного текста он в определенной мере плодотворен
[126].
Собственно аллегорический, или символический, смысл текста понимается Филоном достаточно расплывчато
[127]. Это некое духовное содержание (τά νοητά), лежащее за буквальным текстовым изложением, иносказательный «аллегорический образ» (ό τρόπος άλληγορίας), нечто скрытое от непосредственного взора, заключенное где-то в «подсознании» (τά έν ύπονοίαις - De Iosepho 28). Сами аллегории, как заметил еще К. Зигфрид, выступают у Филона в качестве феноменов художественной действительности (etwas Künstliches)
[128], организованных по законам искусства. Они и называются у него «мудрым зодчеством» (De somn. II, 8). В соответствии с этим Филон полагает, что
и выявление заключенного в них смысла не может быть произвольным, но должно основываться на законах организации аллегорического текста (κατά δε τους έν άλληγορία νόμους - De Abrah. 68), на правилах и «канонах аллегорий» (κατά τους της αλληγορίας κανόνας - De somn. I, 73, De spec. leg. I, 287). Сам Филон не дал, к сожалению, специального изложения этих правил и канонов, что вполне соответствует системе его философствования, да, видимо, многие из них он не мог сформулировать даже для себя, а смутно ощущал их где-то на интуитивном уровне. Важно, что он ясно осознавал существование таких законов организации текста, постоянно помнил о них и стремился руководствоваться ими в своей комментаторской практике. Анализ текстов самого Филона, в частности, мастерски проделанный К. Зигфридом еще в прошлом веке, позволяет выявить главные из этих правил и канонов. При этом для нас основное значение имеет то,
какие элементы текста привлекают внимание Филона в качестве носителей аллегорического смысла, а не конкретное значение тех или иных аллегорий в его интерпретации. Ибо полностью захваченный своей идеей и своим методом, он наделяет аллегорическим смыслом и то, что не имеет прямого отношения к ветхозаветной символике и аллегористике.
Ветхозаветные тексты понимаются Филоном как «символическое выявление тайного и изречение неизрекаемого» (De spec. leg.
III, 178). Здесь он опирается на традиции эллинистических экзегетов, в частности терапевтов, для которых изреченное в словах - лишь «символ скрытого смысла», обнаруживаемый при толковании (De vit. cont. 28). Принцип символического понимания текста терапевтами, описанный Филоном, близок и к его собственному пониманию: «Толкование Св. Писания происходит путем раскрытия тайного смысла, скрытого в иносказаниях. Весь Закон кажется этим людям подобным живому существу, тело Закона - словесные предписания, душа же - заключенный в словах невидимый смысл. В нем разумная душа начала лучше видеть особые свойства. Она узрела необычайную красоту мыслей, отраженную в наименованиях, словно в зеркале, обнаружила и раскрыла символы, извлекла на свет и открыла помыслы для тех, кто способен по незначительному намеку увидеть в очевидном скрытое» (78)
[129]. Здесь важно отметить, что символический образ наделяется Филоном красотой, т. е. осознается не только как гносеологический, но и как эстетический феномен.
Буквальное значение того или иного текста, отрывка, предложения, слова или принимается Филоном наряду с аллегорическим, или исключается вообще и доказывается аллегорическое значение как единственно возможное
[130]. Второй прием Филон применяет только в тех случаях, когда, с его точки зрения, в тексте говорится что-либо недостойное Бога или когда буквальное значение противоречит аллегорическому или вообще не имеет смысла. Так же приходится отказываться от буквального понимания, когда в тексте применены очевидные метафоры типа: древо жизни, древо познания и т.п.
[131].
Среди особых приемов организации текста, выделенных Филоном в качестве носителей дополнительного, «глубокого» символико-аллегорического смысла, с эстетической точки зрения, интересны следующие
[132].
Особое значение в тексте, по мнению Филона, приобретает повторение одного и того же термина дважды, типа άνθρωπος άνθρωπος; введение в текст кажущихся с точки зрения логики лишних выражений и слов. Повторение известных, ранее высказанных положений дополняет контекст или заостряет нечто особое в нем. Глубокий смысл, по мнению Филона, имеет для аллегорического текста использование синонимов. Применение конкретного термина тесно связано с семантикой данного текста
[133]. Большой значимостью обладают выражения, построенные на игре слов. Отдельное слово в том или ином тексте может иметь различные значения. Отсюда многозначность термина в структуре аллегорического текста. Отдельные наречия, местоимения, частицы, род, число, падеж существительного, число и время глагола, части слова, незначительные изменения внутри слова типа характера ударения или переноса ударения со слога на слог, наличие или отсутствие артикля - все это, по мнению Филона, имеет прямое отношение к семантике «скрытого» смысла, хотя практически никак не влияет на буквальное значение текста. Эти интересные мысли Филона сейчас можно оценить как одну из первых и достаточно плодотворных в истории эстетики попыток анализа структуры художественного текста, выявления специфических носителей особой, скрытой за буквальным значением текста информации.
Для художественного мышления последующего времени имеет важное значение филоновская символика различных вещей, предметов и явлений материального мира, символика растений, птиц, животных, космических тел и т. п.
Филон Александрийский, поставленный волею истории на стыке двух культурных эпох, как представитель двух пришедших в столкновение и уходящих уже культурных традиций, предвосхитил в своей эклектической системе многие новые черты возникающей культуры и, соответственно, новой эстетики. Христианство не только первых веков, но и последующих времен, не только восточное, но и западное (см., в частности, принципы аллегорического толкования у Августина) активно развивало, хотя часто и не сознаваясь в этом, многие его идеи.
Глава II. КУЛЬТУРОЛОГИЯ РАННЕЙ ПАТРИСТИКИ
Культуре, утратившей духовные идеалы и многие нравственные принципы (о последних теоретизировали только в узких кругах стоиков), христианство противопоставило простые, всем понятные гуманистические принципы: человек - высшая ценность в этом мире (Бог приносит себя в жертву ради его спасения), все люди равны перед Богом независимо от социального положения, интеллектуального уровня или национальности, любовь к человеку («ближнему») - основной принцип нравственной жизни и т. п. Так же просты и естественны мечты ранних христиан о грядущем потустороннем вознаграждении и вечном блаженстве всех обездоленных и угнетаемых в этом мире и о наказаниях для угнетателей и власть имущих, чинящих зло и несправедливость на земле. Отсюда и стихийное отрицание основных достижений античной культуры, олицетворявшей в глазах ранних христиан пороки «языческого» государства.
С другой стороны, раннехристианские мыслители, как правило, имели хорошее классическое образование и приняли христианство в зрелом возрасте, осознав тупики языческой культуры и усматривая выход из них в христианстве. Поэтому, разумом отрицая основные принципы и положения духовной культуры античности, многие из них мыслили еще категориями эллинского или римского мышления, жили духом классической культуры, стремясь переосмыслить ее с новых философско-религиозных позиций. Это обусловило внутреннюю противоречивость, непоследовательность, эклектизм многих философских, религиозных и эстетических взглядов ранних христиан (как до этого подобная ситуация обусловила противоречивость филоновской системы).
II - III вв. были временем активного утверждения новой религии, новой мировоззренческой системы, новой культуры, входившей в историю в терновом венце мученичества, в ореоле святости, под знаменем «животворного» крестного древа. Античная культура, просмотревшая первые шаги христианства, теперь вдруг ощутила, еще не осознавая до конца, что появилось нечто опасное для нее самой. Все силы бросила тогда стареющая культура на борьбу со своим грядущим наследником, все методы, вплоть до физического уничтожения, сочла допустимыми в этой борьбе, но остановить ход истории оказалось не под силу даже такой огромной махине, как Римская империя, вооруженной всеми достижениями древней греко-римской культуры.
Однако во II - III вв. исход борьбы был еще далеко не ясен, сил у новой культуры было не так уж много, а противник был еще крепок, поэтому главным ее тактическим приемом стала оборона, защита, но не пассивная, а наступательная. Защищаясь, активно наступать; обороняясь, захватывать новые позиции - вот тактика идеологов новой культуры.
В послании к проконсулу Африки Скапуле, жестоко преследовавшему христиан, один из первых апологетов, Тертуллиан, писал, что апологетикой он занимается не для защиты христиан, но для просвещения гонителей, чтобы спасти их от гнева Божия (Ad Scap. 2; 4). А просветить гонителей (= служителей старой культуры) - это и значит если не обратить, то, по крайней мере, примирить их с новой культурой, а «спасти» - победить для новой культуры, т. е. охватить даже самых яростных противников новой идеологией. Эта специфическая цель - наступать, находясь в глубокой обороне, вызвала к жизни и новый жанр литературы - христианскую апологию
[134], возникший и активно существовавший как раз во II - III вв. Находясь в жанровом ряду где-то между речью и диалогом (отсюда софистически-риторский характер древнехристианских апологий)
[135], по содержанию она часто тяготеет к философскому трактату. В период поздней античности христианская апология выступала главным литературным жанром новой культуры, средоточием всей ее мудрости, отразившим пафос и боль, радость и муки ищущего сознания своего времени, выразившим глубинные токи и интуиции духовной атмосферы раннего христианства. В апологии открывается философия культуры того сложного и противоречивого времени со всеми ее компонентами, включая эстетику и теорию искусства.
Авторы апологий (произведения этого жанра далеко не всегда содержали в своем названии слово «апология», но являлись таковыми по содержанию) жили и творили во II - III вв. во всех концах Римской империи (в Италии, Малой Азии, Александрии, Африке) и писали свои сочинения как по-гречески, так и по-латыни
[136]. Первая дошедшая до нас апология христианства была написана «философом
Аристидом из Афин» где-то около середины II в. Никаких сведений об авторе до нас не дошло. Сохранились сирийский и армянский переводы послания Аристида и большая часть греческого текста в свободном пересказе в составе романа «Варлаам и Иоасаф»
[137]. В апологии дана критика многих сторон античной культуры, как греческой, так и ближневосточной, в частности религии, и изложено одно из первых представлений ранних христиан о Боге.
Первым среди греческих апологетов, чьи сочинения в оригинале дошли до наших дней, является
Юстин Философ и Мученик[138]. Он родился, видимо, в начале II в. в древнем палестинском городе Сихеме в семье богатого греческого колониста, получил хорошее образование. С юных лет он проявлял интерес к философии. Как рассказывает сам Юстин (Tryph. 2), он учился сначала у стоика, затем у перипатетика. Очень хотел учиться у пифагорейца, но тот не принял его, узнав, что Юстин не сведущ в геометрии, астрономии и музыке. Наконец, он пришел к платонику, и учение Платона увлекло его. Случайная встреча с одним из христианских мудрецов привлекла его внимание к библейской литературе и привела в ряды христиан (ок. 132 г.). Однако и после принятия христианства он не снял плаща философа, но стал проповедником и защитником нового учения. Странствуя по Империи с востока на запад, он пламенно проповедовал христианство. Одежда философа привлекала к нему много учеников. Два раза он подолгу останавливался в Риме. Основал там христианское училище, активно боролся с иудеями, язычниками и еретиками, вступая в публичные диспуты о вере. Подал кесарям (Адриану и Марку Аврелию) две апологии в защиту христиан. Погиб мученической смертью где-то около 165 г. От него сохранилось три подлинных сочинения: две «Апологии» и «Диалог с Трифоном»
[139].
Новое учение Юстин понимал как высшую ступень философии, основывающуюся на предшествующем философском опыте как античной, так и библейской культур. Он сознательно вырабатывает критерий включения наследия прошлого в новую культуру. Все, что основывается на зле, полагал он, направлено против Логоса и не принимается христианством; все, что ведет ко благу (добру), основывается на Логосе и принимается христианством как свое собственное. Юстин понимает христианство как новый, более высокий этап культуры, возникший на основе лучших достижений культур прошлого. «Все, - утверждал он, - кем-либо прекрасно сказанное, принадлежит нам, христианам» (Apol. II, 13). «У Юстина,- замечают современные историки философии, - христианство впервые претендует быть наследником старой культуры, естественно, не во всем ее объеме, но в ее высших ценностях», что дает основание считать Юстина родоначальником «христианского гуманизма»
[140].
Учеником Юстина по римской школе был Татиан Сириец. Он много путешествовал по Востоку и Западу. Хорошо изучил античную мифологию, философию, историю, литературу. Был посвящен в одну из тайных греческих мистерий. В Риме познакомился с христианами и их литературой, стал слушателем и учеником Юстина. Вместе со своим учителем подвергся гонениям, но остался жив. Около 172 г. вернулся на Восток и основал там одну из гностических сект (энкратистов), отличавшуюся от христианства большей духовной строгостью и ригоризмом. От него сохранился один апологетический текст «Слово к эллинам», характерный для крайней позиции восточного христианства своим резким неприятием всей греческой культуры, включая и платоновскую философию. Его апологией активно пользовались многие ранние христиане. Ее влияние или отдельные отрывки находим мы у Афинагора Афинского, Тертуллиана, Климента Александрийского.
Во 2-й пол. II в. действовал еще один известный греческий апологет
Афинагор, «христианский философ из Афин»
[141]. О его жизни до нас не дошло никаких сведений. Из его литературного наследия сохранилось только «Прошение в защиту христиан», адресованное Марку Аврелию и его сыну Коммоду (ок. 177 г.), и трактат «О воскресении мертвых». Афинагор с уважением и интересом относился к античной философии, хорошо знал ее и стремился найти в ней истоки многих христианских идей. Одним из первых христианских мыслителей он дал развернутое учение о воскресении.
Широко известен был в христианском мире и
Феофил Антиохийский, родившийся где-то на берегах Евфрата, получивший греческое образование, в зрелом возрасте принявший христианство и ставший шестым епископом Антиохии. Из его сочинений сохранилась только апология «К Автолику», написанная около 180 г.
[142]. Как и большинство христиан восточного происхождения, он резко отрицательно относился к греческой культуре. Подобную же позицию занимал и его, может быть, младший современник
Гермий Философ, написавший небольшой трактат «Осмеяние чуждых философов» (имеются в виду античные греки).
Интересной фигурой в духовной культуре II в. был
Ириней Лионский. Родился он в Малой Азии ок. 126 г. и был воспитан в лучших эллинистических традициях. В зрелом возрасте прибыл в Галлию, был священником в Лионе, а с 177 г. (после известных гонений на лионских христиан) стал епископом. Из достаточно поздних источников известно, что он погиб как мученик около 202 г. Писал Ириней по-гречески, но по духу стоял ближе к римской, чем к восточной церкви. Считается «отцом католической догматики». Его главное сочинение «Против ересей» (в 5-ти книгах) направлено против гностических учений
[143]. Оно является одним из основных источников по изучению гностицизма, так как Ириней достаточно подробно и обстоятельно изложил в нем многие теории гностиков. Трактат содержит богатый историко-философский и историко-эстетический материал.
Учеником Иринея некоторые исследователи считают
Ипполита Римского[144], служившего с начала III в. пресвитером в Риме, однако происходящего, видимо, с греческого Востока; писал он по-гречески. Иероним причислял его к образованнейшим и ученейшим писателям своего времени. Он мученически погиб в 235 г. Основное направление его деятельности - борьба с ересями и осмысление библейских текстов, как правило, прочитанных в аллегорическом ключе. Анализируя в трактате «Философумены» историю философских систем и языческих верований, он стремился доказать, что гностики, как и многие другие еретики, опирались больше на языческую мифологию, чем на философию. В трактате дана яркая, хотя и не совсем точная картина духовной жизни поздней античности.
Особое место в духовной культуре II - III вв. занимали представители александрийской христианской школы. Опираясь на опыт своего предшественника Филона, александрийские мыслители взяли на себя задачу рационалистического объяснения многих христианских положений и создания стройной философско-религиозной христианской системы, близкой по форме и структуре к античным философским системам. Наиболее активно и смело ее решением занимались первые наставники школы
Пантен, не оставивший письменных трудов,
Климент и его преемник (с 203 г.)
Ориген, придавшие христианству рационалистическую ориентацию
[145].
Преподавание в александрийской школе было построено в традициях античных философских школ. Здесь, помимо Библии, изучали классическую поэзию, грамматику, риторику, историю, медицину, математику, космографию, но главное внимание уделялось анализу всех направлений античной философии. Кроме того, преподавались восточные религиозные учения: индийские, персидские, египетские и т. п.
Климент Александрийский (до принятия христианства Тит Флавий) родился около 150 г. в аристократической семье, жившей, видимо, в Афинах. Он получил фундаментальное классическое образование. В философии придерживался стоически-платоновских взглядов. Приняв христианство, много путешествовал, посетил Италию, Сирию, Палестину и наконец поселился в Александрии. Здесь он познакомился с бывшим стоиком Пантеном, руководившим с 179 г. христианской школой и оказавшим сильное влияние на взгляды Климента, ставшего сначала его помощником, а после 190 г., когда Пантен отправился проповедовать христианство в Индию, и его преемником.
Первые наставники школы обладали поистине неисчерпаемой эрудицией. В работах Климента, великолепно знавшего библейский материал, античную литературу и труды своих христианских предшественников, встречаются цитаты более чем из 360 античных авторов. В 203 г. в связи с усилившимися при Септимии Севере гонениями Климент вынужден был покинуть Александрию и перебраться в Малую Азию, где он и скончался около 215 г.
Основные философско-религиозные и эстетические взгляды Климента изложены в его трилогии, как бы знаменующей три ступени христианского гносиса (подъема к «знанию» Первопричины) и включающей в себя трактаты: «Увещание к эллинам», «Педагог» и «Строматы». Последнюю работу, однако, как было показано еще в конце прошлого века, не следует считать завершением трилогии и отождествлять с названной самим Климентом третьей частью трилогии - «Учителем» (Διδάσκαλος). «Строматы» были, видимо, подготовительной ступенью к последней и должны были занять промежуточное место между ней и «Педагогом».
В «Увещании к эллинам», типичном для апологетов II в., Климент разоблачает «языческую» (античную) мифологию и религию как выдумки эллинских поэтов, опираясь при этом на близкие суждения эллинистических философов относительно примитивности народных верований.
В «Педагоге» излагаются правила обыденной жизни человека. При этом подвергается острой критике жизнь греко-римской знати со всеми ее чрезмерностями, изощренностью и развращенностью. И, наконец, самое большое и пестрое сочинение Климента «Строматы» (дословно «Ковры»)
[146] посвящено изложению христианского гносиса (учения о познании) и описанию пути и образа жизни «истинного гностика», стремящегося к познанию Бога. Здесь Климент активно опирается на греческую философию, прежде всего на Платона
[147] («друга истины»), стоиков, Филона Александрийского. Помимо формирования христианской философии. «Строматы» выполняли большую охранительную функцию в отношении античной философии
[148]. По мнению самого Климента, книги «Стромат» так многообразны по содержанию в связи с тем, что их задачей является охрана семян познания (Str. I, 20, 4)
[149]. «Строматы», пожалуй, как ни один другой трактат раннехристианской культуры, дают полное представление о философских источниках христианской мысли.
Сменивший Климента на посту наставника школы (в свои 17 лет) Ориген (около 185-254 гг.) уже при жизни считался крупнейшим христианским мыслителем. В науке существует гипотеза, что он учился у платоника Аммония Сакка, учителя Плотина, хотя есть и иное предположение, что у Сакка учился другой Ориген - неоплатоник, о котором практически не сохранилось никаких сведений. Как бы там ни было, христианин Ориген глубоко уважал платонизм и на его основе смело строил систему христианской философии и догматики, что и привело его к конфликту с александрийской церковью, от которой он был отлучен уже в 230/231 г. В своей комментаторской практике он активно опирался на аллегоризм Филона. Подробнее его взгляды будут рассмотрены в гл. V.
Во фрагментах дошли до нас сочинения талантливого ученика Оригена по александрийской школе, ее наставника с 232 г. и епископа Александрии с 247/248 г.
Дионисия Александрийского (Великого), скончавшегося в 264/265 г. Его трактат «О природе»
[150] содержит интересные для истории эстетики мысли (см. гл. V).
Местом средоточия западной апологетики, как и вообще латинской христианской литературы вплоть до Августина, была римская провинция Африка со столицей в легендарном Карфагене. Карфаген в этот период был в культурном отношении полной копией Рима - с римскими обычаями, римскими одеждами, цирком, стадионом, амфитеатром, боями гладиаторов, неумеренной тягой к зрелищам, роскоши, плотским наслаждениям. Красочную картину обычаев и нравов африканской провинции того времени запечатлел ее знаменитый уроженец Апулей в своем «Золотом осле». К концу II в. в Африке было уже много христиан, объединенных в общины во главе с епископами. В этот же период (80-90-е гг. II в.) начались на них гонения со стороны римской администрации, активно поддерживаемой местным языческим населением. Появились и первые защитники христианства. Вообще Африке принадлежит выдающееся место в развитии латинской христианской мысли. Как греческая патристика первых веков христианства происходила из восточных провинций Империи, так и почти вся ранняя латинская патристика, вплоть до Августина, имеет африканское (т. е. тоже провинциальное) происхождение, что даже дало в свое время Т. Моммзену возможность небезосновательно утверждать: «В развитии христианства Африке принадлежит поистине первая роль; христианство возникло в Сирии, но сделалось мировой религией в Африке и благодаря Африке»
[151].
Одним из наиболее активных и авторитетных апологетов выступил во II в.
Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан. Он родился ок. 155 г. в семье центуриона проконсульских войск. Учился в классе риторики в Карфагене. Затем уехал в Рим, где служил адвокатом. В этот период, как писал он сам позже, он предавался всем прелестям разгульной жизни Рима, был поклонником театра и цирка
[152]. Христианство считал он тогда безумием. К 194 г. Тертуллиан вернулся в Карфаген, ушел с государственной службы и приступил к изучению философии. Видимо, в этот период жизни он принял христианство и занялся активной писательской деятельностью. Тертуллиан свободно владел греческим языком
[153], хорошо знал труды многих античных философов, медиков; написал ряд трактатов по-гречески, но они до нас не дошли. К концу века усиливаются ригористические и аскетические черты духовного склада Тертуллиана, его не удовлетворяет уже традиционное христианство. Он примыкает где-то в 200-207 гг. к секте монтанистов, а затем организует свою собственную секту, которая просуществовала до времен Августина (см. De haeres. 86). Умер Тертуллиан после 220 г.
[154].
Тертуллиан стоит у начала церковной латыни. Не для всех греческих христианских терминов нашлись эквиваленты в латинском языке. Тертуллиану пришлось изменить смысл отдельных латинских слов, вводить новые на основе греческого или того же латинского (к нему восходит происхождение центрального христианского термина trinitas - как tria + unitas)
[155]. Тертуллиан первым изложил на латыни главные положения христианской веры, вскрыл сущность основных догматов и сформулировал «символ веры» в трех редакциях. Многие его идеи служили образцом, «правилом» (regula fidei) для его латинских последователей вплоть до Августина
[156]. Тертуллиан много сделал для утверждения новой иррациональной философии. Для нас особый интерес представляют его философско-эстетические взгляды.
Современником Тертуллиана, также выходцем из Африки, был известный римский адвокат, автор знаменитого «Октавия»
Марк Минуций Феликс, остававшийся в своей гражданской должности и по принятии христианства. Его апология, появившаяся, видимо, вскоре после «Апологетика» Тертуллиана
[157], написана по цицероновскому образцу в форме диспута между друзьями Минуция: язычником Цецилием и христианином Октавием. Победу одерживает Октавий, обративший своими доводами оппонента в христианство. Полемика эта хорошо отражала духовную атмосферу того времени, умственные настроения как защитников, так и противников христианства
[158].
Христианская традиция считает, что обращенный Октавием Цецилий стал карфагенским священником и, в свою очередь, обратил в веру будущего епископа Карфагенского и активного христианского писателя Киприана.
Фасций Цецилий Киприан родился в Карфагене около 201 г. в знатной семье. Он получил полное классическое образование. Особенно преуспел в ораторском искусстве и занял должность учителя красноречия в карфагенском училище. Должность эта совмещалась с должностью адвоката, что принесло Киприану известность и большой доход. В этот период он, как и вся знатная молодежь Карфагена и Рима, не чуждался традиционных развлечений, чувственных удовольствий и т. п. Где-то к 246 - 247 гг. он принимает крещение, использует свой талант на службе христианству, и в 249 г. его избирают карфагенским епископом, фактически главой африканской церкви. Вскоре начинаются гонения на христиан. Киприан скрывается из Карфагена и поддерживает свою паству письмами и трактатами; особенно много пишет к мученикам и исповедникам. Только через 15 месяцев возвращается он в Карфаген. Вся деятельность Киприана была связана с подготовкой христиан к принятию подвига мученичества. В период следующих гонений при Валериане Киприан и сам был казнен в 258 г. при большом стечении народа
[159].
В конце III - начале IV в. жил автор семи апологетических книг «Против язычников»
Арнобий, который во времена Диоклетиана был известен как блестящий преподаватель риторики в африканском городе Сикке. Будучи язычником, он вел последовательную борьбу с христианством. Когда, побуждаемый сновидением, решил он принять христианство, то для доказательства искренности своих намерений должен был по настоянию епископа написать сочинение, опровергающее прежнюю свою религию. Апология Арнобия была написана между 303 и 311 гг.
[160]. Арнобий великолепно знал античных авторов. Он часто цитирует или пересказывает Платона, орфиков, Хрисиппа, Зенона, Эпикура, академиков (Аркесилай, Карнеад), Теренция Варрона, Цицерона, Лукреция и многих других философов, ученых, поэтов. Платона, как указывают исследователи, он читал по-гречески
[161]. Непосредственно с библейскими текстами Арнобий, как и Минуций Феликс, видимо, не был знаком, так как библейских цитат нет в его трактате. Христианское учение он знал по устным наставлениям и по работам своих предшественников - апологетов, как латинских, так и греческих, в частности по работам Климента Александрийского.
Учеником Арнобия по школе красноречия был
Луций Цецилий Фирмиан Лактанций. Превзошедший своего учителя и прославившийся на всю Империю, он был почтительно прозван гуманистами Возрождения христианским Цицероном. Где-то около 290 г. император Диоклетиан выписал его в свою столицу Никомидию для занятия кафедры красноречия, а в 317 г. будущий основатель Византии и первый христианский император Константин вызвал его в Трир, чтобы поручить ему воспитание своего сына Криспа. Принял христианство около 300 г., умер ок. 325 г., возможно в Трире. Лактанций много писал в стихах и прозе. До нас дошли не все его сочинения
[162]. Этот «ученейший муж», по выражению Евсевия Кесарийского, владел греческим, латинским, еврейским и некоторыми восточными языками. Он хорошо знал древних и современных ему писателей. Помимо Платона, Аристотеля, Цицерона, Сенеки, он цитирует и разбирает в своих сочинениях тексты Гермеса Трисмегиста, Зенона и Хрисиппа, Демокрита и Эпикура, Протагора и Диагора, Фалеса и Анаксагора, Каллифона и Герилла, Пифагора и Аристиппа, Асклепия и Гераклита, Эвклида и Карнеада и многих других философов, ученых, поэтов, историков. Он хорошо знал своих латинских предшественников: Тертуллиана, Минуция Феликса, Киприана. Его главное сочинение «Божественные наставления» является апологией, поднимающей практически все важные для поздней античности вопросы духовной культуры и на их основе вводящей читателя в круг основных проблем христианства.
Завершающей в ряду работ этого жанра и самой грандиозной апологией стал написанный уже в начале V в. трактат знаменитого Аврелия Августина «О граде Божием».
Приступая к анализу некоторых положений культурологии апологетов, отметим важный для характеристики уже самой христианской культуры факт различного обращения апологетов с огромным наследием античной (языческой, уже чужой, иной) культуры и с наследием (хотя и небольшим) своим, христианским. Если писателей языческой культуры апологеты (а затем и последующие Отцы Церкви) воспринимали как конкретных авторов и приводили, как правило, их суждения (как критикуемые, так и используемые для подтверждения христианских идей) с указанием авторства, то своих христианских предшественников они, в основном, даже не упоминают, переписывая из них целые главы. Прием этот присущ был уже и римской литературе. «Тех довольно строгих ограничений в пользовании литературными трудами других авторов, - писал русский исследователь конца прошлого века, - которые приняты ныне, древние римляне, как свидетельствует история их литературы, не знали, и ни закон, ни обычай, ни державшиеся в общине взгляды не обеспечивали за писателем авторских прав в нынешнем смысле слова. Авторам не только не вменялось в вину широкое пользование своими предшественниками в обработке взятой темы, но даже ставилось это почти в обязанность... Указанные традиции оставались в силе и в последующее время у латинских христианских писателей, в частности у апологетов. И они полною рукою берут иногда у своих литературных предшественников все, что находят нужным взять»
[163]. Истоки этого, по сути дела, анонимного и в основе своей коллективного творчества находятся на Ближнем Востоке
[164]. Ранние христианские мыслители, продолжив эту традицию, глубоко осознали ее как принципиальную писательскую позицию. Для них истинным творцом и единственным личностным автором выступал Бог, себя же, как и своих предшественников, они считали лишь объяснителями, комментаторами божественного произведения (мира и слова). Отсюда отсутствие чувства личного авторства внутри своей культуры. Однако они хорошо знали и другую культуру, и знали ее, как правило, лучше и глубже, чем ту, которую защищали и сами же создавали. В этой, когда-то родной, но теперь чужой культуре они видели и знали личное авторство. Творчество греческих и римских писателей для них не было анонимным. Более того, среди этих авторов они хорошо различали более и менее авторитетных, более и менее талантливых, независимо от того, соответствовали идеи этих авторов христианской идеологии или нет.
Апологеты, вышедшие из античной культуры, смотрели на нее уже со стороны, извне, пытаясь осмыслить ее в ее основах, в ее главных параметрах (ее историю, политику, философию, религию, искусство, обычаи и нравственные принципы), и осмыслить резко критически с точки зрения новой нарождающейся культуры. Именно последнее выводит апологетов практически на позицию философов культуры, ее теоретиков и исследователей, а не просто критиков. Критиков своей политики, религии, философии, права, обрядов, искусства, морали греко-римский мир имел внутри своей культуры постоянно на протяжении всей ее истории в лице лучших своих умов. Но это была критика отдельных сторон культуры с позиций самой этой культуры. И Цицерон, и Варрон, и Плутарх, и Тацит, и Сенека, и Эпиктет, и Лукиан, и другие критические умы были идеологами, представителями и творцами своей культуры. Позиция внутри культуры не позволила им стать философами культуры, созерцающими ее в ее целостности и как бы со стороны
[165].
В этом плане не составляют исключения и киники, порицавшие все вообще достижения культуры как основную причину возникновения пороков в «здоровом» первобытном обществе, к которому они хотели вернуть человечество
[166]. Ранние христиане использовали многие острокритические филиппики киников в адрес рабовладельческого общества, ибо они создавались с позиций угнетаемых классов этого общества, но отнюдь не отрицали всех позитивных достижений античной культуры. Кинизм же в своем анархическом бунте против культуры вообще претендовал на роль могильщика, но никак не философа культуры.
Апологеты уже хорошо осознали, что осмыслить культуру как целостный мир, как единую картину можно лишь с определенной дистанции. Чтобы увидеть «отвратительную картину мира», Киприан с присущим раннему христианству резким неприятием язычества предлагал вознестись над миром и смотреть на него как бы сверху вниз (Ad Donat. 5). Позиция самих апологетов была более сложной: они одновременно находились и над миром, и внутри него, в самой его гуще. Над - миром греко-римской культуры, внутри - мира как жизненного потока, который они стремились направить в новое русло. Они вышли (да и то часто лишь теоретически) из мира греко-римской культуры, заняли позицию вне ее и извне попытались осмыслить ее во всей ее целокупности, начиная от социальной и политической истории и кончая философией и искусством. При этом они использовали весь тот критический материал, который копила и систематизировала сама греко-римская культура в трудах своих писателей и мыслителей. Но не столько выход из культуры способствовал развитию философского взгляда на нее, сколько осознание себя приверженцами иной культуры, точнее, идеалов новой культуры, ибо существовала она пока только в своей идеальной, однако подкрепленной высочайшим божественным авторитетом форме. В этом плане философия апологетов как религиозная философия вообще принципиально отличается от философии древнегреческого типа. Если последняя занята неустанными поисками мудрости и истины, то христианство считает, что получило и мудрость, и истину в «откровении», т. е. уже обладает ими; христианская же философия должна на основе разума объяснить, насколько это возможно, и, главное, защитить «богооткровенные истины» от всех посягающих на них. Отсюда исходная апологетичность всей христианской философии, отсюда же и принципиальная ограниченность этой философии. Она сразу поставила пределы научному познанию мира вообще, что с особой очевидностью проявилось в средневековой схоластике. «Богоданное Писание» становится единственным носителем и критерием истины. В нем содержатся, по убеждению христиан, все основы единственно истинной культуры. Старая греко-римская культура в целом, по их мнению,- историческое заблуждение, плод деяний человечества, не нашедшего правильного жизненного пути, хотя и усматривавшего умами своих лучших представителей отдельные жизненные истины. Эта исходная установка определила и специфику культурологии апологетов, опирающейся на ряд идеалов, сразу же возведенных в ранг непререкаемых священных истин. И идеалы эти далеко не все были иллюзорны и утопичны; многие из них просты, понятны, общечеловечны и мудры. Опираясь на эти идеалы (далеко не все из них были тогда четко сформулированы), апологеты пытались критически осмыслить греко-римскую культуру в ее полном объеме и использовать этот опыт критического осмысления (часто просто негативного отношения), сравнения реального с идеальным для развития, выработки и утверждения конкретных составляющих новой культуры. Волей истории апологеты, субъективно стремившиеся только защитить и объяснить свою новую веру, объективно были призваны к служению в чине первых философов культуры, и эту тяжелую службу они совместными усилиями выполняли, подготовляя идеологический фундамент новой культуры.
Конечно, «философия культуры» апологетов - понятие достаточно условное, во многом отличное от того, что под этой дисциплиной имеет в виду современная наука. Эта «философия», излишне, преувеличенно критична (иногда доходит до карикатурности) по отношению к реальной культуре и безоговорочно апологетична относительно идеалов новой. Не случайно ведь ее выразители - не философы новоевропейского или античного склада, а апологеты - активные деятели, реальные борцы, защитники и строители новой религиозной жизни. Их философия - не плод длительных размышлений (поэтому она грешит часто поверхностными, недодуманными, неглубокими суждениями), а крайне необходимая на текущий момент работа, философия конкретного дела: разрушения старого, созидания нового. И тем не менее духовная деятельность апологетов ближе всего стоит к той, которую можно определить понятием «философия культуры» или хотя бы «культурология». Апологеты не просто утверждали правила новой веры, но сознательно исследовали предшествующую культуру, анализировали происхождение и развитие отдельных ее сфер, указывали, наконец, отрицательные, с точки зрения их идеала, стороны этой культуры и стремились дать модель новой, истинной культуры с новым мировоззрением, новым образом жизни, новым отношением практически ко всем главным сферам культуры. В этом плане последующая патристика, за исключением Августина, завершившего апологетику, значительно сузила круг своих интересов и уже не претендовала на роль глобального культуролога. Главное здесь было сделано апологетами.
Одной из важных особенностей философии культуры апологетов была ее диалогичность. Она вся вырастала из живого актуального спора между приходящей и уходящей культурами, она сама - суть этого диалога. Минуций Феликс представил документальную запись одного из вариантов такого диалога, Ориген - другого. Эту же форму использует в своих ранних работах и Августин. Другие апологеты, особенно виртуозно и последовательно Лактанций, применяли специальный интеллектуальный прием, подбирая каждому христианскому утверждению контраргумент у античных авторов, который затем опровергался часто с помощью цитат из других языческих писателей. Но даже и тогда, когда такой контраргумент не приводится в тексте, всегда чувствуется, что христианский автор держал его в уме и его опровергал.
Только в этом контексте может быть правильно понята и эстетика апологетов, которая теснейшим образом была связана с их философией культуры, являлась ее важнейшей частью. Здесь мы имеем возможность остановиться только на некоторых главных чертах культурологии апологетов, особенно значимых в историко-эстетическом плане.
1. Критика античной культуры
При общей негативной оценке греко-римской культуры как целого различные апологеты по-разному относились к отдельным ее сторонам. Античные религии, культы, мистерии, естественно, полностью отрицались всеми апологетами. Относительно же наук, искусств, философии у них не было полного единодушия. Апологеты восточного и африканского происхождения более непримиримы ко всей греко-римской культуре, чем коренные греки и римляне. Татиан, Гермий, Феофил Антиохийский, Тертуллиан, Арнобий резко критически отзывались об античной философии, науках, искусстве. Они полагали, что христианам нечему учиться у язычников
[167]. Напротив, Юстин и особенно Климент и Ориген считали, что греческая философия и науки содержат много ценных знаний, необходимых для достижения высшего, абсолютного знания. Христианину надо изучать языческие науки и философию, ибо все истинное в них греческие писатели заимствовали у восточных мудрецов, давно знавших «богоданные» истины. Здесь уже намечался путь оправдания античной культуры и включения ее в общий культурно-исторический процесс. Все это мы проследим подробнее; здесь важно отметить, что апологеты крайне пристрастно и даже болезненно переживали свою «философию культуры» как переход от одной культуры к другой, от одного образа жизни и способа мышления к другому, мучительно стремясь понять, что в старой культуре подготовило их, что соответствует и что противоречит им. Конечно, это позиция философская, и притом в духе эллинистического напряженно-психологического философствования. Позднеантичная культура руками апологетов как бы выворачивала себя наизнанку, публично саморазоблачаясь, обвиняя себя во всех реальных и надуманных грехах, что позднее Августин проделает не только с античной культурой, подводя итог всей апологетике, но и со своей собственной душой, отразившей своими перипетиями в миниатюре путь всей позднеантичной культуры.
Апологеты мало что придумывали от себя. Как истинные культурологи, они исследовали богатейший материал предшествующих культур, критически относясь к греко-римской традиции и апологетически - к ближневосточной. Идеалы новой культуры они подтверждали не умозрительными рассуждениями и доказательствами, но предъявлением авторитетных свидетельств предшествующих культур в виде иногда бесчисленного (как у Климента, Тертуллиана, Иринея, Оригена) количества цитат как из библейских, так и из греко-римских авторов. Их культурология, хотя далеко и не беспристрастная, строилась на использовании прежде всего письменных источников. Не придумать, но документально обосновать все положения и своей критики, и своей теории авторитетными письменными свидетельствами (часто, правда, произвольно истолкованными, но это уже другой вопрос) - в этом видели апологеты свою главную задачу. Ни один из античных авторов так последовательно, так обильно и так многообразно не пользовался цитатой, как апологеты. Подробный материал по цитации у апологетов можно найти в указанной (сноска 34) работе В. Краузе. Для наглядности мы приводим его данные из сводной таблицы по интересующим нас здесь авторам.
Количество цитат в работах апологетов
| Автор Ветхий Новый Христиан- Греческая Римская |
| Завет Завет ская литература литература |
| литература |
| Юстин 54 43 - 12 - |
| Татиан - 4 - 5 - |
| Афинагор 13 40 - 57 - |
| Феофил 44 6 4 39 - |
| Ириней 457 865 - 16 - |
| Ипполит Римский 194 269 61 118 - |
| Климент Александрийский 1002 1608 152 966 1 |
| Ориген 522 934 6 39 - |
| Минуций Феликс - - - 1 3 |
| Тертуллиан 782 1040 14 7 26 |
| Киприан + Псевдо-Киприан 893 1118 - - 1 |
| Арнобий - - - 1 1 |
| Лактанций 107 7 94 134 386 |
Из таблицы видно, что при великолепном знании античной культуры апологеты жили идеями и духом новой культуры. Цитирование библейских текстов в целом значительно превышает цитирование из греко-римских авторов. Защитники и строители новой культуры подкрепляли главные принципы этой культуры постоянным обращением к божественному авторитету. Иначе и нельзя было преодолеть инерцию и традиционализм старой культуры. Среди основных принципов культуросозидательной деятельности апологетов можно назвать идею «творения мира из ничего» (creatio ex nihilo), законодательную функцию Бога, провиденциальный характер управления миром, свободу воли человека, искупительную жертву Бога, любовь человека к Богу и к ближнему, грядущее спасение людей, эсхатологию и библейский историзм, острое ощущение линеарности времени.
Последние принципы способствовали развитию и чувства историзма у самих апологетов в подходе к культуре. Библейская история, возведенная в ранг Священной, заставила ранних христиан посмотреть и на родную им культуру глазами историков и увидеть многое из того, что было закрыто для самих римлян. Особенно острым чувство историзма было у апологетов восточного происхождения. Наиболее ярко оно проявлялось у них в попытках хронологически сопоставить греко-римскую историю с библейской. Татиан, стремясь доказать, что философия христиан (т. е. ее ветхозаветная основа) древнее эллинских учений, называет, между прочим, полтора десятка имен античных исследователей гомеровской поэзии. Он показывает, что расхождения у них о времени жизни Гомера достигают 250 - 300 лет, что заставляет его усомниться в историчности и Гомера, и всей греческой истории. «У кого не согласована хронология, у того и история не может быть истинной. Не от того ли проистекают ошибки в счислении времени, что излагается неистинное?» (Adv. gr. 31). Историзм становится у апологетов в определенной мере критерием истинности тех или иных явлений культуры.
Феофил Антиохийский, развивая ту же идею временного приоритета библейского учения перед духовной культурой греков и римлян, занимается подробными хронологическими изысканиями всей истории человечества от сотворения мира (см. Ad Aut. III, 16-30). Опираясь на библейские тексты, свидетельства египтян, финикийцев, греческих и римских писателей, он приводит длинные родословные (с точностью до месяца!) древних царей, деятелей библейской и римской культур
[168]. Сомнительна, конечно, слишком уж большая точность (при малой аргументированности) этих исторических штудий, но важен тот неподдельный пафос историзма, которым пронизаны изыскания апологетов в отличие от общего равнодушия к истории в мире греко-римской классики
[169], которое хорошо чувствовали уже ранние христиане. Феофил в конце своих изысканий с укором делает вывод, что «эллины не помнят истинной истории» (III, 30). «Вы не заботитесь о том, чтобы обратиться к свидетельствам времен и осмыслить их», - обвиняет Тертуллиан римлян (Ad nat. I, 10), - вы не хотите знать, что было за 250 лет до нас и раньше. Отсюда, по его мнению, все заблуждения язычников, их непонимание ложности и порочности своей культуры и истинности новой, христианской.
Греко-римская культура исторически развивалась не в соответствии с указанными выше идеалами. Отсюда ее ложность и обреченность на гибель - вот главный вывод раннехристианских философов культуры. Мы сознательно упростили его, ибо апологеты не устают повторять, что и эта обреченная культура создала много духовных ценностей, которые, как мы знаем, последующим ходом развития были органически включены и в христианскую средневековую культуру. Но мы еще будем иметь возможность вернуться к этому позже. Здесь нас интересуют больше те стороны античной культуры, которые были подвергнуты критике со стороны раннехристианских идеологов.
Религия
Первый и, с точки зрения апологетов, самый главный критический срез римской культуры они делают на уровне религии, ибо культура, которую они защищали, начиналась новым культом, новой религией.
Греко-римская культура, по единодушному мнению апологетов, не нашла истинного Бога и потонула, захлебнулась в многобожии. В Риме III в. насчитывалось до 420 храмов, в которых поклонялись по меньшей мере 30 тысячам богов во главе с Юпитером. Естественно, такой сонм богов и культов вызывал критику и насмешки со стороны всех здравомыслящих людей (вспомним трактат Цицерона «О природе богов», сожженный по приказанию Сената вместе с Библией, как подрывающий авторитет официального культа, или сатиры Лукиана) и давал богатую пищу апологетам не только для насмешек, но и для размышлений. Чтобы развенчать религию, надо показать ее реальные истоки, ее происхождение и реальное место в культуре - вот первый важный вывод апологетов, и они активно берутся за дело, опираясь на найденный ими метод историзма. Приступая к анализу конкретного материала, следует помнить, что апологеты часто ведут исследование в форме вопросов и ответов (апологет, он же - обвинитель, нередко провоцирует «обвиняемого» на саморазоблачающие ответы,- не случайно почти все западные апологеты были в прошлом адвокатами).
Разговор начинается с приведения нелепых мнений о христианах, их Боге и обрядах, бытующих в среде язычников, ибо христиане первых двух веков держали в тайне свое учение, ничего не рассказывали непосвященным о сущности «своих мистерий» (Tertul. Ad nat. I, 7). Результатом этого «обета молчания» явились невероятные, фантастические рассказы о христианах. Вспомним главные наиболее одиозные обвинения против христиан
[170]. Христиане якобы поклоняются ослиной голове или ослиному богу. Как писал Тертуллиан, один из борцов со зверями, «иудей по одному только обрезанию», выставил картину с изображением человека в тоге с книгой, имеющего ослиную голову и копыто на одной ноге. Под картиной стояла надпись: «Бог христиан ослиный потомок» (Apol. 16; Ad nat. I, 14)
[171]. Эта карикатура, намекавшая, видимо, с одной стороны, на то, что Иисус родился в хлеву и осел часто фигурирует в евангелиях, а с другой - на простоту и даже глупость христианского учения, многими язычниками воспринималась (или выдавалась в полемических целях) за истину, т. е. как реальный объект поклонения христиан.
По свидетельству апологетов, христиан обвиняли в ритуальном убийстве детей, поедании трупов и хлеба, смоченного кровью младенцев, в коллективном блудодействе и кровосмесительстве
[172]. Среди язычников было распространено мнение, что христиане в местах своих ночных собраний привязывали к светильникам собак и, когда постыдные страсти их распалялись, они бросали собакам куски мяса. Устремляясь к пище, собаки опрокидывали светильники, и в образовавшемся мраке христиане блудодействовали (Ad nat. Ι, 7; Apol. 7). Все это перечисляет у Минуция Феликса и Цецилий, обвиняя христиан в подобных грехах. Их секта, утверждает он, набирает своих членов из самой низкой, грубой и необразованной части населения и легковерных женщин. Пороки христиан не поддаются описаниям. Они питают постыдную любовь ко всем своим собратьям, даже не зная их лично. Как говорят все, отмечает Цецилий, новообращенному в христианство предлагается младенец, покрытый для маскировки мукой. Посвящаемому предлагается нанести несколько ударов ножом, которые умерщвляют младенца. И тогда присутствующие с жадностью пьют кровь невинной жертвы и поедают ее (Octav. 9, 5).
Христиане презирают храмы, не признают традиционных богов и насмехаются над священными обрядами. Они помогают бедным и, будучи почти нагими, пренебрегают почестями, богатством и багряницами жрецов. «О, удивительная глупость,- восклицает образованный и благоверный римлянин Цецилий, - и невероятная дерзость! Они презирают настоящие пытки, но страшатся сомнительного и будущего; и хотя они боятся умереть после смерти, однако [настоящей] смерти не боятся» (8, 5). «А какие диковины (monstra), какие странности выдумывают христиане!» - продолжает он. Они считают, что их невидимый одинокий Бог все видит, все знает, даже мысли людей, везде присутствует и т. п. Мир будет в конце концов разрушен, т. е. прекратится естественный ход природы, а праведные воскреснут. «Все это,- резюмирует Цецилий, - вымыслы нездорового воображения и нелепые утешения, облеченные лживыми поэтами в сладостные стихи и без зазрения совести приписанные вами, легковерными, вашему Богу» (11, 9).
Словами Цецилия вся римская языческая интеллигенция порицает нелепое учение христиан, их жалкий образ жизни, неразрывно связанный со страданиями, аскезой, нищетой, отказом от удовольствий. «Итак, несчастные, вы и не воскреснете и [здесь] не живете. Поэтому, если в вас есть хоть немного мудрости и скромности, - взывает римская практическая рассудительность,- перестаньте исследовать небесные сферы и судьбы и тайны мира; довольно для вас, [людей] необразованных, грубых, невежественных, некультурных, смотреть [себе] под ноги; кому не дано понимать земное, тому тем более отказано [в способности] обсуждать божественное». Если в вас горит страсть к философствованию, то вам надлежит брать пример с Сократа, первого из мудрецов, который на предлагавшиеся ему вопросы о небесном обычно отвечал так: «Что выше нас, то нас не касается» (quod supra nos, nihil ad nos). Мудрость Сократа заключалась в том, что он познал, что не знает ничего. «Итак, в признании незнания заключается высшее благоразумие». Отсюда и происходит скептическая философия Аркесилая, Карнеада и других академиков. Ее-то, столь подходящую духу римского практицизма, и предлагает Цецилий христианам, ибо подобный способ философствования «безопасен для неученых и славен для ученых» (12, 7-13, 3).
Христиан, наконец, обвиняли и во всех стихийных бедствиях, обрушивавшихся время от времени на те или иные области Империи, полагая, что именно из-за неуважения христиан к римским богам последние насылают на народ засуху, град, побивающий виноградники, бури, болезни, эпидемии и т. п. (Cypr. Ad. Demetr. 5).
Нелепость и несостоятельность этих обвинений апологеты доказывали подробно и всесторонне, опираясь, с одной стороны, на римскую историю и суждения греческих и римских писателей, а с другой - на главные положения христианского учения, вскрывая при этом важные стороны и тенденции позднеантичной культуры.
Да, христиане не признают римских богов, ибо они не боги, и сами римляне и греки своим неуважением к ним доказывают это прежде всего.
Да и есть ли что-либо божественное в этих, с позволения сказать, богах?
Вы, обращается Тертуллиан к язычникам, обвиняете нас в поклонении Онокоиту, но у вас-то ведь таких богов множество. Есть у вас боги с собачьей головой и со львиной, с рогами бычьими, бараньими и козлиными, есть боги козлиного, змеиного и птичьего вида (Ad nat. Ι, 14). Воздвигаются огромные храмы, вторит Тертуллиану Арнобий, кошкам, жукам, быкам, публично приносятся жертвы бывшим знаменитым блудницам, возведенным в ранг богинь, и могущественные боги ваши терпят все эти безобразия (Adv. nat. I, 28).
Но оставим этих чужеземцев Олимпа, над которыми так остроумно посмеялся еще Лукиан. Обратимся к богам собственно греко-римского происхождения. Здесь богатый материал апологетам предоставили сами римляне, и прежде всего Цицерон своим трактатом «О природе богов» и энциклопедист Варрон, собравший «все из всех, существовавших до него религиозных сочинений» (Tertul. Ad. nat. II, 1).
Безнравственность римских богов, по классификации христиан, принесших новый строгий моральный кодекс Риму, известна всем с детства, ибо в школе уже с раннего возраста заучивают гомеровские стихи о любовных похождениях главы богов Юпитера. Все следующие за Гомером поэты и писатели развивали эту тему на все лады как в связи с Юпитером, так и относительно других богов.
Приводя краткую классификацию римских богов, Тертуллиан перечисляет не менее 40 богов, сопровождавших человека в жизни от его зачатия до смерти (II, 9 - 11). Эту тему позже обстоятельно разовьет Августин в своем главном сочинении «О граде Божием».
Наиболее подробную и остросатирическую критику римских богов и римской религии из апологетов дал, пожалуй, Арнобий. Прислушаемся к его едким насмешкам - они типичный продукт интеллектуальной борьбы новой культуры со старой. Еще раз подчеркнем, что Арнобий, как и другие апологеты, во многих конкретных своих замечаниях неоригинален. Они возникли еще внутри самой римской культуры, но только у христиан наполнились конкретным культурно-историческим содержанием, ибо насмешка и отрицание не самоцель апологетов, но лишь путь к утверждению нового.
Вы считаете богов бессмертными, обращается Арнобий к своим римским оппонентам, но для чего же им дан пол, если не для воспроизведения жизни. Для чего иного имеют они половые органы? «Ведь невероятно, что они попусту имеют их или что природа хотела сыграть с ними злую шутку, снабдив их такими членами, которыми нельзя было бы пользоваться» (Adv. nat. III, 9). Но если они употребляют их по назначению, как о том пишут ваши поэты, то богини полностью уподобляются земным женщинам с их менструациями, слабостью, деформацией тела при беременности и родовыми муками. Прилично ли все сие богам? (III, 11).
Далее Арнобий обращается к внешнему виду богов. По его мнению, всякое божественное существо, не имеющее ни начала, ни конца бытия, чуждо телесных форм и очертаний, ибо все имеющее телесные формы преходяще и смертно. Тем более божество не может быть антропоморфно. Внутренняя структура человеческого тела непригодна для божественной природы, а внешний вид вряд ли достоин бога. Да и для чего богам иметь внешний облик, для того разве только, чтобы узнавать друг друга при встречах. Тогда следует допустить себе, что боги, как и люди, имеют внешние отличительные признаки. Одни из них выделяются крупными головами, другие маленькими остроконечными головками, иные большими лбами, толстыми губами, вздернутыми носами, другие - массивными подбородками, родимыми пятнами, острыми носами; одних отличают расширенные ноздри, других - одутловатые щеки; одни из них карлики, другие высокого роста, третьи среднего; одни - сухощавые, другие - толстые; головы одних покрыты густыми вьющимися волосами, другие выделяются лысыми черепами. Все это подтверждают ваши художники, изображая богов волосатыми и безволосыми, стариками, юношами и отроками, с черными, голубыми и серыми глазами, полунагими или прикрытыми от холода широкими одеждами (III, 14).
Кто из здравомыслящих людей может всему этому поверить, вопрошает Арнобий. Не мы оскорбляем богов, не поклоняясь им, а вы - изображая их в таком недостойном виде (III, 11).
Еще более оскорбительно для богов, продолжает Арнобий, то, что, считая их в действительности не имеющими человеческого облика, вы изображаете их так «из уважения и для вида». Какой гнев вызвали бы у нас животные, имей они разум, если бы они стали поклоняться нам, людям, и изображали бы нас по своим меркам в виде ослов, свиней или собак! «Какой, говорю, пламенный гнев они вызвали бы и возбудили, если бы основатель города Ромул стоял в виде осла, а святой Помпилий в виде собаки и если бы под изображением свиньи стояло имя Катона или Марка Цицерона!» (III, 16).
Все человеческое, по мнению Арнобия, недостойно Бога, поэтому ему вряд ли стоит приписывать даже душевные достоинства и добродетели. У Бога все по-иному. «Бог или не имеет никакой формы, или, если имеет какую-либо форму, то такую, о которой мы ничего не знаем». Он, может быть, и слышит, и видит, и говорит, но совершенно не так, как люди. И все это нам неизвестно» (III, 17 - 19). Арнобий знал библейские тексты только в устной интерпретации христиан, но библейские представления о Боге уже активно используются им в борьбе с антропоморфизмом античных религий.
Римляне персонифицировали и превратили в богов почти все предметы и явления окружающего мира. Как, удивляется и возмущается Арнобий, планеты и звезды, воздух и земля могут быть богами? Каким образом Любовь, Согласие, Раздор, Здоровье, Честь, Мужество, Счастье, Победа, Мир, Справедливость могут быть названы богами,- а ведь им строятся храмы и приносятся жертвы. А бесчисленные боги - покровители предметов? И почему у одних предметов есть покровители, а у других - нет? Если кость, мед, дверные пороги имеют своих богов, то кто мешает ввести таких богов и для бесчисленного множества других предметов типа тыквы, репы, свеклы, капусты и т. п.? (IV, 1-10).
Далее, на основе противоречивых суждений в сказаниях об одних и тех же богах, Арнобий делает вывод, что все это не могло относиться к одной личности, и, следовательно, у римлян было по нескольку экземпляров каждого бога (как минимум три Юпитера, пять Минерв, четыре Вулкана, три Дианы, четыре Венеры и т. д.), что дает ему повод еще раз посмеяться над римской религией. Кому приносить жертву? Если мы принесем ее Минерве, то явятся пять Минерв и начнут спор о жертве. Вот вы, обращается Арнобий к гонителям христиан, путем пыток и казней склоняете нас к служению этим богам, но покажите нам что-нибудь достойное веры, тогда мы не будем так несговорчивы. «Покажите нам Меркурия, но одного, дайте нам одного Лидера, одну Венеру и одну также Диану. Ибо никогда вы не убедите нас в том, что есть четыре Аполлона или три Юпитера, хотя бы вы указали на самого Юпитера как на свидетеля или представили Пифийца удостоверителем (IV. 14-17). Арнобий, как и его оппоненты, применял здесь остросатирические приемы, направленные на планомерный подрыв самих основ римского благочестия, и они приносили весомые результаты. Насмешка действовала сильнее логических убеждений и проповедей.
Но главное острие своей критики апологеты направляли на безнравственное, в их понимании, поведение римских богов и, как следствие, на безнравственность самих языческих культов и мистерий, переходящую в культ безнравственности.
Строгие морально-нравственные принципы, выдвинутые христианством, не были ханжеским изобретением евнухов и старых дев. Они явились естественной защитной реакцией общества того времени на излишнюю увлеченность сексуальными удовольствиями, половую распущенность и извращенность, процветавшие в Римской империи. Повсеместное распространение фаллических культов и мистерий, изначально направленных на освящение пола и половых отношений, привело в этот период к своей противоположности - вульгарному торжеству плотских наслаждений.
Апологеты, следуя римским моралистам и стоикам, стремятся выявить истинные причины такого извращенного отношения к полу и усматривают их в языческой мифологии и религиозном культе. Конечно, тенденциозно ополчаясь против всего языческого, они упускают многие существенные стороны в механизме античной религиозности и односторонне подходят к интимным отношениям богов и к фаллическим культам, но вряд ли было бы правомерным требовать от мыслителей того древнего периода научности XX в. Их анализ культуры важен для нас в другом плане - самим фактом и тенденциозным характером подхода к проблеме изучения уходящей духовной культуры с позиций новой.
Безнравственная, с точки зрения христианской морали, жизнь античных богов служит для апологетов важным аргументом в критике греко-римской религии, в доказательстве неистинности ее богов и выступает у них одной из главных причин падения нравов в обществе. «Зачем же ты,- обращается Псевдо-Юстин к благочестивому греку,- будучи эллином, гневаешься на своего сына, когда он, подражая Зевсу, злоумышляет против тебя и оскверняет твое ложе? Зачем считаешь его врагом, а подобного ему чтишь? Зачем негодуешь и на жену свою за развратную жизнь, а Афродите воздвигаешь храмы?» (Orat. ad gr. 4). Климент. Татиан, Афинагор, Феофил критикуют античную религию за столь недостойные объекты поклонения, как олимпийские боги;
[173] но предельно критичен опять же Арнобий. Интимные отношения богов, описанные в мифах, он классифицирует как «грязные наслаждения», недостойные обитателей Олимпа. Венера представлена в этих мифах «жалкой потаскухой» (meretricula), Юпитер - старым развратником. Важно отметить интересный психологический прием воздействия на языческого читателя, примененный Арнобием. Да, он не верит в богов языческого Рима, но как истинный римлянин, обращающийся к римлянам, он и не оскорбляет их. Весь пыл своей критики он направляет на то, чтобы показать, что уж если боги существуют, то оскорбляют их не христиане, а сами язычники, изображая их в непристойном, неуважительном, себе подобном виде. Читатель как бы сам должен прийти к выводу, что богов-то этих придумали поэты и сочинители мифов.
Арнобий жалеет бедного старого Юпитера, оболганного сочинителями его похождений. «Неужели, не довольствуясь одной женой, похотливый бог, подобно молодым балбесам, повсюду проявлял свою невоздержанность, наслаждаясь с наложницами, блудницами и любовницами и, будучи седым, возобновлял ослабевающий пыл страстей бесчисленными любовными связями? Что говорите вы, нечестивцы, и какие гнусные мнения измышляете вы о своем Юпитере!» (Adv. nat. IV, 22). С явным удовольствием (Арнобий - человек своего времени, еще даже не принятый в христианскую общину), хотя и порицая, перечисляет наш апологет любовные приключения Юпитера, Геркулеса и других богов и богинь (IV, 26-27). Леда, Даная, Европа, Алкмена, Электра, Латона, Лаодамия и тысячи других дев и жен, а с ними и мальчик Каталит стали жертвами необузданного сладострастия главы богов. «Везде одни и те же речи о Юпитере, и нет ни одного вида мерзости, соединенного с распутством, который не ставился бы в связь с его именем, так что он, достойный жалости, по-видимому, для того только и родился, чтобы стать вместилищем преступлений, предметом поношений, открытым некоторого рода местом для отвода всех нечистот из помойных ям» (V, 22). Позиция бескомпромиссного критика, а только такую и могло занять гонимое христианство II - III вв., заставляет Арнобия видеть в мифах только буквальную их сторону (а именно так их и воспринимало большинство народа), хотя он знает и аллегорические толкования всех мифов (к его интересному пониманию аллегории мы еще будем иметь случай вернуться). Вот Арнобий обращается к мифу о Великой Матери богов (V, 5-7). Интересна его интерпретация мифа, различные варианты которого известны из Павсания, Страбона, Овидия и других писателей древности. Уже в самом изложении мифа Арнобием сквозит, хотя и скрытая, насмешка над святыней древних народов.
Во Фригии есть необычайной величины скала, которую называют Агдус. Оставшиеся в живых после всемирного потопа Девкалион и Пирра по указанию Фемиды бросали себе за спину камни от этой скалы, из которых возникли новые люди, а также и Великая Мать. Когда она как-то спала на вершине горы, Юпитер воспламенился к ней страстью. После продолжительной борьбы, так и не овладев Матерью, он излил свое семя на камни. Скала зачала и после предварительных многочисленных мычаний родила на десятом месяце сына, названного по матери Агдестисом. Он обладал огромной силой, неукротимой яростью, безумной неистовой страстью к обоим полам, склонностью похищать, разрушать и уничтожать все, к чему было привлечено его внимание. Он не щадил ни людей, ни богов, полагая, что никого нет могущественнее его во вселенной.
Богам надоели эти бесчинства, и их совет поручил Лидеру обуздать дерзкого выродка. Лидер наполняет вином источник, из которого обычно пил Агдестис, и таким способом усыпляет его. Затем он набрасывает петлю, сплетенную из крепких волос, на его гениталии, а другой конец веревки прикрепляет к его же ступне. Проснувшись, Агдестис резко вскакивает и оскопляет сам себя, тем самым лишаясь главного источника своей свирепости. Из раны вытекает большое количество крови, которая быстро впитывается в землю, и из нее немедленно вырастает гранатовое дерево с плодами. Увидев его и восхитившись красотой его плодов, дочь царя Сангария Нана срывает один плод, кладет его за пазуху и делается от него беременной. Царь обрекает ее, опозоренную, на голодную смерть, но Мать богов подкрепляет невинную деву древесными плодами. Наконец, рождается ребенок, которого царь приказывает выбросить. Кто-то подбирает его, пораженный красотой ребенка, и выкармливает козьим молоком. Он получает имя Аттис. За свою удивительную красоту он пользовался особой любовью Матери богов. Полюбил его и Агдестис, соблазнив на позорную связь.
Пессинунтский царь Мида, желая избавить юношу от этой связи, назначил ему в жены свою дочь, а чтобы кто-либо не нарушил брачного торжества, приказал запереть город. Но Мать богов, зная, что юноша будет пользоваться благосклонностью людей только до тех пор, пока будет свободен от брачного союза, чтобы предотвратить несчастье, входит в город, приподняв головой его стены (поэтому она и изображается обычно в короне, состоящей из городских стен и башен). Проникает туда и Агдестис. Пылая гневом из-за того, что отняли у него юношу, он приводит всех пирующих в состояние исступления и бешенства. Фригийцы в испуге призывают друг друга к молитве. Жрецы Кибелы оскопляют себя, дочь метрессы отсекает у себя груди. Аттис берется за флейту, приводящую всех в еще большее безумие, и сам, придя в исступление, неистово мечется, падает на землю и под сосной оскопляет себя, выкрикивая: «Вот тебе, Агдестис, то, из-за чего ты причинил столько ужасных бед». Потеряв много крови, он умирает. Великая Мать богов собирает отсеченные части и, обернув их одеждой умершего, предает земле. Из земли, политой кровью, вырастает фиалка. Невеста Аттиса Ия покрывает грудь умершего мягкой шерстью, оплакивает его вместе с Агдестисом и умерщвляет себя. Ее кровь превращается в пурпурные фиалки. Мать богов погребает и Ию, и на ее могиле вырастает миндальное дерево, вкус плодов которого указывает на горечь смерти. После этого она относит сосну, под которой Аттис оскопил себя, в свой грот и, присоединившись в плаче к Агдестису, истязает себя, нанося себе раны в грудь.
Агдестис просит Юпитера оживить Аттиса; тот не соглашается, но позволяет, чтобы тело его не разлагалось, волосы росли и оставался живым и подвижным один лишь мизинец. Удовлетворившись этим, Агдестис устанавливает культ и празднества в честь Аттиса, проходившие с изуверскими самоистязаниями и оскоплениями.
Участники этого изуверского действа находили в нем психическую разрядку, получали, видимо, удовольствие от специфического высвобождения скрытых в глубинах психики побуждений (агрессивных, сексуальных и т. п.). Все, подавленное в древнем человеке многовековым развитием культуры, находило в таком культе свое высвобождение, однако опять же под покровом культуры (в рамках официально признанного культа).
Новый этап самосознания культуры начинался с попыток приподнять этот покров. В восточном мифе, достаточно поздно принятом Римом в качестве культа, Арнобий усматривает прежде всего оскорбление Великой Матери: «Скажите, неужели Мать богов, будучи опечаленной, сама с почтением и усердием собирала отсеченные гениталии [Аттиса] вместе с излившеюся кровью, сама священными божественными руками трогала и поднимала непристойные отвратительные органы, предавала их земле и, конечно, для того, чтобы они, будучи обнаженными, не разлагались в недрах земли, прежде чем обернуть их и покрыть тканями, омыла их, наверное, и натерла благовонными мазями? Ибо каким образом могли бы вырасти пахучие фиалки, если бы гниение члена не ослаблялось чрез это добавление бальзама?» (V, 14). Более едко вряд ли можно высмеять одну из главных мистерий древнего мира. Рассказав с такой же долей сатиры о других мистериях, где мужские и женские гениталии играли главную роль, когда изображения фаллоса наполняли всю страну, а торжества в честь Лидера (Диониса) начинались с того, что наиболее почитаемая матрона города при большом стечении народа торжественно садилась на бутафорское изображение огромного фаллоса, которое затем возили по всей стране,- рассказав все это, Арнобий приходит к выводу, что язычники с подобными культами являются большими атеистами, чем те, кто отрицает их богов и ими обвиняется в безбожии, ибо подобным почитанием они только оскорбляют богов (V, 30). Вывод верный и точный, ибо позднеримская культура, что подчеркивали и сами римляне, уже не имела настоящего благочестия и истинной религиозности. Религия в Римской империи превратилась в одну из важных государственных формальностей, а для народа религиозное действо стало зрелищем и праздником.
Приведенные здесь суждения Арнобия типичны, в менее острой форме, для всех апологетов, и в наиболее развернутом и полном виде их представит затем Августин. Однако, как уже указывалось, критика для апологетов не ограничивалась высмеиванием. Их сатирические и иронические сентенции - особый эстетический прием развенчания регрессивных, отживающих, но еще выдаваемых за истинные ценности сторон культуры. Критику же, или «разоблачение», апологеты понимали в широком смысле - как исследование, выявление сущности рассматриваемого (критикуемого) явления.
Где же усматривали они причины возникновения культа античных богов и религий? Вот здесь-то и пригодились им традиции библейского историзма, умение прислушиваться к «свидетельствам времен». Они внимательно всматриваются в греческую и римскую историю, перечитывают древних авторов и особенно Эвгемера, стоиков (возможно, аллегорические толкования ритора Гераклита или Корнута), Цицерона и Варрона, собравших богатый материал о происхождении богов, и делают соответствующие выводы, которые вкратце сводятся к следующему. Греки и римляне обожествили своих древних царей и героев, также - природные стихии, космические тела, основные элементы мира, персонифицировали и обожествили почти все свойства и качества человеческой души. Поэты и писатели облекли все это в приятные, понятные и достоверные формы мифов и сказаний, народ постепенно разработал систему культа и ритуалов, живописцы и скульпторы позаботились о внешнем виде богов, а архитекторы соорудили им роскошные храмы.
Юстин считал, что вся греческая мифология берет начало от пророческой (библейской) литературы. Демоны, бытие которых признавали все апологеты, знали слова пророков о Христе, но неправильно поняли их и внушили людям ложные мнения о многих богах (Αροl. Ι, 54). В мифах о Дионисе, о Геракле, об Асклепии, воскрешающем мертвых, Юстин склонен видеть искаженные библейские пророчества о Христе (II, 69).
Другие апологеты, не связывая античную мифологию с ближневосточной, единодушны в том, что сказания о богах сочинили поэты и философы, а народ стал поклоняться им. Афинагор Афинский, процитировав Геродота
[174], заявлял: «Итак, я утверждаю, что Орфей, Гомер и Гесиод [создали] тех, кого они называют богами» (Leg. 17). С ним полностью согласен и Феофил Антиохийский, приводя большие цитаты из «Теогонии» Гесиода, из Гомера и других греческих поэтов и писателей (Ad Aut. 2; 5 - 8). Сказания же античных авторов никак нельзя принимать за действительность, убеждает нас автор псевдоюстиновых трактатов, и потому, что мысли поэтов о происхождении богов - «нелепые мнения» (Coh. ad gr. 2), и потому, что боги в мифах наделены всеми мыслимыми пороками людей, что совершенно невозможно (Orat. ad gr. 2-3), и, наконец, потому, что просто нельзя же верить басням (μύθοις) такого легкомысленного человека, как Гомер, который положил «предметом своих песнопений, началом и концом «Илиады» и «Одиссеи» - женщину (1).
Подробно занимались этим вопросом и латинские апологеты. Тертуллиан, внимательно проштудировав Варрона (см. Ad nat. II, 1) и римскую историю, писал: «Сколько бы [я ни исследовал] ваших богов, я вижу всего лишь имена некоторых древних мертвецов, слышу басни и узнаю религиозные обряды, основанные на баснях» (Apol. 12). Культ богов у вас происходит из культа мертвых и во всем подобен ему (13). Минуций Феликс, опираясь на сочинения «историков и мудрецов», пишет, что древние старались увековечить своих умерших предков в статуях, которые впоследствии стали считаться священными (Octav. 20-21). Ему вторит и Киприан. полагавший, что древние почтили память умерших царей храмами и статуями. Их потомки стали поклоняться им, как богам (Quod idol. 1). Минуций ссылается на Эвгемера
[175], писавшего, что все божества суть люди, обоготворенные за свои благие деяния и добродетели; он приводит сообщение из письма Александра Македонского к матери, в котором Александр рассказывает о тайне, открытой ему одним жрецом, о том, что боги - не что иное, как обоготворенные люди (Octav. 21, 1-3).
Арнобий, разобрав имена многих богов, показывает, что они означают определенные природные явления, объекты или стихии, и, следовательно, сами-то боги и не существуют. Здесь у Арнобия ощущается знание стоического аллегорического толкования богов, подробно изложенного Цицероном (см. De nat. deor. II, 23-28) или автором I в. Корнутом
[176]. Обожествление элементов и явлений мира ведет к обожествлению всего мира, что в принципе неверно. «Сущность установленного и изложенного сводится к тому, что ни солнце не является богом, ни луна, ни эфир, ни земля, ни прочее. Они - части мира, а не особые наименования божеств, а так как вы путаете и смешиваете все божественное, то получается, что во вселенной (in rerum natura) признается один бог - мир и отвергаются все прочие, как признанные [за богов] совершенно напрасно, тщетно и без всяких оснований» (Adv. nat. III, 35). А вот еще один вывод Арнобия, важный уже не столько для вопроса происхождения богов, сколько для понимания человека античностью и христианством (подробнее на этой проблеме мы остановимся ниже): наши предки «стали представлять богов подобными себе и приписали им свойственный самим род действий, чувствований и желаний. Но если бы они могли понять, что они ничтожные существа, в незначительной степени отличающиеся от муравья, то они, без сомнения, перестали бы думать, что они имеют что-либо общее с небесными существами, и скрытно держались бы в границах своего низкого состояния» (VII, 34). Не принижая так человека, и Климент Александрийский считал, что язычники придумали себе богов по своему подобию, наделив их всеми чертами человеческого характера. В этом он и усматривал начало всех суеверий (Str. VII, 22).
Иначе к вопросу о богах подошел Лактанций, потративший много усилий на то, чтобы вслед за Лукрецием «распутать узлы религиозных заблуждений» (Div. inst. Ι, 16). В античной религии он усматривает заблуждение, в которое впали греки (а за ними и римляне) по своему легкомыслию. (Вторая книга его «Божественных наставлений» так и называется «О начале заблуждений».)
В основе всех религиозных мифов и сказаний, по мнению Лактанция, лежат события реальной истории, приукрашенные поэтами. Все деяния богов можно принять за действительность, если признать их героями, а не богами (I, 11, 19). Следуя этому принципу, Лактанций предпринимает попытку развенчать античную мифологию, снимая с нее элемент чудесного и выявляя ее, так сказать, «реально-историческую» основу.
Происхождение богов и религии он по уже установившейся традиции усматривает в постепенном (для него ясна длительность и последовательность этого исторического процесса) обожествлении умерших царей и героев, в перерастании обрядов, связанных с их памятью, в культовое почитание, чему немало способствовали поэты, не забывает всегда добавлять Лактанций. Сказание о том, что Сатурн - плод брака неба и земли, кажется ему «поэтическим вымыслом». Вероятнее всего, полагает он, Сатурн, будучи сильным государем, для увековечивания и возвеличивания памяти своих родителей назвал их после смерти Небом и Землей, хотя при жизни они имели другие имена (I, 11, 54-57). Поэты считают, что Прометей создал человека из земли и глины. Надо полагать, что Прометей был первым скульптором, придумавшим искусство лепки фигур из глины, что и послужило поводом к созданию мифа (II, 10, 12). Подобному разоблачению подвергаются и остальные мифы. И Юпитер, вне всякого сомнения, был человеком, а все его превращения - результат поэтической обработки. Конечно, Юпитер не превращался ни в лебедя, ни в быка, ни в золотой дождь. Соблазнив золотыми монетами, он купил у Данаи девство, а поэты это обычное дело представили в поэтическом свете (I, И, 19). Ио не сама, превратившись в телку, переплыла море, а на корабле, и т. д.
Но Лактанций не винит поэтов в сознательном обмане, фальсификации действительности и, соответственно, в распространении ложных верований. Поэты по законам своего творчества немного «приукрасили» историю, а народы приняли «поэтические вольности» (poeticae licentiae) за чистую монету (I, 11, 23-24). Так представляет себе Лактанций ход культурного развития. Он, как и другие апологеты, ясно сознает, что этот этап духовной культуры изжил себя, оказался «заблуждением» в свете открывшейся истины - христианского учения.
Современному человеку, со школьной скамьи с благоговением относящемуся к непередаваемой красоте, очаровательной наивности и глубинной, общечеловеческой значимости древних греческих мифов, «историзм» и «реализм» апологетов могут показаться примитивными и даже забавными. Не такими, однако, они представлялись людям той переломной эпохи. Многим сторонникам и теоретикам этого «наивного историзма» пришлось доказывать его истинность своей кровью, открывая этим уже новую страницу истории. Экскурсы в историю религии Афинагора, Феофила, Тертуллиана, Минуция, едкий смех Арнобия и его сподвижников могли в любой момент прерваться мученической смертью или ссылкой. (Вспомним печальную участь их собратьев по перу и вере - Юстина и Киприана.) Разоблачение богов и римской веры могло в любой момент окончиться физическим уничтожением разоблачителя, а диалог временно прекращался за исчезновением одной из полемизирующих сторон, увлекаемой на арену амфитеатра в общество голодных зверей или под меч палача.
Наивность и искренность идеалов новой культуры таили в себе притягательную силу истины, и это заставляло ее апологетов бороться за нее даже под страхом смерти.
Этика
Остро ощущая разложение античной культуры, почти всех ее институтов, апологеты осознавали его не как кризис, но как неистинность, ложность этой культуры в целом при отдельных позитивных моментах. При этом они хорошо чувствовали историческую изменяемость культуры. Предпочтение отдавалось ими древнему периоду римской истории, когда нравы были строже
[177], обычаи проще и естественнее. Современную им культуру Рима они подвергали острой критике. Ни одна из главных страниц этой культуры не ускользала от их внимания. Вслед за религией этика и социальные отношения, политика и юриспруденция, философия и искусство - все подверглось критическому анализу первых защитников и теоретиков новой культуры.
Прежде всего они подчеркнуто отрицательно относились к обычаям, царившим в римском обществе их времени. Жестокость, корыстолюбие, несправедливость, лицемерие, извращенность - вот основные характеристики, которыми апологеты, вслед за киниками и стоиками, определяли нравы современного им римского общества.
Зловещим цветом человеческой крови обагрена для Киприана вселенная. На суше и на море бесчинствуют разбойники и грабители. Убийство, называемое преступлением, когда его совершает частный человек, слывет добродетелью, если совершается открыто в массовых масштабах специально натренированными войсками. Бесчеловечность господствует в мире (Ad Donat. 6). «Если обратишь взгляд и лицо свое к городам, то найдешь [там шумное] многолюдие, более мрачное, чем любая пустыня». Постоянно идет подготовка к гладиаторским боям, чтобы пролитием крови доставить удовольствие кровожадным глазам зрителей. Людей убивают в удовольствие людям. Убийство вошло в обыкновение, стало искусством, наукой. Не только убивают людей на потеху зрителям, но и учат убивать. Убийц славят за то, что они убивают. «Что может быть более бесчеловечным (inhumanius), более жестоким?» - с возмущением спрашивает Киприан (7). Интересно, что гладиаторами в позднем Риме были не только рабы, которых с древних времен заставляли убивать друг друга. Теперь многие свободные и обеспеченные римляне, а иногда и римлянки шли в гладиаторы в погоне за славой и острыми ощущениями. Тщеславие заставляло многих мужчин и женщин того времени рисковать жизнью. Одни из них проливали кровь на аренах, другие могли пробежать большое расстояние в горящей одежде, третьи с важностью проходили сквозь град палочных ударов (Tertul. Ád martyr. 5).
На бои с дикими животными отцы и матери бестиариев одевались как на праздники, покупали дорогие места в первых рядах, чтобы затем, издевается Киприан, оплакать своего растерзанного на их глазах сына. «И зрители, - резюмирует Киприан, - столь нечестивых, бесчеловечных и ужасных позорищ нимало не задумываются о том, что их кровожадные взгляды являются главной причиной кровопролития и убийства» (Ad Donat. 7). Киприан здесь явно облагораживает нравы римских зрителей, ибо они сознательно и с вожделением требовали крови. Когда Марк Аврелий попытался превратить гладиаторские бои в бескровное представление, заменив настоящее оружие бутафорским, публику охватила такая волна негодования и возмущения, что благую реформу пришлось сразу же отменить
[178].
В обществе, негодуют апологеты, повсеместно царят корыстолюбие и лицемерие. Римляне тайно творят то, что громогласно обличают и порицают (Ad Donat. 8). Римское правосудие продажно, что особенно возмущает апологетов, трудившихся в свое время на ниве римской юриспруденции. Отсюда, по их мнению, и все преступления: изготовление фальшивых документов, убийства, ложные свидетельства и т. п. «Злодеи остаются безнаказанными оттого, что скромные молчат, свидетели боятся, а долженствующие судить подкупаются» (Сург. Ad Demetr. 11). И в другом месте, у того же Киприана, читаем: «Среди самих законов допускаются нарушения, при [самих] правах творится несправедливость. Невинность не находит защиты и там, где она должна охраняться. Из-за [постоянных] раздоров свирепствует бешенство». Нет покоя даже среди мирных тог, место суда постоянно оглашается неистовыми криками. Там всегда все готово для встречи жертвы: копье, меч, палач; когти для терзания, деревянная дыба для пыток, огонь для жжения тела. Для одного тела человеческого приготовлено значительно больше способов пыток, чем в нем насчитывается членов. «Кто, право, поможет среди [всего] этого?.. - с горечью вопрошает Киприан. - Кто поставлен пресекать преступления, сам допускает их; и обвиняемый погибает невинно потому, что судья виновен».
Составляются подложные завещания, дети отчуждаются от наследства, имения передаются в руки ловких проходимцев. «Законов никто не боится; никто не имеет страха ни перед следователями, ни перед судьями. Не страшно то, что можно купить. Быть среди виновных невинным уже преступление. Кто не подражает плохим [людям], тот оскорбляет [их]» (Ad Donat. 10).
Систематическое нарушение законов римлянами, а также несоответствие многих законов реальным нормам жизни общества позднеантичного периода приводит раннехристианских мыслителей к выводу, что «законы делает достойными похвалы не [их] возраст и не авторитет [их] учредителей, а одна [только] справедливость» (Tertul. Apol. 4). А чтобы выяснить, справедлив ли тот или иной закон, его необходимо постоянно критически исследовать. «Впрочем, подозрителен тот закон,- замечает Тертуллиан, - который не желает, чтобы его проверили; несправедлив закон, если он господствует без проверки» (4). Да и что это за закон, если он позволяет безнаказанно морить детей голодом и холодом, топить их, уничтожать еще во чреве матери, заниматься прелюбодеяниями, кровосмешением и многими другими мерзкими деяниями! (Ad nat. Ι, 15 - 16). Особенно беспокоит апологетов «эмансипация» женщин в позднеантичный период. Если в Древнем Риме женщины одевались скромно, разводы были запрещены, не позволялось женщинам и пить вино, то «теперь, - сетует Тертуллиан, - у женщин нет ни одного свободного от золота члена, ни одни женские уста не свободны от вина, развод же стал поистине предметом желания, как бы [необходимым] следствием брака» (Apol. б)
[179]. Женщины и девушки с удовольствием и без всякого стыда ходят теперь в общие бани и, если сами не имеют мыслей о прелюбодеянии, то своими обнаженными телами возбуждают нездоровые страсти у находящихся там мужчин (Cypr. De hab. virg. 15; Clem. Paed. III, 31 - 33). Апологеты последовательно (а некоторые и крайне ригористично) выступали против увлечений сексуальными наслаждениями. Выбрасывать детей, писал Юстин, худо и потому еще, что их подбирают обычно развратные люди и выращивают (как девочек, так и мальчиков) исключительно для своих сексуальных развлечений. Многие римляне держали целые стада таких детей (Apol. I, 27). За растление мальчиков активно порицал римлян и Татиан (Adv. gr. 28). Борьба с половой распущенностью и сексуальными извращениями, процветавшими в позднем Риме, - общее место у всех апологетов.
В отношении социально-имущественного положения человека раннехристианские мыслители последовательно боролись с накопительством и богатством
[180]. Весь трактат Киприана «О благих делах и милостынях» направлен против богатых, которых он призывает раздавать имущество бедным. Богатство, по мнению ранних христиан, источник зла, несправедливости и преступлений. Только дела милосердия и бедность открывают путь к вечной жизни. «Бедность для нас не позор, но слава», - писал Минуций Феликс (Octav. 36, 3). Богатство же пленяет душу и ведет человека к гибели. «Ты пленник и раб твоих денег, - обращается Киприан к скупцу, - ты связан цепями и узами жадности; ты, которого уже освободил Христос, снова связан. Ты бережешь деньги, которые, будучи сбереженными, не сберегут тебя. Ты умножаешь имущество, которое обременяет тебя своей тяжестью» (De op. et eleem. 13). Утопическая идея о великом благе раздачи имущества бедным была очень популярна в период раннего христианства.
Науки. Философия
Если в области этики, правовых и социальных отношений христиане многое отрицали в позднеримской культуре, то их отношение к наукам, искусству, философии было более сложным и противоречивым. Так, Татиану и особенно Арнобию достижения греко-римской культуры в области науки, ремесла, искусства представляются не очень значительными. Убогие и нуждающиеся во многом люди, «замечая в случайных явлениях нечто полезное, путем подражания, опытов, исследований, ошибок, преобразований, изменений и постоянного исправления приобрели незначительные (parvas) и поверхностные знания искусств и, улучшая [эти знания] в течение весьма долгого времени, достигли некоторого успеха» (Arn. Adv. nat. Π, 18). В этой пренебрежительной оценке достижений человеческой культуры ясно ощущается негативное отношение христиан к римской культуре, с одной стороны, и отчетливо проявляется понимание апологетами самого исторического процесса накопления и формирования знаний и культурных ценностей в человеческом обществе. Отрицая античных богов, христиане должны были, естественно, отказаться и от древнего мифа о том, что искусства и науки даны людям богами. Они вынуждены были вслед за наиболее проницательными мыслителями поздней античности задуматься над вопросом исторического происхождения наук и ремесел, и выводы их были вполне реалистичны. Путем длительных наблюдений за природой и своим собственным бытом люди постепенно открывали «нечто полезное», усваивали его, проверяли на практике, совершенствовали; часто ошибались, исправляли ошибки и таким путем в течение многих веков накапливали знания и практические навыки, создавали науки и искусства. Понятно, что, реалистически осмыслив происхождение наук и ремесел, первые христиане не могли прийти в восторг по поводу удивительных успехов человеческого разума. Достигнув определенных результатов, разум этот в период поздней античности пришел в тупик бездуховности, услаждаясь плодами материального изобилия и изощренными чувственными удовольствиями, получаемыми римской элитой на основе использования рабского труда. Науки и искусства - главное, по мнению христиан, детище разума - были направлены только на увеличение роскоши и изобретение все новых и новых средств и способов развлечений. Возникшее в этой атмосфере христианство предложило человечеству духовные идеалы, перенесенные в сферы возвышенные, принципиально недоступные «низменному», ограниченному, погрязшему в чувственных удовольствиях человеческому разуму. И с позиций этого божественно-возвышенного идеала христианство стремится показать ничтожность слишком уж возомнившего о себе «человечества», под которым имелась в виду прежде всего римская аристократия. Кончалось «детство человечества» с его зазнайством, самолюбованием и самовосхвалением. Переход к возмужанию сопровождался естественным кризисом роста, открытием новых возможностей и излишне резким, стыдливым (тоже кризис детства, но еще в самом детстве) отношением к своим вчера еще любимым игрушкам. Еще вчера человек мнил себя почти равным богам; он мог с ними спорить, сражаться, обманывать их. Сегодня же в свете открывшихся бесконечных перспектив он ощутил себя «мало чем отличающимся от муравья» (VII, 34). Христос принес человеку новые знания о Боге, мире и человеке. «Он обуздал нашу гордость,- пишет Арнобий, - и заставил высокомерно поднятые вверх головы признать меру своей немощи; он показал, что мы слабые существа, что мы верим пустым мнениям, ничего не понимаем, ничего не знаем и не видим того, что находится пред нашими глазами» (I, 38). Античный идеализм сменяется христианским реализмом и критицизмом. «Вы возлагаете спасение душ ваших на самих себя и надеетесь своими собственными усилиями сделаться богами; но мы ничего не обещаем себе из-за своей немощности, потому что мы видим, что наша природа бессильна и во всякой борьбе побеждается своими страстями» (II, 33). Наступил этап критического самоанализа, самоуничижения и самобичевания человека перед лицом нового духовного идеала. Исторически он был вполне закономерен и своевремен и привел в конце концов к новому осознанию человеком своих сил и своей значимости в конце Средневековья на рубеже Нового времени.
«Негативная» философия культуры, как и «эстетика отрицания» ранних христиан, может быть правильно понята только при постоянном памятовании об этой важной роли раннего христианства в контексте всей истории средиземноморской цивилизации.
Апологеты, считавшие себя больше продолжателями традиций ближневосточной культуры, чем греко-римской, стремятся показать, что и все науки греки и римляне заимствовали с Востока. Татиан призывает эллинов не питать ненависти к варварам, и в частности к варварскому учению христиан, ибо все, чем они кичатся перед варварами, происходит от них, а не от греков. Астрономию изобрели вавилоняне, магию - персы, геометрию - египтяне, письменность - финикийцы. Орфей научил пению и поэзии, тосканцы изобрели пластику, у фригийцев заимствовали вы игру на флейте, а составление истории переняли у египтян и т. д. (Adv. gr. I). Высокомерие эллинов, таким образом, ничем не может быть оправдано. Более того, и сами-то эти науки бесполезны, так как, по мнению Татиана, они не ведут к познанию истины (27). Здесь с ним не могут согласиться ни Ириней Лионский, считавший их полезными и достойными изучения (Contr. haer. Π, 32, 2), ни Климент Александрийский, утверждавший, что истинный гностик «должен быть знаком со всем курсом школьных наук и со всей эллинской мудростью» (Str. VI, 83, 1), ибо они готовят ум к уразумению божественной истины и к ее защите (VI, 80, 1). Климент, однако, согласен с Татианом в вопросе о происхождении наук. Он тоже считает, опираясь на древние греческие источники, что «почти все науки (τέχνη) были изобретены варварами» (I, 74, 1).
Особо сложными были отношения у христианства с античной философией, на основе которой апологеты стремились выработать свое понимание философии и свою философию. Они, как и все образованные люди того времени, хорошо знали греко-римскую философию. Более того, апологеты внимательнейшим образом изучали ее, сравнивали взгляды одних мыслителей с учениями других, искали в античной философии подтверждения своим идеям и активно опровергали то, что не соответствовало doctrina christiana. Именно с философами античности, как с наиболее серьезными противниками, вели постоянный диалог христианские теоретики.
Апологеты, по сути дела, были первыми сознательными исследователями (историками) античной философии, изучавшими ее со стороны, как хотя и близкий, но уже пройденный этап
[181]. Эта позиция «извне» сразу дала им многое увидеть и понять в истории античной философии (хотя эта история была еще далеко не кончена).
Начиналось все с полного отрицания и неприятия. Первые апологеты, как представители нового философско-религиозного учения по традиции и по существу, отрицали всю античную (речь идет в основном о греческой) философию, как не нашедшую истины, погрязшую в противоречиях, заблуждениях и софистике. Следуя по пути скептиков, апологеты сравнивали и сталкивали между собой учения различных философских школ и отдельных философов об одном и том же предмете, которые, как правило, оказывались противоречивыми, и на этом основании старались доказать, что философия в целом еще не обрела истины. Особенно строг к греческим философам был Татиан Сириец. Не удовлетворяясь выявлением противоречивых суждений, он кропотливо собирал античные легенды, анекдоты и вымыслы, порочащие философов, и, излагая их, стремился развенчать авторитет и славу древних мыслителей. Вот Диоген, хваставшийся воздержанием, умирает от болезни внутренностей, съев сырого полипа. Аристипп, ходивший в пурпурной одежде, вел распутную жизнь; Платон был продан в рабство за обжорство. Аристотель слишком льстил Александру, а тот, пользуясь его учением, бесчеловечно обращался со своими близкими друзьями. Гераклит умер по причине своего полного невежества в медицине (таков он был и в философии, добавляет Татиан), киники знамениты были своими нестрижеными волосами, бородами и ногтями, и т. п. (Adv. gr. 2-3; 25).
Псевдо-Юстин (Coh. ad gr. 3; 5-7), Татиан (Adv. gr. 3), Феофил (Ad Aut. III. 3) показывают, что философы во всем противоречат один другому, а некоторые даже и своим собственным утверждениям, а это лучше всего свидетельствует о том, что истину они не нашли. Да и ищут они больше не истину, но славу. Показательным в этом плане является остросатирическое «Осмеяние чуждых философов» христианского мыслителя Гермия. Он приводит разнообразные суждения философов о душе и показывает, что никак нельзя понять, с каким же из них следует согласиться. Древние превращают душу во что угодно; «признаюсь,- пишет Гермий, - такие превращения возбуждают во мне отвращение. То я бессмертен и радуюсь; то смертен и плачу; то разлагают меня на атомы: я становлюсь водою, становлюсь воздухом, становлюсь огнем. Но вот я уже не воздух и не огонь, меня делают зверем или рыбой. Я становлюсь братом дельфинов. Смотря на себя, я пугаюсь своего тела и не знаю, как назвать его; человек ли это, или собака, или волк, или бык, или птица, или змея, или дракон, или химера. Во всякого рода зверей превращаюсь я под [пером] тех любителей мудрости: в наземных, водных, летающих, многовидных, диких, домашних, беззвучных, хорошо поющих, бессловесных, разумных. Я плаваю, летаю, парю в воздухе, пресмыкаюсь, бегаю, сижу. Является, наконец, Эмпедокл и превращает меня в растение» (Irris. 2). Что путного о мире и богах могут сказать эти философы, сетует Гермий, хотя каждый из них говорит много и достаточно убедительно. Скажем, по вопросу о начале природы я соглашаюсь, продолжает он, то с Анаксагором, то с Парменидом, то с Анаксименом. «Но против этого восстает с грозным видом Эмпедокл и из глубин Этны
[182] громко восклицает: начало всего - ненависть и любовь (φιλία); последняя объединяет, а первая разделяет, и от их борьбы все происходит. По-моему, они сходны между собой и несходны, беспредельны и имеют предел, вечны и временны. Прекрасно. Эмпедокл, иду за тобой до самого огненного кратера. Но на другой стороне стоит Протагор и удерживает меня, говоря: предел и мера (κρίσις) вещей есть человек; что подлежит чувствам, то и является вещами [действительными], а что не подлежит им, того нет на самом деле» (4). Я уже увлекаюсь Протагором, но там Фалес предлагает другую истину, Анаксимандр - третью, Платон - четвертую, Аристотель - пятую и т. д. Вот я уже соглашаюсь с «лучшим из мужей» Эпикуром, но над ним смеется Клеанф, а Карнеад и Клитомах доказывают, что вообще ничто не может быть постигнуто. Но если это так, то философия не обладает никаким знанием вещей, а лишь гоняется за их тенью (7). Но вот есть другие философы, которые передают свое учение как таинство. Это Пифагор и его последователи. Послушаем их. «Начало всего,- учат они,- единица; из ее модификаций (των σχημάτων) и из чисел происходят стихии. Число же, форма и мера стихий таковы: огонь составляется из двадцати четырех прямоугольных треугольников и заключается в четырех равных сторонах. Каждая равная сторона состоит из шести треугольников, так что он уподобляется пирамиде. Воздух состоит из сорока восьми [прямых] треугольников и заключается в восьми равных сторонах; он подобен октаэдру, который содержит восемь равносторонних треугольников, из которых каждый разделяется на шесть прямых углов, так что всего образуется сорок восемь углов. Вода состоит из ста двадцати [треугольников], и сравнивают ее с икосаэдром, содержащим сто двадцать равных и равносторонних треугольников... Эфир составляется из двенадцати равносторонних пятиугольников и подобен додекаэдру. Земля состоит из сорока восьми треугольников и заключается в шести равносторонних четырехугольниках и имеет вид куба; ибо куб состоит из шести четырехугольников, каждый из которых имеет четыре треугольника, так что всех треугольников получается двадцать четыре» (8). Мы привели эту длинную цитату, чтобы показать большую осведомленность ранних христианских писателей в античной философии. Даже тайное математически-геометрическое учение пифагорейцев о мире было им хорошо известно. Многие элементы этого учения использовали впоследствии в своих теориях средневековые мыслители. Апологеты же относились к ним весьма скептически. «Так измеряет мир Пифагор, - продолжает Гермий, - я, снова вдохновленный, оставляю дом, отечество, жену, детей и, ни о чем более не заботясь, возношусь в самый эфир и, взяв у Пифагора мерку, начинаю мерить огонь» (9). Далее он с иронией описывает, как он измеряет и исчисляет все вещества в мире; опираясь на советы Эпикура, он пересчитывает атомы во всем бесчисленном множестве космических миров и показывает, что все это глубоко бессмысленно. Его вывод о первых попытках математического подхода к мирозданию весьма категоричен: «Все это мрак неведения, черная ложь, бесконечное заблуждение, бесцельные домыслы, непроницаемое незнание» (10). А все философские учения, вместе взятые, как противоречащие друг другу, теряющиеся в догадках и заблуждениях, не ведущие ни к какой разумной истине, достойны только осмеяния. Конечно, далеко не все апологеты последовательно выступали против всей античной философии. Едины они были только в том, что эта философия во всех ее школах и течениях уже не могла удовлетворить жаждущее истины сознание, и они напряженно искали новых форм философствования. Такие формы открылись им в мудрости библейских пророков, и апологеты с радостью первооткрывателей приняли ее за единственно истинную, «твердую и полезную» философию. Юстин пишет, что он сделался философом, когда его «объяла любовь к пророкам и их учению» (Tryph. 8). Татиан рассказывает, как он в поисках истины исследовал все лучшее в духовном наследии античности, не находя удовлетворения, пока не напал «на одни варварские книги, которые древнее эллинских учений» и по сравнению с мудростью которых греческая философия предстает детскими бреднями (Adv. gr. 29 - 30). В этих-то книгах христиане и обрели свою философию. Апологеты, таким образом, следуя пути, намеченному еще Филоном Александрийским, значительно расширяют традиционные рамки античного понятия «философия», вводя в его смысловое поле всю ближневосточную мудрость. Последняя же, по греко-римской классификации, стоит значительно ближе к художественно-мифологической сфере, к «басням поэтов», чем к собственно философии. Именно это, конечно, в связи с религиозным ореолом библейских текстов, и уготовило им столь быстрое покорение греко-римского мира.
Главное преимущество христианской библейской философии перед греческой состоит, по мнению апологетов, в том, что она уже содержит в себе истину, данную Богом, греческая же только ищет ее и пока очень далека от завершения поиска (Athen. Leg. 7). И в греческих философских учениях, как полагали большинство апологетов, есть «зерна» истины, но смешанные с крупными заблуждениями и глупостью (Theoph. Ad Aut. II, 12). Однако и эти «зерна» ранние христиане в острой борьбе с античной культурой не хотят отдать ей. Более спокойная и объективная оценка греческой философии наступит позже. Апологеты же II и III вв. стремились изо всех сил доказать, что эти «зерна» греческие философы заимствовали с Востока. Для этого, во-первых, они, используя все исторические и псевдоисторические способы и методы, доказывают, что библейская мудрость старше всей греческой культуры
[183], и, во-вторых, что все ценное, с точки зрения христиан, в греческой философии можно найти и у пророков, т. е. греки все это заимствовали у них
[184].
Особым уважением у многих апологетов греческого происхождения пользовались Платон, платоники, стоики, неопифагорейцы. «Строматы» Климента Александрийского полностью посвящены охране «семян познания», скрытых прежде всего в греческой философии. Климент видел глубокий смысл в том, что «волей божественного Провидения» до пришествия Христа Закон (данный Богом Моисею) «блистал» у евреев, а философия - у эллинов (Str. VI, 159, 8). При этом под «философией» Климент, как и другие апологеты, имел в виду не какое-либо конкретное философское направление античности, а некую эклектическую систему, соединившую воедино те мысли и суждения всех направлений, которые считались истинными с точки зрения христианства (I, 37, б)
[185]. К эллинским философам у Климента двойственное отношение. Сам вышедший из их среды, он на всю жизнь сохранил в себе огонь философа-эллина. Он знал и любил философию. В отличие от некоторых христиан-ригористов, Климент полагал, что в учении каждой из философских школ содержится доля истины (I, 87, 1), а в философии в целом, «как бы вторым Прометеем похищенной с неба, горит огонь светоносной истины» (I, 87, Г). Однако, будучи убежденным христианином, он вынужден ругать своих античных учителей. Но не за «плохую» философию нападает он на них. Философия-то хороша, да вот философы, по традиционному среди апологетов мнению, «воры и разбойники» - заимствовали всю свою мудрость с Востока (у индусов, персов, египтян и особенно у евреев) и не признаются в этом (I, 60; 87, 2).
Во II в. пятивековое противостояние и взаимопроникновение Востока и Запада впервые в истории культуры остро поставило проблему «Восток или Запад». Раннехристианские мыслители в силу соответствующей культурно-исторической ситуации однозначно решали ее в пользу Востока, открывая тем самым путь к синтезу, к новой культуре.
Стремление к объединению лучших достижений греческой и восточной мудрости в единую истинную философию основывалось у апологетов, особенно греческих, на глубокой уверенности в возможности и необходимости такой философии. В отличие от скептиков, они твердо верили, что в мире существует только одна истина и эта истина может быть найдена только одной (а не многими) философией. Греки не нашли эту истинную философию, но каждая из философских школ вскрыла какой-то аспект истины. Настоящая и единственная философия, конечно, должна содержать в себе все эти аспекты, но в единой целостной и непротиворечивой системе, направленной на постижение высшей истины и первопричины всего - Бога. Поэтому-то апологеты, прежде всего греческие, так высоко ценят философию. Уже первый христианский философ Юстин, продолжая лучшие традиции античной любви к философствованию, но критикуя сам результат этого философствования, писал: «Философия поистине есть величайшее и ценнейшее [в глазах] Бога сокровище; она одна приводит нас [к Богу] и соединяет [с ним], и истинно святы те, кто устремил свой ум к философии; но для многих осталось скрытым, что такое философия и для чего она ниспослана людям. Иначе бы не было ни платоников, ни стоиков, ни перипатетиков, ни теоретиков, ни пифагорейцев, ибо знание только одно» (Tryph. 2).
Большое внимание уделяли философии и латинские апологеты, также относясь к ней и оценивая ее по-разному, но во многом и отлично от греческих апологетов, ибо они выросли из римской традиции и опирались во многом на римское понимание философии.
Уже Тертуллиан усмотрел в античной философии две тенденции, два главных направления. Первое утверждало, что есть создатель и устроитель мира, второе - что мир никем не создан, а состоит из особых элементов, соединенных по законам природы. Главным представителем первого направления Тертуллиан считал Платона, а само направление называл humanitas (изысканность, утонченность), в отличие от второго - duritia (грубость, бездушие), которое Тертуллиан связывал с именем Эпикура (Ad nat. Π, 3). Первый христианский мыслитель Запада приходит к ясному осознанию того, что современная философия дефинирует как идеализм и материализм. Естественно, что симпатии новой, изначально религиозной культуры всецело на стороне первого направления, что ясно выражено и в самих определениях - Platonis humanitas и Epicuri duritia.
Тертуллиан усматривает различие в предмете исследования этих двух философских направлений. Философия-duritia изучает материальный мир, его предметы и элементы, не узнав, что есть их истинная Первопричина, стоящая, по мнению африканского апологета, за всеми элементами материального мира (II, 5). Поэтому, «чтобы знать, каково есть то, что видимо, необходимо глубже исследовать то, что не видимо» (II, 4). Именно познание Первопричины составляет, по глубокому убеждению христианских мыслителей, предмет истинной философии.
Конечно, к этому пониманию пришли уже представители humanitas-философии, и прежде всего «тот божественный Платон (Plato ille divinus), рассуждавший часто о Боге достойно его и необычно для толпы», писал, имея в виду «Тимея», Арнобий (Adv. nat. Π, 36). Однако и «божественный Платон», и тем более другие античные философы, по мнению их христианских критиков, не нашли истины. Мнения философов о мире, Боге и человеке противоречивы и неудовлетворительны. Во II кн. своего сочинения Арнобий задает античным философам огромное количество вопросов о происхождении мира и его отдельных частей, о различных физических явлениях, о причинах этих явлений и их сущности и показывает, что ничего вразумительного, с точки зрения нового мировоззрения, они сказать не могут (II, 56 - 60). Однако пафос отрицания не настолько увлекает этого ревностного защитника новой культуры, чтобы он не отдавал себе отчета в сложности поставленных вопросов и в невозможности ответить на многие из них и для христианской философии, что заставляет его искать убежище в агностицизме и скепсисе: «Мы сознаемся, что не знаем того, чего нельзя знать, и не стараемся исследовать и разузнавать то, что несомненно не может быть постигнуто» (II, 56-60).
Иную позицию занял знаменитый ученик Арнобия по риторской школе Лактанций, этот «христианский Цицерон». Он уже хорошо сознавал, что может и должно противопоставить христианство античной философии. Ему были чужды как агностицизм и скептицизм (тоже порождения поздней греко-римской философии), так и платоновский идеализм. Свое главное сочинение «Божественные наставления» он сознательно направил против философов вообще, «самых опасных и страшных врагов истины», на которых он нападает как с оружием своей религии, так и с тем, которое они сами ему предоставили (De opif. Dei 20, 2-3).
За что же так беспощаден Лактанций к философии, которую он именует «ложной мудростью» (falsa sapientia), посвятив ей специально третью книгу «Божественных наставлений», и что противопоставляет он ей? Присмотримся к ходу полемики Лактанция с философами. Она подводит определенный итог спору между ранним христианством и античной философией и подготавливает следующий этап спора, который придется завершать уже Августину.
Диалог христиан с философами идет по главному вопросу - об абсолютной истине. Лактанций считал, что она плотно скрыта «завесой облаков» как от невежественного народа, погрязшего в суетных и достойных осмеяния предрассудках, так и от путаников-философов, «трудами своими часто затемняющих, а не проясняющих излагаемые положения» (Div. inst. III, 1,1). Как ни удивительны были познания философов в области различных наук, но они не имели знания об истине, «ибо никто не может постигнуть ее ни размышлением, ни путем споров» (III, 1, 6). Лактанций не порицает философов за то, что они стремились познать истину, потому что, по его убеждению, Бог вложил такое желание в сердце каждого человека, но он осуждает их за то, что они трудились безрезультатно. Писание показало христианам, что «познание философов содержит одну суету» (stultas esse) (III, 1, 10), тем не менее Лактанций стремится еще раз убедить в этом и себя, знатока античной философии, и читателей.
Уже само название «философия» (любовь к мудрости) показывает, что философы только ищут мудрость, но не нашли еще. А так как они не нашли ее до сих пор, то они, видимо, ее и не ищут; или ищут не так, как надо, и не там, где надо. «Известно, что философия состоит из двух составляющих - из знания и предположения (scientia et opinatione) - и не из чего иного». Знание же не является плодом ума и не приобретается путем размышлений. Только Бог имеет источник знания внутри себя самого. Люди получают знание извне. Следовательно, на долю собственно философии остаются одни лишь предположения и догадки
[186].
Но с их помощью нельзя открыть «причин естественных вещей» (causas naturalium rerum) типа размеров солнца, формы (шар или полушар) луны, способа «крепления» звезд или толщины земли. Итак, если, как было сказано и как считал еще Сократ, нет совершенного знания и, как полагал Зенон, не следует делать предположений, то вся философия ниспровергнута, от нее ничего не остается (III, 4, 2). Это подтверждает, по мнению Лактанция, и противоречивость суждений отдельных философов почти по всем основным философским проблемам.
Ближе всех к истине подошли скептики (или «академики» в лексике позднеантичной философии), отрицавшие возможность знания. Здесь Лактанций близок к Арнобию, и не случайно, ибо скептицизм, как естественное порождение позднеантичной философии и диалектики, лучше всего выявил главные противоречия античной философии и кризис античной диалектики. С другой стороны, он открывал путь к антиномической многозначности, что было родственно христианскому мышлению, идущему от парадокса и чуда. Поэтому почти всех раннехристианских мыслителей притягивали к себе взгляды «академиков». Лактанций, однако, считает, что в гносеологии «академики» не правы, «ибо невозможно, чтобы никто ничего не знал» (III, 4, 14). Есть много истин, добытых путем долговременной практики, которые всем известны, и Аркесилаю следовало бы знать, что можно знать, а чего нельзя. Чтобы быть мудрым, необходимо непременно что-нибудь да знать. Аркесилай поразил себя тем же мечом, что и других философов (III, 5. 1-5). Учение его само себя опровергает, ибо «необходимо нечто знать, чтобы знать, что ничего нельзя знать; ибо, совершенно ничего не зная, не можешь знать и того, что ничего нельзя знать» (III, 6, 11).
В чем же заключена мудрость, по мнению Лактанция? Она состоит в том, что человек не может «знать всего» (omnia scire), ибо это по силам только Богу, но он не может и «ничего не знать» (omnia nescire), ибо это удел скотов. «Есть некая середина, свойственная человеку; в ней знание и незнание соединены друг с другом и смешаны. Знание в нас от ума (ab animo), происходящего с неба, незнание - от тела, происходящего от земли» (III, 6, 2 - 3). Мы отчасти одарены ведением, отчасти - неведением. Этот срединный путь - как бы мост, позволяющий избежать опасности. Избравшие другие пути падают в пропасть, как академики или физики (натурфилософы). Первые, заметив, что в природе есть много непонятного, сделали вывод о невозможности всякого познания. Вторые, напротив, обнаружив некоторые очевидные закономерности, заключили, что нет ничего, чего нельзя было бы познать. Одни не заметили того, что ясно, другие - того, что темно. Первые старались ниспровергнуть знание, вторые - защитить его. Но ни те, ни другие не увидели срединного пути, который ведет к истине (III, 6, 4 - 6).
Аркесилаю надо было только сказать, что нельзя познать причин того, что происходит на земле и на небе, все остальное же доступно познанию.
Так обстоит дело, по Лактанцию, с первой частью философии - физикой. Затем он переходит ко второй - этике (moralem), приносящей большую
пользу (utilitas) в отличие от физики, которая доставляет одно только
удовольствие (III, 7, 1)
[187]. Лактанций, как и все христианские мыслители, ценит этическую часть философии выше остальных, ибо она
сильнее всего влияет на ход жизни. Здесь недопустимо ошибаться, но мнения философов на сей счет очень разноречивы. Эпикур видит высшее благо в удовольствиях духа, Аристипп - в удовольствиях тела, Диодор - в устранении скорби, Герилл - в познании, Зенон - в жизни сообразно природе, и т. д. Но удовольствие ума - обычное удовольствие, удовольствие тела - скотское удовольствие, да и вообще удовольствие (voluptas) и высокая нравственность (honestum) исключают друг друга (III, 8, 15). Познание также не может быть предметом удовольствия. Люди ищут знаний не ради самих знаний, но они ждут от них пользы. Следовательно, науки и знания не могут быть высшим благом, ибо их ищут не ради них самих, но с какой-то иной целью.
Многие античные философы прекрасно рассуждали о добре и зле, замечает далее Лактанций, но поведение их резко расходилось с их теориями. «Мудрость же состоит в добродетели (virtus), соединенной со знанием» (III, 8, 31)
[188]. Здесь Лактанций как бы мимоходом формулирует один из важнейших принципов христианской философии, сложившийся на основе греко-римского философского и ближневосточного «профетического» понимания мудрости. С одной стороны, мудрость как
знание (дел человеческих и божественных), с другой - как правильная жизнь. Христианство соединяет эти два понятия в некоем синтезе и на этой основе строит свою критику созерцательной философии античности. Мудрость для христианской философии - полное единство и соответствие теоретической и деятельно-практической сторон. Таким образом, добродетель становится важным компонентом мудрости, но и она еще не есть само высшее благо, «но лишь источник и основа» его. В чем же суть высшего блага, которое так и не смогли найти философы? По мнению Лактанция, оно свойственно лишь человеку, обитает в духе, а не в теле, и никто не может им обладать без
знания и
добродетели. Высшее благо состоит в созерцании Бога, творца всего (III, 9, 8), т. е. «высшее благо человека заключено в одной религии». Все остальные блага общи у человека с животными, которым в некоторой степени дарован даже разум (III, 10, 1). Бог создал человека таким образом, что внушил ему желание познать религию и мудрость. Религия и мудрость нераздельны, но народ и философы приемлют или то, или другое, что, по мнению Лактанция, неверно (III, 11, 2). В этом характернейшая черта античного христианства, которое, несмотря на вроде бы полное отрицание античной культуры, не может тем не менее представить себе новую культуру только с одной религией, без античной мудрости, знания.
Религия ведет человека к бессмертию - высочайшему благу и цели земной жизни. Бессмертие же, в понимании Лактанция, прилично человеку и неотделимо от науки и добродетели, познания Бога и праведности. Таков итог нравственной философии христиан по Лактанцию. Единственное средство быть счастливым (или блаженным - beatus) в этой жизни состоит в том, чтобы не бояться быть несчастным, лишать себя удовольствий, быть добродетельным, не страшиться трудностей, не избегать забот и бедствий. «Высшее благо, делающее нас блаженными, не может иметь иного бытия, чем в той религии и в том учении, которые неотделимы от надежды на бессмертие» (III, 12, 35-36).
Итак, Лактанций высоко ценит этическую часть философии, но не античной, так как она не дошла до истины, а новой, христианской, включающей, однако, наряду с библейскими многие положения этики киников и стоиков.
Наконец, Лактанций переходит к третьей части философии - логике, «в которой заключены вся диалектика и весь смысл речи», сразу же заявляя, что «наука о божественном» не нуждается в этой дисциплине, «ибо мудрость обитает не в языке, а в сердце независимо от того, какой была речь; ведь разыскивается вещь (res), а не слово. И нас интересует не грамматик или оратор, которые обладают знанием, как надо говорить, но мудрец, чья наука заключена в умении жить» (III, 13, 5). Античному культу слова христианство противопоставляет идеал конкретного обыденного дела. Не слово и обозначение интересуют раннего христианина (символически-семиотические идеи приобретут свою значимость в патристике позже и в ином культурно-мировоззренческом контексте), но вещь в ее конкретной явленности, не умение хорошо и красиво говорить, но умение правильно жить. Простую мудрость жизни, возросшую в глубинах сознания обездоленной части населения Римской империи и закрепленную в ряде библейских текстов, раннее христианство противопоставило изощренному искусству позднеантичного философствования; философию дела - философии слова. Дело при этом понималось в двух смыслах: дело --как умение правильно жить и дело - как содеяние неких божественных деяний, чудес, которыми покорил человечество вочеловеченный Логос. «Мы последовали за ним,- писал Арнобий, - именно по причине его великих дел и могущественных сил, которые он обнаружил и проявил в различных чудесах», «явные чудеса и неслыханная сила в делах повели за ним народы». А что полезного сделал хотя бы один философ? «Сопоставление лиц нужно производить не по силе красноречия, а по достоинству их дел. Не тот должен считаться истинным авторитетом, кто умеет искусно говорить, а тот, чьи обещания сопровождаются соответствующими божественными делами» (Adv. nat. Π, 11).
Расцвет риторики в поздней античности, особенно на латинской почве, слияние философа и ритора в лице «первого» латинского философа Цицерона, профессиональная риторская выучка латинских апологетов - все это привело к тому, что для ранних латинских христиан философия почти слилась с риторикой и многие пороки красноречия, умеющего искусно выдать ложь за правду, они приписали философии.
Подводя некоторые итоги своему анализу античной философии, Лактанций заключает, что ни физика, ни этика, ни логика не могут сделать человека блаженным и, следовательно, философия ничего не содержит в себе, кроме суетности. Лактанций приводит высказывания многих латинских мыслителей о философии и не соглашается с ними. Вот похвала философии «красноречивейшего из римлян»: «О философия, водительница жизни, изыскательница добродетели и гонительница пороков! Чем без тебя были бы не только мы [сами], но и все в жизни людей? Ты - изобретательница законов, ты - преподавательница нравов и наук» (Div. inst. III, 13, 15)
[189]. Но ни с Цицероном, ни с похвалой философии Лукреция, ни с восторженным определением Сенекой философии как знания правильно жить Лактанций не хочет согласиться. Еще более активно выступает он против греческих философов, не забывая подробно изложить их взгляды. Он не принимает атомистическую теорию Демокрита - Эпикура, критикует эпикурейские принципы наслаждения и эгоизма, не согласен и с той мыслью Сократа, которую другие апологеты использовали в качестве оружия против античных религиозных представлений. «Что выше нас, то нас не касается»,- говорил Сократ. «Значит, нам,- обижается Лактанций, - остается только пресмыкаться на земле и ходить на четвереньках?..» (III, 20,11). Много критикует Лактанций Платона и вообще относится к нему, в отличие от других христианских писателей, с долей пренебрежения. Он повторяет популярную легенду о том, что Платон в детстве находился в неволе. Его выкупил некий Аницерис за восемь сестерциев. Сенека упрекает его за то, что он положил столь низкую плату за такого великого философа. Лактанций добавляет к этому: «Мне кажется, что никто не будет гневаться на человека, не тратящего много денег [понапрасну]» (III, 25, 17). И Платон, и все остальные философы бесполезны, так как они ищут в философии не
пользы, но удовольствия (III, 16, 4)
[190]. А так как и сами философы не следуют своим советам, то необходимо вообще отказаться от философии и заняться приобщением к мудрости. Мудрость (sophia) является божественным даром, она существовала значительно раньше философии. «Вся мудрость человеческая заключена в одном - познавать и почитать Бога,- таков наш догмат, таков смысл [нашего учения]» (III, 30, 3). В этом истина, которую искали все философы и не могли найти (III, 30, 4). В этом выводе и смысл спора, который раннее христианство вело с античной философией. Итак, полемизируя с античной философией, Лактанций, а он подводил определенный итог апологетической традиции (окончательные выводы сделает на латинской почве Августин, в развернутом виде представив и логически завершив многие идеи апологетов), противопоставлял ей основные положения новой духовной культуры. Философию у него сменяет София, слово оспаривается делом, бесконечные поиски истины завершаются ее обретением в христианском абсолюте, осмысление уходящей культуры перерастает в созидание новой.
Чтобы понятнее было становление новой эстетики в этот период, остановимся несколько подробнее на значимых для эстетики положениях философско-богословской концепции ранней патристики.
2. Философско-богословская концепция ранней патристики
В своем диалоге с греко-римской культурой апологеты, наиболее последовательно и осознанно - греческие, а вслед за ними и латинские, опирались на библейские тексты, ближневосточную мудрость, авторитет ветхозаветных пророков. Синтез ближневосточной и греко-римской культурных традиций наиболее глубоко и последовательно проходил на грекоязычной почве, однако и латинские апологеты внесли в него свой вклад. При этом если ранняя греческая патристика чаще опиралась непосредственно на сами библейские тексты, и прежде всего на Септуагинту, то латинские христиане II - III вв. - больше на эллинистическую литературу, уже являвшуюся результатом западно-восточного синтеза,- на книги Сивилл и герметику. На Западе только Тертуллиан прямо поставил вопрос об Афинах и Иерусалиме. Он, как и греческие апологеты его времени, был убежден в том, что библейские мудрецы и пророки старше греческих мыслителей и поэтов и даже старше египетских, халдейских и финикийских мудрецов. Ветхозаветная мудрость является источником всякой мудрости (Apol. 19). Эту же мысль повторяет и Лактанций (Div. inst. IV, 5, 8), подробно разбирая вопрос о времени жизни пророков. Истинность пророческой мудрости подтверждается, по мнению Тертуллиана, тем, что многие предсказания пророков сбылись в истории (Apol. 20). Поэтому истине «мы учились от пророков и Христа, а не у философов, не у Эпикура» (Adv. Marc. II, 16). Для Тертуллиана непререкаем авторитет апостола Павла, который бывал в Афинах, узнал философию и увидел, что она искажает истину. Выбор Тертуллиана однозначен и категоричен: «Итак, что [общего] у Афин и Иерусалима? Что - у Академии и Церкви? Что - у еретиков и христиан? Наше учение берет начало с портика Соломона (de porticu Salomonis est), который сам сообщил, что Господа следует искать в простоте сердца (Прем 1,1). Пусть обратят на это внимание те, кто представляет христианство стоицизмом, и платонизмом, и диалектическим [учением] (dialecticum)» (De praes. haer. 7). Полемизируя с древними критиками христианства, уже тогда (что важно для истории культуры) справедливо усматривавшими в христианстве черты стоицизма, платонизма, аристотелизма, Тертуллиан стремится резко отделить христианство от античной философии, увидеть в нем нечто принципиально иное, чем философию. В этом плане он был первым и самым категоричным из апологетов и Отцов Церкви. Никто из его последователей не поддержал его в столь резкой односторонности, хотя идея приоритета пророков над философами была и на Востоке, и на Западе неколебимой на протяжении всей сложной истории христианства.
Главное отличие христианства от античной философии Тертуллиан усматривал в гносеологической сфере. Отсюда вытекали и остальные несовпадения. Античная философия во всех своих направлениях мучительно стремилась найти истину. Христос - сам истина и принес людям истину, так что искать теперь нечего, надобность в философии отпала. Знаменитый призыв: «Ищите, и найдете» (Мф 7,7; Лк 11,9), вдохновлявший всю христианскую экзегетику и философию почти два тысячелетия
[191], был своеобразно понят Тертуллианом. Он считал его обращенным только к иудеям, имевшим Писание, но не нашедшим в нем истины. Кроме того, его активно взяли на вооружение гностики
[192]. Христианам же искать нечего, истина возвещена им апостолами (De praes. haer. 8).
В самом начале христианства, борясь прежде всего с гностиками, Тертуллиан сразу и окончательно сформулировал то, к чему постоянно стремилась и с чем постоянно внутренне не могла смириться вся философствующая патристика, никогда не забывавшая (и не только как своих оппонентов) ни Платона, ни Аристотеля, ни стоиков, ни неоплатоников, - с приходом Христа все философские поиски истины теряют свой смысл. Истина явила себя миру. Ее слова (слова Христа) просты и практически не требуют пояснений. От философского толкования их и происходят ереси. Логическое мышление должно уступить место вере, завершающей поиски истины. Вера выступает у Тертуллиана двигателем познания (поиска истины) на первом этапе знания, который окончился с приходом Христа, и высшей ступенью (качественно новой) знания - на втором. «Нашел же ты тогда, когда уверовал, ибо ты не уверовал бы, если бы не нашел; равно как и не искал бы, если бы [не верил], что найдешь. Итак, ты ищешь для того, чтобы найти; итак, ты находишь для того, чтобы уверовать. Верою ты ограничил поиск и нахождение всякого доказательства - сам результат поиска установил тебе этот предел, границу эту определил тебе [тот] самый, кто желает, чтобы ты ничему другому не верил, кроме того, что он узаконил, и потому [он хочет], чтобы ты не искал» (De praes. haer. 10). С этой мыслью в ее сущности согласились бы все Отцы Церкви, как западные, так и восточные, ибо здесь вера ставится пределом логического знания, разумного мышления. Но вот в вопросе о месте этого предела на гносеологической лестнице александрийские Отцы Церкви, к примеру, да и многие западные экзегеты далеко разошлись с Тертуллианом, ибо отнесен он был ими практически в бесконечность, что, естественно, дало свободу всяческим толкованиям, в том числе и еретическим. Этого никак не мог допустить один из первых неподкупных рыцарей строгой веры. «Пусть задумается тот, кто всегда ищет, потому что не находит, ибо он ищет там, где нельзя найти. Пусть задумается тот, кто всегда стучит, потому что никогда не открывают, ибо он стучит туда, где никого нет» (11). Здесь Тертуллиан, истолковывая евангельский текст, стремится конкретизировать слова Христа, призывавшего: «...ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Лк 11, 9 - 10).
Знать, по мнению Тертуллиана, надо не так уж много - только «правило веры». Он дает первую латинскую формулировку «правила» (или «символа») веры, суть которого сводится к тому, что есть один Бог, он творец мира, он все произвел из ничего своим словом. Слово это сошло в Марию-деву и родилось Иисусом, который учил людей «новому закону», творил чудеса, был распят, воскрес, вознесся на небо и пребывает одесную отца; послал вместо себя Св. Духа для наставления верующих, сам придет в будущем со славою для дарования вечной жизни праведным и для наказания грешников, воскресит всех, даровав им их тела (De praes. haer. 13). Только это и следует знать христианину и верить этому как непогрешимой истине. Изучать Писание не надо, ибо, как говорил Христос, «вера твоя спасла тебя», а не изучение Писаний, добавляет Тертуллиан. Пусть любознательность уступит место вере, в которой только и можно обрести спасение. «Ничего не знать кроме правила [веры] - значит знать все», - с присущей ему (и всему христианству) любовью к парадоксу заключает свою теорию познания Тертуллиан (14). И под этим крылатым изречением подписались многие из Отцов Церкви, распространив его на все «стадо Христово» за исключением самих себя. Как «отцы» и «учители», они «вынуждены» были обстоятельствами искать, познавать, спорить, философствовать, «вынуждены» были взвалить на себя этот тяжелый крест, встать на скользкий путь рассуждений, часто ведущий к славе ересиарха, а значит - к вечным мукам ада. Да и сам Тертуллиан «вынужден» был всю жизнь искать то, что уже вроде бы нашел, и уйти в этом поиске далеко в сторону от главного русла христианства. Хорошо ощущая опасность такого ухода, он писал, в отличие, к примеру, от александрийцев, считавших путь познания бесконечным: «Искание единого и истинного учения, в свою очередь, не может быть беспредельным; необходимо искать, пока не найдешь, и нужно уверовать, когда найдешь, и ничего более, кроме охраны того, во что уверовал» (9). Приведя философскую гносеологию на путь религиозного ведения, Тертуллиан у самых истоков христианства сформулировал важнейший для всей средневековой культуры принцип традиционализма и охранителъства. Конечно, принцип этот не нов. Он восходит к древнейшим культурам Востока. Однако в многовековой период эллинизма и поздней античности, в период бурной встречи восточных и западных культурных традиций, в период возникновения нового мировоззрения он как-то отступил на задний план перед увлекательной перспективой поиска (ζήτησις) и утонул в море бесчисленных больших и малых новаций пестрой и неоднородной позднеантичной культуры. И вот первый авторитетный защитник и теоретик новой культуры на Западе, не успев изложить и осмыслить как следует основные принципы новой культуры, спешит, опираясь, правда, ни много ни мало на авторитет самого Бога, утвердить совсем уж было забытый древний принцип глобального традиционализма. Известно, какую роль играл этот принцип во всей средневековой культуре. Нам он особо интересен здесь тем, что оказал сильнейшее влияние на христианское художественное мышление, на христианское искусство, развивавшееся с первых своих шагов в русле строгой каноничности, освящаемой христианским традиционализмом.
Понятно, что раннее христианство признавало только свою, хотя еще и молодую, но подкрепленную древним библейским авторитетом, традицию. В полемике с «язычниками», так же опиравшимися на свою старую традицию, Лактанций вынужден был подвергнуть сомнению традицию вообще, имея в виду, конечно, греко-римский традиционализм. Он осуждает язычников за то, что они принимают за истину все, что утверждено древностью. «Поэтому в том главном деле, - считает он,- в котором заключен смысл жизни, следует больше доверять самому себе и основываться на своем суждении и своих чувствах в отыскании и исследовании истины, чем допускать чтобы заблуждения других обманывали тебя» (Div. inst. II, 7, 1). Здесь Лактанций, невольно отдавая дань лучшим традициям античной философии, оказывается оппонентом не только язычников, но и фактически всякой религии, в частности - строгого ригоризма своего предшественника Тертуллиана. В гносеологии он достаточно высоко ставит разум человека и призывает людей опираться на него, ибо «Бог даровал каждому в меру его сил частицу мудрости, чтобы он мог исследовать неизвестное и подвергать проверке (perpendere) услышанное» (II, 7, 2). Совершенно необязательно, что все предшествовавшие нам во времени были благоразумнее нас. Во все времена люди имели свою долю благоразумия, так что вряд ли стоит уповать на авторитет древних (II, 7, 2).
Крайности как Тертуллиана, так и Лактанция и в гносеологии, и шире - в отношении к традиции вообще являлись закономерным результатом поискового периода новой культуры и характерны для раннехристианской, как и позднеантичной культуры в целом. Сам факт сознательной постановки проблемы традиции апологетами и неоднозначного ее решения показывает, что они хорошо понимали ее значимость в истории культуры.
Категоричность тех или иных высказываний апологетов часто определялась не их принципиальной теоретической позицией вообще, не их некой индивидуальной философской концепцией, но конкретными обстоятельствами, конкретными положениями, которые им приходилось в данный момент оспаривать. Лактанций критикует авторитет древних, имея в виду античные традиции богопочитания, Тертуллиан выступает против всякого поиска истины, против всякого исследования Писания в трактате, направленном против еретиков, неверно толкующих, с его точки зрения, библейские тексты
[193]. Однако нельзя обвинить и этого приверженца строгой веры в отсутствии у него философского чутья, духа философствования. И он признает философию, но понимает ее по-своему, и он философствует, но на особый, нетрадиционный для греко-римского региона лад. Один из первых своих трактатов «De pallio» («О плаще») он посвятил простой и удобной одежде философа, призывая всех своих читателей (но и себя в первую очередь) сменить смешную и неудобную тогу суетной и обыденной жизни на простой и просторный плащ мыслителя. Паллий - это одежда ученых: и учитель начального образования, и преподаватели языка, арифметики, грамматики, и ритор, и софист, и медик, и поэт, и руководитель хора, и астролог, и наблюдатель за полетами птиц - «все занимающиеся науками закутываются в четыре угла» плаща. Призыв: а toga ad pallium («от тоги к паллию») - это призыв к духовности, к миру философии и ее высшему достижению - христианству (De pal. 6). С этой «духовной вершины» он и обрушивается позже на нижестоящих, по его разумению, коллег по паллию; при этом больше всего достается главным носителям этого почетного атрибута - философам. «Жалок Аристотель! - Тертуллиан стремится ударить в самый центр античной философии. - Он ввел для них (философов и еретиков. -
В. Б.) диалектику, искусство созидать и разрушать, изменчивое во мнениях, принужденное к гипотезам, тяжелое в доказательствах, деятельное в притязаниях, тягостное даже для себя самого, стремящееся все исследовать, но ничего не исследовавшее. Отсюда те бесчисленные басни, и генеалогии, и бесплодные вопросы, и речи, ползущие как рак» (De praes. haer. 7)
[194]. Удар направлен точно - против «святая святых» античного способа философствования - античной диалектики
[195]. Изощренные спекуляции и риторские манипуляции в области диалектики привели в период поздней античности к тому, что с ее помощью стало возможным все что угодно доказать и все что угодно опровергнуть, что, естественно, привело к обесцениванию античной диалектики как строгого философского метода и вызвало справедливую критику сначала скептиков, а вслед за ними и христианских мыслителей. Понятно, что обойтись без нее на практике ни скептики, ни христиане не могли. Соответственно отношение апологетов к диалектике было сложным и противоречивым. Климент Александрийский был в этом плане последовательным платоником и ревностным защитником платоновской диалектики. Чтобы отличить ее от риторской диалектики, он вводит понятие «истинной диалектики» - основы философского метода христиан. От античной она отличается не формой, но содержанием, ибо направлена не на постижение дел смертных людей, но устремлена к выяснению и передаче своих достижений о вещах божественных и вечных. Отсюда вытекает ее польза и для дел человеческих, так как она дает рекомендации для деятельности людей в их обыденной жизни. «Диалектика представляет собой мыслительную силу, обращенную на различение умопостигаемых вещей; она трезво изображает все сущее именно таким, каким оно есть на самом деле» (Str. I, 177, 3). Кроме того, диалектика способствует, по глубокому убеждению Климента, опровержению всяческих ересей. Многие Отцы Церкви, особенно греческие, придерживались этой позиции если не теоретически, то на практике. Однако апологеты выдвинули, как мы видели, и противоположную концепцию. Дальше всех в отрицании диалектики и противопоставлении ей нового способа мышления пошел все тот же Тертуллиан. В этом плане его латинские последователи не поняли и не поддержали его. Он оказался первым, практически единственным и самым «христианским» из всех апологетов.
Античной диалектике Тертуллиан сознательно стремится противопоставить антиномизм и парадоксию как основы нового способа мышления, однако он и сам не может обойтись без этой античной диалектики - логики. Более того, он вполне сознает диалектичность бытия, знает, что универсум устроен «из противоположностей» (ех diversitate), так что все согласовано в единство из соперничающих субстанций - из пустого и плотного, из одушевленного и неодушевленного, из осязаемого и неосязаемого, из света и тьмы, из самой жизни и смерти; в нем есть время и вечность (Apol. 48). Эта бинарность вселенной накладывает отпечаток и на характер мышления самого Тертуллиана. При всей своей строгости и категоричности он не может разом отрешиться от всего античного, поэтому мысль его мучительно бьется между старым и новым, между философией и религией, между логикой и антиномизмом.
Общая тенденция его мышления складывается таким образом, то он стремится применять логику («диалектику») к предметам земным, а антиномизм - к сфере божественного.
Опровергая жившего некоторое время в Карфагене живописца и философствующего еретика от христианства Гермогена, выдвинувшего ряд антиномических утверждений, в специально посвященном ему трактате Тертуллиан выступает как правоверный античный диалектик, для которого закон «непротиворечия» является главным и единственным законом мышления.
Гермоген считал, что мир создан Богом из материи, совечной ему. Логика доказательства Тертуллиана проста и даже примитивна: если в Писании ясно не указано, из чего создан мир, то вероятнее всего, что он создан из ничего, чем из материи (Adv. Herm. 21).
Вот интересное суждение Гермогена о материи: «на первый взгляд... нам представляется бесспорным, что материя телесна (согроralis esse); после же правильного исследования вопроса оказывается, что она не телесна и не бестелесна». Что это за «привильный» способ рассуждения, негодует Тертуллиан, когда не говорится ничего определенного о предмете? «Ибо, если я не ошибаюсь, всякий предмет должен быть
или телесным,
или бестелесным...» (35). Гермоген в одном случае представляет движение в образе горшка с кипящей жидкостью, а в другом - показывает его равномерным и однонаправленным. Тертуллиан уличает его в противоречии, полагая, что движение должно быть
или хаотичным,
или прямолинейным (41). Исследуя взгляды Гермогена, Тертуллиан собирает рассеянные в разных местах его суждения об одном и том же предмете, сравнивает их, выявляет их противоречивость и ставит ее в вину Гермогену. Это сознательный метод анализа философского текста: «Ты все рассеял, чтобы вблизи не было видно, как все [у тебя] противоречит самому себе. Но я соединю [все] разъединенное и сравню» (42). Вот еще пример действия этого метода. Гермоген в одном месте утверждает, что материя была неупорядоченной и стремилась к бесформенности, а в другом - она сама желала, чтобы Бог ее упорядочил. Тертуллиан-«диалектик» тут же вопрошает: «Желает ли принять форму то, что стремится к бесформенности? И стремится ли к бесформенности то, что желает принять форму?» (42). Везде в полемике с Гермогеном Тертуллиан стоит на страже закона «непротиворечия» (вот тебе и «жалок Аристотель»!). Здесь полностью господствует традиционный логический принцип «или - или». Но вот у Тертуллиана возникла необходимость поговорить о познаваемости Бога, и наш правоверный «логик» вынужден прибегнуть к тому же способу описания, который он высмеивал у Гермогена: «Он невидим, хотя его видят;
[196] он неосязаем, хотя по милости [своей] является; он непостижим (inaestimabilis), хотя человеческими чувствами постигается (aestimetur); поэтому он истинен и велик. Впрочем, то, что вообще можно видеть, осязать, постигать, то менее и глаз, которыми видят, и рук, которыми прикасаются, и чувств, которыми воспринимают. То, что поистине безмерно, известно только себе самому. То, что есть, делает Бога постигаемым, хотя он не приемлет постижения. Итак, сила его величия делает его для людей и известным, и неизвестным. В этом состоит главная вина [тех, которые] не желают познать [того], которого не могут не знать» (Apol. 17). Здесь формальная логика доходит до своего логического предела - утверждения взаимоисключающих определений: видим и невидим, известен и неизвестен, постигаем и непостигаем. Антиномизм этих определений направлен на утверждение центральной идеи христианской философии - субстанциальной имманентности и трансцендентности Бога. И антиномизм Тертуллиана здесь еще непарадоксален (предел христианского философствования), но по сути своей логичен. Бог непостигаем в своей сущности, но не может быть непостижим в своих творениях, в том, «что есть». Следовательно, для познания Первопричины необходимо познание мира.
Отвлекаясь от антиномизма, отметим, что вопрос познания мира - один из самых противоречивых и спорных в раннем христианстве. К нему мы еще вернемся позже. Здесь следует только вспомнить, что, как мы видели выше, не все апологеты считали, что Бог познается через мир, да и сам Тертуллиан утверждал в антиномической формуле: «Ничего не знать, кроме правила веры,- значит знать все»,- фактически противореча сам себе.
Антиномия «трансцендентное - имманентное» Бога повлекла за собой целую антиномическую систему формально-логического описания Божества и переоценку многих культурных ценностей, перестройку всего мироосознания. Трансцендентность христианского Бога возвысила и удалила его от мира, в котором погрязли античные боги. Имманентность же его, снисхождение трансцендентности до самых низов материального, порочного, греховного и позорного возвысили и освятили и само материальное, плотское, презираемое. В этом суть христианского учения, его пафос, который, однако, был понят далеко не всеми мыслителями даже среди самих христиан. Предельно возвысить духовное и одновременно одухотворить (а не отринуть на манер восточных дуалистов) самое грубое и плотское, открыть и ему путь к духовности, к свету - вот новый путь, предлагавшийся культуре ведущими мыслителями раннего христианства, среди которых Тертуллиан занимает первое (хронологически) и почетное (по значимости) место. С этих позиций вся позднеантичная книжная мудрость, возвышавшая дух, разум и отделявшая его от плоти, материи, обыденной жизни людей, не принимается христианством. Ей сознательно противопоставляется «простая» и даже «глупая мудрость» нового учения.
«Нас считают людьми простыми,- пишет Тертуллиан,- и только такими, а не мудрыми: как будто непременно нужно отделять простоту от мудрости, хотя Господь соединил их вместе: «...будьте мудры, как змии, и просты, как голуби...» (Мф 10, 16). «Я отдал себя в распоряжение мудрости, происходящей из простоты» (Adv. Valent. 2). Это также один из важнейших принципов христианства в его борьбе с античной философией. Мудрость признается не философская, не теоретическая, но практическая, обиходная, простая, которую философская мудрость считает часто за глупость. «Мудрость» и «глупость» для христиан понятия относительные. И мудрость бывает разной. Одна, как мы помним, происходит из Афин, и совсем иная - с портика Соломона; есть мудрость человеческая, и есть - божественная, и они часто представляются друг другу глупостью. «Как мирская мудрость является глупостью (stultitia) для Бога, так и божественная мудрость есть глупость для мира. Но мы знаем, что глупость Бога (stultum dei) мудрее человеческой [мудрости] и слабость Божия сильнее [силы] человеческой
[197] и Бог [именно] тогда так предельно велик, когда людям [является] ничтожным, так предельно благ, когда людям [представляется] не благим, и так предельно един, когда людям [кажется] двойственным или множественным» (Adv. Marc. II, 2). Закон антиномии, противоположения, контраста представляется Тертуллиану единственно верным, когда речь заходит о соотношении божественной и земной сфер. До логического совершенства его доведет уже на греческой почве Псевдо-Дионисий Ареопагит, но и у Тертуллиана он звучит предельно ясно. И речь здесь идет не просто об изящных риторических поворотах речи, о красивых антиномических формулах, применявшихся античными риторами. Формулы эти имеют у Тертуллиана реальное содержательное наполнение. Бог не просто «представлялся» или «казался» первым христианам умаленным, униженным, презренным. По христианской традиции он
реально умалил себя, унизил до самых глубин человеческой греховности, реально приняв греховную плоть («воплотился») и этим, стремится подчеркнуть Тертуллиан, еще больше выявил свое величие и свою возвышенность, с одной стороны, и, как мы еще увидим, возвысил материю и плоть - с другой. Развивая мысль апостола о том, что «глупое мира Бог избрал, чтобы посрамить мудрых» (1 Соr. 1, 27)
[198], Тертуллиан показывает, что под «глупым» следует иметь в виду веру в рождение Христа во плоти от Девы, его поругание, страдания и позорную смерть (De carn. Chr. 4 - 5). Именно в глупом, позорном, недостойном и постыдном, с точки зрения «мирской мудрости», и усматривает Тертуллиан антиномическую суть новой религии, нового мироощущения. Обращаясь к Маркиону, считавшему тело Христа призрачным, а не реальным, Тертуллиан взывал: «Пощади единственную надежду всего мира. Зачем ты уничтожаешь позор, необходимый для веры? Все то, что недостойно Бога, полезно для меня. Я спасен, если не стыжусь моего Господа... Сын Божий распят
[199], [мне] не стыдно, потому что это постыдно; и умер Сын Божий; [это] вполне вероятно, потому что бессмысленно; и, погребенный, воскрес - это достоверно, потому что невозможно. Ибо каким образом это в нем могло бы быть истинным, если бы сам он не был истинен, если бы не имел в себе истинно того, что можно распять, умертвить, похоронить и что может воскреснуть, т. е. наполненного кровью тела, костяного скелета, связок нервов, сплетения вен, т. е. того, что знакомо с рождением и смертью?» И далее Тертуллиан переходит к утверждению одной из первых формулировок христианского догмата: «Итак, выявление (census) той и другой природ показало нам человека и Бога, с одной стороны, рожденного, с другой - нерожденного, здесь - телесного, там - духовного, здесь - слабого, а там - пресильного, здесь - умирающего, а там - живущего. Это своеобразие [двух] состояний, божественного и человеческого, одинаково истинно в той и другой природе, одинаково достоверно и для духа, и для плоти. Добродетели духа показали Бога, а страдания - человеческое тело. Если добродетели [были] не без духа, то и страдания [были также] не без плоти; если плоть с [ее] страданиями была фиктивной, то тогда и дух с его добродетелями был ложным. Зачем ты разделяешь Христа надвое [своим] ложным учением. Он [только] целым был действительностью (Totus veritas fuit)» (5)
[200]. Однако и этому усердному ученику с «портика Соломона» все-таки часто приходится платить дань «афинской» диалектике. Забыв о своих антиномических определениях Бога, Тертуллиан может вдруг заявить: «...нельзя назвать невидимым того, кто был видим» (Adv. Prax. 14). Закон «непротиворечия» живет в глубинах его подсознания, и он часто вспоминает, что «между противоположностями невозможна никакая дружба» (De paenit. 3). На этом основании он даже не может согласиться с канонической для всего последующего христианства мыслью о сохранении Марией девства и после рождения ею Иисуса. «Свет [есть] свет,- следует он житейской логике,- и тьма [есть] тьма; и есть [есть] есть, а нет [есть] нет; что сверх [этого], то от лукавого (а malo). Та родила, которая родила, и если дева зачала, то она, родив, вступила в брак (nupsit) по закону отверзания тела, для которого безразлично, [произведено ли оно] силою мужчины впущенного или выпущенного, ибо один и тот же пол снял печать [девства]» (De carn. Chr. 23).
Таким образом, новые тенденции мышления нелегко утверждались на почве раннего христианства. Тертуллиан был первым, и самым смелым, но, как мы убеждаемся, далеко не всегда последовательным их поборником
[201]. Большинство же его продолжателей были еще сильнее привязаны к традициям античного мышления и старались в его рамках утвердить новую духовную культуру. Особенно в понимании истины, познания, мудрости у последователей Тертуллиана христианские идеи теснейшим образом переплетены с античными философскими представлениями. Так, на латинской почве у современника Тертуллиана Минуция Феликса вся философия пронизана стоически-платоническим духом, что дало основание исследователям зачислить его в «платонизирующие стоики»
[202].
Арнобий хорошо помнит апостольское изречение о том, что «мудрость человеческая есть глупость перед первым богом» (Adv. nat. II, 7)
[203], но не делает отсюда, как Тертуллиан, далеко идущих выводов о сложной диалектике мудрости - глупости. Он просто знает, что мудрствовать глупо, и продолжает мудрствовать совершенно в античном духе, но борясь с античностью. Интересна его полемика с Платоном по поводу теории учения-воспоминания. Он не соглашается с высказанным в «Меноне» мнением о том, что всякое учение есть воспоминание заложенных в человеке от рождения знаний
[204]. Если бы дело обстояло так, рассуждает Арнобий, «то все мы, как происходящие от одной истины, должны были бы одно [и то же] знать и одно [и то же] вспоминать и не могли бы иметь различных, многочисленных и несогласных [между собою] суждений. Но так как теперь один из нас утверждает одно, а другой другое, то ясно и очевидно, что мы ничего не принесли с неба, но изучаем возникшее здесь и защищаем то, что утвердилось вследствие догадок» (II, 19). Далее он предлагает Платону (важно, что античность воспринимается апологетами как реальный, живой собеседник) провести эксперимент - воспитать ребенка в полной изоляции от мира и людей и посмотреть, на что он будет способен. Сам Арнобий уверен, что он будет так же туп и бессловесен, как свинья или другое какое животное. Он предлагает Платону добиться от этого подопытного существа, чтобы оно ответило, сколько будет дважды два. Тщетны будут его усилия. Знания, заключает Арнобий, человек получает путем обучения и воспитания, а не воспоминания; до обучения он ничего не знает (II, 20-25). Эти суждения Арнобия важны для истории философии. Они ясно показывают, что христианские мыслители первых веков, вдохновляемые новым учением, несмотря на свои же призывы отказаться от всяческих философских поисков, активно и часто плодотворно искали во многих областях знаний. Однако главный идеал и цель устремлений христиан были не на земле, и они с восторгом первооткрывателей ориентировали свою теорию познания, как и свою онтологию, антропологию, этику и эстетику, на этот вечный недосягаемый идеал. Евангельские идеи активно способствовали этому. Не изучение земных предметов, но познание Бога открывает человеку новые горизонты, «ибо познание его является как бы закваской (fermentum) жизни и связкой несовместимых вещей» (II, 32). Опираясь на библейские идеи, Арнобий формулирует важную для христианской гносеологии мысль. Переход на уровень познания Первопричины открывает возможность понять новые связи между вещами, несоединимыми на уровне обычного (философского) мышления - rei dissociabilis glutinum. Познание Первопричины расширяет узкие рамки закона «непротиворечия», открывает пути антиномическому мышлению, парадоксии, чуду, позволяет принять как нечто закономерное многое из того, что не поддается формально-логическому осмыслению. После длительного философского упоения достижениями и силой человеческого разума в сфере познания наступил период ощущения неких реальностей и закономерностей, не поддающихся «разумному» осознанию. Большим шагом вперед человеческого разума явилось признание этих реальностей, парадоксальных и нелогичных, и естественное вытеснение их за пределы своей компетенции - в сферу сверхразумного. Предельная объективация их в Боге, совместившем в себе все несовместимое, должна была освятить высшим авторитетом истинность этих умонепостижимых закономерностей и реальностей. Понятно, что на той ступени развития, после длительного периода безуспешных попыток многих поколений философов постигнуть Первопричину, разум человека отказал себе в самостоятельном ее постижении. Без божественной помощи, заключает Арнобий, нельзя объяснить те основные закономерности и причины бытия, которые были неясны даже Сократу и Платону (II, 7).
Многие из этих идей более подробно развивал Лактанций, поставивший главной задачей своих «Божественных наставлений» доказать, что христианство - истинная философия. Свой монументальный труд он начинает утверждением того, что высшая истина недоступна ни чувственному, ни разумному познанию человека, и поэтому все усилия философов остались тщетными. Бог, видя столь искреннее стремление человека к мудрости, не мог больше оставлять его на путях, покрытых тьмою и окруженных пропастями. Он открыл ему глаза, показав, что человеческая мудрость лишь суета, и наметил пути, ведущие к бессмертию. Однако этот небесный дар для многих оказался бесполезным, и истина осталась непознанной. Ученые ею пренебрегали, находя, что она не подтверждается их теоретическими выводами. Народ избегал ее по причине слишком строгого ее вида, ибо всякая добродетель смешана с долей горечи, в то время как порок, основываясь на удовольствии, всякого к себе привлекает и всякому нравится. Поэтому люди, обманываясь его внешним видом, устремляются к ложному благу. Лактанций видит свою задачу в том, чтобы рассеять оба эти заблуждения и «направить ученых к истинной мудрости, а неученых - к истинной религии» (Div. inst. Ι, 1, 5-7). Это разделение ученых и неученых, мудрости и религии не имеет у Лактанция принципиального значения, однако для нас оно существенно как показатель глубоких античных философских традиций у этого мыслителя. Духовный аристократизм был чужд раннему христианству, ибо оно являлось выражением демократических тенденций как в социальной, так и прежде всего в духовной сфере. Именно отсюда (неприязнь рабов и плебеев к аристократам и мудрецам, к ученым, ибо науки - привилегия власть имущих) происходит и принижение, и отрицание человеческой мудрости, учености, философии, противопоставление им «простоты» и даже «глупости» (как мы видели) религии. Мы уже имели возможность убедиться, что Лактанций приводит мудрость к религии, или, используя образы Тертуллиана, приводит учеников Афин в портик Соломона, что стирает принципиальное различие между учеными и неучеными, аристократами духа и «нищими духом». «Единственно в религии, то есть в познании высшего Бога, состоит мудрость», - утверждает Лактанций (De ira Dei 22, 2).
В связи с тем что от Лактанция тянутся прямые нити ко многим гносеологическим суждениям Августина, легшим в основу средневековой философии и эстетики, следует указать еще на некоторые положения его теории познания.
Интересно осмыслена Лактанцием роль искусства слова, красноречия в гносеологии. Предшествовавшие ему латинские апологеты единодушно считали, что истина не нуждается в украшениях, в красноречии. Вот суждение на этот счет Минуция Феликса: «Чем безыскуснее речь, тем очевиднее смысл (ratio), потому что он не подкрашен пышностью красноречия и изяществом [слов], но представлено то, что есть согласно правилам истины» (Octav. 16, 6). Ему вторит и Киприан в письме к Донату: «Когда речь идет о Господе Боге, то чистое и искреннее слово ищет доказательств для веры не в силе красноречия, а в самой вещи» (Ad Donat. 2). Арнобий также был глубоко убежден в том, что «истина никогда не стремится к приукрашению (fucum)» (Adv. nat. I, 58), развернув целую теорию против риторской эстетики, на чем мы еще будем иметь возможность остановиться. Причины этого гносеологического антиэстетизма понятны. Позднеантичная духовная элита обвиняла христиан в том, что их священные книги написаны людьми необразованными грубым, примитивным языком, и считала, что никакой истины в таких писаниях содержаться не может. Именно так изображает ситуацию раннего периода христианства Лактанций. Пророки писали простонародным слогом, отсюда неприязнь людей культурных и ученых к этим текстам. Все написанное некрасноречиво считают они низким, простым, недостойным. За истину признается только то, что льстит слуху, за достойное веры - только то, что возбуждает удовольствие. Их интересует не сама истина, но ее прикрасы. Они не принимают божественные таинства, так как последние лишены украшений (Div. inst. V, 1, 15 - 18).
С другой стороны, риторская эстетика доходила в этот период часто до полного формализма. Ясно, что в такой ситуации ранним апологетам, блестящим риторам, адвокатам и учителям красноречия, пришлось полностью отказаться от своей мирской профессии и, более того, доказывать ее бесполезность в делах постижения высшей истины. Во времена Лактанция ситуация начала меняться. Уже многие высокообразованные граждане греко-римского мира приняли христианство, уже императоры допускают ко двору христианского учителя красноречия, уже и само христианство в лице своих образованных защитников стало осознавать, что горькое лекарство лучше принимать с медом. Именно поэтому «христианский Цицерон» считает возможным и своевременным отказаться от теории своих предшественников и поставить красноречие на службу христианской гносеологии. Тем более что последняя, отказываясь часто от формальнологического мышления, искала ему замены в образах и фигурах речи, непосредственно воздействующих на эмоциональную, а не на рассудочную сторону сознания.
На первых страницах «Божественных наставлений» Лактанций, излагая свою методологию, указывает, что он собирается использовать в своих целях достижения языческих ученых, как философов, так и риторов. Первых ценит он значительно выше, полагая, что тот, кто учит хорошо жить, достоин большей похвалы, чем тот, кто учит хорошо говорить. Поэтому-то у греков большей славой пользуются философы, чем ораторы, ибо искусство хорошо говорить касается лишь немногих людей, а хорошо жить - всех. Тем не менее и это искусство избранных, которое раньше Лактанций, как и все риторы, употреблял часто для поддержания лжи, теперь он считает необходимым использовать для защиты истины. И хотя истину «можно защищать и без красноречия, и многие ее часто так и защищали, все же блеск и изящество речи украшают и в известной мере способствуют сохранению ее, ибо внешне богатая и сияющая красотой речь сильнее запечатлевается в умах» (I, 1, 10). Эту идею поддерживала вся последующая патристика, особенно активно - греческая. Лактанций, развивая свои идеи, писал, что он желал бы иметь дар слова, близкий к цицероновскому красноречию. Две причины есть у этого желания. Во-первых, истина скорее может понравиться людям, если она будет сопровождаться красотами, которыми ложь обычно обольщает их, и, во-вторых, мне, замечает Лактанций, было бы приятно победить философов их собственным оружием (III, 1, 2). Однако он помнит и идеи своих предшественников и полностью согласен с тем, «что простая и голая истина прекрасна уже сама по себе (per se) и что, украшенная добавленными извне красотами, она [часто] искажается». Поэтому, успокаивает себя Лактанций, я ограничусь моим скромным даром, уповая больше на саму простую истину, чем на свое красноречие (III, 1, 3).
Одно из главных обвинений, предъявленных античности христианством, состояло в том, что теория и практика в этой культуре разошлись слишком далеко, что философия, даже и приближаясь иногда к истине, была практически бесполезной, так как парила высоко над жизнью, стала абстрактным умствованием, и даже сами философы не считали нужным выполнять то, к чему призывали в своих трактатах. Главное заблуждение греческой философии апологеты усматривали в отрыве ее от жизни, практики, понимаемой ими в особом, специфическом для религиозной культуры, смысле. А «практике» этой религиозной деятельности учили мудрецы с «портика Соломона», что очень импонировало искателям новых путей в греко-римской культуре. Их целью стал синтез знания и действия, мудрости и религии, теории и практики. Религия в своей культовой и нравственно-этической деятельности представлялась им сферой практической реализации всей многовековой мудрости человечества, поэтому апологеты, особенно последовательно Лактанций, постоянно возвращаются к проблеме «мудрость - религия».
Где мудрость и религия, считает он, составляют единое целое, там та и другая истинны. Как наследник Афин, он уверен, что религия необходимо должна быть просвещенной, потому что «мы обязаны знать (обязывает-то многовековая традиция античной философии. - В. Б.), зачем [это] нам и каким образом следует почитать (Бога. - В. Б.), и мы должны почитать мудро, то есть исполнять (здесь уже слышен «портик Соломона») те вещи и деяния, о которых мы знаем (IV, 3, 6); «поэтому и религия заключена в мудрости, и мудрость - в религии. Они нераздельны...» (IV, 3, 10). Неразлучны же они оттого, что мудрость заставляет нас познавать (intellegi) Бога, а религия - почитать (honorari) его. Мудрость предшествует религии (опять дань греко-римской культуре), так как сначала необходимо познать (scire) Бога, а затем почитать (colere) его. Мудрость и религия одновременно едины и различны, одна состоит в познании (in sensu), другая - в действии (in actu) (IV, 4, 3).
Христос, по мнению Лактанция, является воплощением и образцом единства теоретической и деятельной сторон мудрости. Он принял облик человека и реально претерпел на земле все, чтобы стать наглядным примером для людей. Таков и истинный мудрец и учитель, ибо примером своим он должен являть то, чему учит. «Со дня сотворения мира не было никого, кроме Христа, кто бы и словом учил мудрости, и подтверждал бы [свое] учение настоящей добродетелью» (IV, 23, 10). Человеческому уму, отягощенному материей, трудно найти и понять истину без посторонней помощи. Но даже если бы он и смог понять ее, то вряд ли сумел бы утвердиться в ней и воспротивиться множеству заблуждений. Поэтому земной учитель всегда несовершенен. Но и небесный магистр должен реально принять человеческое тело, иначе как смог бы он учить и подавать пример. Легко не грешить, не имея тела. Христос был в этом плане идеальным и уникальным учителем, будучи одновременно Богом и человеком, посредником между Богом и людьми, направленным для приведения людей к Богу (IV, 24, 3-4; 25, 5).
Деятельная сторона христианства реализуется в культе и добродетели (virtus). Последней апологеты уделяли особое внимание. Полемизируя с римским поэтом Луцилием по поводу его определения добродетели как знания, на которое опирался и Цицерон, Лактанций резко разграничивает их. «Истинное знание не может быть добродетелью, ибо оно не находится внутри нас, но приходит к нам извне. То, что может переходить от одного к другому, не является добродетелью, которая у каждого своя. Знание есть благодеяние другого, которое приемлется нами в процессе выслушивания, добродетель же является полностью нашей [собственностью], состоящей в желании делать добро». Как в путешествии ни к чему не привело бы знание дороги, если бы не было сил идти, так и в делах нравственности нет никакой пользы от знания добра, когда нет мужества творить его (VI, 5, 6-7). Познание добра и зла может иметь место и без добродетели. Добродетель состоит не в том, чтобы знать добро и зло, но в том, чтобы делать добро и не делать зла. Однако добродетель не может обходиться без знания. Знание должно предшествовать добродетели, «ибо познание (cognitio) ничему не служит, если не сопровождается делом (actio)» (VI, 5, 11). Этот религиозно-этический практицизм призывал философию спуститься на землю и служить реальным нуждам обездоленного и страждущего человека, служить на путях обыденного делания добра и справедливости.
Ясно, что старые философские системы мало подходили для этих целей
[205], и раннее христианство в полемике с античностью, как мы видим, последовательно, хотя и не без противоречий, блужданий, возвращения к старому и т.п., тем не менее настойчиво стремилось создать свою теорию, свою философию (на что претендовал больше всего Лактанций и что во многом реализовал еще Тертуллиан). Философия культуры ранних христиан складывалась из двух тесно переплетенных составляющих - осмысления и критики уходящей греко-римской культуры и на основе этого - формирования нового культурно-исторического идеала. Краеугольным камнем его стал принцип
религиозного практицизма, противопоставивший мирскому утилитарному практицизму римлян новые духовные идеалы, а абстрактному философствованию Афин - новые жизненные принципы. Изначальные идеалы христиан были просты. Их (не забудем, что христианство возникло и распространялось в первые века среди наиболее обездоленных и угнетенных слоев населения Империи) не устраивал ни деловой практицизм и тщеславие римлян, сопровождавшиеся бесконечными захватническими и междоусобными войнами, разорением и уничтожением огромных масс населения, ни абстрактные теории греков об истине, Боге, душе, мудрости, благе, человеке, не имевшие никакой практической реализации, не несшие никакой пользы простому человеку. Христиане желали сносно жить в этой жизни, а так как это на практике не удавалось, то хотя бы так жить, чтобы заслужить себе вечное блаженство. И знания и теории они признавали только такие, которые способствовали бы осуществлению такой жизни. Однако груз культурных традиций как западных, так и восточных, нельзя просто сбросить, как и нельзя просто отмести одну культуру и начать строить новую. Велика инерция культурной традиции человечества. Христианам пришлось использовать и приспособить к новой культуре многое из того, что «наработали» культуры прошлого. Отсюда и теория их, предназначавшаяся для организации простой безыскусной жизни, у первых же теоретиков-апологетов стала приобретать очертания сложной, разветвленной по всем направлениям философии культуры.
Мы уже познакомились с некоторыми предварительными философско-религиозными положениями теории апологетов, в основном гносеологического характера. Теперь есть реальные основания для краткого изложения сути их мировоззренческой системы, внутри и в соответствии с законами которой формировались и новые эстетические взгляды христиан.
Вот краткая версия христианской философии бытия
[206], данная Лактанцием. Мир сотворен Богом для того, чтобы в нем родился человек. Человек рождается для познания Творца мира и своего Создателя. Познает он Его для того, чтобы воздать Ему соответствующее почитание; почитание воздает для получения в награду бессмертия. Бессмертие получает он, чтобы уподобиться ангелам и стать служителем Отца и Господа своего в царстве небесном. «В этом смысл вещей (summa rerum), в этом тайна Бога, в этом таинство мира» (VII, 6, 1-2). В этом, добавим мы, вся нехитрая философия христианства. Как видим, она имеет два полюса: Бога и человека. Между ними развернут весь мир во всем его многообразии, со всеми сложностями и противоречиями. Один полюс является производным другого и тяготеет к нему. Бог сотворил человека для себя (De ira Dei 14, 1-3). Но и он тяготеет к своему главному творению. Кто внимательно изучал строение вселенной, замечает Лактанций, тот должен согласиться с мнением стоиков, что мир сотворен для человека и все в нем служит на пользу человеку (13, 1).
В формуле Лактанция дана причина возникновения мира и человека, определена цель человеческого бытия и указан путь к этой цели. Цель - в бессмертии для вечного служения идеалу. Путь - познание и почитание его. Итак, смысл человеческого бытия заключен, по мнению христианства, в трех актах: познании, почитании и служении. На их реализацию была направлена вся христианская культура, включая художественную, вся теория и философия, включая эстетику, вся практическая деятельность, включая создание произведений искусства. Познание, почитание и служение божественному идеалу определили суть и содержание раннехристианской эстетики.
Как же развертывалась в сознании апологетов картина миро-бытия, кратко сформулированная Лактанцием на основе предшествующей апологетической традиции?
Раннехристианская философия, как составная часть пестрой и разноликой позднеантичной философии, считала познание важнейшей и главнейшей своей частью. Мы уже видели, как много внимания апологеты уделяли проблемам истины, знания, мудрости, диалектики. Теперь становится более понятным смысл этого пристрастия.
Познание выступает первым этапом на пути к конечной цели человеческого бытия. Отсюда и пристальное, и всевозрастающее внимание в христианстве к проблеме учительства, передачи истинного знания, правильного учения
[207].
Максимум внимания в среде апологетов уделял вопросам познания Климент Александрийский. В христианстве ветхозаветный Закон и греческая философия сливаются в некое новое качество, понимаемое Климентом все же как философия, но более высокого уровня, которой уже доступно познание высшей истины. Эта «философия» основывается не только на формально-логическом мышлении, как античная греко-римская, но и на особом непонятийном религиозном «опыте». Здесь заключено и принципиальное отличие христианской философии от античной, скажем платоновской. Если философия Платона, как указывал еще И. Мейфорт, в целом интеллектуалистична, то Климентова, при всем ее рационализме, - религиозна
[208], т. е. иррациональна. Для ее утверждения много сделали Филон Александрийский и ранние апологеты I - II вв. Климент же, в основном опираясь на их идеи, подводя итог их исканиям, стремился дать более или менее полное для того периода изложение новой христианской философии
[209], и прежде всего ее теории познания.
Христианские мыслители первых веков новой эры активно разрабатывали на основе предшествующих духовных исканий идею трансцендентности Бога. Особенно неутомим в этом плане Климент. Многие из формулировок Климента, возникшие, кстати, на основе близких идей Платона и Филона, перейдут затем как стереотипные формулы к Григорию Нисскому, Псевдо-Дионисию Ареопагиту, Максиму Исповеднику, Иоанну Дамаскину и к другим византийским Отцам Церкви.
Свой трансцендентализм Климент сознательно основывал,- что характерно для всего христианства, - на философии «друга истины» (ό φιλαλήθης) Платона (Str. V, 78, 1) и библейских суждениях. Область Бога Вселенной, по убеждению Климента, - это платоновская страна идей, ибо и в Пятикнижии сказано, что Бог совмещает в себе всю полноту идей (Str. V, 73, 3). Он не рожден, не имеет ни вида какого-либо, ни образа, ни индивидуальности, не содержит в себе никаких акциденций и никакого числа (V, 81, 5). «Первопричина не сосредоточена в [определенном] месте, но превышает и [всякое] пространство и время, и [всякое] имя и понимание» (V, 71, 5). Она превыше всякого звука и всякого разумения. Представление о ней не передается письменными знаками, и всемогущество ее невыразимо (V, 65, 2). Даже слово «Бог», утверждал предшественник Климента Юстин, не является, собственно, именем Бога, «но лишь мыслью, присущей от природы людям, о трудноизъяснимой вещи» (Apol. II, 6). Отсюда и логический вывод - аналитическим путем неосуществимо абсолютное познание Бога, ибо доступно познанию не то, «чем он является, но только то, чем он не является» (Str. V, 71, 3). С другой стороны, античные традиции и естественное стремление человеческого разума к познанию твердо убеждают Климента в необходимости и возможности абсолютного познания Первопричины. Все его сочинения пронизаны эллинской любовью к знанию, к мудрости. Проблема гносиса занимает центральное место в его философии
[210]. Он первым сформулировал и всесторонне разработал концепцию христианского гносиса, основывающегося на вере
[211], показав, что его концепция строится на главных положениях ветхозаветной мудрости и греческой философии.
Вера (πίστις) в теории Климента выступает своеобразной априорной предпосылкой знания
[212]. Она без доказательств изначально признает Бога действительно существующим (VII, 55, 2) и этим определяет всю последующую познавательную деятельность. Вера возбуждает в человеке тоску по учению (μάθηοις), которое ведет его по ступеням познания (VI, 60, 2). Вера активизирует, по мнению Климента, дух искания (ζήτησις), ведущий к истинному гносису. Познание же является важнейшим «совершенствующим фактором человека как такового» (VII, 55, 1), и оно «полнее» веры (VI, 109, 2). Гносис возводит человека по лестнице совершенства к «высшей обители успокоения» (VII, 57, 1). В соответствии с этим имеется ряд ступеней познания
[213], по которым проходит «истинный гностик» в процессе своей познавательной деятельности.
Всякий гносис начинается с элементарного познания окружающего мира. Гносисом в определенной мере обладают и неразумные существа. Принадлежностью человека является познание ноэтическое (от греч. νόησις), связанное с разумной частью души. Это мирское, или научное, знание действительности (επιστήμη)
[214]. К нему относятся все известные Клименту научные дисциплины. Знание их необходимо для истинного гностика, ибо они, по убеждению Климента, идущего здесь вслед за Филоном,- науки подготовительные и нужны для защиты истины (VI, 80, 1). Среди этих наук Климент прежде всего называет музыку, которая своими ритмами и гармонией аккордов учит человека «согласию с самим собой». Арифметика своими возрастающими и убывающими числовыми прогрессиями доказывает, что большинство предметов и их взаимоотношения подчинены законам пропорции. Геометрия своей абстрактностью прививает человеку вкус к созерцанию, дает представление о существовании особого константного пространства, отличного от земного. Астрономия погружает человека в небесные сферы, приучает его к созерцанию в уме небесных чудес и гармонии (VI, 80, 2 - 3). Таким образом, ценность большинства наук Климент усматривает в их философской и эстетической ориентации. Наконец, собственно философская наука диалектика, изучающая понятия рода и вида и искусство различать их, учит гностика проникать в сущность предметов и таким образом доходить до субстанций первоначальных и простых (VI, 80, 4). Именно поэтому «истинная диалектика», по мнению Климента, может быть основой и христианской философии. В этом случае она должна заниматься рассуждениями о вещах божественных и вечных и «трезво» изображать все сущее именно таким, каким оно является на самом деле (I, 177, 1-3). Таким образом, хорошо понимая сущность диалектики, Климент вслед за Филоном одним из первых в истории философии предпринимает активную попытку направить ее в русло религиозных спекуляций, чем открывает новый этап в истории диалектики.
В тесной связи с «научным» знанием стоит в системе Климента «опытное» познание (εμπειρία) и такие виды интеллектуального познания, как εϊδησις, σύνεσις, νόησις и γνώσις (II, 76, 2). Εϊδησις - это особое «видовое» (различающее виды) познание, σύνεσις - «сравнивающее» знание
[215], νόησις - «разумное» знание, умозрение. Γνώσις является высшим из этих видов. Объединяя их в себе, он способен проникнуть в самую сущность предмета (II, 76, 3). Познание окружающего мира побуждает человека к активной деятельности, ибо «началом и двигателем всякой разумной деятельности является гносис» (VI, 69, 2). Эта важная в истории гносеологии мысль возникла у Климента на основе синтеза идей античной философской созерцательности и древнееврейской практической мудрости (мышления-действия) и образует фундамент всей христианской гносеологии. Развивая дальше свою концепцию, Климент полагает, что и «истина складывается из [двух аспектов]: познавательного (γνωστικόν) и практического (ποιητικόν), вытекающего из созерцания» (VI, 91, 2). Этим гносеология выводится из сферы чисто интеллектуального умозрения и погружается в сферу деятельности
[216]. У Климента речь идет о деятельности в самом широком философском плане - о «всякой разумной практике» (πάσης λογικής πράξεως). Впоследствии византийские мыслители конкретизируют эту идею до особой, религиозной «практики», мистического опыта, опираясь опять же на идеи Климента о том, что только с помощью познания гностик достигает нравственного и духовного совершенства (VII, 55, 1-2). Здесь гносеология (и это лейтмотив всего творчества Климента) тесно переплетается с этикой и служит ее философским обоснованием.
Таким образом, в целом гносис у Климента далеко выходит за рамки «научного» (в современном смысле слова) познания. Высшим гносисом у него выступает «познание Бога» (VII, 47, 3). В нем - конечная цель человеческого бытия (VI, 65, 6). С помощью этого гносиса достигается спасение (VII, 47, 3), и именно к нему стремится «истинный гностик» по ступеням христианской гносеологии. Его основными источниками являются Писание и «церковное Предание». Однако большое внимание гностик должен уделять и философии, которая, по глубокому убеждению Климента, способствует выходу из «незнания», укрепляет и углубляет гносис и защищает веру
[217].
Климент, таким образом, выступает в истории философии одним из первых последовательных теоретиков религиозной гносеологии. Идеи, выдвинутые им, будут вдохновлять на протяжении веков многих представителей религиозной философии и практики до XX в.
Клименту, как истинному наследнику классической философии, в отличие от последующих христианских мыслителей, еще чужд какой бы то ни было скепсис или агностицизм. Он твердо уверен в том, что нет ничего такого, чего нельзя было бы познать, ибо именно для сообщения знания приходил Сын Божий (VI, 70, 2). Поэтому Климент постоянно подчеркивает, что «всякий гносис в конце концов божественныи дар»
[218]. И дар этот приводит в упоение александрийского мыслителя, хорошо осознавшего ограниченность платоновско-стоической гносеологии, приверженцем которой он был до принятия христианства. Даже спасение, хотя оно и неотделимо от познания, отступает для него на второй план по сравнению с «чистым гносисом». «Не из желания спастись,- заявляет Климент,- стремится человек к гносису, но из-за самого божественного знания» (IV, 136. 3).
Завершается процесс познания высшей истины у Климента уже в непонятийной сфере - на уровне онтологического слияния субъекта и объекта познания. На высшей ступени познания гностик «уподобляется Богу», он не занимается больше наукой, а «сам становится наукой и знанием» (IV, 40, 1). Пройдя ряд световых ступеней (VII, 57, 1), гностик, наконец, сам начинает излучать своеобразный «постоянный свет», отрешенный от всего мирского (VII, 57, 5). Таким образом, свою гносеологию Климент завершает на иррациональном уровне, усматривая в мистико-эмоциональном опыте выход из тупиков рационалистического мышления. Следует, однако, подчеркнуть, что самому Клименту, в отличие от Филона, Плотина или последующих христианских мистиков, этот выход не очень импонировал. Не случайно именно с Климента началось рационалистическое направление в александрийской церковной школе. Как бы то ни было, но включение в гносеологию эмоциональной сферы привлекло внимание Климента и к эстетическим проблемам, на чем мы еще остановимся ниже.
Конечным объектом христианского познания выступает Бог. Он будет и главным предметом внимания средневекового искусства. Каким же представлялся он апологетам?
Отмеченный у Климента трансцендентализм, возникнув в филоновской философии, развивался в русле ранней христианской апологетики, опиравшейся на библейские идеи. Уже в «Апологии» Аристида находим мы черты трансцендентности Божества, не имеющего ни пола, ни образа, ни имени, не вмещаемого небом, но содержащего все в себе (I, 4-5)
[219]. «Отец всего,- писал Юстин, - будучи нерожденным, не имеет определенного имени» (Apol. II, 6); «неизрекаемый Отец и Господь всего не приходит в какое-либо место; он не ходит, не спит, не встает, но пребывает в своей стране, какова бы она ни была; он ясно видит и тонко слышит, не глазами или ушами, но неописуемой силой; так что он все видит и все знает, и никто из нас не скрыт от него; недвижимый, он не объемлется ни [каким-либо] местом, ни целым миром, ибо он был и прежде сотворения мира» (Tryph. 127). Юстину вторит и Татиан, считавший, что Бог, не имея начала во времени, «один безначален и сам есть начало всего подначального». Он есть невидимый и неосязаемый дух, создатель всего материального и духовного (Adv. gr. 4). До сотворения мира Бог был один, как некая простая всеобъемлющая «разумная сила», содержавшая в себе в потенциале весь мир и творческое Слово. Первым волею простого существа Божия произошло это Слово, ставшее началом мира (5). Феофил Антиохийский подчеркивает бесконечную возвышенность Бога, его несоизмеримость со всеми ценностями земного бытия; «Его слава бесконечна, величие необъятно, высота непостижима, могущество неизмеримо, мудрость неисследима, благость неподражаема, благодеяния невыразимы» (Ad Aut. Ι, 3). Бог у Феофила - это практически немыслимый предел средоточия духовного идеала человека, к которому и были обращены надежды ранних христиан. Афинагор, христианский философ из Афин, дает уже одно из первых определений предмета веры христиан, один из ранних «символов веры». Опровергая обвинение против христиан со стороны язычников в безбожии, он показывает, что христиане признают единого Бога, «нерожденного, вечного, невидимого, бесстрастного, непостижимого, необъятного, постигаемого одним умом и разумом, преисполненного светом и красотой, духом и неизрекаемой силой»; также признают они Сына Божия, который «является Словом Отца в идее и в энергии; ибо из него и через него все возникло, [так как] Отец и Сын - едины; и признают Духа Святого. Они видят их «силу в единстве и различие в чине» (Leg. 10). Для обозначения трех ипостасей божества Феофил Антиохийский первым из греческих Отцов Церкви применил термин «Троица» (ή Τρίας), хотя сами ипостаси обозначены у него еще неканонически как Бог, его Слово и его Премудрость (Ad Aut. II, 15).
Наиболее глубоко среди грекоязычных ранних христиан выразил идею христианской Троицы, пожалуй, Ипполит Римский, усмотрев в ней идею божественной икономии. «Согласное домостроительство (οίκονομία συμφωνίας),- писал он,- сводится к единому Богу, ибо един Бог: Отец - повелевающий, Сын - повинующийся, Дух Святой - вразумляющий. Отец - над всем, Сын - чрез все, Дух Святой - во всем... Отец прославляется в Троице (διά τής Τριάδος). Отец волит (ήθέλησεν), Сын совершает, Дух открывает» (Contr. Noet. 14). Не останавливаясь подробно на тринитарной проблеме, Ипполит много внимания уделил христологическому вопросу, сознательно заостряя внимание на принципиальном антиномизме понятия Богочеловека. В полемике с концепцией Ноэта, утверждавшего, что Христос есть сам Отец, Ипполит подчеркивает человеческую природу Иисуса, не игнорируя и его божественной сущности. В грекоязычной патристике он, пожалуй, первым так ясно осознал и удачно терминологически выразил антиномичность двух природ Христа, утверждая тем самым антиномизм как важную форму христианского мышления вообще. Вслед за своим учителем Иринеем Лионским (см. Adv. haer. III, 18-19) он показывает, что Бог-Слово не «призрачно» (κατά φαντασίαν) и не «образно» (κατά τροπήν), но «истинно» (άληθώς) стал человеком во плоти (Contr. Noet. 17). Бог и человек были едины в Иисусе, что и определяло сложность и противоречивость его образа в Евангелиях. С верующими он часто ведет себя как Бог, а в отношении себя - как обычный, самый заурядный человек. «Он [молится] об отклонении от него чаши страдания, для [принятия] которой явился в мир; и покрывается в страданиях потом, и укрепляется ангелом тот, кто сам укреплял верующих в него и обучал их презирать смерть; и предается Иудой тот, который знал, что такое Иуда; и бесчестится Каиафой тот, кто прежде принимал от него служение, как Бог; и терпит презрительное отношение Ирода тот, который имеет судить всю землю; и принимает удары от Пилата тот, который воспринял наши немощи; и становится посмешищем для воинов тот, которому предстоят тысячи тысяч и мириады мириад ангелов и архангелов; и пригвождается иудеями ко древу тот, который утвердило небо, как свод; и взывает к Отцу и предает дух тот, который неотделим от Отца... В ребро пронзается копьем тот, кто всем дарует жизнь; и во гроб полагается и обертывается полотнами тот. кто сам воскрешал мертвых. ...Он - Бог, соделавшийся ради нас человеком, которому Отец подчинил все» (18). Предельные крайности возвышенного и униженного непостижимым образом объединил он в себе. Именно это единство социальной униженности и идеального величия вселяло веру и надежду на что-то принципиально иное, чем реальная тяжелая или предельно бессмысленная жизнь, в сердца людей поздней античности. Ипполиту удалось очень точно передать антиномическую сущность образа Христа, «который явился на земле и [в то же время] не оставил недр отчих; явился и не явился» (Serm. in theoph. 7). Это понимание станет традиционным для всей последующей истории христианства и получит широкое и многообразное воплощение в средневековом искусстве, особо наглядное - в восточнохристианском.
В христианской философии воплощение Сына и начало его богочеловеческой миссии (актом крещения в Иордани) имело большое онтологическое значение. Официальное явление миру Богочеловека в мистическом акте крещения привело к снятию, «примирению» (διαλλαγή) многих противоречий бытия, и прежде всего «видимого с невидимым; преисполнились радостью небесные воинства, исцелились земные немощи, открылись неизреченные вещи, сделалось близким враждебное» (6). Божественное и человеческое, дух и материя, идеальное и реальное вступили теперь в новый союз и открылись новые перспективы культурного и социального развития человечества.
Одно из ранних определений Бога в латинской апологетике мы встречаем у Минуция Феликса, продолжавшего идеи платоновско-филоновской философии. «Отец всего Бог,- писал он,- не имеет ни начала, ни конца; дающий всему начало, он сам вечен, бывший прежде мира, он был сам себе миром; он все (universa) вызвал к бытию словом, упорядочил разумом, совершил силою. Его нельзя видеть, он ослепителен, его нельзя осязать, он слишком тонок, его нельзя оценить, он выше чувств, бесконечен, неизмерим, и только самому себе известен он таким, каков он есть; наше же сердце (pectus) тесно для такого познания, и потому мы только тогда оцениваем его по достоинству, когда называем неоценимым. Я скажу, как я чувствую: кто желает познать величие Бога, тот умаляет [его], а кто не желает умалять [его], тот не знает [его]. И не ищи [другого] имени Бога, Бог - [его] имя... Для единого (qui solus est) Бога наименование «Бог» есть все». Называть его отцом, царем, господином - значит представлять его телесным. «Но отбрось в сторону все прибавления имен и увидишь его славу» (Octav. 18, 7 - 10). Неизвестно, знал ли Минуций работы Филона Александрийского, но его определение Бога во многом приближается к филоновскому пониманию. Выведение объекта познания в трансцендентную сферу приводит Минуция, как и его греческих коллег, к антиномиям разума. Желание познать принципиально непознаваемую сущность имеет как следствие умаление этой сущности, но без умаления ее невозможно постигнуть. Он отказывается и от каких бы то ни было обозначений божества. Через несколько веков эти идеи уже на греческой почве активно продолжит и доведет до логического конца анонимный автор знаменитых «Ареопагитик».
Чисто трансцендентное понимание Бога требовало и исключительно духовного почитания его без какого-либо материально обставленного культа, без храмов, изображений, жертвоприношений. В противоположность античным культам Минуций выдвигает чисто духовное служение Богу. «Какое изображение Бога я сделаю,- спрашивает Октавий,- когда сам человек, правильно рассматриваемый, есть изображение (simulacrum) Бога? Какой храм ему построю, если весь этот мир, созданный его могуществом, не может вместить его? И если я, человек, люблю жить просторно, то как заключу в одном небольшом здании столь великое Существо? Не лучше ли содержать его в нашем уме, святить его в глубине нашего сердца?» (32). Именно такое понимание Бога и его культа и определило раннехристианское «иконоборчество», отрицание культовых, особенно антропоморфных изображений.
Минуциево определение Бога и его идеи чисто духовного поклонения были популярны у раннехристианских мыслителей. Их дословно воспроизводит Киприан (см. Quod idol. 4) и активно пропагандирует среди своей паствы, на них опираются Арнобий, Лактанций, Августин.
Тертуллиан, развивая греческих апологетов, определял Бога как единого творца мира и человека, виновника всех предметов и явлений, который для людей одновременно видим и невидим, известен и неизвестен, постигаем и непостигаем (Apol. 17). Бог един и троичен одновременно. Это трудно выразить даже такому антиномисту, как Тертуллиан. «Три суть Отец, и Сын, и Дух, - три не по статусу (status), но по степени (gradus), не по сущности (substantia), но по форме (forma), не по могуществу, но по виду (species), - [все три] имеют одну сущность, и один статус, и одно могущество, ибо [это] один Бог, из которого происходят (deputantur) эти степени, и формы, и виды под именами Отца и Сына и Святого Духа» (Adv. Prax. 2). Невежественные люди, сетует Тертуллиан, относя к ним и многих образованных римлян и греков, не понимают единства одного и трех, «ибо домостроительное число и распорядок (dispositio) триединства принимают за разделение единого, тогда как единое, из себя самого производя триединство, от того не нарушается, но укрепляется» (3).
Идея триединства и у самого Тертуллиана еще далека до канонического вида. До всякого начала, по его мнению, Бог существовал один, составляя сам для себя и свой мир, и свое пространство, и свою общность. В самом себе имел он разум (ratio). Размышляя с этим разумом, он создал из него слово (sermo), т. е. слово возникло в результате акта божественного мышления, внутренней беседы Бога со своим разумом (Adv. Prax. 5). Итак, Бог до сотворения мира имел в себе разум, а в разуме - слово. В Писании оно выведено, по мнению Тертуллиана, под именем Премудрости (sophia) - второго лица (secunda persona) Бога. «Тогда же, когда Бог произнес: «да будет свет!» - это слово приняло свою форму (speciem) и красоту (ornatum), звук и голос (7). Мимоходом отметим, что без красоты и формы даже ригорист Тертуллиан не мыслит божественное Слово, второе лицо Троицы. Более того, он считает, что никто не может отрицать, что Бог имеет свое тело (corpus) и форму, хотя и является духом, «ибо и дух имеет своего рода тело», и все невидимые существа получили от Бога свои особые тела и формы, которые видимы только ему (7).
Дух является третьей составляющей, исходящей от Отца через Сына, как плод через ствол дерева является третьей ступенью по отношению к корню или свет в отношении к солнцу через луч (8). Отец, Сын и Дух - нераздельны (inseparatos), и каждый из них - нечто иное, чем другие, нечто свое (9 - 12). Все сотворено Сыном. До его вочеловечения пророки видели его только в видениях, во сне, в гадании, «ибо Слово и Дух могут быть видимы лишь в виде образов воображения (imaginaria forma) (14). Бог-Отец не вступает ни в какие контакты с миром. Он обитает в «неприступном свете», в нем заключено все пространство, а он пространством не ограничивается, пред ним трепещет земля, горы тают, как воск, и т. п. (16). Бог обитает всюду, не исключая и самых глубин бездны, своею силою и властью. Сын неразлучен с ним. При рождении Иисуса Слово не превратилось (ибо тогда оно изменило бы свое качество), а облеклось плотью. Таким образом, в Иисусе соединены две «сущности» (substantiae) - божественная и человеческая (27). Христианство тогда еще не утвердилось в точной терминологии и вместо, впоследствии канонического, термина природа (natura) здесь стоит в этом значении substantia. Получается, что в Христе две сущности, что последующее ортодоксальное христианство сочло за ересь. В другом месте и сам Тертуллиан употребит в подобном случае термин natura (De carn. Chr. 5).
В «Апологии» Тертуллиан представляет Логос, Сына, «распространяющимся», «исходящим» (prolatum) из Бога и благодаря этому «исхождению» (prolatio) - рожденным. Он подобен лучу солнца; и хотя луч удаляется от солнца, однако солнце находится в луче, и сущность при этом не отделяется, но распространяется. Также и то, что произошло от Бога, есть Бог и Сын Божий, и оба - одно и едино (Apol. 21).
Это Слово Божие вошло в Деву Марию и родилось от нее во плоти обычного человека Иисуса. В Деву Еву, рассуждает Тертуллиан, вошло слово (змея) и произвело смерть. Следовательно также, в Деву должно войти Слово Божие, чтобы возродить жизнь. То, что было утрачено через женский пол, должно быть восстановлено через этот же пол. Ева поверила змею, Мария - Гавриилу (De carn. Chr. 17). В результате в Иисусе соединилась плоть человеческая с Духом Божиим. И плоть была настоящей, человеческой. Ибо за чем иным стал бы сходить Дух Божий во чрево (vulva) Марии, если не за человеческой плотью? Духовную плоть, конечно, он мог бы гораздо проще образовать вне чрева. Христос родился обычным образом, вышел из (ех) чрева, как и все дети, в результате чего у Марии появилось молоко в сосцах, которым она и кормила божественного младенца (19-20).
Арнобий в полемике против языческих богов и культов больше внимания уделял (приближаясь этим к Минуцию Феликсу) духовной, трансцендентной сущности Бога.
Бог предстает у него в виде единой, высочайшей, безначальной и бесконечной сущности, источника всякой божественности, творца мира, веков и времен, неизменяемого, не имеющего телесной формы, чуждого качества и количества, не имеющего места, движения и вида, всеведущего, премудрого и вездесущего, непостижимого и неизобразимого существа. «Ибо Ты,- пишет Арнобий,- Первопричина, место и пространство вещей (locus rerum ас spatium), основание всего существующего, бесконечный, нерожденный, бессмертный, вечный, единый, которого никакая телесная форма не очерчивает, никакие пределы не ограничивают, чуждый качества, чуждый количества, не имеющий места, движения и вида; о Тебе ничего нельзя сказать и выразить преходящими словесными знаками. Для Твоего познания необходимо смолкнуть, и, чтобы догадка по тени, колеблясь, могла Тебя уловить, не должно быть произнесено ни звука» (Adv. nat. Ι, 31). Божество «едино и просто и не является соединением каких-либо частей, не может разложиться и погибнуть» (I, 62).
В Христе Арнобий подчеркивает в основном его божественную сторону, в отличие от античных богов, которых он критикует, как мы видели, прежде всего за антропоморфизм и человеческие страсти и пороки. Естественно, что в Христе ему трудно допустить слишком много человеческого. Чем он тогда будет отличаться от античных предшественников? И Арнобий особо настаивает на духовности Христа. Христос - истинный Бог (I, 36; 42; 47; 53; II, 60), и божественность свою он доказал чудесами (I, 42-50; 63; II, 11; 12), угадыванием тайных помыслов людей (I, 46), страхом демонов перед ним (I, 45 - 46) и т. п. Он дал людям знания о Боге, мире и человеке (I, 38; II, 14), открыл средство спасения, пути на небо (I, 65; II, 2), предоставил людям возможность общения с Богом в молитве (I, 38) и т. п.
Лактанций уделяет несколько больше внимания Иисусу-человеку, однако и у него преобладает тенденция к выдвижению вперед божественной природы Христа (IV, 6-29). Отец и Сын, повторяет он уже найденную формулу, едины, как солнце и луч (IV, 29).
Таким образом, наиболее глубокие и максимально приближающиеся к ортодоксальному христианскому пониманию мысли о Боге в латинской среде высказал Тертуллиан
[220]. Он наиболее подробно разработал тринитарную и христологическую проблемы, хорошо почувствовав, что описание их возможно только на путях антиномического мышления. Другие латинские апологеты в понимании Бога практически не добавили ничего нового. Проблема триединства не стояла ни у Киприана, ни у Арнобия, ни у Лактанция. На латинской почве к ней вернется только Августин. В целом это понятно, ибо задачи апологетики II-III вв. еще не требовали решения этого вопроса. Тертуллиан скорее исключение, чем норма, для своего времени. Общее понимание Бога апологетами стоит ближе к позднеантичному философскому определению Первопричины, чем к библейскому пониманию личностного Бога, хотя тенденция к такому пониманию у них очень сильна и в дальнейшем будет активно реализована патристикой.
Я не случайно уделил здесь так много внимания становлению понятия Бога в раннехристианской апологетике. Это понятие было центральным не только для христианской теологии или философии - вокруг него формировалась вся духовная культура европейского Средневековья, включая и сферы художественного мышления и эстетики.
Проблема мира как космоса мало интересовала ранних христиан. Все их внимание было приковано к человеческому обществу, к человеку как основе этого мира. Космологические и натурфилософские проблемы затрагиваются ими редко, и лишь постольку, поскольку от новой системы миропонимания требовалось осмысление и этой части бытия. Больше всего мир интересует их не с философской, но скорее с эстетической точки зрения - как прекрасное творение Бога, поэтому мы подробнее остановимся на этом аспекте их теории позже. Проблема бытия для них скорее эстетическая проблема, чем онтологическая. Для полноты общей картины христианской теории мы приведем лишь натурфилософское описание Лактанция (Div. inst. Π, 9), очень характерное для христианской онтологии позднеантичного периода. Христианские мотивы переплетены здесь с гностическими и восточными представлениями, дуализм которых переплавляется у Лактанция в бинарную систему мироздания.
Прежде всего Бог сотворил небо, интерпретирует Лактанций Книгу Бытия, и повесил его на высочайшем месте вселенной, чтобы восставить там свой престол. Потом создал он и окружил небом землю для жизни людей и животных. Он разлил по ее поверхности моря и реки. Место своего пребывания наполнил он сиянием и светом, создав солнце, луну и множество других сияющих светил. На земле же он оставил тьму, противоположную свету. Все получает свет только с неба. Земля является местом ночи и смерти в противоположность небу - обиталищу света и жизни. Земля так же удалена от неба, как зло от добра, как порок от добродетели. Бог разделил землю на две противоположные части - восточную и западную. Восток имеет прямое отношение к Богу, который является истинным началом света, духовным и невидимым солнцем, просвещающим людей и ведущим их к бессмертной жизни. Запад, напротив, подобен мрачному духу, похищающему у людей свет и ввергающему их в смертные грехи. Как восток является светом, а в свете заключена жизнь, так запад есть мрак, содержащий гибель и смерть. Бог устроил на земле и еще две противоположные части света - юг, сближающийся с востоком и подверженный солнечному жару, и север, тяготеющий к западу и покрытый льдом и снегом. Холод противоположен теплу так же, как тьма противоположна свету. Юг соотносится с востоком так же, как тепло со светом; север соотносится с западом так же, как холод с тьмою. Бог определил для каждой части соответствующее ей время года: для востока - весну, для юга - лето, для запада - осень, для севера - зиму. Юг и север - образы (figura) жизни и смерти, ибо жизнь связана с теплом, происходящим от огня, а смерть заключена в холоде, происходящем от воды. Со сторонами света связана и смена дней и ночей и времен года, беспрерывное изменение которых согласуется также с другими переменами времени. День, идущий с востока, как и всякое благо, принадлежит Богу. Ночь, производимая западом, находится во власти противостоящего Богу духа. Бог противопоставил день и ночь как прообраз будущего противоборства истинной религии и ложного суеверия. Бог подобен солнцу, хотя и одному, но наполняющему все части мира своим светом и теплом, истинным знанием. Ночь же, находящаяся во власти злого духа, своей чернотою являет образ ослепления и заблуждения языческих суеверий. И как бы ни было велико число звезд, блистающих в ночной тьме, они не могут рассеять мрака и, обладая малым количеством света, не производят тепла.
Примечательный факт: у апологетов собственно теология (учение о Боге) носит значительно менее христианский и более философский (в античном смысле слова) характер, чем их онтология или «натурфилософия». Лактанций просто не в состоянии сказать даже несколько фраз в духе античной натурфилософии. Здесь опять возникают парадоксы христианской гносеологии. Христиане еще от своих ближневосточных предшественников узнали и приняли, что Бог принципиально непостигаем, именно поэтому их постоянно интересует вопрос, что есть Бог. Опыт античной науки и философии показал им, что предметный мир во многом познаваем, и поэтому их совершенно не интересует, что есть мир. И если им иногда приходится описывать его, то они имеют перед своим мысленным взором совсем иной вопрос - для чего, зачем есть мир. Натурфилософия незаметно перетекает в герменевтику, каждый элемент реального мира, каждое его явление превращается в символ и образ совершенно иных, духовных реальностей. Небо и земля, свет и тьма, тепло и холод, восток и запад, юг и север, день и ночь теряют свой реальный смысл и превращаются в символические знаки. Если стоики и эпикурейцы могли бесконечно спорить о сущности знака, но при этом само реальное явление, предмет обозначения оставался для них бесспорным в своей субстанциальной явленности, то для ранних христиан и само это явление становится знаком. Перед нами совершенно новое, по сравнению с античным, миропонимание, новая философия.
Тепло и влага, продолжает свой «натурфилософский» экскурс Лактанций,- два главных противоположных начала, удивительным образом созданных Богом для произведения и поддержания жизни всех существ на земле. Потому-то некоторые философы справедливо считали, что мир основывается как на согласии, так и на разногласии составляющих его элементов. Однако причин этого они не постигли. Гераклит полагал, что все произошло из огня, Фалес - из воды. Оба они отчасти открыли истину, но оба и обманулись. Если бы не было иного начала, кроме огня, от него никогда не произошла бы его противоположность - вода, как и обратно. Истина состоит в том, что в основе всех творений лежит смесь этих стихий. Однако это не смесь самих воды и огня, ибо одно из них всегда уничтожает другое, а соединение их сущностей - тепла (calor) и влаги (итог). Прав был Овидий, говоря:
Ибо, коль сырость и жар меж собою смешаются в меру, Плод зачинают, и все от этих двоих происходит. Если ж в боренье огонь и вода, - жар влажный, возникнув, Все создает: для плодов несогласье согласное - в пользу
[221]. (Metam. I, 430-433.)
Одно из этих начал лежит в основе мужского пола, другое - женского; одно - действенное, другое - страдательное (patibile). Древние, указывает Лактанций, пользовались символами огня и воды в обрядах бракосочетания, так как считали, что только тепло одного и влага другого пола служат образованию и одушевлению живых существ. При этом влага является началом тела, а тепло - души. В своей жизни животные пользуются только водой, люди - водой и огнем. Последний, сходя с неба и поднимаясь к небу, возвещает нам некоторым образом бессмертие нашей души; вода - знак грубой земной стихии.
Это «натурфилософское» описание мира является типичным образцом позднеантичного философствования вообще и раннехристианского в частности. Оно прежде всего эклектично (вспомним, что по-гречески εκλέγω означает выбирать), ибо представляет собой причудливую смесь элементов различных предшествующих учений. Но элементы эти не случайны. Они «выбраны» из старого с учетом потребностей и главной линии духовного развития новой, нарождающейся культуры. В этом смысле апологеты были вдохновенными эклектиками, сшивавшими из обрывков старых и современных им учений «лоскутные одеяла», «пестрые ковры» нового учения. Вспомним, что не случайно Климент Александрийский так и назвал свое главное сочинение «Строматы» («Ковры»). Философия апологетов - это философия «стромат»; тип философствования - составление из пестрых обрывков и кусочков, входивших некогда в состав чего-то целого, красочной мозаики, изображающей нечто новое, т. е. практически
эстетический тип мышления. Не случайно в этот и особенно следующий за ним период в культуре поздней античности были распространены центоны - словесные мозаики («ковры»), изображающие события христианской истории стихами, выбранными из различных произведений античных авторов
[222], а христианские храмы строились с использованием максимального количества элементов и блоков античных храмов.
Элементами Лактанциева описания служат и идеи античных философов, и представления восточных дуалистов и гностиков, и взгляды библейских мудрецов. Организованы эти элементы в единое описание уже по некоему особому принципу, тяготеющему больше к библейскому типу
описаний процессов, чем к античному описанию статических картин мира. Мир рисуется и Библией, и Лактанцием в процессе его становления, творения. Христианских мыслителей интересует в первую очередь динамика процесса. У своих ближневосточных предшественников переняли они острое ощущение времени, истории. Поэтому-то и мир интересует их прежде всего в его движении от сотворения к эсхатологическому концу. А так как движение это линейное и осуществляется, по мнению апологетов, только в человеческом обществе (в природе происходит замкнутый круговорот всех процессов и явлений), то их и интересует главным образом мир как социум, как
история человеческого общества. Именно поэтому и все явления материального мира начинают представать перед их взором в качестве символов и знаков нравственно-религиозного характера, освящающих и направляющих жизнь и историческое движение человеческого общества
[223].
Только Бог, по мнению апологетов, вечен (Tertul. Adv. Herm. 4), и к его сфере неприложимы никакие временные определения типа «до» или «после»; в безначальной, бесконечной, непрерывно длящейся вечности никакие временные мерки недействительны (Arn. Adv. nat. Π, 75). Для людей же время протекает линейно от прошлого через настоящее к будущему (Tertul. Apol. 20). Особенно остро ощущал время и грядущую вечность Тертуллиан. Бог, по его мнению, общему для всего христианства, устроил для бытия мира два периода: первый, протекающий во времени, в котором мы сейчас живем, и второй - вечный, общий с божественным бытием, которого мы ожидаем. Все чаяния христиан направлены к этому «будущему веку», вечному и неизменному (48), перед наступлением которого все жившие будут призваны к божественному суду и получат каждый по своим заслугам (18). Отсюда острый эсхатологизм, ожидание близкого конца мира в раннем христианстве.
«Наши желания,- читаем мы у Тертуллиана, - устремлены на конец этого времени, на изменение мира, на великий день Господа, на день гнева и воздаяния, на последний и сокровенный день, который никому не известен, кроме Отца, и который предвещай, однако, знамениями (signis) и чудесами, колебаниями элементов и столкновениями народов» (De carn. resur. 22). Именно эсхатологизм укреплял силы всех угнетаемых, страждущих и притесняемых в Римской империи. «Восплачем же ныне,- взывает Тертуллиан, - когда мир радуется, и некогда мы возрадуемся, когда мир будет плакать» (De idol. 13).
Киприан, отводя от христиан обвинение в том, что все природные и социальные бедствия происходят по их вине, стремится обосновать многие явления своего времени близким концом мира. Увеличение бедствий, зла и несчастий в мире было предсказано пророками, напоминает он, как предвестие конца «века сего». Все в мире вырождается, ибо он пришел к своей старости, и не следует удивляться, что все в нем становится хуже и хуже (Ad Demetr. 3-4).
Много внимания концу мира и предстоящим событиям уделяет Лактанций в конце VII книги «Божественных наставлений», показывая, что почти все происходящие события истории были предсказаны или прообразованы в библейской истории, что увеличатся злодеяния и беззакония в мире, вспыхнут бесчисленные войны и мятежи, погибнет Римская империя, Запад подвергнется рабству, а Восток получит власть повелевать. Но чем больше будет возвышение тех или иных народов, тем глубже будет их падение (Div. inst. VII, 15, 11 - 13).
Интересно, что еще в период гонений на христиан со стороны римской власти сама эта власть осмыслялась ими как богоданная, как имеющая силы влиять на ход даже божественной истории. В частности, Тертуллиан считал, что приход конца мира замедляется действиями римской власти. «Мы знаем,- писал он,- что [предстоящая] мирозданию величайшая катастрофа (imminentem) и сам конец мира, грозящий страшными бедствиями, замедляется римской властью». Но император не Бог и не должен так называться. Христиане признают императора своим, так как он поставлен их Богом (Apol. 32 - 34). Эти идеи ранних христиан открывали прямой путь к принятию христианства в качестве государственной религии Империи, что и было осуществлено столетие спустя.
Смысл человеческой жизни заключается, по христианской традиции, в познании и почитании Бога. Цель - достижение вечного блаженства. Общество должно быть организовано таким образом, чтобы оно максимально способствовало реализации этой цели каждым его членом. Для этого оно должно руководствоваться христианскими идеалами, христианской религией, т. е. быть христианским обществом. Религия поэтому становится высшей формой духовной жизни человека, даже определителем человека как вида (не homo sapiens, но homo religiosus), ибо, как писал Лактанций, «единственное или, по крайней мере, главнейшее отличие человека от животных заключено в религии» (Div. inst. II, 3, 14). Религия является, по его мнению, единственным фактором, сдерживающим все дикое и безрассудное, все животное, чем изобилует человеческая природа. Без религии жизнь человека была бы наполнена беспорядком, безрассудством и жестокостью. Ничто так легко не может останавливать порывы человеческой страсти и предотвращать злодеяния, как уверенность людей в том, что Бог является свидетелем их поведения и что он не только видит дела их, но слышит их мысли (De ira Dei 8). Поэтому-то религия и должна быть стержнем всего общественного устройства, полагают апологеты. Но не только страх перед Богом останавливает людей в их недостойных поступках. Религия дает обществу законы жизни, комплекс морально-этических норм, который должен быть осуществлен христианским социумом, реализованным в церкви и государстве. Однако мы забегаем несколько вперед. Эти идеи будут сформулированы позже, у апологетов они лишь намечены.
Апологеты, за исключением, может быть, александрийцев, осознали себя деятелями, а не мыслителями, свою философию они рассматривали как философию дела, философию конкретной, практической организации «правильной» жизни общества. Киприан, противопоставляя христиан языческим философам, называет их (христиан) «философами не на словах, а на деле, ценящими премудрость не по одежде, но по истине» (De bono pat. 2).
Суть этого дела заключается прежде всего в жизни по «правильным» нравственным законам, которые принес и преподал миру Христос, в жизни добродетельной и справедливой. Соответственно проблемы блага, справедливости, зла, добродетели занимают важное место и в теории апологетов. Для нашего исследования эти проблемы имеют особый интерес, так как эстетика христиан была тесно переплетена с этикой и понятия прекрасного и безобразного имели часто этическую окраску.
В полемике с античностью ранние христиане противопоставляют распущенности и развращенности римского общества идеал строгого нравственного образа жизни. Многие страницы своих трактатов они посвящают изложению своего нравственного учения. Конечно, оно не было оригинальным изобретением христиан. Многое из того, что составило этику христианства, можно найти и в древнееврейском Законе, и в старых установлениях греков и римлян, и в экстремистских манифестах киников, и особенно в этике стоиков
[224] (их «нравственное учение» Юстин считал прекрасным - Apol. II, 8). Христиане, обратив особое внимание на сферу нравственной жизни человека, поставив этику во главу всей философии, подытожили в своем учении лучшие достижения человеческой культуры того времени в морально-этической сфере и возвели их в идеал, освятив божественным авторитетом. Этот идеал явился исторически закономерной реакцией общества на господствующий образ жизни последнего периода античной культуры.
Рассказывая о взглядах христиан на добро, благо, справедливость, чистоту нравов, Феофил Антиохийский заключает, что вряд ли те, кто учит всему этому, могут жить безнравственно. Не у римлян, но у христиан, делает он вывод, «находится целомудрие, выполняется воздержание, соблюдается единобрачие, сохраняется чистота, истребляется несправедливость, искореняется грех, уважается справедливость, почитается закон, осуществляется богопочитание» (Ad Aut. III, 15). Татиан рисует идеал христианской жизни в лучших традициях Эпиктетовой философии, противопоставляя его практицистскому идеалу римского гражданина: «Не хочу царствовать, не желаю быть богатым, отказываюсь от военачалия, ненавижу блуд»; я не плаваю на кораблях для приобретения наживы, не участвую в состязаниях за венки, «я свободен от безумного честолюбия (δοξομανία), презираю смерть, я выше всякой болезни, печаль не терзает моей души. Если я раб, терплю рабство; если свободен, не хвастаюсь своим благородством. Я вижу, что одно и то же солнце для всех, что одна смерть постигает всех, живет ли кто в удовольствиях или в бедности» (Adv. gr. 11). Заботы, болезни, страдания царят в этом мире, поэтому христиане призывают отвергнуть «безумие этого мира» и жить по новым нравственным законам, чтобы заслужить бессмертие.
Идеализированный образ жизни христиан в Римской империи прекрасно описан в подчеркнуто антитетических формулах в христианском памятнике II - III вв.- «Послание к Диогнету» (см. PG, t. 2, 1167 - 1186):
[225] «В своем отечестве живут они, но как иноземцы; участвуют во всем, как граждане, и всё терпят, как чужестранцы. Всякая чужбина для них - отечество; и всякое отечество - чужбина. Они женятся, как все, рожают детей, но не выбрасывают рожденных. Они пребывают во плоти, но живут не по плоти. Находятся на земле, но гражданство имеют на небе. Они повинуются установленным законам и своею жизнью побеждают законы. Они любят всех и всеми преследуются. Их не знают, но осуждают; умерщвляют их, но они животворятся; они бедны, но многих обогащают. Всего лишены они и во всем у них изобилие. Бесчестят их, но они в бесчестии прославляются; клевещут на них, но они оказываются правыми; злословят их, а они благословляют; их оскорбляют, а они отвечают почтением. Они творят добро, а их наказывают как злодеев; и наказываемые, они радуются как одариваемые жизнью» (Ad Diogn. 5). Здесь хорошо выражен христианский идеал добродетельной жизни. Миру алчности и безнравственности, зла и насилия ранние христиане противопоставили принцип всеобъемлющего, все в себя вмещающего добра, абсолютного добра и добродетели, глобального человеколюбия
[226]. Христиане представляются автору «Послания» душой общества, мира. Как душа человеческая запрещает плоти предаваться удовольствиям, так и мир ненавидит христиан за то, что они восстают против его удовольствий 6.
Много внимания нравственно-практической стороне христианства уделил Климент Александрийский. Этому вопросу посвящена большая специальная литература, и здесь не место заниматься им подробно. Укажем только на ряд важных для дальнейшего изложения постулатов Климента.
Двойной путь ведет, по Клименту, к совершенству - путь «дел и знания» (έργα καί γνώσις) (Str. IV, 39, 1). Высшая цель человеческих устремлений - спасение достигается «с помощью добрых дел (εΰπρα-γίας) и познания» (VI, 122, 4). Мы видели уже, как высоко ставил Климент путь знания, но и путь «дела» занимал в его теории не менее почетное место. Под «делом» Климент, как и все христианство, имеет в виду нравственно-добродетельный образ жизни. Путь знания, гносиса - это наследие греческой философии, которую так любил Климент, да и большинство Отцов Церкви. Путь «дела» составлял сущность всей ближневосточной и шире - вообще восточной мудрости. Это хорошо сознавал и Климент, неоднократно подчеркивая, что свою «этику» греки заимствовали с Востока. Вся история патристической философии - это история поиска максимального единства, синтеза двух путей достижения совершенства, истины - путей дела и знания, ибо анализ греческого пути «знания» и древнееврейского пути «дела» ясно показал им недостаточность как одного, так и другого. Однако стремление к синтезу столь противоположных путей на деле порой приводило и многих апологетов, и их последователей на традиционный, проторенный путь. Трудно было сразу согласовать их в одной системе, привести к органическому перерастанию в новое качество. Окончательно построить такую систему удалось только к концу V - началу VI в. автору знаменитых «Ареопагитик». Однако без грандиозной подготовительной работы, проделанной александрийскими мыслителями (Климент, Ориген) и «великими каппадокийцами» (Василий Великий, Григорий Нисский, Григорий Назианзин) «Ареопагитики» были бы невозможны.
Резко отрицательное отношение большинства апологетов, особенно восточного и африканского происхождения, к греческой философии привело их и к обесцениванию пути знания. Путь «дела» доминирует в их учениях. Иную картину видим мы у Климента (а затем и у Оригена).
Божественный Логос осуществляет, по его мнению, в обществе три функции - Увещателя, Педагога и Учителя (Paed. I, 3, 3). Как Увещатель, он стремится убедить людей в ложности и порочности их образа жизни, как Педагог, указывает путь праведной, нравственной жизни, и, как Учитель, учит познанию Высшей Истины. «Практиком, а не теоретиком (πρακτικός, ού μεθοδικός) является Педагог; и цель его состоит в улучшении души, а не в обучении; жизнь мудреца (σώφρονος), а не ученого показывается им» (I, 1, 4). Прежде всего он «приводит в порядок нравственную жизнь» (I, 2, 1), он готовит «больных» к полному выздоровлению, к принятию Высшей Истины. Здесь «нравственный» путь является подготовительным к пути знания. Это один из аспектов Климентовой этики. Другой заключается в понимании пути «дела» как самостоятельного, равного гностическому пути и ведущего, наряду с ним, к постижению Высшей Истины и обладанию ею. Фундамент его составляют вера, страх и любовь (πίστις, φόβος καί άγάπη)
[227]. Это религиозно-этически-эстетический путь совершенствования человека, ведущий к достижению состояния «уподобления Богу». О нем имеет смысл подробнее поговорить при обсуждении понятий «образ» и «подобие» у Климента.
Особое внимание, как уже указывалось, уделяли практическому пути латинские апологеты. Высшее благо видели они в созерцании Бога и в бессмертии (Lact. Div. inst. III, 9; VII, 8, 1 и др.). Достижение высшего блага приводит человека к блаженству, что и составляет цель человеческого бытия. Истинное блаженство обретут после второго пришествия Христа только справедливые люди, ведшие добродетельный образ жизни.
В мире и обществе царят добро и зло. Проблема зла активно интересует христиан. Они убеждены в том, что зло происходит не от Бога, хотя причина его, по мнению Арнобия, непостижима и вряд ли есть смысл ее доискиваться (Adv. nat. Π, 55). Арнобий усматривал вслед за античными философами причины различных бедствий в естественных законах природы. Он, относясь, в отличие от других апологетов, пренебрежительно к человеку, считал, что мир существует отнюдь не для человека; но человек в нем пришелец и должен подчиняться законам мира. Поэтому зло, полагал он, понятие относительное. То, что кажется человеку злом и бедствием, для мира может оказаться благом. Поддержку этим идеям он находит в античной философии: «Великий Платон, глава и столп философов, в своих сочинениях говорил об известных страшных потопах и мировых пожарах как об очищении земли, и [этот] мудрый муж не побоялся назвать уничтожение рода человеческого, разорение, разрушение, уничтожение и смерть обновлением вещей и сравнить это с восстановлением как бы юношеских сил» (I, 8)
[228]. Смешно винить природу в том, что она производит существа и явления, вредные для человека. Не слишком ли большое высокомерие требовать от мира, устроенного до человека, чтобы он был во всем приспособлен к человеческим потребностям. Все в мире соответствует определенному порядку и закономерностям, и человек занимает в нем свое определенное, скромное место (I, 9 - 12). Устами защитника христианства здесь, конечно, вещает античный философ, противоречащий главным положениям христианской доктрины.
Глубже, и уже в рамках христианского понимания, стремился осмыслить диалектику добра и зла, добродетели и порока Лактанций. «Бог,- считал он,- захотел поставить добро и зло в такое положение, чтобы качество добра познавали мы из зла, также и качество зла - из добра; смысл одного не может быть понят без другого. Бог не устранил зла, чтобы был ясен смысл добродетели» (Div. inst. V, 7, 5). Без зла и порока и добродетель не имела бы своего значения и цены. Только в борьбе со злом добро совершенствуется и укрепляется (V, 7, 9 - 10). В системе Лактанциева миропонимания добро и зло, наряду с огнем и водой, светом и тьмой, востоком и западом, теплом и холодом, являются одной из закономерных антитетических пар, из которых и состоит вся структура мира (De ira Dei 15, 1 - 3). Соответственно и в человеке, как состоящем из двух противоположных начал - души и тела, есть и положительные и отрицательные стремления. Добродетель призвана развивать первые и сдерживать вторые. Лактанций видит три ступени достижения высшей добродетели: делами, словами и в мыслях. Находящийся на первой ступени - праведен, на второй - совершенен, на третьей - подобен Богу (similitudinem dei) (Div. inst. VI, 13, 7). Здесь опять перед нами реликт античного мышления, ибо только для античности типично усмотрение «деяния добра» в мышлении. Для ортодоксального христианства на первом месте стоит дело, собственно, добро-детель.
Полемизируя со стоиками, Лактанций показывает, что страсти, присущие любому человеку, следует умерять, но не уничтожать совсем. Добродетель, по его мнению, состоит в укрощении страстей. «Изыми их - не будет и добродетели». Без порока, повторяет он многократно, не может быть добродетели, как нет победы без неприятеля и сражения, нет добра без зла (VI, 15, 3 - 8). Здесь Лактанций последовательно развивает «диалектические» идеи апостола Павла
[229]. Порочны, считает Лактанций, не сами страсти (adfectus), а их причины, которые и следует умерять
[230]. Страсти - внутри нас, а их причины - вовне. Вот, например, радость есть страсть, но она в одних случаях может быть порочной, в других - добродетельной (VI, 16, 3). Или, скажем, страх (metus). Античность считала его пороком в противоположность мужеству. Христианство подошло к этому вопросу иначе, внимательней всмотревшись в глубины человеческой психики. Оно осудило страхи обыденной жизни (страх перед сильным, страх перед пытками, страх перед бедностью, страх смерти), но возвело в норму и идеал жизни страх перед Богом. Этот страх - путь к блаженной жизни, ибо он удерживает людей от совершения злых и несправедливых дел. Лактанций в споре с античной философией по этому поводу специально подчеркивает парадоксальность христианского утверждения: «страх бывает вершиной мужества» (metus summa sit fortitudo). Вряд ли кто в это поверит, ибо трудно представить, чтобы противоположные вещи составляли нечто единое (VI, 17, 2 - 3). И тем не менее это так. Ибо кто не боится нищеты, ссылки, тюрьмы, мученической смерти, тот, конечно, считается неустрашимым и мужественным, но к этому мужеству и ведет страх перед Богом. Мужество христианских мучеников основывалось только на этом страхе (metus Dei) (VI, 17, 5).
Желание (cupiditas) также может быть порочным, но бывает и добродетельным. Поэтому вместо того, чтобы искоренять страсти, заключает Лактанций, необходимо уметь их правильно использовать. Страсти подобны коням, запряженным в колесницу: искусство жизни состоит в том, чтобы ими умело управлять. Как бы ни был быстр их бег, он будет результативен, когда направлен по верной дороге. В противном случае он приведет к пропасти или не туда, куда следовало бы. Страсть и желание будут пороками, если они привязаны к земле, и добродетелями, когда устремляются к небу (VI, 17, 12 - 14).
Итак, добродетельная жизнь требует управления страстями. Вообще в жизни, вспоминает Лактанций древних философов, есть два пути: путь добродетели, сложный и трудный, ведущий к блаженной вечной жизни, и путь порока, приятный и легкий на первом этапе, но ведущий в ад. Добрый путь обращен к востоку, злой - к западу, первый - к бессмертию, второй - к вечному мраку. Лактанций дает яркое описание обоих путей, строя его на контрасте противоположных образов.
Путь порока вначале представляется широким, ровным, усыпанным цветами и манящим множеством сладких плодов. Вступающему на него предлагается, с одной стороны, все то, что на земле почитается благом (богатство, почет, удовольствия и т. п.), а с другой - всякая несправедливость, жестокость, гордость, коварство, распутство, раздоры, невежество, ложь и другие пороки. Ближе к концу этот путь устроен так, что уже нельзя повернуть назад. Он сужается, исчезают из виду все красоты, вначале пленявшие человека, и он замечает, что обманут, уже низвергнувшись в глубокую пропасть, осужденный на вечные муки ада.
Напротив, путь добродетели труден и неровен, окружен тернием, язвящим и колющим идущего, загроможден камнями и скалами, по которым нельзя пробраться без падений и ушибов. Бог поместил здесь правосудие, умеренность, терпение, веру, целомудрие, воздержание, согласие, ведение, истину, мудрость и другие добродетели, но к ним присоединил бедность, бесчестие, труд, болезни и все горести. Это значит, что тот, кто возложил свои надежды на будущее блаженство, будет лишен преходящих благ на земле, чтобы легче ему было превозмочь трудности этого пути. Таким образом, людей добрых и праведных в этом мире ожидают бедность, обиды, оскорбления и т. п., но в конце его они получат блаженное бессмертие. На том и другом путях Бог назначил людям и блага, и бедствия, но в разном порядке. На одном он предложил временные бедствия и затем вечные блага, на другом - временные блага и вечные бедствия; естественно, что первый порядок лучше, его и выбирают христиане (VI, 4, 3 - 11). В другом месте Лактанций добавляет, что путь добродетели так узок, что нельзя пройти по нему с большим снаряжением. Необходимо почти обнажиться, чтобы, руководствуясь правдой, дойти до неба (VI, 1, 20).
Все эти аскетические тенденции были характерны для гонимого христианства того времени, стоявшего в активной (в христианском понимании этого слова, включавшем в себя и предельное смирение) оппозиции к римскому государству с его порочными порядками и «свободной» моралью.
В этот период оправдывается и возводится в идеал (особенно в годы усиления гонений) и крайний путь достижения блаженства - путь мученичества. Отдельные христианские секты, в частности монтанисты, считали даже единственно достойной смертью для христианина - мученическую, максимально приближающую его к Христу. Мученичество и исповедничество (претерпение пыток за веру) выглядели в глазах ранних христиан венцом добродетельной жизни, подвигом во имя идеала.
С новыми духовными идеалами христианство принесло и новое понимание традиционных понятий героя и героизма.
Один из наиболее почитаемых героев античной мифологии Геркулес (Геракл) кажется христианам грубым, смешным и примитивным, олицетворением животных инстинктов в человеке
[231]. Лактанций не видит ничего достойного в этом герое древнего мира и противопоставляет ему новый христианский идеал «мужественного человека» (vir fortis). Что может быть божественного, с удивлением спрашивает Лактанций, в человеке, ставшем рабом самых постыдных страстей, не щадившем ни пола, ни звания, возжигавшем повсюду «нечистый огонь плотской любви». Лактанций сознательно принижает и развенчивает подвиги Геркулеса. «Что здесь великого, - продолжает он, - осилить льва и кабана, побить птиц стрелами, очистить царскую конюшню, победить деву и снять с нее пояс, уничтожить диких лошадей с [их] хозяином?» (I, 9, 2).
Истинный героизм и мужество для человека новой культуры заключены в умении владеть собой, своими страстями. Укротить гнев, смирить порыв вспыльчивости - вот дела, достойные героя, но они-то и не были присущи Геркулесу. Никто не усомнится, что побороть свой гнев, который неукротимее любого зверя, не менее славно, чем растерзать льва или вепря; что гораздо легче избавиться от ненасытных гарпий, чем от скупости, честолюбия, жажды почестей и богатства; что значительно проще очистить хлев из-под тысячи быков, чем очистить душу, наполненную порочными желаниями и страстями. «Итак, только тот, кто умерен [во всем], благоразумен и справедлив, достоин носить имя человека мужественного (vir fortis)», т. е. героя в христианском смысле слова (I, 9, 6). Дела Геркулеса кажутся людям героическими, так как они оценивают их в соответствии со своими слабостями и немощью. Истинное же мужество должно выявляться из соотнесения с божественным, т. е. с идеалом. Геркулес, Лактанций намеренно искажает суть мифа, руководствовался своими страстями, и все подвиги его основаны на применении грубой физической силы. Христианство, устремившее все свое внимание к внутреннему миру человека, выдвинуло новый тип героя. Герой, в понимании христиан,- это человек, умеющий полностью управлять своими страстями, умеющий отказаться от материальных благ во имя духовных, человек справедливый и добродетельный, обладающий большим терпением, способный при случае мужественно перенести пытки и мучения и, если потребуется, бестрепетно отдать свою жизнь за свои идеалы. При всем этом христианский герой смирен и внешне пассивен. Он, как и герой древности, воин, но воин Христов; не Геракл и не боги Олимпа - его идеал, но - Иисус, распятый на кресте; не меч и не копье - его оружие, но терпение, способность переносить пытки, любовь к врагам и мучителям своим. Все это было непонятно римлянам первых веков нашей эры и, естественно, возбуждало в них вражду и ненависть к христианам. Пафос мученичества особенно силен у ранних апологетов, для которых мучения за веру были неотделимым атрибутом христианства, и любой принимавший его должен был во всякий момент быть готов принять и мученическую смерть. У ригориста Тертуллиана и особенно у мученика Киприана эти идеи пронизывают все их литературное творчество.
Тертуллиан видит в мученической смерти за веру блаженство (Apol. 1). Он считает, что Нерон, первый жестоко преследовавший христиан, доставил им этим только славу, ибо всем известно, что Нерон ничего иного не притеснял с такой силой, как все благое (5). В трагическом ореоле предстает у Тертуллиана жизнь ранних христиан, которые борются за истину, а их ведут на смерть. Однако Тертуллиан уверен, что этой смертью христиане побеждают, ибо завоевывают ею жизнь вечную (49). Похвале мученичества Тертуллиан посвятил трактат «Скорпиак» и послание «К мученикам» (202-203 гг.). Он ободряет заключенных в темнице и приговоренных к мучениям христиан, убеждая их в том, что мир для души является еще большей темницей, чем та, в которой они сидят. Темница представляется ему убежищем от мира. Там христиане не обязаны ни выполнять никаких языческих обрядов, ни посещать зрелищ и им подобных мест. Там христианин находится в безопасности ото всех соблазнов и даже от гонений. Душа же его и в темнице свободна, ибо полет ее ничем не ограничен. Темница - удобное место для молитв, она закаляет и душу и тело (Ad mart. 1-3). Мученичество - это спасительная жертва, в награду за которую человек обретает бессмертие. С древнейших времен, подчеркивает Тертуллиан, правда подвергается преследованию и насилию и лучшие сыны человечества всегда почитали за честь умереть за свои идеалы, свою веру (Scorp. 5, 8). Мученичество желанно и необходимо для христиан (15).
Услышав о мученической кончине римского епископа Фабиана, Киприан писал в Рим: «Я был очень обрадован, что за безупречное правление ему выпала и достойная (honesta) кончина» (Ер, IX, 1 ). Главная тема посланий Киприана - укрепление духа христиан, находящихся в темницах или готовых в любой момент оказаться там. В ореоле святости и героизма рисует Киприан подвиги мученичества. «Ручьями текла кровь, - описывает он гонения против карфагенских христиан,- которая должна была погасить пламя гонения и огонь геенский. О, какое это было зрелище для Господа, сколь возвышенное (sublime), сколь великое!» (X, 2). Мученики, безропотно перенесшие пытки, представляются Киприану мужественными «воинами Божиими в славных сражениях» (XXXVII, 1). Христос не оставляет их и в темницах, его «сияющий блеск» всегда был в их сердцах и душах, озаряя невыносимый для других мрак темниц (XXXVII, 2). Раннее христианство дало неизвестный до того времени образ «Христова воина», воина-мученика, воина-исповедника, который огню и мечу своих противников противопоставляет мужество терпения, смирение, слово правды и добродетели. Этот образ займет важное место в христианской литературе последующих веков вплоть до зрелого русского Средневековья. Он - порождение новой культуры, нового миропонимания, которые далеко ушли от античных идеалов. Вряд ли можно представить себе в устах классического грека или римлянина подобный гимн темнице: «О, [как] блаженна темница, озаренная вашим (исповедников. - В. Б.) присутствием! О, [как] блаженна темница, посылающая людей Божьих на небо! О, как светел мрак, светлее самого солнца и дневного света, там, где заключены теперь Божьи храмы и освященные божественным исповедничеством члены ваши!» (VI, 1). Так же не представимы для античного мышления гимн скованным ногам христиан, сосланных в рудники (LXXVI, 2), или похвала палке, которой не боится тело христианина, ибо все его надежды и упования связаны с древом (in ligno) (искупительным древом креста Христова) (LXXVI, 2).
Среди книг, приписываемых Киприану, есть специальный трактат «О похвале мученичеству», типичный для того времени. Мученичество представлено здесь вершиной всех земных благ. Оно - окончание грехов, предел всех бедствий, вождь спасения, учитель терпения, обитель жизни. «Что может быть превосходнее и возвышеннее (sublime),- восклицает автор трактата,- чем среди всех орудий палачей с непоколебимой набожностью сохранить всю силу веры? Что может быть величественнее и прекраснее (pulherrimum), чем в окружении стольких мечей немолчно исповедовать Господа, виновника нашей свободы и спасения?» (De laud. mart. 8). «Слава мученичества,- продолжает он,- неоценима, величие - беспредельно, победа - непорочна, достоинство - знаменито, наименование - бесценно, триумф - безмерен; ибо тот, кого венчает слава исповедничества, как бы самою кровью Христа украшается (decoratur)» (29).
Пафос и идея мученичества были рождены самой исторической действительностью того жестокого времени; они - закономерное явление в истории человеческой культуры и важное достижение человеческого духа.
Мы остановились лишь на некоторых проблемах раннехристианской теории, которые уже в те века сложились в определенную, хотя и несистематизированную философию культуры. Сознательно оставлена почти незатронутой важнейшая часть этой философии - проблема человека. Она теснейшим образом связана с собственно эстетической проблематикой христианства и будет рассмотрена ниже. Эстетика, как мы могли не раз убедиться, постоянно, хотя и незаметно, присутствует во всех частях этой философии. Эстетическое сознание теснейшим образом вплетено во все сферы духовной культуры раннего христианства. Внимательнее присмотримся к специфике этого сознания.
Глава III. РЕЛИГИОЗНО-ЭТИЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
1. Концепция человека
Много есть чудес на свете, Человек - их всех чудесней. Софокл. Антигона, 340 - 341 (Перев. С. В. Шервинскою)
Антропология занимает важнейшее место в христианской философии, и апологеты уделяли ей много внимания. Здесь не место останавливаться подробно на этом во многом разработанном вопросе, но необходимо отметить, что без изучения проблемы человека почти все главные стороны христианской культуры, в том числе эстетика и художественная культура, остаются не до конца понятыми.
Как уже было показано, для апологетов весь космос «вращается» между двумя полюсами - Богом и человеком. Человек - главное и любимое творение Бога. Забота о нем составляет основную задачу божественных деяний и помыслов. Ради спасения и вечного блаженства и человек устремляется (в познании, почитании и служении) к Богу. Освятив божественным авторитетом внимание к своей персоне, человек и сам стал пристальнее всматриваться в себя. В истории культуры наступил момент, когда человек начал осознавать, что должен быть
человечным, что
человечность (humanitas) - его основное достояние, а ее-то и не хватало большей части населения римской ойкумены, т.е. она еще не являлась тогда принадлежностью человеческой культуры. Античный герой и римский полководец, философ и поэт классической эпохи просто не задумывались над тем, что это такое. Только христианство, начертав на своих знаменах образ страдающего за других Богочеловека, впервые в истории культуры сознательно подняло голос в защиту слабого, обездоленного, страдающего человека, пытаясь и теоретически обосновать и доказать (опираясь на божественный авторитет), что человек должен быть прежде всего
человечным. Именно к поздней античности, и в частности к апологетам, восходит происхождение понятия «человечность»
[232].
В истории культуры понятие humanitas употребляется в нескольких смыслах. Как известно, впервые этот термин применил Цицерон для обозначения высшего типа образования, включавшего в себя освоение всего комплекса наук (гуманитарных прежде всего). Humanitas выступает у Цицерона как утонченное, аристократическое воспитание (у греков - παιδεία), высокая духовная культура и т. п. Именно в этом смысле, как мы видели, применял Тертуллиан термин humanitas к философии Платона (Ad nat. II, 3), а также использовал его Юстин Философ (Apol. II, 13)
[233]. Именно эту традицию понимания humanitas положили в основу своего «гуманизма» много столетий спустя мыслители Возрождения. Humanismus становится у них символом свободного от оков всякой схоластики и церковности развития личности на основе всестороннего образования, опирающегося на лучшие образцы античной культуры
[234].
В среде поздних стоиков в имперском Риме humanitas приобретает иное значение, близкое к греческому φιλανθροπία (человеколюбие, человечность) и имеет отношение уже не к узкому кругу высокообразованной римской аристократии, но к любому человеку независимо от уровня его образования. Именно в этом смысле используют термин humanitas ранние христиане, в частности Лактанций в теории своего «христианского гуманизма». Об этом гуманизме и идет речь в данной главе.
Христианство усмотрело в человеке венец творения, высшее и наиболее совершенное существо природы и все свое внимание устремило на это существо, на его всестороннее изучение, выяснение смысла и цели его существования. Цикличность и повторяемость многих явлений природы привели первых теоретиков христианства к убеждению, что и столь совершенное существо, как человек, не может и не должно, прожив тяжкую жизнь, исчезнуть без следа. Только земное, «примитивное» бытие человека не может быть его единственным уделом. Человек рождается для более высокой цели в вечной жизни. Отсюда - вера в обязательное воскресение. Тертуллиан, указывая на диалектику природных процессов, когда «все восстанавливается через уничтожение», восклицает с пафосом: «А ты, человек, - сколь великое имя, если бы ты понимал себя хотя бы в смысле изречения Пифии, - ты, господин всего, что умирает и восстанавливается, неужели умрешь для того, чтобы исчезнуть?» (Apol. 48). Христиане осознают человека как существо возвышенное и духовное и именно этим отличное от всего остального животного мира. Само вертикальное положение человеческого тела с лицом, обращенным к небу, апологеты понимают как знак возвышенного назначения человека. Лактанций приводит известные стихи Овидия в качестве авторитетного подтверждения этого:
И между тем как, склонясь, остальные животные в землю Смотрят, высокое дал он лицо человеку и прямо В небо глядеть повелел, подымая к созвездиям очи
[235]. (Metam. I, 84 - 86.)
Лактанций отмечает, что и само имя άνθρωπος (человек) греки присвоили человеку потому, что он смотрит «вверх» (άνω) (Div. inst. 1, 15). Однако, сетует он, человек до сих пор не осознал этого своего высокого назначения. Бог одарил его лицом и взором возвышенным, а он смотрит в землю, Бог дал человеку тонкий ум, способный возвышаться к предметам божественным, а он стремится только к вещам земным и низменным. Человек, заключает Лактанций, рожден для неба и не должен уподобляться неразумным животным (II, 2, 19-20). На земле все ниже человека (II, 18, 1), поэтому все помыслы его должны быть устремлены к небесному, к духовному. Именно поэтому Лактанций и не соглашается с Сократом, объявлявшим все находящееся выше нас нас не касающимся. Именно в стремлении к тому, что «выше нас», и усматривает христианство главное назначение человека. Отсюда и новое отношение к человеку, долго вызревавшее в культуре эллинизма, ясно наметившееся в этике стоиков и во всей полноте разработанное ранним христианством.
О высоком назначении человека, особенно о достоинствах его духа, ума, души, говорили и многие мыслители и писатели древности. Они давно заметили противоречивость человеческой природы, устремленность человека и к возвышенному, но чаще - к грубому, низменному. Последнее было отнесено на счет плотского тела, сковывающего полет духа. Непреодолимую пропасть между духом и телом, их полную противоположность во всем усмотрели в человеке восточные дуалисты, а вслед за ними гностики и некоторые из раннехристианских мыслителей. Отношение к телу с его плотскими влечениями у них у всех было резко отрицательным, что исторически вполне понятно как реакция на «телесные» интуиции, пронизывавшие всю античную культуру, на разгул плотских наслаждений в позднем Риме. Среди апологетов тенденцию резко отрицательного отношения к человеческой плоти, а отсюда и к человеку вообще активно поддерживал Арнобий, опираясь, видимо, на пессимистические взгляды Плиния Старшего, изложенные в VII кн. его «Естественной истории». Человек, по мнению Арнобия, не является творением Божиим (отсюда - и все последствия!), он не имеет ничего общего с небесными существами, подобен остальным животным или очень мало отличается от них (Adv. nat. Π, 16, 17, 25; VII, 34); он - существо незначительное, бесполезное для мира, смертное, по характеру изменчивое, обманчивое, не обладающее знаниями, слабое, склонное к порокам, обладающее свободой воли. Только познание Бога может привести человека к спасению. Своими бесчисленными пороками люди доказывают, что они не высшего, но «среднего» происхождения (II, 48). Основная часть человечества - люди дурные и порочные; хороших людей мало; они - исключение из общего правила (II, 49). Все души от природы несовершенны и порочны (II, 50); о телах уж и говорить нечего. Арнобий дает неприглядный анатомический образ человека, подчеркивая в нем все неприятное и антиэстетичное (III, 13). Однако в этом максималистски отрицательном отношении к человеческому телу он все-таки является исключением среди апологетов, утверждавших совершенно иное его понимание.
Уже ригорист и религиозный максималист Тертуллиан, не питавший никаких иллюзий относительно человеческого тела и его влечений, приходит к пониманию важности и первостепенной значимости тела для человека. Он одним из первых в истории философии осознал сложную, противоречивую взаимосвязь в человеке материального и духовного, плоти и души. По его глубокому убеждению, душа и тело неразрывно связаны в человеке и действуют в полном согласии друг с другом. Человек не может существовать без одной из этих составляющих. Духовная, мыслительная деятельность человека является производной тела, ибо «и без действия, и без осуществления мысль есть акт плоти» (De carn resur. 15)
[236]. Душа в человеке ничего не делает без тела. Тело является не сосудом для души, а слугой и товарищем ее и поэтому подвержено суду Божию; сосуд же и суду не подлежит (16). Чтобы еще больше оправдать тело, Тертуллиан и душу наделяет особой телесностью (17). Ни душа сама по себе не может быть названа человеком, так как она была помещена в тот образ, который назывался человеком, ни тело без души не является человеком, ибо, по выходе души, оно называется трупом. «Поэтому слово «человек» есть в некотором роде фибула, связывающая две субстанции; под этим словом не может пониматься ничего иного, кроме этих связанных [субстанций]» (40). Если человек грешит, то не из-за одного тела, но с помощью обеих субстанций: души, как побуждающей, и тела, как исполняющего (34). Поэтому и воскреснет человек в единстве своих субстанций - души и тела. В теле должна открыться вечная жизнь; для этого и создан человек, для этого и
воплотился Логос (44). Именно эти идеи вдохновляли христианскую антропологию, сотериологию, эстетику и художественную практику.
Тертуллиан указывает, что в его время повсюду, особенно в среде философов, было обычным делом порицать плоть за ее материальность, уязвимость, конечность и т. п. (4). Поэтому он считает важной задачей защитить ее от порицания, показать ее достоинства, что принуждает его «сделаться ритором и философом» (5). Главным аргументом в этой защите является уверенность в божественном происхождении плоти. Словами, считает он, вряд ли можно воздать человеческому телу столько чести, сколько оказал ему тот, кто создал его своими руками, направляя на него свой ум, свою мудрость, свои действия и заботу. Как же порицать и хулить после этого плоть, тело! (6). Если даже дурна материя, как полагают многие философы, то Бог в состоянии был ее улучшить, создавая тело. Он извлек «золото плоти» (carnis aurum) из «грязи», по представлениям позднеантичных спиритуалистов, земли. Бог не мог поместить родственную ему душу в дурную плоть. Ибо даже люди, которые, конечно, не искуснее Бога, оправляют драгоценные камни не свинцом, медью или серебром, но обязательно золотом, притом самым лучшим и прекрасно обработанным. Душа и тело - едины в человеке
[237]. Тело одухотворяется душой, а душа имеет в теле весь вспомогательный аппарат чувств: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Итак, хотя тело и считается слугой души, оно является сообщницей и соучастницей ее во всем, а значит, и в жизни вечной (7). Более того, именно тело, плоть является «якорем спасения» (cardo salutis) человека (8). Поэтому Тертуллиан, несмотря на весь свой духовный ригоризм, призывает видеть прежде всего достоинства, положительные свойства плоти, которые в ней изначальны и первостепенны. Тело, по его мнению, служит украшением души (63). Порочна не сама плоть, но плотские вожделения и неприглядные дела человека, они-то и достойны порицания (46). Конечно, тело причастно к вожделениям и порокам, поэтому оно и является своего рода крестом, который человеку приходится безропотно нести (De idol. 12). Борьба с плотскими влечениями, с одной стороны, и постоянное ожидание физической расправы со стороны гонителей христианства - с другой, развивают в раннем христианстве аскетические тенденции, чему, конечно, способствовали и аскетические учения и культы ряда восточных и позднеантичных религиозных течений. Тертуллиан в трактате «О терпении» считает изнурение тела необходимой жертвой Богу. Скудное питание, посты, половое воздержание, пренебрежительное отношение к одежде и т.п.
[238] - все это закаляет тело, делает его способным вынести все испытания, ежеминутно грозящие обрушиться на головы первых христиан (De pat. 13). Отсюда и похвала терпению, которое «прекрасно (formosa est) во всяком поле и во всяком возрасте» (15).
Лактанций в структуре своих бинарных представлений о мире видит и человека состоящим из двух начал. Для его создания, полагает он, Бог воспользовался огнем и водой и сотворил своеобразный микромир, состоящий из двух противоположных стихий, из души и тела, первая из которых происходит с неба, а второе - из земли (Div. inst. II, 12, 2 - 3). Свет и тьма, жизнь и смерть ведут постоянную борьбу в человеке (II, 12, 7).
Нет ничего в мире, что было бы сотворено «само для себя» (propter se ipsum), но все создано для какой-либо цели, полагает Лактанций. Принцип утилитаризма господствует во всем. Никто ничего не создает без определенной цели (пользы). Корабль строят для плавания, дом - для жилья, а сосуд делают для хранения в нем чего-либо. Так и Бог сотворил мир для животных, чтобы они пользовались его плодами. Животных же он создал для человека, чтобы тот мог использовать их для своих нужд (VII, 4, 4 - 10). А человека Бог сотворил лично для себя. Он захотел, чтобы в мире было существо, способное оценить его творения, измерить всеобъемлемость его провидения, удивляться величию могущества его, обожать его, чтить и возносить ему должные хвалы (VII, 5, 3).
Не все апологеты придерживались этой точки зрения. Афинагор, также полагая, что Бог ничего не делает без пользы, считал, однако, что не для собственной пользы сотворил он человека. Люди, по его мнению, были сотворены для их бытия и жизни. Причина их бытия заключена в самой их жизни (De res. mort. 12)!
Отвлекаясь несколько от проблемы человека, здесь следует заметить, что в системе раннехристианского телеологизма две противоположные крайности хорошо уживаются друг с другом и как бы перетекают одна в другую - полный утилитаризм и чистый эстетизм. Чаще всего утилитаризм, принцип пользы, господствует на уровне обыденной жизни, а эстетизм - в сфере высшей духовности. Мир создан для утилитарного использования его человеком, но сам человек - исключительно для удовольствия Бога. Этого удовольствия, как мы увидим, не чужд будет и сам человек как существо духовное, и мир окажется и для него наполненным эстетическим содержанием. Соседство утилитаризма и эстетизма, их противостояние и перетекание друг в друга, их внутренняя зависимость друг от друга хорошо отражают сущность сложного и противоречивого характера духовной, и в частности художественной, культуры Средневековья, стремившейся к синтезированию античного эстетизма и ближневосточного практицизма. Двуединство утилитаризма и эстетизма вписывалось в общую бинарную картину, красочно написанную Лактанцием. В культуре они так же соотносятся друг с другом, как душа и тело в человеке. А последние, как бы ни был тесен их союз, постоянно борются между собой. Блага души, такие, как отказ от богатств, удовольствий, презрение к скорби и смерти, оказываются бедствиями для тела, и обратно (Div. inst. VII, 5, 23). И человек постоянно находится в ситуации выбора - «или - или».
Единство утилитарного и эстетического представлялось ранним христианам идеалом, и человек в его телесной материальности казался Лактанцию полной реализацией этого идеала, что он и стремился показать в своем трактате «О божественном творчестве». Бог здесь, как и во многих других работах апологетов, выступает идеальным художником, и из описания его творений хорошо вычитываются эстетические взгляды автора описания, понимания им задач истинного творчества (opificium).
Бог одарил человека разумом, чувством и словом и поэтому не дал ему преимуществ, имеющихся у животных, как бы полемизируя с Плинием Старшим, пишет Лактанций. Однако эти преимущества типа острых зубов, рогов, когтей, хвоста или разноцветного волосяного покрова вряд ли способствовали бы красоте человека. Также и животные, отними у них эти свойства, остались бы не только беззащитными, но и некрасивыми, т. е. полезное и прекрасное в их телесном облике неразрывны (De opif. Dei 2)
[239]. Разум человека - главное его благо, он перекрывает все (остальные) достоинства животных. Зря поэтому эпикурейцы, полагает Лактанций, жаловались на то, что человек рождается более слабым и беспомощным, чем животные. Разум в человеке способен снабдить его силой и украсить как угодно его тело. Благодаря разуму человек, как бы он ни был мал ростом и слаб физически, сильнее и красивее (ornatior) любого животного (3, 14 - 15). Стоит ли жалеть, что мы родились людьми, спрашивает христианский писатель у античного философа и отвечает с оптимизмом, присущим раннему христианству: нет! Сила животного не стоит дара слова, умение птиц свободно летать не стоит проворства рук человеческих.
Язык и
руки гораздо удивительнее всего того, на что способны животные и птицы со своими силами и крыльями (3, 20).
Физически человек слабее животных, он подвержен болезням и смерти. Именно слабости своей обязан человек тем, что он является членом общества (что и прекраснее во всех отношениях, и безопаснее), что человек постиг науки, развил культуру и общественные отношения. Лактанций, следуя Аристотелю, определяет человека как «социальное животное» (animal sociale - Div. inst. VI, 10, 10; 17, 20). Если бы человек был более сильным или был бы освобожден от окружающих опасностей, он вместе с тем был бы лишен и разума, и мудрости (4, 21-23).
Прежде чем перейти к подробному описанию главного творения Бога, человеческого тела, Лактанций рассматривает тела животных, не уставая удивляться целесообразности организации их членов и красоте их внешних форм. При этом он постоянно подчеркивает, что то, что выглядит прекрасным и полезным у животного, будучи перенесенным на человека, придало бы его телу безобразный вид, и обратно. Ничего не было бы, к примеру, отвратительнее (turpius), чем вид животного без шерсти или человека, покрытого шерстью или щетиной (7, 8). «Однако если сама нагота удивительно способствует красоте человека, то она не свойственна его голове». Поэтому Бог «покрыл ее волосами, ибо, поместив их наверху, он как бы украсил самую высокую часть строения» (8, 9). Вообще, размышляя о строении человеческого тела, Лактанций замечает: «...Кажется, что полнее не мог бы воплотиться смысл творения, если бы что-либо было сделано по-иному» (7, 11). Вспомним, что речь здесь идет не просто о человеке, но о
произведении идеального Художника (скульптора), к описанию которого Лактанций и приступает далее
[240].
«Здравый разум в человеке, его прямой стан и лицо, подобное [лицу] Бога-отца, ясно указывают на его начало, [на его] ваятеля» (8, 3). Ум человека, как имеющий родство с божественным и небесным, превосходящий все в природе, заключен в голове, как в высоко расположенной крепости, откуда он и обозревает всю вселенную. Этот дворец души имеет наиболее совершенную из всех форму - шара,- подобную форме неба. Волосяной покров скрывает его верхнюю часть, а передняя часть, являющая лицо человека, открыта и украшена наиболее важными и необходимыми для человека частями. Здесь расположены два глаза, а по краям - два уха. Их - по два - не больше, не меньше. Бог устроил так, чтобы красота (симметрия) согласовывалась с пользой. Форма ушей удивительна. Они открыты и ничем не защищены. В противном случае «было бы и менее красиво, и менее удобно» (et minus decorum et minus utile) (8, 7), так как не были бы видны извилины ушной раковины и ухудшилась бы слышимость. Сложность и тонкость устройства глаз так удивительны, что не поддаются описанию словами (8, 9). Изложив свое понимание механизма зрения, Лактанций подчеркивает, что чувства, когда здоровы соответствующие органы, не обманывают нас, но дают истинную информацию (9, 5). Ресницы и брови, защищая глаза, украшают лицо, а нос, вырастая как бы из середины между бровями, разделяет их и подчеркивает их красоту. Описывая функции носа, Лактанций не забывает подчеркнуть и его красоту, которую усиливают две ноздри; с одной он выглядел бы безобразно. Отмечая парность почти всех главных членов (два глаза, два уха, две ноздри, две руки, две ноги) или их разделенность на две части (мозг - две части, сердце - содержит два желудочка), Лактанций подчеркивает, что она служит не только для пользы тела, но и его украшением (decus), ибо число два - совершенное число. «Подобно тому как во всем мире сумма вещей (summa rerum) и состоит, и управляет всем или из единой двойственности, или из двойственного единства (vel de simplici duplex vel de duplici simplex), так и в теле, малом универсуме, из парных [членов] составляется нераздельное единство» (indissocíabilem... unitatem) (10, 11).
Далее Лактанций с восхищением описывает устройство рта, который венчают губы - главное, по его мнению, украшение лица, - из которых верхняя разделена посредине небольшой ямкой, а нижняя выступает вперед с большим изяществом (honestatis gratia) (10, 19). Красоту (decus) остальных черт лица невозможно описать словами. Щеки плавно переходят в подбородок, разделенный на конце ямкой. Стройная шея переходит в плечи, наделенные большой силой и красотой. Особое восхищение Лактанция вызывают руки человека. «Что скажу я о руках,- восклицает он, - орудиях разума и мудрости? Искуснейший Художник (sollertissimus artifex) создал их плоскими с небольшой вогнутостью, чтобы удобно было удерживать взятое, и завершил их пальцами, относительно которых трудно сказать, чем они превосходнее: красотой ли или [приносимой ими] пользой (utrumne species an utilitas). Число их поистине совершенно и полно, порядок и устройство их превосходнейшие, линия суставов волниста и форма ногтей, завершающих пальцы и укрепляющих их мягкую плоть на концах, округла, - [все это] являет красу великую (magnum praebet ornatum)» (10, 23). Большой палец поставлен отдельно от других и выступает как бы вождем их. Он обладает наибольшей силой. В нем видно только два сустава, тогда как в других пальцах - по три. Третий его сустав скрыт в плоти руки «красоты ради» (pulchritudinis gratia). Если бы в нем были видны все три сустава, рука имела бы «вид непристойный и безобразный» (foeda et indecora species) (10, 24-25). Интересно отметить, что рука, главное орудие практической деятельности человека, интересует Лактанция больше с чисто эстетической, чем с утилитарной точки зрения. Читая его описание человека, постоянно ловишь себя на мысли, что перед тобой эстетический анализ скульптурного произведения большого мастера.
Грудь человека, будучи ровной и широкой, являет собой, в глазах Лактанция, удивительное зрелище. Такую грудь имеет только человек. У животных она узка и скрыта между ног. Даже соски не лишены своего рода красоты. У женщин они служат для кормления детей, а у мужчин «только для красоты» (ad solum decus), чтобы грудь не казалась безобразной (informe) и как бы искалеченной» (10, 26-27).
Переходя к внутренним органам, Лактанций подчеркивает, что они внешне менее прекрасны, но вызывают великое удивление своим совершенством и сложностью выполняемых функций (11).
Полное описание человека - Лактанций отмечает, что назначение далеко не всех членов и органов ему известно,- выливается у него в настоящий гимн человеку, целесообразной организации его тела, его красоте. Восторг и удивление Лактанция так велики, как будто он первым (а его устами - христианство) увидел и воспел совершенство и красоту человека, как будто вся античность с культом человеческого тела и его красоты, насквозь пронизанная телесными интуициями, не знала этого. Конечно, Лактанцию был хорошо известен античный культ тела, и, как мы видели, он немало страниц посвятил критике античной культуры именно за этот культ. В какой-то мере он и сам еще находится под влиянием этого культа, но для него он уже наполнен иным содержанием. Хотя красота и совершенство человека радуют его сами по себе, тем не менее он ни на минуту не забывает, что человек - произведение Высочайшего, Совершеннейшего Художника. Именно неописуемые красота и совершенство человека служат важным в глазах христиан доказательством бытия этого Художника и его творческой деятельности.
Высоко оценив человека с точки зрения его красоты и совершенства, апологеты отнюдь не остановились на позиции чистого эстетизма. Любуясь телом как произведением искусства, они не забывают и о душе и идут здесь значительно дальше классической античности. Душа же у человека (любого человека) родственна Богу, поэтому христиане призывают с уважением и любовью относиться ко всякому человеку в единстве его души и тела.
Тертуллиан и Минуций Феликс гневно обрушиваются на римлян за бесчеловечность их обрядов и зрелищ, когда льется рекой человеческая кровь. Но ведь это же кровь бестиариев (борцов с животными) и гладиаторов, защищаются - римляне. Для христианина и раб, и бестиарий, и гладиатор - люди точно такие же, как и высокопоставленные граждане Рима (Tertul. Apol. 9; Min. Fel. Octav. 37). Киприан с гневом и горечью стремится доказать своим согражданам, что их жажда кровавых зрелищ является причиной гибели множества невинных людей. Он же осуждает жестокость системы римского правосудия, часто поощрявшей садистские наклонности своих служителей (Ad Donat. 9).
Римское общество не видело в человеке ничего святого. Долг, честь, слава ценились там значительно выше любой человеческой жизни. Христианство посмотрело на человека, притом на каждого конкретного человека, как бы низко он ни стоял на общественной лестнице, глазами Бога, который стал человеком, чтобы открыть ему возможность стать Богом. С этих позиций человек становится высшей ценностью в мире, а «человечность» - высшим и неотъемлемым свойством и человека, и человеческой культуры. Апологеты первыми в истории человеческого общества начали последовательную борьбу за гуманное отношение к человеку.
Главным вдохновителем их в этой тяжелейшей борьбе, которая фактически не завершилась и до сих пор, был сам Иисус Христос. открывший людям принципиально новые этические законы. В знаменитой Нагорной проповеди он отменяет многие нравственные заповеди Ветхого Завета и утверждает новые, основывающиеся на всеобъемлющей любви; ставит перед человечеством новый идеал любви и взаимоотношений людей в социуме: «Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф 5, 43-44).
Христианство с первых своих шагов осознало себя носителем принципиально новой, не бывшей до того этики, нового понимания человека, его места в мире, новых законов человеческого бытия. Нагорная проповедь Христа строится на принципах снятия древней нравственности нравственностью новой, основанной на принципах любви. Новые заповеди даются чаще всего не как развитие старых, а как их отрицание, снятие. «Вы слышали, что сказано: «око за око и зуб за зуб». А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду» (Мф 5, 38-40).
Не только разум, но и все нутро древнего человека, привыкшего в тяжелой борьбе с природой, с «ближними» и «дальними» завоевывать себе место под солнцем и кусок хлеба, а затем - и добывать все блага жизни, богатство, женщин, бесчисленные наслаждения, - весь организм этого человека восставал против рабского, в его понимании, призыва Христа. Да что - древнего! XX в. в массе своих «достойных» представителей посмеялся над поднявшим знамя «непротивленчества» Львом Толстым и с гордостью вознес на свои алтари «шедевры» беспредельного могущества человеческого разума - термоядерное и иное оружие массового уничтожения ближних и дальних, доведя до логического завершения принцип «око за око».
Гордыня человеческая (самый, кстати, тяжкий грех в христианстве) и детское упоение культом силы, физического могущества не позволили человечеству в целом правильно понять и оценить новый идеал и новый путь, предложенный ему христианством, - путь всеобъемлющей и всепоглощающей творческой любви. Да и легко ли понять даже благородному защитнику добра: не противься злому! Это что же, отдать все на откуп злу? Допустить его беспредельное господство? А как же добру защитить себя? Или вообще отказаться от него? Абсурд какой-то с точки зрения обыденного сознания.
Вспомним, однако, что абсурдности боится только формальная логика да ум обывателя, а жизнь, культура, искусство, религия не только хорошо уживаются с нелогичностью, абсурдностью, чудом, парадоксией, но и часто основываются на них. Тертуллиановское credo quia absurdum - не только демонстративный вызов голому рассудку, но и незыблемый фундамент веры - важнейшего принципа бытия человеческого.
Не противься злому! В христианстве это отнюдь не призыв к полной пассивности и бездействию. Не противься злому физически, силой,- призывает Христос в Новом Завете, ибо таким способом ты только удваиваешь зло, ко злу добавляешь новое зло, т. е. уменьшаешь добро. По христианским представлениям, зло не имеет бытия. Оно лишь - отсутствие или умаление добра, которому одному изначально дан онтологический статус. Борясь со злом его способом, т. е. силой, ты только уменьшаешь добро. Единственный эффективный способ борьбы со злом - преодоление его добром, увеличение, наращивание добра, что само собой приведет к исчезновению зла, ибо везде будет одно добро. А активная и действенная сила в этой борьбе - любовь! И авторы Нового Завета, и их последователи Отцы Церкви, осознав это, направили все свои усилия на развитие этой силы в масштабе всего человечества. Но, как оказалось, они взяли на себя практически непосильную задачу, решив ее только на идеальном уровне. И тем не менее в культурологическом плане само по себе это уже немало.
Идеал всеобъемлющей, всепронизывающей и всепрощающей любви сформировался в позднеантичном мире в наиболее целостном и завершенном виде в сфере религиозного сознания, ибо без освящения божественным авторитетом он практически не мог стать достоянием общественного сознания древнего мира, и возник он как отрицание противоположного идеала. Если в Ветхом Завете главным принципом взаимодействия Бога с человеком был страх, то в Новом Завете им стала любовь, не отменившая полностью «страх Божий», но подчинившая его себе.
Само воплощение (вочеловечивание) Сына Божия, вся его деятельность на земле, страдания и позорная смерть на кресте во искупление грехов человеческих были поняты евангелистами, а затем и святоотеческой мыслью, как акция глубочайшей любви Бога к людям. «Ибо так возлюбил Бог мир,- пишет евангелист Иоанн,- что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин 3, 16-17). Сопоставляя этот удивительный акт любви Бога к людям с уровнем их сознания, апостол Павел отмечает, что человек едва ли отдаст свою жизнь за другого, разве что кто-то решится пожертвовать собой за своего благодетеля. А «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим 5, 8), и этим спас нас для вечной жизни. С того великого и таинственного времени «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим 5, 5), и «любовь Христова объемлет нас» (2 Кор 5, 14). Она столь велика и сильна, что превосходит всякое разумение (Еф 3, 19), ибо изливается не только во внешний мир, но и действует внутри самого Божества - связывает Отца и Сына. «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас,- взывает Иисус к людям,- пребудьте в любви Моей» (Ин 15, 9).
Сам Бог подал людям пример бесконечной и спасительной любви и Новый Завет, а за ним и христианские мыслители на протяжении всей истории христианства неустанно призывают единоверцев к подражанию божественной любви. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное» (Еф 5, 1-2).
Все три синоптические Евангелия передают (хотя и несколько в разной форме) эпизод с искушением Иисуса книжником, который вопросил его о наибольшей заповеди Закона и услышал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим»: сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего как самого себя». На сих двух заповедях утверждается закон и пророки» (Мф 22, 37-40; ср.: Мк 12, 30-31; Лк 10, 27). Иисус фактически дословно повторил заповеди из Пятикнижия Моисея (Втор 6, 5; Лев 19, 18). Однако там они перечислены среди множества других наставлений и «уставов» и находятся в разных книгах. Иисус же выдвигает их на первое место в качестве главных и объединяет. Понятие же «ближнего», относившееся в Ветхом Завете только к «сынам Израиля», он распространяет на все человечество, подведя под него в ответе книжнику презираемого иудеями самарянина (см.: Лк 10, 30 - 37).
В данном случае Иисус не отменяет заповеди Закона, но, напротив, усиливает их, выдвигает на первый план и делает акцент на второй (в его исчислении) заповеди: любви к ближнему. Главной, предельной, идеальной в Новом Завете также выступает заповедь любви к Богу. О ней помнят все его авторы, ибо любовь - от Бога. Он принес ее людям, возлюбил их и страстно желает ответного чувства. Однако оно невозможно без реализации второй заповеди, без любви к ближнему. «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» (1 Ин 4, 20).
Любовь к ближнему, т. е. к каждому человеку, в Новом Завете - необходимое условие любви к Богу, главная ступень на пути к нему, и поэтому она стоит практически в центре внимания всех новозаветных авторов. Ап. Павел страстно убеждает римлян: «...любящий другого исполнил закон», ибо все его заповеди «заключаются в сем слове: «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть исполнение закона» (Рим 13, 8 - 10).
Проповедями и личным примером евангельский Иисус в течение всей своей земной жизни страстно внедрял в человеческие сердца чувство любви к ближнему. И вот на последней прощальной беседе с учениками («тайной вечере») он дает им новую, более высокую заповедь любви, призывая сделать ее основой человеческих взаимоотношений после его ухода. Подчеркивая ее значимость, Иисус трижды повторяет ее в течение беседы. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин 13, 34); «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин 15, 12); «Сие заповедаю вам, да любите друг друга» (Ин 15, 17).
Теперь он призывает учеников, а через них и каждого человека, любить друг друга не только обычной человеческой любовью («как самого себя»), но и более высокой - божественной, какой Иисус (а равно и сам Бог, ибо: «Я в Отце и Отец во Мне» - Ин 14, 10) возлюбил людей. Движимый этой любовью, он предал себя на позорную смерть ради спасения своих возлюбленных. Эта любовь превышает человеческие возможности, и все-таки Иисус верит в человека и призывает его к всепобеждающей жертвенной любви. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15, 13). Сила этой любви спасает возлюбленного для вечной жизни, только она поднимает человека из рабского состояния, возносит его до высокого положения друга, достойного дружбы и любви самого Бога.
Если Ветхий Завет считал людей только рабами Божьими, то Евангелие от Иоанна поднимает их до уровня его друзей. «Вы друзья Мои,- говорит Иисус людям,- если исполняете то, что Я заповедую вам». А заповедует он, прежде всего, любовь друг к другу. «Я уже не называю вас рабами; ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин 15, 14-15).
Итак, любовь людей друг к другу способна вывести их из рабского, униженного состояния, в которое ввергли их ненависть и вражда, и сделать друзьями не только между собой, но и самого Бога. Так высоко человеческая мысль еще никогда не ставила ни человека, ни его, пожалуй, самое сложное и противоречивое чувство - любовь. Античная философия знала два вида любви - чувственную любовь (Афродиту земную) и божественный эрос (Афродиту небесную), как космическую силу, но практически не знала всепрощающей любви к ближнему, которая, по христианским представлениям, только и делает человека близким к Богу.
Евангельскую проповедь взаимной любви активно подхватили апостолы. Павел призывает каждого почитать «один другого высшим себя» и заботиться каждому о другом (Флп 2, 3-4). Петр в Первом соборном послании, призывая единоверцев к взаимной любви, утверждает, что ею снимаются многие грехи: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу; потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил» (1 Петр 4, 8-10). Много внимания уделяет любви и Иоанн Богослов, как в своем Евангелии, так и особенно в Первом соборном послании. Он убежден, что не любящий брата своего - не от Бога, он сын диавола. Только любовь к ближним дает людям жизнь вечную. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, - утверждает Иоанн,- потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца». Мы познали любовь Христа к нам в том, что «Он положил за нас душу свою: и мы должны полагать души свои за братьев» (1 Ин 3, 14-16).
Любовь в Новом Завете понимается очень широко и практически все ее аспекты освящены божественным авторитетом. Любовь к ближнему включает в себя, прежде всего, любовь к родственникам. Христианину необходимо чтить своих родителей и заботиться о них, но любовь к ним не должна заслонять, естественно, главной любви - к Богу, особенно у его служителей. Об этом Иисус специально предупреждает своих учеников, т. е. тех, кто призван был служить его делу, стать апостолами - носителями и проповедниками его идей: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф 10, 37). Служителям культа домашние могут стать в их высоком деле помехой. Однако для остальных христиан любовь к родным - святое дело. И апостол Павел в категорической форме призывает их к этому: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. <...> Так должны мужья любить своих жен, как свои тела; любящий свою жену любит самого себя» (Еф 5, 25; 28).
Любовь понимается в Новом Завете и более широко, как вообще добродетельная жизнь, как исполнение всех нравственно-этических норм, столетиями вырабатывавшихся в древнем мире и закрепленных в Св. Писании в качестве божественных заповедей. «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его», - утверждает апостол Иоанн (2 Ин 1, 6). Заповеди же эти, помимо главных - любви к Богу и ближнему,- включают элементарные нравственные требования: чти отца твоего и мать твою, не убий, не прелюбодействуй, не укради, не возводи клеветы на друга, не желай имущества ближнего твоего. Соблюдающий эти заповеди и есть человек, живущий в любви. Он удостаивается ответного чувства самого Бога, а это - залог вечной жизни и нескончаемого блаженства. «Если заповеди Мои соблюдете, - обещает Иисус,- пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в его Любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна» (Ин 15, 10-11).
Истинная любовь сопровождается радостью, духовным наслаждением от всецелого единения с возлюбленным, полного слияния с ним в акте любви, глубинного познания его, осуществляющегося не на разумно-рассудочном уровне, а на каких-то иных, более высоких духовных уровнях. Это знание уже не собственно человеческое, но божественное, ибо «кто любит Бога, тому дано знание от Него» (1 Кор 8, 3).
И знание это не эмпирическое и рассудочное, не только «дел человеческих», но и «дел божественных». Если есть в человеке любовь, пишет апостол Петр, которая есть венец добродетели, рассудительности, воздержания, терпения, благочестия и братолюбия, то он не останется «без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа» (2 Петр 1, 8). Итак, любовь в Новом Завете выступает, помимо всего прочего, и важнейшим гносеологическим фактором - без нее невозможно высшее, сверхразумное познание, на которое Христос ориентирует всех своих приверженцев, ибо вне этого знания невозможно ни спасение человека, ни достижение вечного блаженства.
Все человеческие благие намерения и деяния, все человеческое знание, даже пророческий дар, данный человеку Богом, и сама вера - ничто перед любовью. Об этом образно писал коринфянам апостол Павел: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви: то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор 13, 1 - 3). Любовь в Новом Завете - высшая ценность, высшее благо, вне которого все в мире утрачивает свой смысл; это предел нравственного и бытийственного совершенства человека, «совокупность совершенства» (Кол 3, 14).
Поэтому так страстно звучат призывы о любви апостола Иоанна, удостоенного опыта божественной любви. «Возлюбленные! - обращается он ко всем людям, - будем любить друг друга, потому что любовь от Бога; и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога; потому что Бог есть любовь» (1 Ин 4, 7-8).
Бог есть любовь. В этой краткой формуле - глубинный общечеловеческий смысл христианства, который, увы, до сих пор остается в целом непонятым человечеством, а отдельные представители его. постигшие этот, может быть величайший, идеал человеческого бытия, почитаются в нашем социуме сумасшедшими, больными, в лучшем случае чудаками. Яркий пример в отечественной культуре - до сих пор не отмененный общественный приговор позднему Гоголю, попытавшемуся напомнить человечеству и реализовать в своем творчестве идеал христианской любви.
Взаимная и всеобъемлющая любовь возведена в Новом Завете на высший доступный человечеству того времени уровень совершенства - она идентифицирована с Богом, освящена его авторитетом. Бог, согласно Новому Завету, так любит людей, что посылает Сына своего на заклание ради их спасения. И новозаветные авторы призывают людей так же беззаветно любить друг друга. За это обещана и самая высокая награда - обладание самим Богом. «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас» (1 Ин 4, 12). «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин 4, 16).
Обладание же Богом, т. е. полное знание Его, приравнивает человека к Богу, делает его свободным и независимым, лишает всяческого страха - не только перед сильными мира сего, но и перед самим Богом. Любовь, как высшее состояние человеческого бытия, снимает «страх Божий», предписанный человеку в его обыденной жизни, даже страх перед днем Суда. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх; потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви» (1 Ин 4, 18).
«Новый союз» (= Новый Завет), заключенный Богом с человечеством через посредство Христа, основывается на любви, и ученики и последователи его хорошо поняли это. Идея всеобъемлющей духовной и глубоко интимной любви стала центральной в учении многих отцов и учителей христианской церкви на протяжении всей ее истории. Наиболее же глубоко и полно она была разработана апологетами и византийскими Отцами Церкви.
Первые защитники и пропагандисты христианства, учившие еще во времена гонений на него со стороны римской власти, осмыслили новозаветное учение о любви прежде всего как наказ о гуманных отношениях между людьми, о человечности, как главном принципе социального бытия.
Опираясь на апостольский авторитет, и автор «Послания к Диогнету» восхваляет «беспредельное человеколюбие» (φιλανθρωπία) Бога, пославшего на заклание Сына своего во искупление грехов человеческих - «за нас, святого за беззаконных, невинного за виновных, праведного за неправедных, нетленного за тленных, бессмертного за смертных» (Ad Diogn. 9). Бог возлюбил людей, сотворив для них мир и подчинив им все на земле, создав самих людей по своему образу и наделив их разумом. Кто после этого не станет подражать Богу? Подражание же ему состоит не в том, чтобы иметь власть над другими или проявлять силу по отношению к слабым, или стремиться к богатству. По-настоящему подражает Богу лишь тот, кто принимает на себя бремя ближнего своего, кто благодетельствует другим, кто раздает нуждающимся свое достояние и таким образом становится для них как бы Богом (10). К подражанию Богу в человеколюбии призывал и Юстин (Αροl. Ι, 10).
Всеобъемлющая, всепрощающая любовь к людям становится главным оружием в руках ранних христиан против всякого зла и насилия. В качестве идеальной основы своего нравственного кодекса принимают они знаменитую евангельскую заповедь: «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф 5, 44; ср. Лк 4, 27). История показала, что человечество в целом еще не готово для реализации этого идеала, однако ранние христиане стояли только у начала великого культурно-исторического эксперимента по его проверке, они были его вдохновителями и питали глубокую веру в положительный исход дела. Вся раннехристианская культура исходила из стремления предельно реализовать идеалы христианского гуманизма. Для осуществления их больше подходили люди необразованные, бедные, угнетаемые, но сохраняющие в душе глубокие человеческие чувства. Апологеты хорошо сознавали это.
Афинагор, защищая христианство как учение людей темных и невоспитанных от нападок языческих интеллектуалов, показывает, что изыскания философов и риторов пусты по сравнению с нравственным идеалом любви к врагам своим. Вряд ли найдутся среди филологов и грамматиков, искусно разбирающих силлогизмы и замысловатые фигуры, изучающих «этимологию», объясняющих слова «подобозначные и однозначные», хорошо разбирающихся в категориях, аксиомах, подлежащих, сказуемых и т. п. вещах, - вряд ли среди них найдутся те. кто смог бы выполнить эту евангельскую заповедь. Более того, они часто применяют свои тонкие изыскания во зло людям. Среди христиан большая часть людей необразованных, не умеющих даже объяснить свою веру, но ведущих добродетельную жизнь и творящих дела милосердия (Leg. 11). Интересно отметить, что здесь Афинагор как бы сталкивает два «гуманизма», о которых мы уже говорили, - христианский и светский. Далеко не все апологеты и тем более последующие Отцы Церкви придерживались этой позиции. Общая для патристики традиция, восходящая к Юстину, была направлена на объединение этих явлений внутри христианской культуры, но при господствующем положении «христианского гуманизма».
Особенно много писал о гуманном отношении к человеку Лактанций
[241], что наполняет его почти античный эстетизм новым, совершенно неантичным содержанием.
Как и его предшественники, Лактанций не устает обвинять римлян в жестокости и за то, что они выбрасывают своих детей на улицу, и за несправедливые суды, и особенно за жестокие зрелища. Не удовлетворяясь самим боем, зрители заставляют добивать раненых бойцов, просящих пощады, а чтобы кто-нибудь не спасся, притворившись мертвым, требуют, чтобы были добиты и лежащие без движения. Зрители негодуют, когда бойцы долго сражаются, не умерщвляя друг друга, и требуют, чтобы приведены были более сильные гладиаторы. «Этот жестокий обычай убивает [всякую] человечность (humanitatem)» (Div. inst. VI, 20, 13), - заключает Лактанций. А человеколюбие, человечность (humanitas) является, в понимании ранних христиан, главным свойством «человеческого разума, если он мудр» (III, 9, 19). Здесь христиане во многом опираются на этические идеи стоиков
[242], иногда повторяя их почти дословно, но в новом духовном контексте. Нередко они, чтобы четче провести границу между язычеством и христианством, сознательно замалчивают принадлежность (или идентичность) тех или иных идей стоикам (Сенеке или Эпиктету прежде всего)
[243]. Апологеты, однако, более последовательно и результативно развивали идеи гуманного отношения к человеку, поставив их в центр своей мировоззренческой системы, укрепив божественным авторитетом и попытавшись реализовать их в практической жизни.
Бог даровал человеку мудрость и человеколюбие, поэтому для христиан на первом месте стоит религия - «познание и почитание истинного Бога», но непосредственно за ней и в тесной связи с ней следует человеколюбие - «милосердие или человечность» (miserocordia vel humanitas) (VI, 10, 2). Гуманность, милосердие, сострадание, любовь к людям - вот новая область чувств, открытая христианством и поставленная им в основу построения новой культуры. «Высшими узами, связывающими людей между собой, является гуманность (humanitas); и кто разрывает их, должен считаться преступником и братоубийцей» (VI, 10, 4). Христиане считают всех людей братьями в самом прямом смысле, так как все произошли от первого человека. К идее кровного родства всех людей и восходит раннехристианский гуманизм. Таким образом, развивает дальше свои идеи Лактанций, сущим злодеянием является ненависть к человеку, даже если он в чем-то виновен. Свирепыми зверями являются те, кто, отвергнув всякое чувство гуманности, грабит, мучает и умерщвляет людей. Эти, как и все другие, важные идеи христиане незамедлительно подкрепляют божественным авторитетом. Они не устают повторять, что Бог завещал «хранить между собою братский союз», не причиняя никому никакого зла (VI, 10, 4-8).
Философы своим рационализмом отняли у человека милосердие и этим усугубили болезнь, которую обещали излечить, полагает Лактанций и без устали взывает к «заблудшему» человечеству: «Нужно сохранять человечность, если мы желаем по праву называться людьми. Но что иное есть это самое «сохранять человечность» (conservare humanitatem), как не любовь к людям (diligere hominem), ибо [любой] человек представляет собой то же, что и мы сами?» Ничего нет более противного человеческой природе, как раздор и несогласие. Справедливы, подчеркивает Лактанций, слова Цицерона, полагавшего, что человек, живущий согласно природе, не может вредить другому человеку (в De off. III, 5, 25) (Div. inst. VI, 11, 1-2). И если вредить человеку не соответствует природе, то помогать ему - важнейшее свойство человеческого естества. Стоит спросить у того, рассуждает далее Лактанций, кто утверждает, что мудрый человек не должен испытывать сострадания, как рассудил бы он, видя, что находящийся в когтях зверя человек просит о помощи у стоящего рядом вооруженного человека. Должен ли последний помочь первому? А если человек горит на пожаре, тонет в море или стонет под развалинами дома? Не согласится ли во всех этих случаях любой человек, что гуманность (humanitas) требует оказать помощь страдающему? Но если это так, то на основании чего, спрашивает Лактанций, можно утверждать, что не следует помогать людям, терпящим голод, испытывающим жажду или не имеющим зимой одежды? Различия здесь нет, - заключает он (VI, 11, 4-6).
Многовековые страдания, слезы и унижения большей части человечества древнего мира привели наконец человека в период кризиса этого мира к глубинному прочувствованию и осознанию, что без человечности, без сострадания, без милосердия человеку нет больше возможности жить в своем обличий. Он должен или превратиться в зверя, или погибнуть. Не случайно именно в этот критический для человека период (особенно на Востоке) и возникает в среде самых отчаявшихся, исстрадавшихся людей культ Богочеловека, учившего человеколюбию, состраданию, милосердию, сконцентрировавшего в себе все эти добродетели, бескорыстно претерпевшего страдания, издевательства и позорную смерть на кресте для спасения человечества. Первые сознательные теоретики христианства - апологеты всесторонне развивали, внедряли в жизнь и отстаивали в полемике с еще живыми античными традициями идеи гуманного, сострадательного отношения к человеку.
Лактанций обрушивается на Плавта и особенно на Цицерона за то, что они не признавали бескорыстной милостыни. Плавту принадлежит следующая «гнусная сентенция»: дурно поступает тот, кто дает милостыню бедному, ибо, помимо того, что он лишается даваемых денег, он, продлевая жизнь бедняка, продлевает и его страдания. Лактанций находит возможным извинить Плавта, так как у него эти слова вложены в уста соответствующего персонажа, но никак не может оправдать Цицерона, который сам советовал никому ничего не давать на том основании, что раздача благ доставляет удовольствие. Щедрость, по мнению Цицерона, в изложении Лактанция, ведет к уменьшению имущества, т. е. к уничтожению своего источника. Чем чаще мы подаем милостыню, тем более лишаем себя удовольствия делать это впредь. А разве разумно лишать себя возможности делать то, что мы делаем с удовольствием. Эта риторика возмущает «христианского Цицерона»
[244]. Он усматривает в ней призыв «профессора мудрости» к отказу «от гуманности» (ab humanitate), а следовательно, и к отказу от соблюдения справедливости (justitia) (VI, 11, 8 - 10), ибо justitia и humanitas в глазах христиан вещи неразрывные и почти тождественные («что есть гуманность, - спрашивает в другом месте Лактанций, - если не справедливость?») (III, 9, 19). Далее справедливости же ради Лактанций признает, что Цицерон все-таки допускает возможность кое-что давать людям способным, т. е., добавляет Лактанций, способным ценить благодеяние, а это уже не бескорыстное милосердие. «Так, так, Марк Туллий,- укоряет своего великого предшественника Лактанций, - ты уклоняешься от истинной справедливости и только на словах превозносишь ее, когда дела милосердия и гуманности оцениваешь пользой» (VI, 11, 12). Не тем надо помогать, кто может отблагодарить, но тем, кто отблагодарить не в состоянии. «Тогда поступаешь поистине справедливо, милосердно, гуманно, когда делаешь, не надеясь ничего получить [за это]» (VI, 11, 13). Лактанций упрекает Цицерона за то, что тот в одних случаях признает добродетель бескорыстной, в других - противоречит сам себе. Лактанций риторически призывает его, а с ним и всех, отрицающих бескорыстную добродетель, следовать истине, а не ее тени. Истина же проста. Помогай всем, кому требуется твоя помощь, невзирая на лица. Давай слепым, хромым, увечным и всем, лишенным помощи и подверженным опасности умереть без твоей помощи. Всякий, имеющий возможность помочь человеку, находящемуся под угрозой смерти, и не помогший ему, является виновником его смерти. Чувство гуманности потому и является чувством, что разум далеко не всегда может объяснить его. Так и Лактанцию трудно объяснить рассудочным римлянам, зачем надо поддерживать жизнь страдающих больных, убогих, зачем, доставляя себе неприятное - уменьшая свое состояние, продлевать страдания этих калек, как резонно замечал герой Плавта. Как и во всех других сложных и труднообъяснимых ситуациях жизни, Лактанцию опять приходится ссылаться на Бога, чей авторитет так активно помогал на первых порах строителям новой культуры. Эти несчастные не приносят пользы ни себе, ни людям, но раз Бог позволяет им наслаждаться жизнью, значит, они небесполезны для него (VI, 11, 15-19).
Истинная гуманность, по мнению Лактанция (это позиция и всего раннего христианства), состоит в постоянной помощи всем нуждающимся, в радушии и гостеприимстве. Истинно гуманный человек кормит бедных, выкупает попавших в плен, защищает вдов, сирот и беспомощных, ухаживает за больными, погребает бедных и странников, употребляя на это все свое богатство и имущество
[245]. В этом Лактанций и видит «настоящую справедливость» (perfecta justitia), на которой должно основываться человеческое общество (VI, 12, 1). Безумны те. полагает он, кто тратит на игрища, сражения, сооружение роскошных зданий такие деньги, которых хватило бы на прокормление жителей целого города. Лактанций настоятельно рекомендует богатым раздать неимущим все то, что они тратят на свои удовольствия - на зрелища, на собак и лошадей, на содержание гладиаторов и т. п. Мы знаем, что эти призывы ранних христиан не оставались безответными. Далеко не единичными были случаи, когда состоятельные язычники того времени раздавали свое имущество и принимали христианство.
В утопических, но глубоко гуманных призывах ранних христиан, признавших безоговорочно равенство всех людей перед Богом, заключалось их страстное желание сделать людей равными и в их общественном бытии. Именно раннее христианство и предшествовавшие ему секты ессеев и терапевтов дали образцы первых общин, основанных на полном имущественном, сословном и т. п. равенстве. Ранние христиане поставили перед культурой ряд таких проблем, которые остаются актуальными вот уже в течение почти двух тысячелетий. К таким проблемам относится и идеал любви и гуманного отношения к человеку.
Этот идеал оказал сильнейшее влияние на всю духовную культуру христианства, и прежде всего на эстетические взгляды самих ранних христиан. Именно в свете проблемы человека становится понятным многое в отношении ранней патристики к искусству.
2. Эстетика отрицания
В своем диалоге с античностью раннее христианство, конечно, не забыло такой важной части античной культуры, как искусство. Любой свободнорожденный человек греко-римского мира, а именно таковыми и были по воспитанию и образованию апологеты, с детства был вовлечен в круг античных искусств. Его образование в школе начиналось с заучивания отрывков из Гомера и Гесиода; музыка, поэзия, риторика, трагедии и комедии античных авторов, зрелища цирка и представления мимов в течение всей жизни сопровождали его; предметы прикладного искусства, а также скульптура, живопись, архитектура окружали его повсеместно
[246]. Художественными ритмами и формами была наполнена жизнь античного человека, и почти все раннехристианские мыслители (особенно западные) до принятия христианства успели в полной мере вкусить этой жизни. Принятие новой мировоззренческой системы заставило апологетов при их критическом анализе всей античной культуры уделить достаточно внимания и сфере искусства, художественной культуре. Новые духовные идеалы, и прежде всего новое понимание Бога, новое отношение к человеку, новые морально-этические нормы и новое отношение к природе, побудили ранних христиан резко критически отнестись практически ко всему античному искусству. Однако эта критика у ведущих теоретиков христианства никогда не была огульной; она всегда основывалась на разумных основаниях, диктуемых новой мировоззренческой системой, т.е. проводилась последовательно в русле их общей теории культуры.
Изобразительные искусства
Античные изобразительные искусства в основе своей были связаны с античной мифологией, т. е. с изображением прежде всего античных богов и их деяний, а также с изображением античных героев. Особое распространение имели культовые статуи античных богов. Они помещались в храмах, перед ними, на площадях и улицах городов. Они почитались священными, перед ними совершались жертвоприношения. В активной борьбе с языческими религиозными «предрассудками», с языческим многобожием и антропоморфизмом христианство, как мы видели, пришло к выводу, что изобразительные искусства более других способствовали утверждению культа античных богов, и поэтому активно выступило против них. В античных изображениях богов христианство, вслед за древнееврейской религией, усмотрело прежде всего идолов, ложных богов и объявило им войну, в процессе которой выявились эстетические представления защитников новой культуры.
В своей критике античных культовых изображений апологеты опирались на авторитет Библии, наиболее часто обращаясь к следующим библейским изречениям:
«Идолы язычников - серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них» (Пс 134, 15 - 18).
«Ибо все боги народов - идолы, а Господь небеса сотворил» (Пс 96, 5).
«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли.
Не поклоняйся им и не служи им» (Исх 20, 4 - 5).
«Не делайте предо Мною богов серебряных, или богов золотых, не делайте себе» (Исх 20, 23).
«Ибо уставы народов - пустота: вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора,
покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось.
Они - как обточенный столп, и не говорят; их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах.
...Все до одного они бессмысленны и глупы; пустое учение - это дерево.
Разбитое в листы серебро привезено из Фарсиса, золото - из Уфаза: дело художника и рук плавильщика; одежда на них - гиацинт и пурпур: все это - дело людей искусных» (Иер 10, 3 - 9).
«Высыпают золото из кошелька, и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него бога; кланяются ему и повергаются перед ним.
Поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место; он стоит, с места своего не двигается; кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды.
Вспомните это, и покажите себя мужами; примите это, отступники, к сердцу;
Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне» (Ис 46, 6 - 9).
«Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим; ибо истукан его есть ложь, и нет в нем Духа.
Это совершенная пустота, дело заблуждения» (Иер 51, 17 - 18).
Всем, поклоняющимся изображениям и идолам, и Ветхий, и Новый Заветы грозят страшными карами, часто изображая их в экспрессивной поэтической форме:
«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою;
тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем;
и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его» (Апокал 14, 9 - 11).
Имея длительную ветхозаветную традицию борьбы с идолопоклонством и изображениями вообще, ранние христиане с большим воодушевлением выступают против все еще живого и действенного античного искусства. Особенно активны Тертуллиан и Татиан. Посвятив критике идолопоклонства специальный трактат, Тертуллиан стремится показать, что «творцы статуй, образов и всяческого рода изображений» действуют по указке диавола, а «основой идолопоклонства является всякое искусство (ars omnis), создающее каким-либо образом идолов». Искусство скульптора, живописца, швеи, гравера, направленное на создание изображений, служит, по мнению Тертуллиана, идолопоклонству и всячески им порицается (De idol. 3). Более того, усматривая, что само слово «идол» восходит к древнегреческому είδος, которое он переводит как forma, и, соответственно, εϊδωλον- как уменьшительное, образовавшееся так же, как formula в латинском от forma, он полагает, что и «всякую форму или «формулу» необходимо считать идолом» (Ibid.).
Татиан видел в Риме и других городах Империи статуи известных «блудниц», названные именами богинь, статуи «недостойных людей» типа Эзопа и Сапфо, изображения непристойных мифологических персонажей
[247]. Все они, по мнению строгого ревнителя новой культуры, служат растлению нравов и должны быть истреблены (Adv. gr. 33-35). Его фанатичный призыв: «Уничтожайте памятники нечестия»
[248], - на многие столетия стал знаменем воинствующей христианской церкви в ее последовательной кампании по уничтожению памятников античного искусства.
С именами Тертуллиана, Татиана и других апологетов (греческих и латинских) тесно связан первый этап христианского иконоборчества
[249]. Выступая против изображения античных богов, апологеты даже в мыслях не допускали возможности культового изображения своего Бога.
Трезвый, хотя и не беспристрастный подход со стороны ко всем явлениям античной культуры позволил апологетам сделать интересные наблюдения в области изобразительного искусства. В статуях античных богов они не видят ничего священного. По материалу статуи родственны различным бытовым сосудам и домашней утвари. Своими формами и своей мнимой святостью они обязаны художникам. На веществе, часто использовавшемся до этого в нечистых сосудах, художники с помощью своего искусства запечатлевают (έκτυπωθήναι) очертания (το σχήμα) богов
[250]. При этом мастера обращаются со статуями богов во время их изготовления не очень-то почтительно, так же как и с любым другим строительным материалом. Да и сами статуи, будучи освящены и водружены на почетные места, засиживаются насекомыми и птицами, пауки оплетают их паутиной, в них поселяются мыши. Будь они священны, разве могло бы все это свершаться безнаказанно?
[251]Развенчивая миф о божественности статуй богов, Афинагор, опираясь на античные легенды и истории (в частности, на Плиния Старшего), стремится изложить «реальную историю» изобретения пластических искусств. Некий Саврий Самосский положил начало «теневой живописи» (σκιαγραφία), нарисовав тень лошади
[252]. Кратон Сикионский изобрел живопись (γραφική), изобразив на выбеленной доске тени мужчины и женщины. Девушка из Коринфа и ее отец стоят у начала коропластики (искусства статуэток). Девушка изобразила на стене тень своего спящего возлюбленного. Ее отец горшечник, обрадованный полным сходством, вырезал изображение из стены и обложил его глиной. Жившие позже Дедал и Феодор Милетский добавили к этому изготовление большой объемной скульптуры (πλαστικήν καί άνδριαντοποιητικήν). Вообще, полагает Афинагор, изображения и статуи богов появились недавно, так что можно назвать по имени художника. Так, статуи Артемиды Эфесской и Афины сделал ученик Дедала Ендий; Аполлона Пифийского создали Феодор и Телекл; Аполлон Делосский и Артемида - творения Идектея и Ангеллиона; Гера Самосская и Аргивская - дело рук Смилида; Афродита Книдская в виде гетеры - произведение Праксителя, а остальные статуи богов - работа Фидия. Короче говоря, подводит итог своему «искусствоведческому» экскурсу Афинагор, нет ни одной из статуй, которая не получила бы свое бытие от человека. Следовательно, они не боги, но «земля, камни, вещество и тонкое искусство (περίεργος τέχνη)» (Leg. 17). Смешным кажется Феофилу Антиохийскому, что скульпторы и живописцы, изготовляя богов, обращаются с ними как с обычными материалами, но, увидев произведения рук своих в храме или в каком-либо доме, поклоняются им, приносят жертвы, забыв, что эти боги остались тем же, чем были в их руках,- камнем, медью, деревом или другим каким веществом (Ad Aut. Π, 2).
В полемике с язычниками, стремясь показать, что крест как форма является структурной основой многих творений природы и предметов обихода, Тертуллиан дает интересное описание процесса созданий статуй.
Любому скульптурному изображению предшествует макет, сделанный из глины. Прежде всего ваятель ставит деревянный каркас («в форме креста, - подчеркивает Тертуллиан, - так как тело наше имеет скрытую форму креста», что ясно видно, когда человек стоит с распростертыми руками). На этот каркас накладывается глина, выявляя внешнюю форму статуи. Затем полученное изображение претворяется в мраморе или переносится на медь, серебро или любой другой материал (Ad nat. 12).
Конечно, не скрытая внутри античных статуй форма креста, но, напротив, их антропоморфизм (как и самих античных богов) не позволяет апологетам поклоняться им. Тертуллиан усматривает оскорбление богам, если они существуют, в том, что их изображают в тех же формах, что и умерших людей (10). Идея трансцендентности христианского Божества лежит в основе негативного отношения апологетов к изображениям, отсутствия у них интереса к пластической форме. Эстетическое кредо раннего христианства Тертуллиан лаконично выразил в духе христианской парадоксии: «Для нас не имеет значения, какова форма, ибо мы почитаем бесформенные изображения» (deformia simulacra) (14). Эта формула, имевшая скорее богословский (Тертуллиан хотел сказать, что христиане почитают Бога, вообще не имеющего внешней формы), чем эстетический характер, во многом отразила тенденцию развития раннехристианского эстетического сознания - от изоморфных изображений к условным и символическим
[253].
Высокая духовность христианского учения представляется апологетам несовместимой с античным эстетизмом, античным «пластическим» мышлением. Именно в этом плане понимает Климент Александрийский Моисеев запрет изображений, которому «подражал и Пифагор»: «Запрет весьма мудрый. Законодатель хотел возвысить наши умы в области созерцательные, а не останавливать их на материи. Неверно, что величие Божие потеряет в своем блеске, если Божество не будет представлено обыденным искусством; напротив, поклоняться существу бестелесному, доступному лишь духовному зрению, изображая его в чувственной форме, значит только унижать его. Так думали и умнейшие из египетских жрецов» (Str. V, 28, 4-5). Эти идеи стали аксиомой для всей патристической эстетики, ориентируя ее от миметического изображения к символико-аллегорическому, от иллюзионистического образа к условному. Они вдохновляли не только иконоборцев, но и иконопочитателей, которые старались оправдать изображения не вопреки им, но наряду с ними и даже в подтверждение их.
Не столько само искусство, сколько его творцы вызывали недовольство апологетов. Весь свой гнев, все свое негодование в борьбе с идолопоклонством Тертуллиан направляет против художников, ибо в них видит и одну из главных причин идолопоклонства, и главных идолопоклонников.
Порицая художника, как автора «ложных богов» и виновника идолопоклонства, Тертуллиан ни в коей мере не пытается принизить его значение как искусного мастера. Напротив, он с большим уважением относится к труду художника, обладающего творческим духом, высоким разумом, чувствующей душой, талантом (ingenium). Труд его достоин уважения и славы, ибо и слава античных богов, считает Тертуллиан, идет от славы выдающихся произведений искусства, но труд этот направлен не в то русло. Художники должны отказаться от изготовления идолов и направить свои усилия в сферу, сказали бы мы теперь, прикладного искусства и ремесла. Ведь помимо создания идолов, к примеру, «штукатур, - пишет Тертуллиан, - умеет и ремонтировать стены, и возводить кровли, и белить цистерны, и вывести киматий [на колонне], и создать множество других, помимо изображений, украшений (ornamenta) для стен. Знают и живописец, и мастер по мрамору, и плавильщик, и любой чеканщик свои скрытые возможности (latitudines), и притом менее трудоемкие. Тому, кто рисует изображения, не легче ли вывести абак [под капителью]? Тому, кто вырезает из липы Марса, не проще ли сделать шкаф? Нет ни одного искусства, которое не являлось бы матерью или родственником другого искусства, нет ни одного, свободного от других. Всех же искусств столько, сколько желаний у человека». Любому художнику поэтому легче и выгоднее заниматься бытовыми ремеслами, чем изготовлением культовых изображений (De idol. 8).
Помимо сугубо идеологической борьбы с идолопоклонством, как основой чуждой уже религии, в этом стремлении переключить внимание художника из сферы практически «чистого» искусства (изобразительного, прежде всего) в область полезного ремесла отразилась и борьба древнееврейского и отчасти римского (здесь они во многом едины) утилитаризма с традициями греческого панэстетизма.
Изображения, прежде всего статуи, по мнению ранних христиан, особенно вредны тем, что в них поселяются демоны, которым и поклоняются идолопоклонники. Это еще более усугубляет положение художников, ибо они готовят жилища для демонов, слуг диавола. Мнение это было общим у всех раннехристианских писателей
[254]. Киприан считал, что эти духи, или демоны, вдохновляли сердца языческих прорицателей, а иногда и творили мелкие чудеса (Quod idol. 3). Главная забота демонов, по мнению христиан, состоит в отвлечении людей от истинного Бога.
Стремление доказать, что в искусстве нет ничего священного, что оно лишь дело рук искусного мастера, заставляет апологетов внимательнее всмотреться в этот род человеческой деятельности и попытаться выявить некоторые его особенности и закономерности.
Климент Александрийский хорошо знал греческое искусство и неоднократно в своих работах писал о нем. Он полностью придерживался мысли Филона и ранних апологетов об отсутствии всякой святости и божественности в произведениях искусства. «Как бы ни было искусство совершенно, - читаем мы у него,- оно всегда остается только ремеслом, и произведения искусства не могут быть священными или божественными» (Str. VII, 28, 4). Но Климент не останавливается на этой констатации, он стремится понять, почему произведения искусства отождествляют с богами и почему им поклоняются. Конечно, не сама материя явилась предметом поклонения. «Прекрасен паросский камень, но это еще не Посейдон; прекрасна слоновая кость, но она еще не Олимпиец. Материя всегда нуждается в художественной обработке (ενδεής ... τής τέχνης)» (Protr. 56, 5). Не материя, даже богатая, привела к почитанию статуй, а их художественный образ (το σχήμα), приданный материи искусством (56, 6). При этом Климент имеет в виду иллюзионистическое искусство, произведения которого были настолько «жизненны», что многие принимали их за действительность, и выступает против этого искусства. Со ссылкой на Филостефана и Посидиппа он рассказывает о двух случаях, когда юноши влюблялись в статуи обнаженной Афродиты, обнимали, ласкали их и стремились к соитию с ними. «Искусство,- заключает Климент,- до такой степени сильно вводит в заблуждение людей влюбляющихся [в его произведения], что низвергает их на дно пропасти. Оно действует возбуждающе, но не может ввести в обман людей разумных, живущих по [законам] разума; ибо только дикие голуби, [обманутые] иллюзорным подобием (δι'ομοιότητα σκιαγραφία), слетаются к живописным изображениям голубок, да кони ржут, [видя] прекрасно (καλώς) нарисованных лошадей» (57, 3-4)
[255]. Подобным же образом люди неразумные и изображения других богов принимают за них самих, что и немудрено, так как эти изображения выполнены в таком же плане, ибо древнегреческие скульпторы, подчеркивает Климент, при изготовлении статуй богов использовали натуру. Так, Фидию при его работе над Зевсом Олимпийским натурой служил его помощник Калос, Пракситель ваял Афродиту со своей любовницы Краты, гетера Фрина служила не одному живописцу натурой для Афродиты, а многие статуи Гермеса ваяли с Алкивиада (53, 4-6). Эти сведения Климента, может быть, и неточны, но они важны для истории искусства и эстетики как одно из ранних описаний работы древнегреческих художников с натуры, приводящей к иллюзионизму (ομοιότητα) изображения, что способствовало отождествлению произведения с архетипом. Таким образом, одну из главных причин поклонения древних греков произведениям искусства Климент усматривал в его иллюзорной подражательности. Этот важный вывод Климента сыграл видную роль в развитии эстетических, а позже и атеистических идей в европейской культуре.
Хорошо осознавая природу искусства, Климент не отрицает его вообще, но призывает не принимать его произведений за действительность: «Пусть прославляется искусство, но да не вводит оно человека в заблуждение, будто бы оно само является истиной» (57, 6). Произведение искусства - только неодушевленный образ действительности, и поэтому любое живое существо, даже такое, как крот или землеройка, достойны большего почитания, чем статуи. «Мы же поклоняемся не чувственной статуе (άγαλμα) из чувственной материи, а духовному образу (άγαλμα), которым является единый и сущий Бог» (51, 6). Это по содержанию чисто христианское высказывание скрывает в себе противоречие, характерное вообще для мыслителей апологетического периода. Отказываясь от культа пластики, Климент находится еще в плену «пластического» мышления. «Духовный образ» у него дословно - «духовная статуя» (νοητόν τό άγαλμα ... έστί), т. е. образ трансцендентного Бога мыслится им все-таки пластически, - хотя и духовная, но все же «статуя» (άγαλμα).
Климент Александрийский, лучше других апологетов чувствовавший искусство, высоко оценивал значение «теории искусства» (το της τέχνης θεώρημα) для художественной практики, ибо, по его мнению, основные «принципы создания художественных произведений содержатся в теории искусства» (Str. VI, 160, 1). Поэтому он часто затрагивает теоретические проблемы художественной практики, считая, видимо, своим прямым долгом оказать влияние на «правила» (θεώρημα) искусства. Следовательно, уже на рубеже II - III вв. в христианской теории искусства начинает формироваться идея необходимости регламентации художественной деятельности.
Вслед за Климентом и Арнобий, опираясь на античных историков, повторяет, что знаменитая гетера Фрина Феспийская в своей красоте и привлекательности служила моделью для всех пользующихся известностью статуй Венеры как в греческих городах, так и везде, куда проникала любовь к подобного рода изображениям. Все художники того времени, достигшие первенства «в точной передаче сходства», с усердием состязались в перенесении черт лица гетеры на статуи Венеры. Они воодушевлялись не тем, чтобы возвысить богиню, но тем, чтобы как можно точнее изобразить Фрину под видом Венеры. И жертвы теперь, возмущается Арнобий, приносят не богине, но известнейшей блуднице (Adv. nat. VI, 13). Так же и Фидий ваял Юпитера Олимпийского со своего помощника и любовника Пульхра (у Климента Александрийского он фигурирует под именем Калос; Арнобий почему-то дает латинский вариант имени). Шалость и ребячество усматривает Арнобий в том, что художники делают эти статуи объектом поклонения. Они забавляются при их изготовлении, сооружая памятники своим собственным страстям и вожделениям (VI, 13).
В отношении изобразительного искусства некоторые апологеты (возможно, вполне сознательно) игнорируют его художественную значимость, подходя к нему лишь с узко утилитаристских религиозных позиций. Стремясь показать, что в статуях нет ничего достойного почитания, Арнобий убеждает своих читателей, что придание материалу формы (человеческой в частности) не наделяет его никакими новыми свойствами. Медь или мрамор остаются тем, чем они были, и в скульптуре. Более того, статуи весьма неприглядны изнутри - с массой соединительных скоб, крюков и т. п. крепежной арматуры. Они разрушаются со временем, в них находят приют мелкие животные, птицы, насекомые, пачкая их своими нечистотами. Даже птицы знают, что в статуях нет ничего достойного; Арнобий советует и людям учиться у птиц (VI, 15 - 17).
Арнобий отвергает мысль язычников о том, что в статуях обитают боги, которым они и поклоняются. Но Арнобий хорошо усвоил античную логику. Он знает, что невозможно представить себе (а значит, этого и нет) одного бога, обитающим сразу во множестве статуй. «Отдельное и единое, - вторит он античным логикам, - по природе не может быть многим с сохранением своего единства и целостности. и это тем более невозможно, если боги имеют, как показывают ваши верования, человеческие формы» (VI, 19).
Далее: если боги живут в статуях, то почему они не охраняют свои жилища, резонно спрашивает Арнобий. Почему Юпитер терпел, когда сицилийский тиран Дионисий Младший, насмехаясь, снял с его статуи золотую одежду, а статую Эскулапа лишил бороды. Царь кипрский Пигмалион полюбил как женщину статую Венеры, с древних времен почитавшуюся священной. Он клал ее на ложе, целовал, обнимал и предавался соитию с ней. То же самое нередко совершали и пылкие юноши со статуями Венеры. Где была в эти моменты богиня, спрашивает Арнобий. Возможно, ей нравилось это, но тогда почему же боги не спасают свои статуи от пожаров, грабителей, оскорбителей? (VI, 21-23).
Конечно, в полемике с античностью апологеты часто, видимо сознательно, упрощали представления своих противников по культуре, отождествляя взгляды наиболее отсталых слоев греко-римского населения со взглядами лучших представителей античной культуры. Далеко не все из греков и римлян, поклоняясь статуям, считали, что в них обитают сами боги. Пигмалион, по античной легенде, полюбил не городскую святыню, но статую, вырезанную им самим, и вступил с ней в общение только после того, как Венера оживила ее
[256]. Таким образом, апологеты упрощали многие мифы, сказания и представления античности. Для их философии характерно все что угодно, только не объективизм. Насущные задачи борьбы со старой идеологией подсказали им и один из наиболее действенных и простых способов этой борьбы - упрощение и вульгаризация отдельных черт критикуемой культуры. При этом далеко не всегда этот прием использовался сознательно. Часто, особенно когда они брали тот или иной факт не из источника, но у своих коллег-апологетов, они и сами верили, что древние понимали дело именно так, как это хотелось бы христианам. Раннее христианство дает нам первый образец ярко выраженной воинствующей философии культуры и философии искусства в частности. В последующие века, когда борьба с античностью не будет столь актуальной, болезнь упрощенческого критиканства уступит место глубинному осмыслению и охране античного наследия, но уже как наследия, а не как живой культуры. Апологетам же приходилось еще сталкиваться с живой античностью, во многом жить ею и терпеть от нее, что и объясняет их воинственный пыл и настрой.
Лактанций в суждениях об изображениях практически повторяет все сказанное апологетами до него. Однако он делает акцент на том, что античные боги, т. е. статуи, всем своим бытием, формой, красотой, совершенством обязаны своему творцу - человеку. Поэтому художник, создавший их, достоин значительно большего уважения, чем сами эти боги (статуи)
[257]. Между тем в Риме никто не смотрит на художника как на искусного умельца. Что может более противоречить здравому смыслу, удивляется Лактанций, чем почитание статуи и презрение к мастеру, ее сделавшему (Div. inst. II, 2, 14 - 15).
Перенесение внимания с произведения искусства на его создателя - человека - новая специфическая черта раннехристианской эстетики, следствие только что осознанного раннехристианского гуманизма. Статуя - всего лишь изображение человека, а ее создатель, художник - образ Бога, поэтому «неправильно и несообразно, что образ Божий (simulacrum dei) почитает образ человека» (II, 17, 6). Для апологетов человек значительно выше любого дела рук его, в том числе и произведений искусства. Так полагало раннее христианство, не знавшее еще сакральных христианских изображений. Средневековая эстетика скорректирует это, ставшее к тому времени неактуальным, положение.
В своем противопоставлении человека (как творения божественного Художника) произведению искусства (как результату человеческой деятельности)
[258] апологеты исходили из тех же критериев миметического искусства, на которых базировалась и эллинистическая эстетика. Единственную функцию античного изобразительного искусства они видели в иллюзорном, зеркальном изображении действительности, более того - в полной копии действительности.
Истина искусства для Лактанция сливается с истиной действительности. «Что близкого к истине есть в скульптуре, - вопрошает он, - когда высшее и превосходнейшее художество может лишь представить (imitari) не что иное, как только тень и отдаленный эскиз (набросок) тела? Может ли человеческое мастерство дать своим произведениям какое-либо движение или чувство?» (De ira Dei 10, 26). Уже Августин резко отступит от этой эстетической позиции своих предшественников, дав точное разграничение истины в искусстве и в действительности
[259], и только досужие искатели новых путей и форм в искусстве XX в. не мудрствуя лукаво парадоксально реализуют эту тайную мечту многих художников и теоретиков поздней античности в том направлении, которое в современном искусстве именуется боди-артом.
Не красного слова ради упомянули мы здесь это направление современного западного искусства. Его создатели вольно или невольно по-своему воплотили одно из важных положений раннехристианской эстетики, понимавшей человеческое тело как произведение божественного художника и противопоставлявшей его (живое тело) в качестве художественного идеала любым произведениям искусства, созданным человеком. Идея мира как результата художественной деятельности Бога-Творца и борьба с богатством и роскошью, губящими душу человека, лежали в основе этого эстетического идеала ранних христиан. Подробнее на нем мы остановимся в следующей главе.
Словесные искусства
Сложным и противоречивым было отношение ранних христиан к искусству слова, к поэзии и красноречию. Как известно, в Римской империи красноречию уделялось огромное внимание. Риторы, они же адвокаты, пользовались уважением во всех частях Империи, риторские школы процветали, и Северная Африка, в частности, была одним из главных центров воспитания ораторов. Не случайно поэтому, что почти все латинские апологеты и первые Отцы Церкви были риторами или учителями красноречия до принятия христианства. Не случайно и то, что, приняв христианство, апологеты осудили свою мирскую профессию. И не потому, что она напоминала им об их языческом прошлом. Они осознали, что ее сущность, и именно эстетическая сущность, противоречит простоте и безыскусности христианской доктрины. Будучи профессиональными риторами, апологеты хорошо знали, что сила красноречия может проявляться не только в деле защиты истины, но и при оправдании лжи и обмана,- в последнем позднеантичные риторы явно преуспевали.
Искусство красноречия во времена апологетов (II - III вв.) во многом утратило свое практическое значение, превратилось в «чистое искусство», а подчас - в поверхностное эстетство. Ораторов мало интересовала теперь истина. Они соревновались друг с другом в красноречии на самые отвлеченные, часто заданные слушателями темы. Главной задачей оратора становится завоевание успеха у слушателей, которым больше импонировало не содержание речи, но сама эстетическая обработка темы
[260]. При этом большое значение приобретали жесты оратора, его интонация, мимика и даже одежда. Ораторы часто превращались в актеров. Многие из них вели кочующую жизнь, гастролируя по всей Империи. Некоторые зарабатывали своими речами и преподаванием огромные состояния и позволяли себе щеголять царской роскошью. Так, основатель риторской школы в Смирне Полемон выезжал не иначе, как на роскошной колеснице в сопровождении большого количества слуг, лошадей, собак (см. Philost. Vita sophist. II. 25). Одни ораторы выступали перед зрителями в роскошных одеждах, другие, напротив, в грязных отрепьях. «Красноречие сделалось театральным представлением... оратор принимал костюм, соответствовавший его роли, и красотою своей одежды или ужасом своих лохмотьев, приторностью голоса или грубостью произношения разом овладевал всеми глазами и ушами, чтобы вернее получить то, чего он всего более искал, а именно рукоплесканий»
[261]. К подобного рода красноречию с неприязнью относились не только апологеты, но и многие представители поздней античности.
С другой стороны, ораторское искусство, пафос устного слова, декламации, риторский эстетизм - явления, собственно, и греко-римской культуры. Для Ближнего Востока мудрец - всегда «книжник» и писец;
[262] поэтому новая культура, сознательно ориентировавшаяся на древнюю мудрость Востока, принявшая
Писание в качестве божественного законодательного документа, должна была критически отнестись к
устной художественно организованной речи. Только позже христиане сумели по достоинству оценить и значение красноречия, но уже наполненного новым содержанием для пропаганды их идеологии. Уже IV в. на греческой почве даст великолепные образцы христианского красноречия (речи и проповеди Иоанна Златоуста, Григория Назианзина, Василия Великого), а несколько позже у Августина мы находим развитое и аргументированное учение о христианском красноречии - фактически христианскую риторику. Однако новому осмыслению этого искусства должен был предшествовать естественный этап отрицания его, как важного компонента старой культуры.
Минуций Феликс, чтобы снизить эффект обвинительной речи Цецилия против христиан, после ее окончания замечает: «...большей частью в зависимости от таланта спорящих, от силы красноречия меняется положение самой ясной истины. Это случается, как известно, из-за легкомыслия слушающих, которые отвлекаются красотою слов (verborum lenocinio) от сути вещей и без рассуждения соглашаются со всем сказанным; они не отличают ложное от правильного, не зная, что и в невероятном бывает истина, и в истиноподобном - ложь» (Octav. 14, 3-4). Именно гносеологические, как мы уже отчасти видели (см. гл. II), соображения заставляли ранних апологетов с неодобрением относиться к красноречию, употреблявшемуся часто в тот период против христиан и их учения; они хорошо знали силу эстетического воздействия искусно построенной речи.
Татиан отрекается от красноречия, хотя замечает, что и он некогда славился в нем, но ведь античные ораторы извратили суть этого искусства. «Красноречие, - обвиняет их Татиан,- вы употребляете на ложь и клевету; вы продаете за деньги свободу (αύτεξούοιον) вашего слова и часто представляете справедливым то, что в иное время считали недобрым» (Adv. gr. 1). На этой же позиции стоял и Феофил Антиохийский, полагая, что изысканные выражения доставляют удовольствие только людям с испорченным умом. «Любитель же истины не обращает внимания на цветистые речи, но исследует [самое] дело речи, что и каково оно» (Ad. Aut. l).
В споре, указывал Минуций Феликс, истина обычно бывает достаточно темной, а искусная речь принимает часто вид основательного доказательства. Поэтому, считает он, необходимо все тщательно взвесить, «чтобы хотя и похвалить искусные хитросплетения [словес] (argutias), но избрать, одобрить и принять то, что является истинно верным» (Octav. 14, 7). Выявлению же истины больше способствует безыскусная речь, ибо доказательство не скрыто в ней под покровом красивых фигур, а представлено в своей естественной форме, вытекающей из самой истины (16, 6). Более того, и здесь раннее христианство, может быть еще неосознанно, начинает использовать риторику в своих целях; ритор Арнобий направляет все свое красноречие на то, чтобы доказать преимущества грубого и безыскусного языка христианских текстов перед изысканной речью языческих ораторов и философов. Риторскому эстетизму позднеантичной культуры он, не без помощи этого эстетизма, противопоставляет раннехристианский религиозный утилитаризм. Здесь необходимо предоставить слово самому Арнобию, дающему прекрасные образцы того, как новая культура боролась со старой, используя ее же оружие. «Ваши писания, говорят [нам], усеяны варваризмами, солецизмами и обезображены грубыми погрешностями, - начинает Арнобий с популярного в то время упрека христианству, - этот укор совершенно детский и свойствен ограниченному уму. Если бы мы допустили правильность этого [укора], то должны были бы изъять из нашего употребления некоторые виды плодов, как рождающиеся вместе с шипами и другими отбросами, которые не могут служить пищей для нас и, однако, не мешают нам пользоваться тем, что составляет их основу и что определено природой служить нам на пользу. Ибо что мешает, спрашиваю я, и какие трудности возникают для понимания, когда что-либо излагается гладко или шероховато и грубо, и если произносится протяжно то, что следует произносить с повышением голоса, или произносится с повышением то, что следует произносить протяжно? И каким образом становится менее верным сказанное, если встречаются погрешности в числе, падеже, предлоге, причастии, союзе? Этот блеск языка и правильное построение речи пусть соблюдаются на ораторских кафедрах, в процессах, на форуме, в судах и пусть предоставляются особенно тем, кто, ища заманчивых удовольствий, все свое старание направляют на красоту слов (verborum in lumina). Когда речь идет о предметах, далеких от хвастовства, то необходимо обращать внимание на то, что говорится, а не на то. с какой красотой (amoenitate) говорится, и не на то, что ласкает слух, а на то, какую пользу приносит это слушателям; тем более, как мы знаем, некоторые философы также не только пренебрегали отделкой языка, но даже, имея возможность говорить изящнее и с большей полнотою, нарочито пользовались обыденной простой речью, чтобы не нарушать строгости [рассуждений] и не тщеславиться пустым софистическим блеском. Ибо искать в делах серьезных удовольствия и, имея дело с больными, ласкать их слух приятными словами вместо врачевания их ран лекарствами дело по меньшей мере легкомысленное» (Adv. nat. I, 59). Раннее христианство, осознавшее себя целителем человечества, стремилось лечить его, забыв на первых порах древнюю медицинскую истину о том, что горькое лекарство должно быть подслащено медом. Поздний Рим слишком увлекся «сладостями», чтобы помнить об истине. Поэтому раннее христианство и вынуждено было выступить против этого опасного увлечения, т. е. против чрезмерной эстетизации культуры. Не избежало оно при этом, естественно, и логических крайностей.
Отстаивая право первохристианских писателей даже на грамматические ошибки, Арнобий впадает в лингвистический релятивизм, заявляя, что, собственно, никакая речь по природе не бывает правильной или неправильной. Все грамматические правила, считает он, установлены людьми, т. е. условны и не являются обязательными нормами. Многие уважаемые римские писатели нередко нарушали эти правила (I 59).
Однако уже ученик Арнобия Лактанций, как мы видели, сознательно отказывается от эстетического аскетизма своего учителя и стремится не только использовать красноречие для обоснования христианских идей, но и подчеркивает его важность, утверждая, что «блеск и изящество речи украшают и в известной мере способствуют сохранению ее (истины. - В. Б.), ибо внешне богатая и сияющая красотой речь сильнее запечатлевается в умах» (Div. inst. Ι, 1, 10). Истина может скорее понравиться, будучи украшенной изящными фигурами речи (I, 1, 2); необходимо подсластить медом чашу небесной премудрости, чтобы из нее можно было пить, не досадуя на горечь лекарства (V, 1, 14). Лактанций уже ясно видит, как можно использовать эстетический опыт античности для утверждения новых культурных ценностей, и понимает, что использовать его необходимо. Так в среде ранних христианских мыслителей начинает укрепляться идея преемственности традиций даже в культурах, сильно отличающихся по своим основным параметрам, и, в частности, возможности использования в новой культуре эстетического опыта уходящей культуры.
С тех же двойственных позиций, что и красноречие, оценивают апологеты поэзию, проявляя серьезный интерес к этому виду искусства слова и высказывая иногда значимые для истории искусства и эстетики суждения.
Так, Тертуллиан обращает внимание на тот факт, что в позднеантичной и особенно латинской литературе распространенным жанром являются центоны - произведения, собранные из стихов других авторов наподобие мозаик или коллажей. Тертуллиан приводит в качестве примера Гозидия Гета, «высосавшего» из Вергилия всю свою трагедию «Медея», и одного из своих родственников, построившего из стихов того же Вергилия целый ряд своих сочинений, в том числе и «Картину Кебета» («Pinacem Cebetis»)
[263]. Широко были распространены и гомероцентоны. Библейская литература, подчеркивает Тертуллиан, еще более богата материалом, чем Гомер, для подобного рода творчества, к чему и прибегают часто еретики (De praes. haer. 39).
Арнобий считал, что поэтическое описание деяний античных богов доставляет удовольствие язычникам, поэтому они и стараются всячески защищать поэзию, утверждая, что ее образы основаны на принципе аллегорического описания природных явлений и закономерностей, известных из естественных наук. Сам он, видимо в полемических Целях, воспринимал гомеровские и другие поэтические сказания буквально и не уставал возмущаться «безнравственностью», красочно описанной в них (Adv. nat. IV, 33-34).
Не менее критично относились к античной поэзии и греческие апологеты. Татиан негодовал по поводу того, что античная поэзия служит только для изображения сражений, любовных похождений богов и тем самым для «растления души» (Adv. gr. 1). Псевдо-Юстин порицал греческих поэтов, и особенно Гомера, за восхваление безнравственности и жестокости. Причину Троянской войны, описанной в поэме Гомера, он видит в столкновении неумеренной похоти «презренного пастуха», похитившего Елену, и бешеной страсти ее мужа Менелая, приведшего в волнение всю Грецию (Orat. ad gr. 1).
Критический подход к античной мифологии позволил Лактанцию, как было уже частично показано, увидеть в мифе результат поэтической деятельности.
С явным удовольствием излагает Лактанций басню греческого поэта, в которой описывается триумф Купидона. Подробно перечислив все победы, одержанные им над богами, и особенно над Юпитером, поэт изображает последнего в цепях, предшествующим победителю в сопровождении всех богов, также закованных в цепи. «Строго говоря, - пишет Лактанций, - это не что иное, как поэтический образ (а poeta figuratum), но он весьма недалек от истины». Человек, увлекающийся плотскими наслаждениями, становится пленником, но не Купидона, как об этом писал поэт, а вечной смерти (Div. inst. I, 11, 3-4). Лактанций
[264] постоянно подчеркивал, что поэты творят особые поэтические образы, которые нельзя понимать буквально, но в которых тем не менее отражены элементы действительности. Как мы уже видели выше, эта концепция позволила ему взять на себя роль своеобразного художественного критика, стремящегося в поэтических образах мифологии усмотреть обыденные факты и события реальной действительности. Лактанций уверен, что поэты не все выдумывают, но, взяв какой-либо имевший место в действительности эпизод или предмет, многое в нем изменяют и облекают его в такие краски, что часто его и узнать бывает невозможно. Но не следует обвинять поэтов в том, что они намеренно стремятся обмануть читателя. Просто они направляют свои усилия на то, чтобы в более достойном виде представить излагаемые события. Пересказав ряд мифологических сюжетов и показав их, с его точки зрения, реальную основу, Лактанций пишет: «Многое в таком-то плане преобразовали поэты, но не для того, чтобы оболгать богов, как думают [некоторые], а чтобы многоцветными образами (фигурами) придать изящество и красоту (venustatem ас leporem) своим песням. Те же, кто не понимает, чем, для чего и как создаются образы, объявляют поэтов лжецами и нечестивцами» (I, 11, 36). С другой стороны, они часто принимают поэтические образы за действительность, ибо «не знают, какова бывает мера поэтической вольности (poeticae licentiae modus), до какой степени простирается свобода воображения». Допуская «поэтическую вольность» в широких границах (так, что в поэтическом образе порой невозможно узнать реальный прототип), Лактанций тем не менее полагает, что «мера» (modus) ей есть; она - в объекте изображения. «Долг поэта, - считает он, - состоит в том, чтобы представить по-иному в иносказательных образах (obliquis figurationibus), с изяществом (cum decore) повернув куда-либо, то, что истинно существует» (I, 11, 23-24). «Поэты сами ничего в целом не выдумали, они только до некоторой степени, может быть, [все] переместили и окутали иносказательными образами, чтобы под покровом сохранить истину» (I, 11, 30). Мысль эта важна и значима для всей раннехристианской и средневековой эстетики. Интересно, что Лактанций усмотрел приемы сознательного сокрытия истины под покровом художественной формы у античных поэтов. Многие раннехристианские и средневековые мыслители видели то же самое и в библейских текстах, а неоплатоники - в античной мифологии. Ни христиане, ни неоплатоники, ни тем более гностики (как и представители других влиятельных течений поздней античности) не воспринимали художественную форму искусства (в частности поэзии) как самодовлеющую ценность. Они усматривали в ней только некий носитель или инструмент сокрытия истины. Герменевтическим духом была пронизана вся позднеантичная культура, хотя, конечно, различные духовные течения и даже отдельные мыслители по-разному интерпретировали одни и те же поэтические образы. Большинство ранних христиан склонны были усматривать в образах Писания божественную истину; неоплатоники видели в гомеровских поэмах аллегорическое изображение космических, духовных и божественных сил;
[265] Лактанций же стремился отыскать в образах античной мифологии и поэзии отголоски обыденных событий древней истории. Все это многообразие подходов к поэтическому тексту легло впоследствии в основу науки художественной критики, с одной стороны, и экзегетики
- с другой. Суть Лактанциевой критики мифологии сводилась к двум важным положениям. Во-первых, он видел в поэзии образное (от figuratio) отражение действительности (вспомним его толкование эпизода с Данаей) и, во-вторых, стремился на этой упрощенно-реалистической основе развенчать религиозные заблуждения и суеверия древних.
Зрелища
Из всех античных искусств зрелищные подверглись наиболее резкой критике со стороны апологетов, ибо они больше всего противоречили религиозным, этическим и эстетическим принципам новой культуры. Зрелищные искусства приобрели в Римской империи необычайный размах и широкую популярность
[266]. Как правило, зрелища являлись логическим завершением религиозных праздников и мистерий, но часто устраивались и самостоятельно. Во времена Тертуллиана в году насчитывалось до 135 праздничных дней, связанных со зрелищами. К середине IV в. их количество возросло до 175, из них 101 день был отведен для театральных представлений, 64 дня - для цирковых и 10 - для гладиаторских боев.
В театре
[267] иногда еще ставились трагедии, но популярностью они в этот период уже почти не пользовались. Только пышность и необычная роскошь постановки еще могли привлечь зрителей того времени на трагедии. Чаще исполнялись отдельные, наиболее эффектные сцены трагедий с красивыми хорами и богатым реквизитом. На смену трагедии пришел пантомим, представлявший собой практически театр одного актера, который, используя элементы танца, мимики, игры, исполнял небольшие сценки на мифологические сюжеты, связанные, как правило, с любовными похождениями богов. Юпитер и Венера были излюбленными героями этого жанра, на что не раз указывали и апологеты. Актер пантомима один исполнял все роли - и мужские и женские. Его игру сопровождали музыка и пение, хоровое и вокальное. В хоровом сопровождении излагалось содержание пантомима. Однако наиболее искусные актеры стремились передать содержание только игрой и пластикой тела. Некоторым из них порой удавалось до такой степени перевоплощаться в образы своих персонажей, что зрители подчас забывали, что актер, исполняющий роль женщины,- мужчина. Выступления пантомимов часто носили подчеркнуто чувственный характер, что придавало им особый интерес.
Другим распространенным жанром театрального искусства поздней античности являлась пирриха - яркий красочный спектакль, исполнявшийся большим количеством танцовщиков и танцовщиц и приближавшийся по своей форме к балету. Представление проходило на фоне искусных иллюзионистических декораций и сопровождалось разнообразной музыкой. Красочное описание такого спектакля на сюжет «Суда Париса» приводит в своих «Метаморфозах» современник Минуция Феликса и Тертуллиана Апулей (X, 30-34). Герой Апулея Луций, от лица которого ведется повествование, был как раз полномочным представителем той культуры и эстетики, с которой активно боролись апологеты. С особым удовольствием и любованием («наслаждаясь приятнейшим зрелищем») описывает Луций как раз те сцены спектакля, которые вызывают наибольший протест у его современника Тертуллиана: «Вслед за ними выступает другая, блистая красотою, чудным и божественным обликом своим указуя, что она - Венера, такая Венера, какой была она еще девственной, являя совершенную прелесть тела обнаженного, непокрытого, если не считать легкой шелковой материи, скрывавшей восхитительный признак женственности. Да и этот лоскуток ветер нескромный, любовно резвяся, то приподнимал, так что виден был раздвоенный цветок юности, то, дуя сильнее, плотно прижимал, отчетливо обрисовывая сладостные формы.
...Стекаются тут вереницы прелестных невинных девушек, отсюда - Грации грациознейшие, оттуда - Оры красивейшие,- бросают цветы и гирлянды, в угоду богине своей сплетают хоровод милый, госпожу услад чествуя весны кудрями. Уже флейты со многими отверстиями нежно звучат напевами лидийскими. Сладко растрогались от них сердца зрителей, а Венера, несравненно сладчайшая, тихо начинает двигаться, медленно шаг задерживает, медленно спиной поводит и мало-помалу, покачивая головою, мягким звукам флейты вторить начинает изящными жестами и поводить глазами, то томно полузакрытыми, то страстно открытыми, так что временами только одни глаза и продолжали танец»
[268].
Но наибольшим успехом в Римской империи пользовались комические жанры - паллиата, ателлана и особенно мим.
Позднеантичный мим (так назывался и жанр и актер) являл собой балаганное, как правило комическое, представление с занимательным сюжетом, рассчитанное на невзыскательные вкусы широких народных масс. Древний мим был средоточием народной смеховой культуры
[269]. Его актеры - шуты, кривляки, жонглеры - воплощали на сцене балаганные, карикатурные «подобия», шутовские «подражания» жизни богов или людей. Цицерон называл передразнивания мимов «неумеренным подражанием» (nimia imitatio) (De orat. II, 59, 242). Основную тематику мимов составляли эротические сюжеты из мифологии и обыденной жизни (сценки чувственных наслаждений, любви, измен, ревности), приключения разбойников и т. п. Язык мима был прост и груб, тексты содержали много циничных шуток; жестикуляция и игра актеров усиливала их непристойность. Многие мужские персонажи выступали на сцене с пристегнутыми огромными кожаными фаллосами.
В миме периода Римской империи были сконцентрированы технические достижения многих искусств того времени. Все хитрости театральной техники (различные машины и механизмы), декорационного искусства, литературы (поэзии и прозы), музыки, танца, акробатики, мимического искусства, дрессированные животные - все это активно использовали постановщики мимов. В мимах играли мужчины, женщины и дети. Иногда даже, по ходу действия пьесы, на сцене реально казнили приговоренных к смерти преступников, что вызывало особый восторг зрителей. Искусство мима сознательно было рассчитано на вкусы и потребности самых грубых слоев римского населения. Весь богатый арсенал художественных и технических средств в нем был направлен исключительно на развлечение многоязычного и разноплеменного населения Империи. Мим являлся своего рода индустрией древнего «китча», захватившей в период Империи всю античную культуру, оттеснившей или совсем заглушившей почти все виды и жанры «серьезного», неразвлекательного искусства.
Не меньшей, чем мимы, популярностью пользовались в Риме зрелища цирка и амфитеатра. В цирках устраивались прежде всего состязания колесниц, но также и бои зверей и гладиаторов, сражения больших отрядов войск, конных и пеших. Римский цирк вмещал до 190 тысяч зрителей и никогда не пустовал. Амфитеатры служили главным образом для гладиаторских боев, но также и для казни преступников, присужденных к растерзанию дикими зверями. На аренах амфитеатров, наполненных водой, устраивались настоящие морские сражения. Гладиаторы при этом нередко разыгрывали мифологические или исторические сцены, заканчивавшиеся гибелью большинства участников.
Римская публика периода Империи требовала зрелищ, наполненных грубой эротикой, убийствами, потоками крови, и она получала их. Основная эстетическая тенденция зрелищных искусств этого времени
[270] состояла в максимально натуралистическом или шутовском копировании («подражании») действительности, в ущерб законам искусства, вплоть до включения в зрелище натуральных боев, убийств, половых актов. Даже в среде языческой интеллигенции подобное «искусство» вызывало серьезный протест.
Отношение апологетов к зрелищам - неотъемлемой части античной культуры - хорошо выявляет многие оппозиции двух, сменяющих друг друга этапов духовной культуры.
Наиболее развернуто позиция ранних христиан изложена в трактате Тертуллиана «О зрелищах» («De spectaculis»). Тертуллиан начинает трактат с разговора об истории зрелищ. Здесь он опирается в основном на античные источники (Варрон, Светоний и др.). Важным для него является вывод древних авторов о том, что игры и зрелища возникли в тесной связи с религиозными обрядами, действами, мистериями. Не случайно еще древние писатели считали, что лидийцы «учредили зрелища (spectacula) под именем религии», отсюда, полагает он, и называются они ludi (игры) от Lydis (Лидия) (De spect. 5). Даже из названий самих древних игрищ и празднеств (Либерии, Консуалии. Эквирии и т. п.) видно, что все они учреждены в честь тех или иных богов, т. е. прямо связаны с идолопоклонством. Новые игры типа мегалезийских, Аполлониевых, Церериных и т. п. также связаны с религиозными обрядами. Все игры делятся на два вида: священные и похоронные (в память об усопших), но и те и другие - «одно идолопоклонство» (6).
Конечно, многие зрелища привлекательны своей красотой, блеском, пышностью. Чего стоят хотя бы цирковые игры. Им «в полном смысле слова подходит имя роскошь (pompa), доказательства чего заключены в них самих: это и ряды статуй, и множество картин, колесниц, тенс, армамакс, носилок, венков, [роскошных] одежд; а сколько сверх того церемоний, сколько жертвоприношений предшествует, сопровождает и завершает [эти зрелища]; сколько движется коллегий, жрецов, [различных] служителей,- [хорошо] знают [все это] люди этого города, в котором [прочно] восседает община демонов» (7), ибо все эти зрелища, конечно, имеют одну цель, полагает Тертуллиан, - идолопоклонство. Он приводит далее описание цирка, полное сарказма и насмешек в адрес религиозных суеверий античности, давая образец своего рода сатирической экфразы.
«Цирк прежде всего посвящен солнцу». Поэтому посреди него воздвигнуто изображение Солнца, которому цирк практически и служит храмом
[271]. Уверяют, что Цирцея учредила это зрелище в честь своего отца Солнца и дала ему свое имя. Идолопоклонство представляется христианам главным грехом язычества, поэтому и в цирке, как и в многочисленных нечестивых храмах, Тертуллиан видит прежде всего сонм идолов, считая любое античное изображение «священным». Здесь - статуи Кастора и Поллукса для тех, кто безрассудно верит, что Юпитер, превратясь в лебедя, стал отцом этих близнецов и они вылупились из яйца, снесенного Ледой. Там - изображения дельфинов, посвященные Нептуну. С другой стороны возвышаются огромные колонны со статуями в честь богинь посевов, жатвы, плодородия. Перед ними устроены три жертвенника самофракийским божествам. Самый же большой обелиск «выставлен на позор Солнцу». Иероглифы, начертанные на нем как некие таинства, хорошо свидетельствуют о том, что это суеверие берет свое начало у египтян. Все это «собрание демонов могло бы замерзнуть без своей Великой матери; а поэтому она и предсидит над Эврипом» (8).
Но не только изображения в цирке связывает Тертуллиан с идолопоклонством. Ведь и сами скачки посвящены богам, а многие их элементы имеют символическое религиозное значение. Так, квадрига посвящена Солнцу, а упряжка с двумя лошадьми - Луне. Цвета одежд участников скачек также имеют сакральное значение. «Раньше было только два цвета - белый и красный: белый посвящался зиме из-за белизны снега, а красный - лету - от красного цвета солнца. В дальнейшем же как ради удовольствия, так и из суеверия красный цвет посвятили Марсу, белый - зефирам, зеленый - Матери-земле или весне, голубой - небу и морю или осени» (9).
Театр по своему назначению, считает Тертуллиан, практически не отличается от цирка. Зрелища театра, как и цирка, являются продолжением религиозного празднества. И в цирк, и в театр люди идут после совершения культовых жертвоприношений в храме. Однако чем же театр отличается от цирка? «Театр является в полном смысле слова святилищем Венеры». В старину, отмечает Тертуллиан, если вновь воздвигнутый театр не был удостоен торжественного посвящения, то цензоры, опасаясь порчи нравов, приказывали его разрушить. Поэтому Помпеи Великий, чье величие уступило только величию его театра, сооружая великолепное здание «для позорных зрелищ всякого рода» и опасаясь справедливых упреков, которые могло навлечь это сооружение на его память, превратил основанный им театр в храм. Пригласив всех на освящение театра, он отнял у него звание театра, объявив, что освящается храм Венеры, которому приданы некоторые помещения для зрелищ. Таким-то способом он прикрыл именем храма это недостойное место, посмеявшись над благочестием (10). Тертуллиан говорит здесь о первом постоянном театре в Риме, сооруженном выдающимся политическим деятелем, полководцем, консулом Гнеем Помпеем в 55 г. до н. э. для умиротворения городского плебса. Театр был построен ниже храма Венеры, непосредственно примыкая к нему так, что зрительские места среднего сектора являлись как бы ступенями, ведущими в храм
[272].
Театр, возмущается далее Тертуллиан, посвящен не только Венере, но и Лидеру, богу вина. «Эти два демона пьянства и вожделения неразлучно соединены между собой и как бы состоят в тайном сговоре. Так что театр Венеры есть одновременно и дом Либера». Оба эти божества воодушевляют театральные действа с их «непристойными жестами и телодвижениями», которыми особо отличаются актеры в комедии. Эти последние вменили себе в обязанность приносить в жертву Венере и Либеру свою совесть, допуская непристойные вольности и изображая сексуальные сцены (10). Татиан негодует, что на сцене театра (имея в виду, вероятно, мимы) услаждают зрителей рассказами и показом «ночных дел», учат блудодеяниям (Adv. gr. 22). Минуций Феликс с возмущением пишет о «постыдных» представлениях любодеяний на сцене театра (Octav. 37), а Киприан просто обрушивается на театр за безнравственность его зрелищ. В послании к Донату он пишет: «В театрах ты увидишь нечто, что возбудит в тебе скорбь и стыд. [Там] трагик выспренним слогом вещает в стихах о старинных злодеяниях. Древний ужас об отцеубийствах и кровосмешениях возобновляется, выражаясь в образах (ad imaginem) настоящего действа, чтобы проходящие века не изгладили из памяти то, что было совершено когда-то. Показывают всем, что опять может совершаться то, что уже совершилось. Никогда грехи древности не забываются, никогда [старинные] преступления не изглаживаются временем, никогда порок не предается забвению. Уже совершенное ставится в пример [современному]. На мимических представлениях услаждаются сценами пороков, о которых знают или по домашней жизни, или понаслышке. Смотря, учатся прелюбодейству; публичное одобрение зла способствует [распространению] пороков, и женщина, возможно пришедшая на зрелище целомудренной, уходит со зрелища распутной. Отсюда видно, сколько порчи нравов! Сколько позора! Какую пищу для пороков дают жесты гистрионов; какой разгул непристойных инцестов готовится против закона и справедливости! Мужи лишаются [там] мужественности, вся честь и крепость пола позорится расслабленностью тела, а [зрителям] больше нравится тот, кто лучше преобразится (fregerit - расслабится) из мужчины в женщину. Хвала растет с ростом преступления, и чем кто [предстает] гнуснее, тем он считается искуснее. И вот на него смотрят, и - о, ужас! - [смотрят] с удовольствием. Чему не научит такой [человек]? Он возбуждает чувство, щекочет страсти, подавляет самую стойкую совесть доброго сердца; у ласкающего порока нет недостатка в авторитете, чтобы под приятным внести в людей порчу» (Ad Donat. 8). Автор трактата «О зрелищах», приписываемого Киприану, стесняется даже рассказывать о том, что творится на сцене театра. Он подчеркивает, что «непотребств» сцены стесняются даже продажные женщины, скрывающие свое ремесло, стыдящиеся его (Ps.-Cypr. De spect. 6).
По мнению Лактанция, комедии чаще всего изображают соблазнение молодых девиц, трагедии же посвящены отцеубийствам и прелюбодеяниям жестоких правителей. Бесстыдные телодвижения актеров возбуждают сладострастие в зрителях. Изображая мнимые прелюбодеяния, актеры учат совершать их в жизни. Вожделение проникает через глаза молодых людей и возжигает их сердца огнем запретных желаний (Div. inst. VI, 20, 27-31).
Эта сторона театральных зрелищ, конечно, больше всего противоречила строгим нравственным нормам христианского учения, которое и возникло как защитная реакция общества на опасное для культуры превышение меры «безнравственности» и распущенности в достаточно широких слоях римского общества. Поэтому апологеты сознательно подчеркивают в театральном зрелище, утрируя, как правило, его суть, только отрицательные стороны, используя их в качестве важного обличительного довода в своей критике римского общества. Театр, - утверждал Тертуллиан, а мимы его времени давали ему богатый материал для этого,- является школой безнравственных и непристойных дел, где можно научиться всему тому, что в обществе официально порицается, но на что с удовольствием смотрят в театре. Трагедия и комедия преподают образцы жестокости, гнусных злодеяний, безграничной похоти и всяческих непристойностей (De spect. 17). Кто не смеет перед дочерью своей употребить грубого слова, сетует Тертуллиан, тот сам ведет ее в комедию, чтобы она набиралась там и сквернословия, и безнравственного опыта. Кто ужасается, видя труп человека, умершего обычной смертью, тот с удовольствием взирает в амфитеатре на искалеченные тела, плавающие в лужах крови (21). Тертуллиан, как и другие апологеты, возмущен таким лицемерием и усматривает в нем безнравственность и бесчеловечность всей римской культуры.
Здесь христиане затрагивают важный аспект позднеримской эстетики - явление контраста. Не ставя, естественно, перед собой задачи его специального анализа, они дают ему негативную оценку с позиций новой культуры. Интересно, что в дальнейшем христианство найдет и позитивное объяснение и применение ему в христианской культуре
[273].
Речь идет об изображении в искусстве явлений и предметов, считающихся непристойными и безобразными. Эстетическую значимость таких изображений показал еще Аристотель в «Поэтике»: «на что нам неприятно смотреть [в действительности], на то мы с удовольствием смотрим в самых точных изображениях - например, на облики гнуснейших животных и на трупы» (Poet. 1448b, 9 - 12)
[274]. Сам Аристотель объяснял этот эстетический феномен познавательной функцией подражания. Неоднократно останавливается на щекотливом вопросе изображения порочных и непристойных явлений в искусстве Плутарх в трактате «Как юноше слушать поэтические произведения»
[275]. Считая эти изображения вполне допустимыми, Плутарх стремится показать, что удовольствие здесь доставляет не порочный и безобразный объект изображения, но само искусство подражания. При восприятии таких произведений «юноша должен учиться ценить искусство и способность подражания, а воспроизводимые события и поступки - порицать и презирать. Подражать хорошему и подражать хорошо - не одно и то же. Подражать хорошо - значит воспроизводить точно и сообразно предмету. В таком случае дурные вещи дают и уродливые изображения» (Quomodo adolesc. poet. 3). Плутарх, таким образом, не ставит вопроса о том, почему поздняя античность увлеклась изображением вещей безобразных и непристойных, но лишь пытается объяснить привлекательность таких изображений эстетическими свойствами самого принципа «подражания». Ясно, что механизм этого явления сложен и еще по сей день не до конца понятен науке. Очевидно, однако, что он коренится где-то в глубинах человеческой психики, в сферах внесознательного психического. Возможно, что в процессе восприятия подобных изображений в глубинах психики возбуждаются какие-то древние (близкие к животным) инстинкты, доставлявшие чувственное удовольствие нашим предкам и подавленные в человеке веками культурного развития. Как слабое эхо того, что запретное и безобразное в сегодняшнем обществе когда-то таковым не являлось, но даже доставляло наслаждение, они приятно щекочут нервы и современному человеку. Позднеримская культура активно восприняла этот феномен как важнейший в эстетической сфере и постаралась во всех аспектах максимально реализовать его
[276]. Высмеивание и порицание пороков и безобразного в театре античной комедии постепенно перерастало в простое изображение их, а затем и в любование ими. То, что дома и в обществе надо было скрывать под маской приличия, этому в театре можно было сопереживать, радоваться и аплодировать. Смотреть в театре на то, что считалось предосудительным делать в жизни, было в порядке вещей. Ведь это искусство, а не жизнь. Однако мимических актеров и актрис и в жизни часто отождествляли с их героями. Восхищаясь ими в театре, римляне презирали их как членов общества. Мимических актрис в Империи приравнивали к публичным женщинам. Атлеты, наездники цирка, комедианты и гладиаторы в римском обществе считались самыми презираемыми людьми, хотя многие знатные дамы вступали с ними в тайные связи. «Они любят тех,- удивляется Тертуллиан, - кого наказывают; презирают тех, кого хвалят. Искусство славят, а художника порицают. Каково правосудие, когда человека бесчестят за то же самое, за что воздают ему честь? Или - какое [единодушное] признание злого дела, когда его автор, сколько бы ни доставлял удовольствия, не может быть оставлен без порицания!» (De spect. 22).
Принципиальное перемешивание искусства с жизнью составляло важную эстетическую норму поздней античности. Игра в театре хороша, очень похожа на жизнь, но почему же тогда не включить в спектакль элементы самой жизни. Они еще «натуральнее» их изображений. Актер умирает на сцене, «как в жизни», но ведь зрители знают, что он только изображает смерть. Куда более эффектно и захватывающе смотрелась бы настоящая гибель героя, и насколько больше возбуждала бы борьба, когда известно было бы, что один из сражающихся погибнет реально, сейчас, на глазах. Отсюда - сражения и гибель гладиаторов, осужденные преступники, умерщвляемые на арене, реальные пожары на сцене и т. п. Тертуллиан вспоминает, что он видел в театре, как тот, кто играл Аттиса. был действительно оскоплен на сцене, а игравший Геркулеса сожжен живым в финале представления (Apol. 15). Предпринимались даже попытки организовать перед зрителями настоящий половой акт. Как сказано в трактате, приписывавшемся Киприану, «в театре изыскивали способ совершать любодеяние на глазах [у зрителей]» (Ps.-Cypr. De spect. 6). Вспомним, что и апулеевского Луция-осла ожидала участь публично бракосочетаться на сцене театра с осужденной на казнь преступницей (Metam. X, 34). Представления в подобными вставками воспринимались римскими зрителями с воодушевлением, ибо они твердо знали - перед ними не сама жизнь (в действительности законы порицали и запрещали все это), но искусство, зрелище. Наличие сцены и мест для зрителей уже было достаточным условием для того, чтобы все происходящее на сцене воспринималось как ненастоящее, не подчиненное законам обычной жизни. Поэтому, чем натуральнее было зрелище, чем больше в нем допускалось нарушений запретов и обычаев этой жизни, тем оно активнее воздействовало на психику зрителя, доставляло ему дополнительное удовольствие, приоткрывая окно в мир подавленных инстинктов и влечений. Условность сцены открывала возможность компромисса между подавленными (но еще живыми) инстинктами и нравственным сознанием. Потоки крови, крики жертв, казни на сцене - настоящие, но все-таки они на сцене, а не в жизни, т. е. как бы совсем в ином мире.
Этой эстетической разнузданности апологеты могли противопоставить только иную крайность: «То, что неприемлемо в действительности,- заявлял Тертуллиан, - то не должно быть приемлемым и в сочинении» (De spect. 17)
[277], т. е. шире - в искусстве, ибо речь у него идет о театре. Христиане усматривали в римских зрелищах, с одной стороны, угрозу нравственности, а с другой - акты варварства, бесчеловечности, антигуманности. Понятие гуманности было чуждо древнему миру; только раннее христианство наиболее последовательно осознало его и стремилось активно внедрить в культуру поздней античности. Для римлян бои гладиаторов и растерзание людей хищниками на арене - захватывающее зрелище, для христиан представления амфитеатра - верх бесчеловечности и жестокости (ср. Tat. Adv. gr. 23).
Бои гладиаторов, пишет Тертуллиан, восходят к древним погребальным обрядам, когда для облегчения душ усопших проливали на их похоронах кровь пленников или непокорных рабов. Затем последних стали обучать владению оружием, и обряд превратили в сцены увеселения. Со временем зрелище это становилось тем приятнее, чем больше в нем было жестокости. К мечу как орудию умерщвления людей на арене добавили свирепых хищников. Убиваемых таким способом долгое время считали жертвой, приносимой умершим родственникам. Жестокость сочеталась здесь с идолопоклонством (De spect. 12). И то и другое составляло предмет резкого неприятия христиан. Мы помним, с каким возмущением писал об институте гладиаторов Киприан (Ad Donat. 6), как гневно клеймил бесчеловечность и жестокость зрителей, требующих умерщвления израненных, истекающих кровью гладиаторов Лактанций (Div. inst. VI, 20, 8 - 13).
Апологеты тесно связывали зрелища амфитеатра, как и другие представления, по их происхождению и функции с культовыми празднествами, т. е. с идолопоклонством, и это еще более усиливало степень неприятия ими всех зрелищных искусств древности.
Острота критики апологетами зрелищ была обусловлена напряженностью идеологической борьбы с языческим мировоззрением в целом. Однако далеко не все христиане отрицательно относились к зрелищам. Многие из них по окончании службы в христианском храме спешили в цирк или театр. При этом, как указывает автор приписываемого Киприану трактата «О зрелищах», они стремились даже оправдать зрелища, ссылаясь на авторитет Библии. И Илия, заявляют они, представлен там возницей Израиля, и Давид плясал перед ковчегом, и трубы, флейты, кифары, тимпаны, хоры часто фигурируют в Писании (Ps.-Cypr. De spect. 2). Автор трактата возражает, что все это никак не оправдывает языческих зрелищ. Давид плясал не для развлечения зрителей, но перед лицом Бога, и «он не отплясывал греческий эротический танец, выворачивая в непристойных движениях члены. Арфы, артишоки, флейты, тимпаны и кифары воспевали Бога, а не идола» (3).
Христианство уже на раннем этапе приходит к выводу, что порочны не все искусства вообще, но только искусства, чуждые их духовной культуре. Вывод этот вполне закономерен, и сам ход развития новой культуры рано или поздно должен был заставить ее теоретиков прийти к нему. Да и апологеты допускают его, правда, неохотно. Развернутое обоснование он получит уже у следующего поколения Отцов Церкви.
Пока же перед теоретиками и защитниками новой идеологии стояла задача всесторонне развенчать уходящую культуру со всеми ее ценностями, в том числе и эстетическими. А глубинная критика необходимо требовала изучения объекта, т. е. выявления его существенных сторон.
Зрелищные искусства позднего Рима ничем не могли привлечь теоретиков христианства. Они противоречили их нравственно-этическим нормам, их пониманию человека и человечности. Они были тесно связаны со всей духовной культурой, с религиями и культовыми действиями античности. Они не могли удовлетворить глубоких духовных запросов христиан, ибо взывали не к духу, но к плоти. Состязания в цирке, как и ипподромные страсти, представлялись христианам «пустыми» (vanus), в театральных представлениях видели они одну непристойность и суету (vanitas) (Ps.-Cypr. De spect. 5; 7).
Христианская философия призывала человека отрешиться от мирской суеты, мелочных волнений и переживаний, погрузиться в глубины своего духа, в созерцание вечных абсолютных истин. И новая культура должна была всячески способствовать этому. Римские зрелища были направлены на противоположное - на возбуждение страстей, активную, даже буйную реакцию зрителей, и поэтому они никак не могли быть приняты христианством, стремившимся к практической реализации апостольского призыва: «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас» (Еф 4, 31). Зрелища же, как отмечал Тертуллиан, сильно тревожат наш дух. Они возбуждают удовольствие (voluptas), а где удовольствие, там и желание (studium), ибо без желания и удовольствие неприятно. Желание же не бывает без соперничества (aemulatio), которое влечет за собой споры, ссоры, гнев, бешенство и другие страсти. «Не может быть спокойствия духа без молчания жизненных страстей. Никто не приходит к удовольствию без аффекта, никто не испытывает аффекта без соответствующих поводов. Эти поводы суть возбудители аффектов. Впрочем, если отсутствует аффект, нет никакого и удовольствия» (De spect. 15). Осуждая зрелищные искусства, Тертуллиан одновременно вскрывает механизм их эстетического воздействия на зрителя. Зрелища возбуждают в человеке волнения души, аффекты, которые, в свою очередь, вызывают чувство удовольствия, т. е. они воздействуют исключительно на эмоциональную сферу психики. Таким образом, христиане видят в зрелищных искусствах как содержательную (в узком смысле слова - сюжетную, вербальную), так и эмоционально-аффективную стороны. И та и другая отрицались первыми идеологами христианства.
Тертуллиан сатирически описывает зрителей цирка, спешащих на представление. Он подчеркивает их возбуждение, смятение, волнение, одурение на самом зрелище. С нетерпением ожидают они результата состязаний, вслух комментируя все происходящее, рассказывая соседу то, что тот и сам хорошо видит. Во время состязаний зрители горячатся, бесятся, ссорятся, оскорбляют друг друга, испытывая сильнейшие, но «бессмысленные», по глубокому убеждению Тертуллиана, страсти. (О неистовстве зрителей в цирке писал и Лактанций.- Div. inst. VI, 20, 32). Для себя никакой пользы от этих страстей они не получают. «Что обретают для себя те,- спрашивает Тертуллиан,- кто так себя ведет, кто выходит из себя? Разве только то, из-за чего они находятся вне себя: они печалятся о несчастье других, счастью [же] других - радуются» (De spect. 16). Тертуллиан подмечает здесь еще один важный эстетический момент в восприятии искусства - эффект сопереживания, который не имеет никакой утилитарной ценности и поэтому воспринимается ранним христианством как негативный. Апологеты имеют в виду в данном случае утилитаризм не меркантильно-обиходный, но духовный. Страстям и аффектам они противопоставляют философское бесстрастие. «Ты привередлив, христианин, - обращается Тертуллиан к своим единоверцам, защищавшим зрелища, - если желаешь удовольствия в [этом] мире, вернее, ты чрезвычайно глуп, если так понимаешь удовольствие. Философы присвоили это имя безмятежности и спокойствию; в нем (спокойствии. - В. Б.) они радуются, в нем развлекаются, в нем прославляются. Ты же вздыхаешь о мете, и о сцене, и о ристалище, и об арене» (28). Эти стоические мотивы, которыми вообще богаты суждения апологетов, свидетельствуют не об их глобальном антиэстетизме, но об ином, нетрадиционном для античности, понимании эстетической проблематики. Христианству надо было прежде отказаться от античной эмоциональности и эффективности искусства, чтобы затем снова вернуться к ним уже в структуре новой эстетики. Интересно, что не все раннехристианские писатели понимали удовольствие одинаково. Если Тертуллиан различает удовольствие эмоционально-аффективное (бытовое, идущее от искусства, чувственное) и удовольствие духовное (философского бесстрастия), то Арнобий знает только первое, которое, по его мнению, «есть как бы особого рода ласкание (adulatio) тела, воспринимаемое известными пятью чувствами» (Adv. nat. VII, 4), и относится к нему отрицательно.
Лактанций различает целый спектр удовольствий. «Чувственные удовольствия» (sensum voluptates) он относит к той группе страстей, наряду с гневом и желанием, которые постоянно ввергают человека во всяческие преступления (Div. inst. VI, 19, 4). Удовольствия эти, приводит он мысль Цицерона (Cat. maj. 12, 40), противостоят уму и добродетели
[278]. Провидение Верховного Художника наделило человека удовольствиями, соответствующими всем органам чувств, чтобы добродетель постоянно тренировала себя в сражениях с ними, как со своими домашними врагами (Div. inst. VI, 20, 3 - 5). Человеку необходимо держать чувственные удовольствия в предписанных им границах. «Удовольствия глаз различны и многообразны: они происходят от осмотра предметов, употребляемых человеком и радующих своими природными или созданными [свойствами]» (VI, 20, 6). Философы призывали отказаться от них. Они считали, что смотреть на небо более достойное занятие для человека, чем на редкие и прекрасные предметы, разнообразные цвета, блеск золота и драгоценных камней, украшающих богатейшие творения рук человеческих. Однако они сами остановились на земных зрелищах, от которых христианам, полагает Лактанций, необходимо отказаться. «Удовольствие слуха» (aurium voluptas) основывается на приятности (sauvitas) голоса и пения, и оно не менее порочно, чем удовольствие глаз. Особенно привлекательна в этом плане поэзия, услаждающая слух и ум своими образами (VI, 21, 4 - 6). Но если эти два вида удовольствий имеют некоторое отношение к духу, то удовольствия вкуса, обоняния и тактильные Лактанций относит к грубым и чисто чувственным, общим у человека с животными. Порядочному человеку стыдно быть рабом своего желудка, услаждаться благовониями, погрязать в сладострастии. Рот, нос и половые органы необходимо использовать не для наслаждений, но по их прямому назначению (VI, 22-23).
Главные удовольствия для христиан - духовные, и они - «от похвалы Богу»; все остальные скоропреходящи и порочны - таков основной вывод Лактанция (VI, 21, 6) и всего раннего христианства.
3. Предпосылки новой теории искусства
Еще Тертуллиан отмечал, что жить совсем без удовольствий нельзя. Но удовольствие удовольствию рознь. И у христиан есть свои удовольствия, которые состоят в познании истины, удалении от мирской суеты, в благочестивой жизни, небесных откровениях и т. п. Более того, активно порицая античные искусства, Тертуллиан хорошо чувствовал силу и привлекательность искусства вообще и противопоставлял языческим художествам новое, только зарождающееся христианское искусство. «Если сценические поучения доставляют удовольствие, то у нас достаточно есть [своей] литературы, достаточно стихов, достаточно изречений, достаточно также у нас гимнов и пения: не сказочных, но истинных, не строфических, но безыскусных» (De spect. 29). Показательно, что этой мыслью Тертуллиан завершает свой трактат о зрелищных искусствах, противопоставляя античным эстетическим принципам новые, христианские. Простота, естественность, истинность становятся у него главными эстетическими ценностями, ибо они соответствуют новой ориентации духовной культуры.
Апологеты отрицательно относились к искусству, направленному на возбуждение чувственных, плотских, сладострастных удовольствий, но признавали искусства, способствующие эмоциональной успокоенности, сосредоточенности, духовной углубленности, - «умные искусства». Поэтому там, где художественные средства не могли содействовать, по их мнению, духовной жизни человека, они выступали против искусства, в современном понимании этого слова, за полезное и нужное ремесло (Tert. De idol. 8). Бытовой утилитаризм, используемый апологетами в качестве понятного широким народным массам Империи аргумента в борьбе с идеологически чуждым христианству античным эстетизмом, перерос у них в духовный утилитаризм как важный принцип новой эстетики. Христианство, опираясь на ветхозаветную традицию, начало создавать новое искусство, полезное новой идеологической системе, имеющей ярко выраженную духовную ориентацию.
Климент Александрийский уделял много внимания музыке, хорошо зная на основе пифагорейского учения об «этосе» и своих личных наблюдений о ее сильном психофизиологическом воздействии на человека и даже на животных. Поэтому, замечает Климент, музыка и используется на войне для поднятия боевого духа в войсках, на праздниках и мистериях - для создания определенного настроения у их участников, на пиршествах - для дополнительного опьянения и возбуждения необузданной чувственности (Paed. II, 40, 1-42, 3). Различные мелодии и инструменты по-разному воздействуют на слушателя. В связи с этим Климент делит музыку на полезную и вредную для человека. Вредной он считает разнеживающую и расслабляющую душу музыку, возбуждающую «разнообразные ощущения: то грустные и склоняющие к задумчивости, то непристойные и чувственность распаляющие, то неистовые и сумасбродные» (Str. VI, 90, 2). Наиболее гибельны для нравов «звуковые переливы музыки хроматической», развивающие у людей «склонность к жизни бездеятельной и беспорядочной» (Paed. II, 44, 5). Пение кузнечиков значительно лучше и полезнее музыки, исполняемой искусными музыкантами (Protr. 1, 2). Но есть другая музыка, улучшающая человека, смягчающая его характер. «Поэтому-то,- заявляет Климент,- во время христианских трапез мы взаимно побуждаем себя к пению» (Str. VI, 90, 1). «Мелодии же нам следует выбирать бесстрастные и целомудренные», своей серьезностью и строгостью в зародыше предупреждающие «бесстыдство и дикое пьянство» (Paed. II, 44, 5). Однако и христианская музыка должна быть гармоничной, ибо, по мнению Климента, «недостаток гармонии в музыке разрушает гармонию духа»
[279], так необходимую человеку, стремящемуся к познанию истины.
Климент, отрицая (впрочем, как и Платон в свое время) отдельные лады античной музыки (фригийский, лидийский, дорический и др.), противопоставляет всем им единый всеобщий «вечный лад новой гармонии» (τής καινής άρμονίας), знаменующей Бога; песнь новую, левитскую, «успокаивающую, утоляющую страдания, приводящую к забвению всякого зла
[280], некую сладость и истинное лекарство от печали, песнь, [воспитывающую] самообладание» (Protr. 2, 4). Климент стремится осмыслить и применить к новому мировоззрению известную пифагорейскую теорию. Пифагорейская музыкально-космологическая терминология наполняется у него образно-символическим содержанием и служит для описания христианского универсума, социума и их закономерностей. «Новая песнь» христианского учения «все стройно украсила (έκόσμησεν έμμελώς) и разноголосицу элементов (стихий) привела в согласный порядок, чтобы весь мир стал перед Ним гармонией» (5, 1), которую Климент в лучших античных традициях понимал как соединение противоположных начал. Воплотившийся божественный Логос пренебрег лирой и кифарой, бездушными инструментами, и выбрал для «гармонической игры» весь космос и микрокосм - человека, гармонизируя единство его души и тела Святым Духом. «Прекрасным одушевленным инструментом создал Господь человека по образу своему; да он и сам является всегармоничным (παναρμόνιον) инструментом Бога, благозвучным и святым, надмирной премудростью, небесным Логосом» (5, 4). Весь мир, исключая единого и абсолютно простого Бога, представляется Клименту гармонией, отдельные нарушения которой, допущенные по вине человека, и призвана устранить с Божьей помощью новая культура, новый строй (лад) жизни со всеми его практическими и теоретическими аксессуарами, в том числе и с земной музыкой. Сфера применения последней и ее ладовый диапазон, как мы видим, у Климента сознательно ограничены. Идет активный процесс переоценки художественных (и музыкальных в том числе) ценностей идеологами новой культуры.
Псевдо-Киприан, как мы помним, оправдывает и пляски Давида, и библейские арфы, флейты, тимпаны, кифары и им подобные инструменты, как полезные, т. е. побуждающие душу устремляться к Богу и евангельским добродетелям (Ps.-Cypr. De spect. 2-3). Свое послание Киприан к Донату заканчивает призывом провести христианский праздник в веселии и псалмопении, исполняемом хорошими голосами, ибо духовные песни воспринимаются духом значительно лучше, когда «духовное содержание вызывает у нас и благочестивое удовольствие слуха [телесного]» (Ad Donat. 16).
О христианском обычае «петь Богу» (Deo canere) на собраниях христиан «из Св. Писания или из собственного сердца» писал и Тертуллиан (Apol. 39).
Еще более настороженно, чем к музыке, как мы видели, относились апологеты к изобразительному искусству. Трезво подходил к нему и Климент Александрийский. Со всех сторон оно вызывает недоверие. Прежде всего оно лежит в основе идолопоклонства, но даже и помимо этого оно слишком далеко отстоит от истины. Интерпретируя на христианский лад платоновские идеи, Климент видел в скульптуре, например, лишь четвертую ступень (после Логоса, разума человека, его тела) образного отражения истины, конечно же полную «суетных заблуждений» (Protr. 98, 4). Это не мешало ему, однако, исследовать и столь далекий от «абсолютной истины» феномен человеческой деятельности. Опираясь на логику и эстетику Аристотеля (ср. Met. V. 2, 1013a; III, 2, 996b, 5 - 8), Климент усматривает «четыре причины» в процессе художественной деятельности. Основой первой, «созидательной, причины» (το ποιούν) является художник (скульптор), часто работавший, как мы помним, с натуры; основу второй, «материальной», (ή ϋλη) составляет материал, с которым работает художник (медь, в частности), сущностью третьей, «формальной» или «образной», (τό είδος) причины является «образ», идея, форма (ό χαρακτήρ) произведения искусства и «целевая причина» (το τέλος) - должное почтение (ή τιμή) к изображенному (Str. VIII, 28, 2-3), т. е. уже результат восприятия статуи зрителем. Таким образом, в последней «причине» ясно виден существенный отход Климента от аристотелевской позиции. Если у Аристотеля основа этой причины («то, ради чего») применительно к эстетической сфере - само произведение искусства (сооружение - для строительного искусства. - Met. III, 2, 996b, 7-8)
[281], то у Климента такой основой выступает уже не столько само произведение, сколько результат его воздействия на зрителя. Здесь намечается новая тенденция в эстетическом сознании христиан, которая получит свое дальнейшее развитие у византийских мыслителей в связи с их психологически-гносеологической ориентацией эстетики.
Стихийно материалистический подход к процессу художественной деятельности был одним из этапов в развитии эстетических идей. Однако преднамеренным искажением действительного положения вещей было бы поспешное причисление Климента к материалистам. Подобные наблюдения и выводы не часты у Климента и находятся как бы на периферии его последовательно-идеалистической в целом философско-религиозной системы
[282]. Тем не менее в истории эстетической мысли они должны занять достойное место, ибо объективная значимость их не вызывает сомнения.
Интересные мысли находим мы у Климента и относительно живописи, которая, по его мнению, так же далека от истины, как и скульптура, ибо имеет дело только с внешним видом предметов: «Живопись, восприняв внешний вид предметов, воспроизводит его по законам скенографии;
[283] таким образом, она вводит в заблуждение зрение, проводя свои линии в полном соответствии с видимыми контурами предметов и организуя их по законам искусства». В результате живопись искусно передает выпуклости и впадины изображаемых предметов, а также их пространственное расположение (Str. VI, 56, 1). Климент хорошо знал иллюзионистическую живопись позднего эллинизма, так называемую
скенографию (построенную по законам, близким к прямой перспективе) и
скиаграфию (использующую объемную, светотеневую и цветовую моделировку) и дал точную характеристику этой живописи, действительно стремящейся к максимальному подобию изображения оригиналу. Он, видимо, не подозревал о существовании символических христианских изображений в римских катакомбах
[284] и не придавал серьезного значения использованию «портретной» живописи египтянами в ритуально-сакральных целях при захоронениях
[285] (так называемые фаюмские портреты, на основе которых развилась затем христианская иконопись
[286]). Иллюзионистическая живопись, конечно, не вызывала особых симпатий у теоретиков новой культуры, ибо она не в состоянии была изобразить не только невидимые, духовные субстанции, но даже и многие явления природы. «Пусть воспроизведет мне кто-нибудь солнце таким, как он его видит, или изобразит разноцветную радугу»,- взывает Климент (VI, 164, 1), хорошо сознавая границы живописи. Ясно представляя себе место, роль и функции изобразительного искусства в греческой культуре и его духовную ограниченность, хорошо зная его содержательную сторону и основные приемы и технологию создания пластических образов, он не находит места этому искусству в системе христианской культуры. Он не допускает еще возможности существования принципиально иного, собственно христианского изобразительного искусства. Изобразительные, или «подражательные», искусства устремлены к материальному миру, а Климент во всем стремится найти духовность. Искусство (живопись и музыку, в частности) он склонен делить, с одной стороны, на «истинно художественное», а с другой - на пошлое и вульгарное (VI, 150, 5). Только первое обладает своим способом постижения истины, отличным от понятийного
[287]. И хотя истина в собственном смысле слова едина, единственна и непостижима, в искусстве существует свой аспект истины, отличный от научного или философского (I, 97, 4). Отсюда и искусство в самом широком смысле Климент понимает духовно: это разлитая во вселенной мысль, материализованная в результатах человеческой практики (VI, 155, 4).
Подобный ход рассуждения приводит Климента к необходимости сформулировать свой идеал искусства. Такой идеал он усматривает в сфере промежуточной между наукой и искусством, именно в геометрии и в основывающейся на ней архитектуре, которая «чрезвычайно обостряет способности души, особенно ее восприимчивость к пониманию; делает душу более способной угадывать истину, опровергать ложь и вскрывать соотношение между гомологией и аналогией. Благодаря именно архитектуре мы улавливаем сходство и различие, можем находить длину, не зная ширины, - поверхность, не имеющую глубины, - точку, не подлежащую делимости и не имеющую протяженности; наконец, это она от предметов чувственных возвышает нас к вещам только умом постигаемым» (VI, 90, 4)
[288]. Таким образом, «идеальное» искусство, по Клименту, должно возводить человека от мира чувственного к миру «умопостигаемому», т. е. должно быть прежде всего интеллектуальным. Эта идея будет затем подхвачена и развита многими представителями византийской и западной средневековой эстетики. Для апологетов она еще не актуальна. Художественная практика поздней античности поставила перед ними с новой остротой вопрос, уже мало волновавший нехристианских теоретиков, - о соотнесении искусства и материальной действительности, и они энергично стремились решить его.
Флавий Филострат, автор известного «Жизнеописания Аполлония Тианского», противопоставлял «мимесису» «фантасию». В беседе Аполлония с эфиопским гимнософистом Феспесионом заходит разговор об изображении богов в Греции и Египте. Отстаивая преимущество греческих антропоморфных изображений, Аполлоний вынужден ответить на вопрос Феспесиона о том, на чем же основываются греческие художники, ибо они не могут воспользоваться главным принципом искусства - подражанием, так как нельзя же предположить, что они бывали на небе и видели богов. Аполлоний на это резко противопоставляет подражанию «фантасию»: «Фантасия совершила это, более мудрый художник, чем мимесис; ибо подражание формирует только то, что оно видит, фантасия же и то, что она не видит» (Vit. Apol. VI, 19)
[289]. Уже здесь наметилась важная тенденция к отходу от миметического (в узком смысле этого слова) принципа изобразительного искусства
[290], что особенно важно будет для христианского художественного мышления и эстетики. У Филострата. кроме того, φαντασία тесно объединена с поэтическим постижением мира; она часто выступает синонимом «мудрости» и «представления» (γνώμη), связанного с глубинными движениями человеческого духа
[291]. Апологеты не углубляются в эти проблемы, но ясно сознают кризис «миметического» искусства и его духовную ограниченность. Художественная практика ранних христиан приступила к решению этой задачи значительно раньше теоретической мысли.
Лактанций, как указывалось, постоянно стремился (и обосновывал это теоретически) использовать красноречие для пропаганды христианских идей. Но, кроме применения античных форм словесного искусства, христианство выработало и свое отношение к искусству слова, и новое понимание его.
По глубокому убеждению апологетов, вся духовная сущность человека, все силы его души, весь его эмоциональный и художественный опыт должны быть направлены на постижение Бога, приближение к нему, общение с ним. Поэтому образцом и идеалом художественного творчества практически во всех видах искусства становится уже со времен ранних христиан молитва (ή εύχή, oratio) - речь, обращенная из глубины сердца к Богу. Молитва становится важным жанром христианского словесного творчества, строящимся по особым художественным законам. Она активно влияла на характер всех других видов раннехристианского и средневекового искусства, определяла особое, молитвенное настроение культового действа. Почти все виды христианского искусства возникли в связи с молитвой и должны были способствовать прямо или косвенно глубинному общению человека с Богом. Архитектура, музыка, песнопения, сама структура молитв. а в более поздний период декоративное убранство храма, живопись, световая и обонятельная атмосфера в храме - все эти эстетические средства были направлены на создание максимально благоприятных условий для молитвенного контакта человека с Богом. По мнению Климента Александрийского, истинный мудрец всю жизнь проводит в молитве, ибо только посредством ее (δι' εύχής) он достигает единения с Богом, высокого общения с ним (Str. VII, 40, 3).
Тертуллиан посвятил молитве специальный трактат, стремясь показать ее суть, значение и место в жизни христиан. Он отмечает, что молитва состоит из трех составляющих: слова, духа и мысли: «Из слова, поскольку она произносится; из духа, поскольку она столь действенна; из мысли (ех ratione), поскольку она [много] производит» (De orat. 1). Молитва как обращение человека к сверхчеловеческой сущности должна содержать в себе основополагающую информацию о человеческом бытии, нуждах и потребностях человека, это его зов о помощи в делах, плохо поддающихся управлению, в котором находит отражение духовная зрелость человека, его духовный опыт. Поэтому молитва должна быть немногословной, но многообъемлющей по смыслу, «ибо она включает не только свойственные молитве почитание Бога или просьбу человека, но почти все речения Господа, напоминание всей науки, так что действительно в молитве заключено сокращенно все Евангелие» (1), т. е. весь опыт практической жизни человека того времени. Молитва должна сопровождаться и соответствующим настроением: молиться необходимо «со смирением и уничижением», тихим голосом, ибо «Бог является слушателем не голоса, а сердца, как и его созерцателем» (17). Сердечность молитвы, смирение и сокрушенность молящегося - важные мотивы христианской культуры, вытекающие из раннехристианского гуманизма (см. начало главы). Одну чувственность (античную) христианство заменяет на другую, противоположную, утонченную, скорбную, но все-таки чувственность. Без слез сокрушения и умиления христианство не мыслимо, как не мыслима античность без криков восторга или негодования зрителей, заполняющих цирки и амфитеатры. Поэтому роскошь и блеск красоты внешних форм считались у ранних христиан предосудительными. Тертуллиан в трактате «О молитве» обращается к вопросу об одежде женщин, показывая неуместность их украшений, роскошных нарядов и демонстрации их естественной красоты в церкви при молитве. «Неужели своим блеском,- вопрошает он женщину,- ты располагаешь других ко благу?» - и призывает: «Пусть никто не удивляется твоей внешности, пусть никто не чувствует твоей ложной [красивости]» (mendacium tuum) (22). Не внешние красоты, но звучание псалмов и гимнов соответствует молитвенному настроению - в этом были глубоко убеждены все апологеты.
Еще только нащупывая основания для новой теории искусства в процессе острой критики античной художественной практики, апологеты вольно или невольно затронули и ряд общих проблем. Подводя итог их представлениям об искусстве, имеет смысл выделить наиболее важные из них, дающие в целом картину раннехристианского понимания искусства, легшего в основу средневековой эстетики.
Все апологеты согласны с тем, что искусства доставляют человеку удовольствие. Но это удовольствие может быть грубо чувственным, возбуждающим животные инстинкты. Апологеты начинают приходить к мысли, что для христиан полезнее другие искусства - вызывающие духовную радость. Лактанций отмечал, что люди занимаются искусствами (artes) ради трех целей: для получения удовольствия, ради прибыли и ради славы. Поэтому искусства, как и науки, не являются высшим благом. Их добиваются не ради их самих, но для какой-то иной цели (Div. inst. III, 8, 25), т. е. искусства с точки зрения чистой духовности всегда утилитарны. В этом Лактанций и видит главную пользу искусств. Они должны способствовать «более приятному» преподнесению истины, которая для христиан является абсолютной, высшей ценностью и освящается ореолом божественности. Истина выше каких бы то ни было искусств.
Искусства и науки, отмечал Арнобий, служат для благоустройства и улучшения жизни людей и появились на свет не так уж давно (Adv. nat. II, 69). Некоторые искусства служили в античности для украшения предметов обихода и самого человека, т. е. апологеты уже ясно сознают, что отдельные искусства, прежде всего прикладные, тесно связаны с красотой, являются ее носителем. К этому выводу они пришли, изучая опыт античной культуры, и поэтому негативно отнеслись к декоративно-прикладному искусству. Им представлялось, что красота, которую несло это творимое людьми искусство, стремилась соперничать с красотой природы, созданной Богом, и воспринималась ими как более низкая, слабая, недостойная и даже безобразная по сравнению с природной красотой. Для истории эстетики важно, однако, что апологеты начали осознавать связь красоты с искусством. И в этом смысле они подготовили почву для более глубоких выводов Августина.
Показав, что древность обожествила многих изобретателей искусств, Тертуллиан стремится доказать своим возможным языческим оппонентам несостоятельность этой акции. Он подмечает важную историческую закономерность художественной культуры. Все искусства, считает он, активно развиваются, и современные художники значительно искуснее древних. Поэтому они, пожалуй, более достойны обоготворения, чем их древние коллеги. «Считайте меня лжецом, если древность устарела (exoleuit) не во всех искусствах, так как ежедневно появляются везде новые [произведения]. И поэтому тех, кого вы обоготворяете за искусства, вы оскорбляете в самих искусствах и вызываете их [на состязание] с непобедимыми соперниками» (Ad nat. Π, 16), т. е. с современными художниками. К выводу о развитии и прогрессе в искусстве Тертуллиан пришел, как видно из его высказывания, на основе сравнения произведений древнего и современного ему античного искусства. К его времени, видимо, еще сохранялось большое количество предметов архаической культуры, что и позволило ему сделать этот важный для истории искусства вывод. Помимо своего содержания, он интересен еще с нескольких сторон. Во-первых, здесь убедительно показано, что апологеты не отрицали огульно достижения античной культуры, но внимательно изучали их и делали на этой основе часто интересные выводы. Во-вторых, из него видно, что историзм, присущий библейско-христианской культуре, уже с II-III вв. начал активно распространяться и на понимание художественной культуры и нередко противопоставлялся апологетами традиционализму. Древность, греко-римская прежде всего, во многом утрачивает ореол святости и предстает в глазах апологетов в свете истории, хотя еще и достаточно смутном и призрачном. Наконец, пафос созидания новой культуры и отрицания всего старого распространяется у Тертуллиана и на античные искусства. Новое и в языческом мире представляется ему более совершенным, чем старое.
На основе изучения античного искусства апологеты пришли к выводу, что в искусствах, и прежде всего изобразительных, активно используемых в культовых целях, нет ничего священного. Они созданы руками, умом и гением человека-художника, и поэтому художник достоин значительно больших почестей и похвалы, чем его произведения. Творение искусного мастера, отмечал Киприан (De hab. virg. 13), является оригинальным произведением художника. Никакой другой мастер не должен и не может исправить или улучшить работу своего коллеги, не исказив ее сути и красоты.
Все искусства, указывал Тертуллиан, возникли для удовлетворения многочисленных желаний и потребностей человека, и все они связаны друг с другом, находятся в том или ином родстве или взаимной зависимости. Нет ни одного свободного от других видов искусства (De idol. 8).
Апологеты активно выступали против отождествления произведений изобразительного искусства с действительностью, и прежде всего против иллюзионистической скульптуры поздней античности. Они чувствовали, что процесс этот опасен своей обратимостью. От принятия искусства за действительность (общение со статуей Венеры как с живой женщиной, к примеру) один шаг если не до превращения действительности в искусство, то хотя бы до включения в него отдельных ее элементов. И поздняя античность сделала этот шаг. При этом в искусство, как с негодованием отмечали апологеты, были включены непристойные, запретные или не поощряемые в реальной жизни общества явления типа истязания и убийства людей, реального «изображения» прелюбодеяний и т. п. Перенесение этих явлений в сферу искусства как бы выводило их из-под действия законов обыденной жизни и узаконивало в ином (художественном) пространстве, что отнюдь не мешало им возбуждать нездоровые инстинкты в зрителях и реально вело к падению нравов в обществе, унижению человека, обесцениванию его жизни. Поэтому апологеты и выступали активно против всяких зрелищ, против всей зрелищной эстетики позднеантичного общества.
Внимание апологетов к зрелищным искусствам позволило им подметить, что в основе их лежит не интеллектуальное, но эмоционально-аффективное восприятие и эффект сопереживания играет важнейшую роль в их восприятии.
Что касается поэзии и живописи, то здесь, считали апологеты, художники допускают большие вольности. Тертуллиан неодобрительно отзывался о «поэтическом и живописном произволе» (poetica et pictoria licentia), усматривая в нем ересь (Adv. Маrc. I, 3). Лактанций, напротив, оправдывал «поэтическую вольность» (poetica licentia), как характерную профессиональную черту поэтического искусства (Div. inst. Ι, 11, 23-24).
Общий предельно критический тон в отношении апологетов к античным искусствам являлся, как мы видели, во многом следствием их учения о человеке. Раннехристианский гуманизм, особенно II - нач. III в., в целом занимал крайне непримиримую позицию применительно ко всей гуманитарной культуре античности, включая и искусство. В этом его специфика и его слабость, которую начали осознавать уже Лактанций и греческие мыслители IV в., пытавшиеся как-то исправить положение. Более радикальные меры по объединению христианского гуманизма и гуманитарной культуры античности предпринимались затем уже в византийской культуре в периоды так называемых ренессансов, предельные всплески которых наблюдались в XIV-XV вв.
Таким образом, раннее христианство в комплексе своей всеохватывающей критики античной культуры сформировало ряд иногда противоречивых, но значимых для истории культуры и эстетики положений, заложив первые камни в основание средневекового понимания искусства.
Глава IV. НОВАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
1. Творение как творчество
Сотри случайные черты - И ты увидишь: мир прекрасен
[292].
А. Блок. ВозмездиеЭстетический принцип играл далеко не последнюю роль в становлении христианского мировоззрения. На то были свои существенные основания, среди которых можно назвать и кризис формально-логического, «диалектического» философствования в период эллинизма, и наследие античного панэстетизма, и религиозный, т. е. сознательно внеразумный, характер этого мировоззрения, и опыт неутилитарно-созерцательного восприятия мира, и новое понимание человека в его взаимоотношениях с миром, и, наконец, просто естественную человеческую любовь к окружающему миру. Древний библейский мотив творения Богом мира стал стержнем внерационального, и в частности эстетического, подхода к миру
[293]. Бог представлялся первым христианским мыслителям великим художником, созидающим мир как огромное произведение искусства по заранее намеченному плану. На этом главном постулате базировалась вся система эстетических представлений ранних христиан. Здесь же проходил водораздел между античной и средневековой эстетикой.
Обратимся к полемике, которую вел Тертуллиан с гностиком Гермогеном по поводу творения мира. Тертуллиан отстаивал тезис творения мира из ничего против гермогеновского утверждения о творении из предвечной материи. Для нас особый интерес представляет. как понимали процесс творения обе стороны.
Тертуллиан указывает, что учение Гермогена отличается как от пророческих текстов, так и от теории стоиков, полагавших, что Бог создал мир из предвечной материи, пройдя сквозь нее как мед сквозь соты. Гермоген считал, что Бог сотворил мир путем «явления и приближения к материи», точно так же, как магнит на расстоянии воздействует на предметы (Adv. Herm. 44). Тертуллиан, утверждая, что Бог творил мир из ничего, уподобляет процесс божественного творчества работе писателя, которому «непременно так следует приступать к описанию: сначала сделать вступление, затем излагать [события]; сначала назвать [предмет], потом - описать» (26). Бог вершил творение мира в том же порядке: «сначала он создал мир как бы из необработанных элементов, а потом занялся изукрашиванием (exornatis velut) их. Ибо и свет Бог не сразу наполнил блеском солнца, и тьму не тотчас умерил приятным лунным светом, и небо не сразу же отметил (signavit) созвездиями и планетами» (29). Бог работал как настоящий художник, притом красота законченного произведения возникла не сразу, но постепенно в процессе творчества. В том же, что мир прекрасен, христиан убеждают и греки, «ибо украшением (ornamenti) именуется у греков мир» (40)
[294]. Тертуллиан, таким образом, дает чисто эстетическую картину творения.
Идея уподобления Бога художнику, конечно, не была оригинальным изобретением христиан. Она принадлежит всей духовной атмосфере поздней античности, и установить ее изобретателя вряд ли возможно. Лактанций считал, что и Цицерон придерживался этого мнения (Div. inst. II, 8, 11), однако, если говорить строго, для Цицерона более характерна стоическая мысль о
природе-художнице, создавшей мир как произведение искусства, о природе, идентичной с «разумом мира» и «провидением»: «На этом основании,- писал он,- вся природа - художественна (artificiosa), потому что она как бы имеет некоторый путь и правило (sectam), которому и следует. В отношении же самого мира, заключающего и обнимающего все своим охватом, она получает название у того же Зенона не только художественной, но прямо художницы (artifex), попечительницы и промыслительницы всяких полезных благ» (De nat. deor. II, 58)
[295].
В свете своей мировоззренческой системы христиане значительно переосмыслили идеи своих языческих противников и их предшественников, поставив концепцию божественного творения в основу своей идеологии. Однако и они не сразу утвердились в идее «творения из ничего». У Юстина и Афинагора Бог выступает художником мира еще почти в стоическом плане. Он упорядочивает и украшает предвечно существующую материю
[296]. Только Татиан и Феофил на Востоке, а Тертуллиан на Западе сознательно поднимают вопрос об особом божественном творчестве - «из ничего».
Художественное творчество Бога служило апологетам важным аргументом и в деле защиты материи и материального мира от нападок «спиритуалистов» и дуалистов, и для доказательства бытия Бога, и для обоснования реальности самого бытия.
Как можно порицать материю и материальный мир, если их создал и украсил Бог? При этом, как следует из приведенной мысли Лактанция, Бог создал мир специально для человека. Но и самого человека он творил как произведение (притом главное!) искусства в единстве и красоте его души и тела. Акт творения у христианских мыслителей, в отличие от стоической, цицероновской, гермогеновской и им подобных теорий, является не только актом преобразования бесформенной материи в устроенный космос, но предстает таинством создания самого бытия из небытия. Отсюда красота и устроенность мира становятся главным доказательством его бытийственности, как и истинности его Творца.
Апологеты делали первые шаги в осмыслении и осознании этих жизненно важных для всей средневековой культуры проблем, закладывали ее прочные основания, и основания эти имели прежде всего эстетическую окраску.
Ранняя античная эстетика, как показал А. Ф. Лосев, много внимания уделяла красоте хорошо сделанной вещи. «Прекраснее всего для Гомера...
сделанная вещь, не люди, не боги, не мир, не душа человека, не его поведение, не общество, не история, но
хорошо сделанная физическая вещь»[297]. Начиная с Платона эстетику активно интересует идеальная красота и сама «идея» красоты. В классическом античном искусстве главное место занимает идеальная красота человеческого тела.
Библейская идея творения Богом мира из ничего как бы заново открыла перед греко-римской культурой красоту реального мира, представила ее в новом модусе. Не лишним поэтому будет вспомнить некоторые основополагающие библейские идеи, способствовавшие развитию эстетического понимания мира христианством.
Прежде всего это знаменитая, многократно повторенная оценка творения самим Творцом в первой книге Бытия по тексту Септуагинты: «И увидел Бог, что [это] прекрасно» (Gen. 1, 8; 10; 12; 18; 21; 25). или; «и увидел Бог все, что он создал, и вот [это] прекрасно очень» (Gen. 1, 31). Это «прекрасно» (καλόν) только в Септуагинте имеет, как справедливо отметил В. Татаркевич
[298], эстетическую окраску. И «tob» древнееврейского оригинала, и «bonum» Вульгаты больше соответствуют тому, что в старославянском переводе было передано как «добро» (или «добра зело»), т. е. положительную оценку в самом широком смысле слова. Греческое καλόν имеет тот же широкий спектр значений, но в нем - и чисто эстетический смысл. Именно его и развивали раннехристианские мыслители. «Так или иначе,- писал В. Татаркевич, - умышленно или нет, передавая библейскую мысль о том, что мир удался, термином καλός, переводчики Септуагинты внесли в Библию греческую мысль о красоте мира. Если это и не являлось замыслом их перевода, то оказалось его следствием»
[299]. В этом же смысле καλός употребляется и в других местах Септуагинты: «ибо, обращаясь к делам его, они исследуют и убеждаются зрением, что [все] видимое прекрасно» (καλά) (Sap. 13, 7); «все сотворил он прекрасным в свое время» (Eccl. 3, 11) и т. п. Восхвалению красоты мира посвящена 43-я глава Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова, имеющейся только в Септуагинте.
Далее, Премудрость Божия была главной и непосредственной художницей мира, приводившей его в согласие и созвучие, гармонизировавшей (άρμόζουσα) мир (Prou 8, 27-30). Важно, что именно София участвовала в «украшении» мира. Момент софийности красоты и искусства займет важное место в средневековой грекоязычной, а позже и в старославянской эстетике. Именно мудрое творение мира привело к его красоте, и «мудрая красота» приобретет статус «истинной красоты» в средневековой культуре.
Следующий важный момент эстетики Септуагинты состоит в том, что в ней узаконен платоновско-пифагорейский мотив. Библейский Бог «гармонизовал» мир по законам греческой космологии: «все устроил ты по мере, числу и весу» (Sap. 11, 20)
[300]. Это одно из главных положений греческой эстетики, узаконенное текстом Писания, и для христиан оно сыграет важную и до удивления большую роль в средневековой эстетике
[301] начиная с Аврелия Августина.
Красота мира, утверждает Септуагинта, важна не сама по себе. Своим бытием она указывает на своего Творца - Художника мира, который из нее и познается: «ибо из величия и красоты творения соответственно познается (созерцается) творец бытия» (Sap. 13, 5)
[302]. В этой краткой формуле заключена почти вся средневековая эстетика с ее важными категориями и понятиями: «красота» и «величие» мира, созерцательное познание через «аналогию». В гносеологическом плане эти идеи продолжает и Послание к Римлянам, где утверждается, что «невидимое его от творения мира разумом постигается в творениях» (Rom. 1, 20). На эти библейские идеи и опирались апологеты.
Как уже указывалось, первые защитники христианства не все и не сразу поняли и приняли идею «творения из ничего». Повод для этого они, видимо, находили в самой Библии. Так, в Книге Премудрости Соломона мы можем встретить чисто греческую философскую формулу творения мира из «аморфной» материи. Здесь рука Бога называется «сотворившей мир из безобразной материи» (Sap. 11, 17). Эту же фразу - έξ άμόρφου ύλης - повторяет и Юстин (Apol. I, 10), стремившийся даже доказать, что Платон заимствовал представление о творении мира из безобразного вещества у «пророков», и приводит в подтверждение слова из Gen. 1, 1-3 (I, 59), откуда, строго говоря, этот вывод не следует. Но философ Юстин находился еще под сильным влиянием античной философии и, как и Филон Александрийский, часто усматривал отдельные положения греческой философии там, где их принципиально не могло быть. Значительно легче воспринял идею творения из ничего сириец Татиан, менее отягощенный традициями греческой философии. Он прямо пишет: «Материя (ή ύλη) не безначальна, как Бог, и как имеющая начало не равносильна с Богом; она произошла и не от кого-либо иного, а произведена единым Творцом всего» (Adv. gr. 5). Именно в «творении из ничего» видит Феофил Антиохийский особое доказательство могущества Бога (Ad Aut. Π, 13). Он с восхищением говорит о «разнообразной красоте» (II, 14) мира: «Рассмотри, о человек, дела его, регулярные смены времен года и движение ветров, упорядоченный бег звезд, правильное следование дней и ночей, месяцев и годов, разнообразную красоту семян, растений и плодов, различные виды четвероногих животных, птиц, гадов и рыб, речных и морских... течение красивых потоков и неиссякающих рек, периодическое выпадение росы и дождей, разнообразное движение тел, восход утренней звезды, предвестницы главного светила» и т. п. Все это - дела божественного Художника (I, 6), и Феофил не устает любоваться ими.
Гимн красоте творения воспевает и Ипполит Римский: «Прекрасно, и слишком прекрасно (καλά, καί καλά λίαν) все то, что сотворил Бог и Спаситель наш, что видит глаз и о чем размышляет душа, что постигает разум и к чему прикасается рука, что обнимается мыслью и объемлется человеческим существом. Действительно, что [может быть] многообразнее красоты (κάλλος) небесного свода? Что - многоцветнее вида (είδος) земной поверхности? Что [может быть] быстрее движения солнечного [света]? Что может сравниться с приятностью лунного блеска? Что может быть удивительнее многосложной стройности светил? Что окажется плодотворнее своевременных ветров для произрастания плодов? Что может быть чище дневного света? Какое животное может быть совершеннее человека? Все, сотворенное Богом и Спасителем нашим, весьма прекрасно» (Serm. in theoph. 1). Здесь библейская идея творения приобрела совершенно эстетическую окраску.
В эстетическом смысле понимал творение мира и Ириней Лионский
[303]. Одним из первых в христианской эстетике он увлекся приведенным выше пифагорейско-платоническим мотивом Книги Премудрости (Sap. 11, 20) и активно развивал его на христианской почве.
Бог творил мир с помощью своего «художественного» Логоса в соответствии с мерой, числом (ритмом), порядком, гармонией (Contr. haer. Π, 26, 3). В своем творчестве он не нуждался ни в «эманациях», ни в «излучениях», ни в платоновском «мире идей». Он творил из самого себя по созданному внутри себя образу мира
[304]. «В благоритмии, размеренности и слаженности» мира (что в латинском тексте было передано как eyrythma, apta et consonantia) видит Ириней великую мудрость Творца (IV, 38, 3) и в духе пифагорейской эстетики представляет гармонию всех разнообразных и противоречивых элементов мира подобной гармоническому звуковому ряду музыкального инструмента: «Как бы ни были разнообразны и многочисленны сотворенные вещи, они находятся в стройной связи и согласии со всем мирозданием; но, рассматриваемые каждая в отдельности, они взаимно противоположны и несогласны (contraria et non convenientia); так звучание кифары, состоящее из многих противоположных друг другу звуков, складывается благодаря [определенным] интервалам между ними в одну согласную мелодию. Поэтому любящий истину не должен обманываться интервалами между звуками и полагать, что один звук принадлежит одному художнику и творцу, а другой - другому; или что один устроил высокие тона, другой - низкие, а третий - средние; но [должен признать] только одного [устроителя] как доказательство мудрости, справедливости, благости и украшенности всего произведения. И те, которые слышат мелодию, должны хвалить и славить Художника...» (II, 25, 2). Эти идеи будут активно развиты многими представителями средневековой эстетической мысли
[305].
Много внимания уделял красоте творения Афинагор. Бог сотворил вселенную своим Словом, и Афинагор не устает восхищаться «благочинием, всепронизывающим согласием, величием, цветом, образом (формой), стройностью мира» (Leg. 4)
[306]. Сам процесс творения представляется ему художественным актом. «Создать», «сотворить» означает в его, как и других апологетов, лексиконе «украсить» (κοσμέω), и обратно (13). Идеи космического творчества и космического Художника занимают важное место во взглядах апологетов, по-новому ориентируя их эстетику. «Прекрасен мир, - писал Афинагор,- и величием небосвода, и расположением [звезд] в наклонном круге [Зодиака] и у севера, и сферической формой. Но не ему, а его Художнику (τον τεχνίτην) следует поклоняться». Как глина без помощи искусства, так и материя без Бога-Художника не получила бы ни разнообразия, ни формы, ни красоты. Поэтому за искусство следует хвалить художника. Если мир «есть орган благозвучный и стройный», то я поклоняюсь не инструменту, но тому, кто настроил его (τόν άρμοσάμενον) и извлекает из него благозвучную мелодию. Итак, красота творения (произведения) должна ориентировать, устремлять человека к его творцу (художнику), приобщать зрителя к миру художника. «Если (как говорит Платон) [мир] есть искусство (τέχνη) Бога, то,
удивляясь его красоте, я приобщаюсь к Художнику», - утверждает важную для всей средневековой эстетики мысль Афинагор (15 - 16). Эмоционально-эстетический момент «удивления красоте» (θαυμάζων τό κάλλος) как результат эстетического опыта воспринимался апологетами и их последователями как акт приобщения к космическому Творцу. Эстетическое чувство, таким образом, осмыслялось как один из путей непонятийного постижения Бога.
Художественное творчество, художник, искусство - эти понятия занимают важное место в качестве образных выражений во всей философии апологетов, что само по себе значит уже не мало, ибо указывает на особый интерес ранних христиан к сфере творчества. Много таких образов находим мы у Иринея Лионского. Так, он сравнивает душу человека с художником, а его тело - с инструментом. Взаимодействие их друг с другом подобно творческому акту. Как Художник быстро создает идею произведения, но медленно реализует ее из-за неподатливости материала и медлительности инструмента, так и душа медленно управляет телом из-за его инертности (Adv. haer. II, 33, 4). Сама же душа человека является материалом в руках божественного Художника, постоянно улучшающего свое главное творение. Ириней призывает человека не противиться деятельности Творца, быть податливым материалом в его руках: «Предоставь же ему твое сердце, мягкое и покорное, и соблюдай образ (figuram), который дал тебе Художник (artifex), имея в себе влажность, чтобы, огрубев, не утратить тебе следов его пальцев. Сохраняя свой состав, ты достигнешь совершенства, ибо художество (artificio) Божие скроет глину, находящуюся в тебе. Его рука образовала твое существо; она обложит тебя изнутри и снаружи чистым золотом и серебром и украсит тебя так, что возжелает царь красоты твоей (Ps. 44, 12)» (IV, 39, 2), Красота и украшения, о которых идет здесь речь, суть явления морально-нравственного порядка. Отсюда вся деятельность по нравственно-практическому совершенствованию человека (а она стояла в центре всей христианской теории культуры) воспринималась христианскими мыслителями как художественное творчество, результатом которого должен был явиться особый «образ» (о нем речь будет ниже), «прекрасное» произведение искусства - совершенный в нравственном отношении человек.
Собственно человек был замыслен и создан Творцом, по христианской теории, вершиной и венцом видимого мира. В богослужении апостольского времени он именуется κόσμου κόσμος
[307], т. е. «украшение мира», или «мир красоты», или «украшение красоты» (здесь трудно передаваемая игра значений слова κόσμος - «мир» и «красота»). Утратив с грехопадением эту красоту, человек должен вернуть ее себе. Он должен опять стать «красотой мира», и весь пафос раннехристианской культуры направлен на реализацию этой благородной, хотя и трудно осуществимой цели.
В вопросе творения и красоты мира латинские апологеты не отставали от своих греческих коллег.
Тертуллиан восхищается красотой природы, которая меняется со сменой дня и ночи, времен года, лунных фаз и т. п. (De carn. resur. 12): дивится постоянно меняющейся роскошной окраске павлина (De pal. 3).
Порядок и соразмерное устройство космоса, правильность, красота и целесообразность в природе служат, по мнению Минуция Феликса, главным доказательством существования «высшего Творца и совершенного разума», управляющего миром (Octav. 17, 6-10). «Особенно же, - отмечает он, - сама красота (pulchritudo) нашего образа указывает на Бога-Художника: вертикальное положение тела, устремленный вверх взгляд, глаза, помещенные высоко как бы на дозорной башне, и все прочие чувства, расположенные как бы в укреплении» (17, 11). Вообще, продолжает Минуций, «в человеке нет ни одного члена, который не служил бы какой-либо нужде и украшению (decoris)» (18, Ι). Лактанций никак не соглашается с мнением античных философов-атомистов, что столь величественный, прекрасный, соразмерный и упорядоченный космос мог возникнуть благодаря простому сцеплению атомов. Без великого, весьма искусного Художника, утверждал он, здесь не могло обойтись (De ira Dei 10, 51). Более того, единство и целостность бесчисленного количества прекрасных, но различных предметов в структуре мироздания, полная соразмерность и гармония всех частей мира служат у Лактанция неоспоримым доказательством наличия единого Творца мира. Он убежден, что при нескольких творцах нельзя было бы добиться такого совершенства и гармонии (Div. inst. I, 3, 11-24).
Киприан свое послание к Донату начинает с описания умиротворительного воздействия на человека зрелища ранней осени, когда «успокоенным чувствам, освеженным ласковым ветерком чарующей осени, соответствует вид прелестной местности». Он приглашает собеседника удалиться в укромный уголок сада, «где вьющиеся виноградные ветви, сплетаясь и нависая, спустились с тростниковых опор и образовали виноградную галерею, покрытую листвой. Здесь можем мы удобно предаться беседе; а пока мы будем услаждать взоры приятным видом деревьев и виноградных лоз, дух [наш] одновременно приобретет пользу от слуха и удовольствие от зрения» (Ad Donat. l).
Ранние христиане хорошо чувствовали, что наслаждение, получаемое от созерцания красоты природных пейзажей,- наслаждение духовное, активно способствующее мыслительной, созерцательной, вообще любой духовной деятельности человека. Не случайно после официального признания христианства религией Империи многие подвижники новой веры в поисках высокой духовной жизни бежали из городов, от суеты мирских дел в «пустыню» - на лоно природы; не случайно и большинство христианских монастырей, скитов, келий сооружались в красивейших уголках природы.
Христианская культура, во многом абсолютизировавшая духовный мир человека, тонко чувствовала и высоко ценила красоту природы и ее значение для развития духовных способностей человека. Поэтому апологеты и противопоставляли римским зрелищным искусствам, возбуждающим грубую чувственность, «лучшие зрелища» (spectacula meliora), доступные нашему зрению и достойные удивления,- «красоту мира» (mundi pulchritudinem). Пусть человек, стремящийся к зрелищным удовольствиям, созерцает восход и заход солнца, смотрит на диск луны, то возрастающий, то убывающий, на сонмы звезд, сверкающих в небе; пусть созерцает он смену времен года и лицо земли, увенчанное горами, реками, морями, населенное птицами, рыбами, животными и людьми. «Какой театр, построенный человеческими руками, может сравниться с этими делами? Пусть он будет построен из огромных каменных глыб, но горные хребты выше [его]; пусть филенчатые потолки [его] сияют золотом, но блеск звезд [их] превосходит. [Так], никогда не будет удивляться делам человеческим тот, кто признает себя сыном Божиим» (Ps.-Cypr. De spect. 9). Увлечению позднеантичной культуры делами рук человеческих раннее христианство противопоставляло искусство божественного Художника, красоте античного искусства - красоту природы. «Если ты,- писал Лактанций, - рассмотришь мир со всем, что в нем есть, то действительно поймешь, что произведение (opus) Бога превосходит произведения человеческие» (Div. inst. VII, 2, 5). Арнобий был глубоко убежден, что верховный Творец создает только совершенные творения, только то, что полно, и безупречно, и закончено (finitum) в совершенстве своей [полноты] и безукоризненности (integritatis)» (Adv. nat. II, 48). Таким творением, по глубокому убеждению апологетов, и являлся весь мир, а в нем - человек.
Главным структурным принципом красоты мира, по мнению апологетов, выступает некая целостность, единство бесконечного разнообразия предметов, находящихся в постоянных изменениях и противоречиях по отношению друг к другу. Изменчивость мира производит противоречивость его элементов, а гармоническое единство их в целом и являет собой удивительную красоту мира. «Противоположное в единстве (diversa in unum), - писал Тертуллиан, - ибо из изменений происходит противоположное. Именно перемены производят несогласие противоположностей. Так, изменяясь, [объединяет] все [в себе] мир, воплощая противоположности и умеряя перемены» (De pal.2). Диалектическое единство изменяющегося многообразия мира служит апологетам одним из важных аргументов в признании и почитании красоты мира.
Материальный мир состоит из множества предметов, которые отличаются друг от друга, по мнению Татиана, степенью красоты: «один прекраснее другого, а тот прекрасен сам по себе, но уступает первому как более прекрасному» (Adv. gr. 12). Эти различные по красоте предметы, как и члены человеческого тела, в целом составляют строгую гармонию. Что же не нравится апологетам в этом «прекрасном» мире, почему так настороженно относятся к нему христиане? И здесь эстетика, пожалуй, впервые на своем историческом пути превращается в идеологическое оружие, хотя и пассивное, борьбы против социальной и политической несправедливости. «Прекрасно устроен мир, - заявляет Татиан, - но дурно в нем политическое устройство» (πολίτευμα), допускающее осыпать похвалами и рукоплесканиями безнравственных и не знающих истины и подвергать страданиям и казням добродетельных и знающих (19). Апологеты II в. поднимают свой голос в защиту элементарных прав человека (даже инакомыслящего) - права на жизнь. Однако здесь эстетика уже спускается из заоблачных высей на землю, поэтому самое время сделать некоторые выводы.
Итак, подводя предварительный итог раннехристианской эстетике космического творчества, следует отметить, что она, во-первых, в своих космических интуициях имела реальным прообразом творчество земного художника, не возведенного еще до уровня демиурга, но вызывавшего своими произведениями удивление и благоговение перед непостижимым актом творчества.
Во-вторых, установив ясное ценностное отношение между космическим Творцом и его творением, эта эстетика перенесла его и в сферу земного творчества. Как мы видели в предшествующей главе, апологеты призывали значительно выше ценить художника-человека, чем творения рук его.
В-третьих, эстетика космического творчества выдвинула на первое место в творческом акте создание красоты. Произведение божественного Художника прежде всего прекрасно. Не для пользы, но красоты ради творит демиург, а ведь земной художник во многом подражает ему, правда, имея перед собой в отличие от него, как правило, утилитарную цель. Тем не менее красота и произведение художника в эстетике апологетов стоят в тесной связи.
В-четвертых, понимание человека как произведения искусства, поврежденного в результате грехопадения, связывает сферу духовно-нравственного совершенствования с эстетикой, призванной содействовать исправлению и доведению до идеала этого живого произведения божественного Художника.
Наконец, в-пятых, сравнение человеческого общества с космическим универсумом, где все организовано по законам меры, красоты и согласия всех составляющих его элементов, позволяет апологетам еще прочнее утвердиться в выводе о несовершенстве человеческого общества, основанного на несправедливых законах, и заставляет их осудить его, как несовершенное творение человека.
2. Прекрасное
В мире человеческого «бывания» эстетические идеалы апологетов наиболее отчетливо проявились в их отношении к внешней и внутренней красоте человека прежде всего.
Продолжая лучшие традиции античных философов, в первую очередь стоиков, раннехристианские мыслители активно выступали против эстетических норм римского общества, в частности против культа внешней красивости и особенно против дорогостоящих украшений и чрезмерной роскоши, в которой утопала римская знать, олицетворявшая собой «политическое устройство» общества со всеми его несправедливостями. Под внешней красивостью и роскошью скрываются зло и низменные пороки, поэтому следует всячески избегать их. Об этом подробно рассуждает Юстин в своей Второй апологии. Он вспоминает известный еще по Ксенофонту рассказ (Memorab. II, 1, 21 - 33) о том, как Геракл встретил добродетель и порок в образах женщин. Аллегория порока была в роскошном убранстве, очаровательна и соблазнительна. Она обещает и Гераклу подобные блага. А добродетель, с простым лицом и в грубой одежде, говорит о совершенно ином: «но если последуешь за мной, неукрашенной, то украсишься не скоропреходящей и тленной красотой, но украшениями вечными и прекрасными» (Apol. II, 11)
[308]. Вот эти «украшения» и привлекают христиан, ибо они «уверены, что всякий, избегающий мнимой красоты (τά δοκοΰντα καλά - «того, что кажется красивым») и стремящийся к тому, что считается трудным и парадоксальным (άλογα), получает блаженство» (II, 11).
По мнению Юстина, именно красота внешних форм изначально принадлежала добродетели и отражала ее сущность, но порок для прикрытия своих действий стремится укрыться под формой, которая ему не присуща. Поэтому добродетель, чтобы не иметь с пороком ничего общего, отказывается от внешней красивости. Порок же всячески старается усиливать эту форму маскировки (II, 11).
Однако апологеты даже II в. не отрицали естественной красоты. Напротив, в естественной красоте человека и природы они обретали если не новый, то по-новому осмысленный эстетический идеал древности. С возмущением выступали они против блудников и педерастов, оскорбляющих и бесчестящих «священнейшие и прекраснейшие тела» девушек и юношей (Athen. Leg. 34). Всячески осуждалось ими стремление людей украшать свои тела с помощью роскошных одежд, драгоценных украшений, косметики, ибо это, с одной стороны, ведет к возбуждению излишних страстей, а с другой - к умалению, а порой и искажению естественной красоты тела и лица. Изощренность же художников-костюмеров, ювелиров, создателей разного рода украшений достигла в этот период своих предельных высот
[309]. Знатные девы и матроны, а также женщины легкого поведения поражали свет все новыми и новыми баснословно дорогими образцами позднеантичной моды. Римские красавицы старались превзойти друг друга то немыслимыми париками, то удивительной раскраской лица, то необычными тканями, то обилием драгоценных камней и золотых украшений. Многие состоятельные женщины II - III вв., и приняв христианство, не могли расстаться со своими привычками. Они и в храм приходили, как в цирк или в театр, ослепляя окружающих блеском своих украшений. Часто, отмечает с неодобрением Тертуллиан, в ушах, на голове или пальцах некоторых честолюбивых женщин можно было видеть богатства, равные стоимости целых лесов и островов, многих мешков золота (De cult. fem. I, 9). Конечно, все это было чуждо строгим нормам и представлениям ранних христиан, чей Бог в простом рубище проповедовал идеалы скромности, простоты, бедности и целомудрия.
В защиту этих идеалов и выступили апологеты, обращаясь к своим сестрам по вере. По их мнению, изобретателями всех наук и искусств, особенно связанных с изготовлением предметов роскоши, были ангелы, прельстившиеся красотой земных женщин и отпавшие ради них от Бога (Быт 4, 2). А люди - их потомки направили свои усилия на то, чтобы снабдить своих жен всем многочисленным арсеналом украшений. От этих «распутников и соблазнителей», считает Тертуллиан, происходит и блеск бриллиантовых ожерелий, и золото браслетов, и приятное разнообразие цветов бесчисленных тканей - одним словом, все то, чем женщины пользуются для украшения и сокрытия своего лица и тела (De cult. fem. I, 2). Так что уже само происхождение этого рода искусств и украшений представлялось апологетам малопочетным. В подходе к украшениям ранние христиане отбрасывают традиционные эстетические критерии, присущие как древнему Востоку, так и греко-римскому миру, основу которых составляла почти магическая красота драгоценных камней и благородных металлов. Чтобы лишить их эстетической привлекательности, Тертуллиан призывает посмотреть на них с чисто бытовых, сугубо утилитарных позиций. Железо и медь как металлы значительно полезнее для человека, чем золото и серебро, а следовательно, и ценнее, пытается убедить он своих читателей. Действительно, никто из любителей этих металлов не может указать, что полезного и нужного для человека было изготовлено из них. Никогда золотыми орудиями не обрабатывали землю, и никто еще не строил кораблей из серебра; никогда золотой меч не защитил ничьей жизни и серебряные стены не служили укрытием ни от неприятеля, ни от непогоды. То же самое можно сказать и о драгоценных камнях. Никто еще не осмелился применить их в строительстве; искусно обработанные, отполированные и оправленные в золото, они служат разве что для удовлетворения женского тщеславия (I, 5 - 6).
Однако не утилитарная бесполезность украшений и драгоценностей, конечно, смущала христианских теоретиков, но именно их эстетическая значимость, которую они всячески стремились принизить (только средневековое христианство сумеет найти применение ей в структуре своего культа). Здесь мы вплотную подходим к сложным и противоречивым представлениям античных христиан о красоте и прекрасном.
Драгоценности и украшения, вынужден признать Тертуллиан, усиливают красоту и привлекательность женщины, ее чувственную красоту, которая возбуждает страсть в мужчинах, влечет их к запретным удовольствиям и тем самым губит для жизни вечной. Именно поэтому ради спасения и себя, и «своих братьев» призывает Тертуллиан женщин отказаться от украшений и даже к сокрытию и умалению своей природной красоты: «Итак, если причина и нашего и других [падения] заключается во влечении к опаснейшей красоте (decoris), то вам необходимо не только отказаться от нагромождения [на себя] придуманной и неестественной красоты (pulchritudinis), но даже следует сглаживать вашу природную миловидность (speciositatis) путем сокрытия и небрежного отношения [к ней]...» Однако здесь же, как бы спохватившись, что и красота - дар Божий, Тертуллиан добавляет: «Хотя, конечно, порицать красоту (decor) не следует, ибо она [свидетельствует] о телесном благополучии, является плодом божественного ваяния и в некотором смысле изящным одеянием души» (II, 2). Этот антитезис нужен ему только для того, чтобы вернуться к первоначальному тезису. Даже если красота и не была бы опасной, рассуждает Тертуллиан, она не несет никакой пользы христианам. «Там, где [царит] целомудрие, красоте (pulchritudo) делать нечего, ибо польза (usus) не имеет ничего общего с роскошными плодами красоты, если речь идет о телесной красоте» (decori) (II, 3). «Если [в человеке] и есть что-либо достойное восхваления, то нам должны нравиться только духовные блага, а не телесные, ибо мы являемся приверженцами духовного (spiritualium)» (II, 3).
В этом смысл и пафос борьбы апологетов против чувственной красоты, против всяческих прикрас и украшений. Да, они хорошо понимают, что телесная красота может быть очень привлекательной, но, осознав себя «приверженцами духовного» (spiritualium sectatores sumus), они последовательно отстаивают свою позицию, стараясь отказаться от всего, что как-либо может ущемить их духовность. Вспомним сразу, что эта «духовность» с первых же своих шагов активно встала на защиту тела, плоти от слишком уж резвых «спиритуалистов» как вне, так и внутри христианства. Тогда у нас не будут вызывать недоумения постоянные колебания апологетов от осуждения к защите телесной красоты, и обратно. Именно в этих колебаниях «за» и «против» и проходил болезненный процесс выработки новых эстетических идеалов. Даже неверующие, напоминает Тертуллиан, подозрительно относятся к красоте. «Для кого же,- обращается он к женщине своего времени, - лелеешь ты красоту свою? Если для верующего, ему она не требуется; если для язычника, он ей не доверяет» (II, 4).
Останавливаясь на косметических хитростях, модных прическах, париках, шиньонах и т. п. украшениях, которые были очень популярны у женщин того времени, Тертуллиан стремится показать, что все эти ухищрения напрасны, ибо нет ничего прекраснее нагого человеческого тела - выдающегося творения божественного Художника. Тщетны, полагает он, и бессмысленны эти попытки, ибо «прекрасным они считают то, что безобразно (inquinant)» (II, 6).
Но не только женщинам достается от Тертуллиана. В римском обществе, оказывается, и многие мужчины пытаются не отстать от представительниц прекрасного пола. Стремясь им понравиться, как утверждает наш бескомпромиссный борец за высокую духовность (об этом же писал и Климент), мужчины тщательно бреются, выщипывают подбородок, завиваются, украшают голову, стремясь скрыть седые волосы, придают телу юношеский вид, разглаживая кожу особыми порошками, румянятся, подобно женщинам, и постоянно смотрятся в зеркало, хотя оно и не может скрыть их недостатков, ехидничает Тертуллиан. Однако римское общество уже давно живет только поддельной, искусственной красотой, забыв, что у человека есть своя естественная красота. Все естественное, без украшений и косметики, считается в этом обществе неприятным, недостойным внимания. Тертуллиан не может согласиться с мнением сторонников украшений, что последние восполняют недостатки естественных форм. Он убежден, что блеск роскоши и покров украшений затемняют красоту целомудрия и позорят общество граций (II, 9). Тертуллиан требует от христиан, чтобы их внешний облик соответствовал духу их убеждений, нравственным нормам. Христианину недостаточно быть целомудренным, ему надо и выглядеть таким. Чистота и простота христианской женщины должны быть так велики, чтобы изобилие их распространялось из ее сердца и на ее внешний вид, одежду. Но не только идеалы целомудрия и скромности побуждали ранних христиан к аскетическому отказу от роскоши, излишеств, украшений. Сама суровая действительность, постоянная готовность принять подвиг мученической смерти за свои идеалы умаляли для них значение внешнего благополучия, в том числе и красоты, обращали их к жизни скорее суровой, чем изобилующей роскошью. Само социальное положение первых христиан во многом определяло и их эстетические идеалы. «Я не знаю,- писал Тертуллиан,- выдержат ли руки, привыкшие к браслетам, тяжесть оков; не знаю, вытерпят ли ноги после перисцелий боль от веревок. Опасаюсь, как бы шея, отягощенная изумрудами и бриллиантами, не отступила бы перед мечом. А потому, дорогие мои, будем привыкать к трудностям, и мы не ощутим их [при случае]» (II, 13). А случай этот не заставит себя ждать, ибо для христиан, подчеркивает Тертуллиан, настал век не золотой, но железный. Поэтому лучшим украшением для женщин должны быть простота и целомудрие, «слово Божие» и «иго Христово», смирение и трудолюбие (II, 13).
Раннехристианская эстетика ставила ценности духовные и нравственные выше собственно эстетических и стремилась даже заменить ими эстетические, ибо в римском обществе того времени существовала достаточно ощутимая обратная тенденция. Красота культового действа или речи часто вытесняла и религиозную значимость культа, и само содержание речи. Это хорошо видели апологеты, сознательно выступая против подобного эстетизма. Лактанций упрекал своих языческих современников в том, что эстетические интересы вытеснили у них всякое благочестие. «Людьми,- сетует он,- владеет такая страсть к изображениям, что они даже ниже ценят тех, кто действительно существует», т. е. тех, кто изображен. Их влечет только вид слоновой кости, жемчуга, золота. Они ослеплены красотой этих вещей и без них не представляют себе благочестия. «Они приходят к богам (т. е. в храм. -
В. Б.),
- негодует Лактанций, - не ради благочестия, ибо его не может быть в предметах земных и бренных, но чтобы впитывать глазами [блеск] золота, взирать на красоту полированных мраморов и слоновой кости, ненасытно ласкать глаз видом необычных камней и цветов одежд и созерцанием украшенных сверкающими самоцветами чаш. И чем более будет украшен храм, чем прекраснее будут изображения [в нем], тем, полагают они, больше в нем будет святости; следовательно, религия их состоит не в чем ином, как в восхищении человеческими влечениями (удовольствиями)» (Div. inst. Π, 6, 2 - 6). Средневековому христианину, особенно византийцу, привыкшему к пышному культовому действу с обилием и изображений, и особенно богатейших мраморов, драгоценных камней, сосудов и утвари из золота и серебра, будет не совсем понятен этот ригоризм и антиэстетизм апологетов. Но христианству необходимо было на первом этапе отказаться от античного культового эстетизма, чтобы затем, наполнив все его компоненты новыми значениями, осознать их уже как свои собственные и обосновать их необходимость. Чтобы прийти к средневековому, пожалуй, более глубокому, чем античный, эстетизму, новой культуре пришлось пройти своеобразное «очищение», отказаться, по возможности, от всех созданных до нее эстетических (художественных) ценностей, вернуться назад к «эстетике природы»
[310], создать на базе платонизма и профетизма «эстетику духа» и только затем, на новом уровне, реабилитировать «эстетику художественной деятельности», наполнив ее новым духовным содержанием. Процесс этот протекал не одно столетие и был насыщен сложными духовными и социальными конфликтами. Апологеты стояли у его истоков.
Осознав природу как высочайшее произведение Бога-художника, ранние христиане только ее и могли противопоставить рафинированному эстетизму поздней античности, тесно связываемому ими с языческими культами. Вот Тертуллиан посвящает целый трактат («О венке воина») обоснованию того, почему христиане не украшают себя венками из цветов - обычай, широко распространенный в античности. Он выдвигает две главные причины неприятия венков: одну - религиозного, другую - эстетического характера. Венчание венками восходит по греческой мифологии к античным богам и активно используется в религиозных мистериях, т. е., по понятиям христиан, связано с идолопоклонством и поэтому неприемлемо для них. Это главная причина, но ее Тертуллиан отводит на второй план и подробно обсуждает только в XII гл. трактата. На первое место он выдвигает эстетические соображения, противопоставляя «эстетике искусства» «эстетику природы».
Использование венков из цветов (дело человеческого искусства) противоречит естественному назначению цветов. Христиане же, заявляет Тертуллиан, ориентируются на природу, ибо она «является первоначальной мерой правильного соотношения всех вещей». Природа наделила человека соответствующими органами чувств, чтобы с их помощью он мог воспринимать окружающий мир. В результате их действия сведения о мире и чувство удовольствия переносятся от «внешнего человека» к душе. В чем состоит польза от цветов, рассуждает далее Тертуллиан, если не в запахе и прекрасном виде, т. е. в удовольствии обоняния и зрения. И то и другое исчезает, когда из цветов сплетают венок. Во множестве как бы скованных друг с другом цветов теряется очарование формы цветка, и помещенный на голову венок не доставляет удовольствия ни глазу, ни обонянию. «Что [иное] воспринимается в венке как не оковы? В нем не видно [чудесной] окраски [цветов], не ощущается [их] аромат, не передается [их] очарование. Желание носить цветы на голове так же противоестественно, как и желание слушать с помощью носа. Все, что неестественно, обычно расценивается всеми как уродливое, а у нас еще именуется святотатством по отношению к Богу, Господину и Творцу природы» (De cor. 5). В «Апологетике» Тертуллиан также доказывает, что цветы значительно приятнее выглядят в вазе, чем сплетенные в венок. Лучше, подчеркивает он, их обонять носом, а не волосами (Apol. 42). Минуций Феликс также писал, что значительно приятнее вдыхать аромат цветов носом, чем украшать или голову или вплетать в волосы (Octav. 38, 2). Против украшения головы венками и цветами выступал и Климент Александрийский.
Таким образом, развитому позднеантичному эстетизму апологеты противопоставили заново открытый ими эстетический идеал - природную красоту и совершенство всех элементов мира.
Киприан, рассуждая об одежде и внешнем виде девушек, посвятивших себя служению Христу, вслед за Тертуллианом и греческими апологетами, отстаивает идеалы простоты и естественности. Само девство, по мнению христиан, естественно и прекрасно. Девы являются украшением церкви, самой чистой и светозарной частью «стада Христова». Институт девственности вполне понятен и естествен для христианства, противопоставившего чувственным излишествам римской аристократии идеал абсолютной духовности. Плотские же удовольствия, конечно, отвлекали человека от «духовных трудов», требовавших концентрации всех его сил. Христианские идеологи хорошо чувствовали, что переключение эротической энергии человека из сферы интимных взаимоотношений в область духовной любви к Богу может стать существенным стимулом развития благочестия. И действительно, монахи и девы, посвятившие себя Богу, часто достигали высоких вершин на путях духовного служения. Конечно, христианские теоретики хорошо понимали, что девство не может быть уделом всего христианского мира, что продолжение рода человеческого является естественной, а значит, необходимой функцией человека (что было освящено и библейской традицией, вложившей в уста Бога благословение первым людям: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». - Быт 1, 28). Девство воспринималось как отклонение от нормы, как отречение от мирского во имя божественного, как высокий духовный подвиг, доступный далеко не всем членам христианской общины. Поэтому девы и считались украшением церкви, ее идеалом и совестью. Украшением же этих «невест Христовых» являлось целомудрие, отрицавшее внешнюю телесную красоту и всяческие украшения во имя красоты духовной (Cypr. De hab. virg. 5).
Непорочность, полагает Киприан, должна проявляться во всем, и одежда не должна порочить добродетели души. Неприлично деве украшать лицо свое косметикой и изысканными прическами, постоянно заботиться о своем теле и его красоте, ибо это противоречит тому пути, который она избрала - подвигу труднейшей борьбы с плотью во имя духа. И если уж она действительно желает гордиться своей плотью, то сие прилично только, когда плоть терпит муки от гонителей христиан, когда женщина оказывается мужественнее мужчин, ее терзающих, когда ее тело стойко переносит пытки огнем, железом, крестом, не отступает перед зубами хищных животных. «Вот драгоценные ожерелья плоти,- восклицает Киприан, - вот наилучшие украшения тела!» (5).
Истинными благами у христиан считались только духовные, божественные, а все земное должно быть презираемо всеми, посвятившими жизнь Богу. Киприан приводит в подтверждение этого слова Иоанна Богослова: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви отчей; ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира [сего]. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Ин 2, 15 - 17).
Призывая женщин, и особенно дев, к скромности в одежде и украшениях, Киприан, как и другие апологеты, опирается также на апостольский авторитет. В Первом Послании к Тимофею апостола Павла говорится: «Чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию» (1 Тим 2, 9 - 10). Об этом же читаем и в обращении к христианским женщинам апостола Петра: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1 Петр 3, 3-4). Эстетика простоты и естественности и у Киприана выступает важной антитезой позднеантичной эстетики роскоши и изощренности. Бог, поучает он дев, не сотворил овец красными или пурпурными, не он научил людей расцвечивать их шерсть соками трав и других красителей, не он изобрел ожерелья и научил женщин искусно переплетать волосы золотом и жемчугом, не он научил их скрывать созданное им. Все это изобретения отпавших от Бога ангелов. Именно они, побуждаемые своей испорченной природой, научили женщин чернить брови, наводить на щеки искусственный румянец, красить волосы в несвойственные им цвета, искажать подлинные черты головы и лица (De hab. virg. 14). Киприан настоятельно советует женщинам не стремиться «исправлять» божественное творение добавлением всех этих искусственных ухищрений. Бог сказал: «сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему» (Быт 1, 26), кто же дерзнет, - вопрошает Киприан, - изменять и преобразовывать то, что создано самим Богом? «Если бы некий живописец,- обращается он для сравнения к художественной сфере, - изобразил на картине чье-либо лицо, в совершенстве подражая телесным цветам, и [если бы], когда портрет был завершен, другой, считая себя более искусным в живописи, приложил бы к нему [свою] руку, стремясь улучшить созданное, то он нанес бы первому художнику тяжкое оскорбление и возбудил бы [в нем] справедливое негодование. Не думаешь ли ты остаться безнаказанным за твою дерзость и безрассудную наглость - за оскорбление Художника-Бога?» (De hab. virg. 15). И аргументация, и сам пример из сферы художественной деятельности очень показательны для раннего христианства, его специфического эстетизма. Настоящее произведение искусства, в понимании Киприана, самобытно и оригинально. В нем заключено нечто, присущее только его Творцу, и никто другой, как бы он ни был талантлив, не может улучшить чужое произведение искусства, тем более если речь идет о творении божественного Художника. Обращение к сфере искусства, эстетики тогда, когда не хватает логических аргументов для обоснования того или иного положения своей теории, отличает всю раннехристианскую и патристическую литературу. Вольно или невольно христианство с первых своих шагов стремилось включить искусство и эстетику в свою философско-религиозную систему на правах равноценного члена, отрицая, однако, античный эстетизм.
Понятия «красота» и «прекрасное» занимают видное место в эстетике Климента Александрийского. Как бы подводя итог апологетической традиции, он дает развернутое учение о красоте, отводя ему важную роль в своей гносеологии, и особенно в этике
[311]. При этом под «прекрасным» у него часто имеется в виду нравственно прекрасное, а красота, как и у Платона, нередко отождествляется с благом.
Исходя из того, что прекрасное органически присуще человеческому бытию и сознанию, «ибо человек по природе своей существо возвышенное и гордое и стремящееся к прекрасному» (Paed. III, 37. 1), он пытается найти ему достойное место в своей философско-религиозной системе. При этом Климент опирается в основном на переосмысленную в христианском духе платоновскую эстетику и эстетические суждения Филона и ранних апологетов.
Выше всего ценит Климент «истинную красоту» (τό κάλλος τό άληθινόν). Это особая материально-идеальная красота, объединяющая в себе два полярных для античного мышления понятия - платоновскую идею красоты и красоту материального мира. Она обозначает первоначальную, идеальную красоту материального мира, в которой он был создан Богом-Художником. Впервые Логос (как демиург материального мира) показал истинную красоту, «которой ранее никакой глаз не видал и никакое ухо не слыхало» (II, 129, 4)
[312]. Эта красота заложена во всем созданном мире, в том числе в различных видах животных и растений (II, 121, 4). Творческая сила Бога создала и человеческое тело по «законам красоты и соразмерности» (I, 6, 5), и человек должен помнить и ценить это. «Истинная красота» - свидетельство божественной мудрости, поэтому допустимо лишь бескорыстное наслаждение (чистое созерцание) этой красотой (как, например, красотой цветов) без какого-либо практического или тем более безнравственного использования ее (II, 70, 5). Но греховность человека, его своеволие и дурной вкус затмили в нем истинную красоту, и теперь необходимо стремиться высветлить, очистить ее. Прежде всего имеется в виду очищение нравственное, ибо «позорна красота растленная» (Климент признает существование и такой). Он призывает своих современников - и призыв этот был актуален - к нравственной чистоте, к сохранению «истинной красоты»: «Не насилуй красоты, о человек!.. Будь царем, а не тираном своей красоты... Тогда только признаю я твою красоту, когда ты сохранишь образ ее чистым, только тогда буду я чтить в тебе красоту - истинный прообраз прекрасных вещей» (Protr. 49, 2). Приведенное место важно для уяснения эстетической концепции Климента прежде всего тем, что здесь истинная красота усматривается в нравственно совершенном человеке. (В другой раз Климент в подобной же ситуации вспомнит античную «калокагатию». - Paed. II, 121, 3). Кроме того, здесь четко поставлена проблема иерархичности красоты и ощущается попытка ее закрепления путем терминологической дифференциации «красоты» (то κάλλος) и «прекрасного» (το καλόν, καλός). Истинная красота как идеальная мыслится архетипом прекрасных вещей и явлений материального мира и искусства.
Для обозначения этой красоты Климент достаточно регулярно (При его общем терминологическом непостоянстве)
[313] использует термин то κάλλος, хотя изредка встречается у него в этом смысле и термин то καλόν.
По глубокому убеждению Климента, истинная красота скрыта в человеке: она заключена и в человеческой душе, и в его теле
[314]. Естественно, что Господь природную красоту (κάλλος) тела ценит меньше, чем «красоту души» (III, 12, 3). Последняя проявляется в добродетели и неразрывно связана с благом. Только человек добродетельный «поистине καλός κ'αγαθός» (II, 121, 3). К добродетели же ведет разум, поэтому, если человек желает быть прекрасным, он должен развивать в себе эту прекраснейшую способность - разум (III, 20, 6). Такой человек должен стремиться к познанию истины, должен жить Логосом, иметь в себе «образ Логоса» и, наконец, должен «уподобиться Богу», и он тогда станет «истинно прекрасным» (III, 1, 5). Добродетель его, т. е. красота души, выявляется в красоте тела (II, 121, 3). Поэтому во след своим предшественникам ведет Климент решительную борьбу против роскоши и украшений человеческого тела. Но в отличие, например, от своего младшего современника Тертуллиана он обосновывает ее не социально-этическими, а этико-гносеологическими и эстетическими соображениями. Гностик, живущий Логосом, т. е. познанием истины, «прекрасен, хотя и не наряжается» (ΠΙ, 1, 5)
[315]. Украшения возбуждают чувственность, а страсти и удовольствия приводят к угасанию красоты (III, 1, 4)
[316]. И сами по себе украшения, наряды, драгоценности, по мнению Климента, только заглушают «истинную красоту», заложенную в человеке от природы. Женщины затемняют истинную красоту, писал он, скрывая ее под золотыми украшениями (II, 122, 2). Украшения и дорогие одежды означают для Климента лишь богатство, которое не в состоянии заменить истинной красоты. По его мнению, восхищение богато расшитыми, дорогими одеждами свидетельствует лишь об отсутствии у человека чувства красоты, о его дурном вкусе (ή άπειροκαλία. - Π, 111, 2).
Красивые по цвету одежды Климент предлагает устранить, ибо красота цвета побуждает любопытных людей к пустому ротозейству и возбуждает нездоровые интересы. Лучше ограничиться простой одеждой белого цвета. Если же у кого все-таки есть тяга к цветным одеждам, то предпочтительнее использовать ткани простых природных цветов, не прибегая к особо ярким и пестрым расцветкам (II, 108, 4). Порицая приверженцев неумеренной роскоши, Климент с возмущением восклицает: «...что это за обольщение, что за ложное чувство красоты (δοξοκαλία)!» (II, 38, 1). Пожалуй, впервые в истории эстетической мысли он стремится сформулировать основной принцип прикладного искусства (ибо речь идет об одежде и предметном окружении человека), заключающийся в простоте и максимальном соответствии предметов обихода утилитарным потребностям - без всякого излишнего украшательства (II, 39, 1). Этой проблеме посвящены у Климента многие места «Педагога». Единственная функция одежды, по его мнению, состоит в защите тела от холода- и жары, поэтому одежда должна быть простой и удобной. Кроме того, она должна соответствовать возрасту человека, его лицу, фигуре, росту, профессии (III, 56, 1), а также отражать его внутреннее состояние. Климент порицает тех своих соотечественников, которые вырезали на подошвах обуви эротические сценки, чтобы запечатлевать на земле «распутство своих мыслей» (II, 116. 1). Прикладное искусство в плане прекрасного не должно «соперничать» с природой. Если женщина прекрасна от природы, то не следует ей «истинную красоту» затемнять «ложной» (II, 127, 3). Косметикой, по мнению Климента, женщина «губит свою естественную красоту». Если же она некрасива, то дорогие украшения только подчеркнут ее природные недостатки (II, 128, 1).
Последовательные выступления против излишеств в прикладном искусстве и вообще против его использования в быту связаны у Климента с тем, что для него это искусство было символом богатства. Богатство же мыслилось источником всех нравственных зол и социальной несправедливости, отрицательным фактором человеческого бытия, и поэтому, помимо нравственных добродетелей, идеологи раннего христианства постоянно противопоставляли ему и свой эстетический идеал - «истинную красоту». Климент Александрийский рассказывает о том, как живописец Апеллес, увидев, что один из его учеников изображает «золотую Елену» в лучших ее нарядах с массой украшений, заметил: «О, юноша, будучи не в силах изобразить Елену прекрасной, ты показал ее богатой». После чего Климент добавляет: «Вот такими Еленами являются теперь и наши женщины, не истинно прекрасными, но богато наряженными» (II, 125, 3)
[317].
Человек, по мнению Климента, должен прежде всего заботиться о красоте души, состоящей в справедливости, рассудительности, мужестве, целомудрии, любви к добру и скромности. Любовь (αγάπη), по Клименту, также является одной из сторон красоты (III, 3, 1). И только затем он может проявить заботу и о своей «телесной красоте» (τό σωματικόν κάλλος), которую Климент в соответствии с эллинистической традицией определяет как «соразмерность частей и членов наряду с красивым цветом» (συμμετρία μελών καί μερών μετ' εΰχροίας- III, 64, 2 - стереотипная формула, часто повторявшаяся и в средневековой эстетике). Но забота о красоте тела состоит отнюдь не в украшении его, а в правильном питании, постоянных гимнастических упражнениях, занятиях спортом, которые ведут к здоровью и красоте и тела и души, ибо «красота есть благородный цвет здоровья» (II, 64, 3). Здесь у Климента открыто звучат идеи классической эллинской теории эстетического воспитания.
Не чужда была апологетам и идея небесной, божественной красоты
[318], но в тот период она меньше занимала внимание христианских мыслителей, чем красота реального мира, такая сложная и противоречивая. Красота реального мира возбуждала в людях грубую чувственность, но и способствовала обогащению их духовного мира, она свидетельствовала о плотских влечениях человека, но одновременно являлась и одним из важных аргументов в защиту бытия Бога и тварности мира. Поэтому именно ей, а не божественной красоте так много внимания уделяли апологеты, стремясь понять, что же в противоречивом и сложном мире бытия следует считать прекрасным. В решении этого чисто эстетического вопроса они выбирают духовно-нравственный критерий, делая однозначный вывод: единственно достойной, приемлемой и полезной в мире бытия является красота природная
[319] (включая и красоту человеческого тела) в противоположность презренной и порочной искусственной красоте позднеримского искусства.
Золото и драгоценные камни прекрасны, как произведения природы
[320], но, будучи использованы для украшения человеческого тела, нарушают и искажают его природную красоту и поэтому неприемлемы в этой функции для ранних христиан.
Мы уже имели возможность подробно остановиться на трактате Лактанция «О божественном творчестве», специально посвященном описанию красоты и целесообразности устройства человеческого тела, и прежде всего его внешних форм и членов. Там же затрагивает автор и ряд общих вопросов красоты. Лактанций подчеркивает, что при огромном разнообразии форм животных все они имеют общий порядок организации членов и, что особенно удивительно, «во всем множестве живых существ каждое животное обладает в своем роде одним типом красоты», наиболее целесообразным (aptissime) для этого вида. Любое изменение в существующей форме животного или человека безобразит и того и другого (De opif. Dei 7, 3-6). Как обильный волосяной покров на теле уродует человека, так и крылья или голая кожа у четвероногого животного, четыре ноги у птицы и т. п. изменения нарушили бы всю красоту форм животного мира (7, 8 - 11), т. е. одни и те же элементы формы могут быть и прекрасными и безобразными в зависимости от того, в каком соотношении находятся они с остальными членами тела. Равнозначно и целое теряет свою красоту при произвольной замене его элементов на другие, ему не присущие, но прекрасные или сами по себе, или в структуре другого целого. Вывод этот сделан апологетами на основе пристального изучения многообразных форм природы благодаря особому благоговейному отношению к природе и ее красоте, осмысленным в модусе творения божественного художника.
Древность с ее мифологическим мышлением не знала этого эстетического принципа. Она с упоением изобретала людей с песьими и птичьими головами, с тремя глазами, крылатых амуров и лошадей, разнообразнейшие гибриды человеко-коней, человеко-козлов, человеко-птиц, человеко-рыб, которые ранним христианам представлялись воплощением безобразия и вопиющим нарушением природного порядка, произволом античных поэтов. Наблюдения за красотой форм животного мира позволили апологетам сделать и другой важный вывод. Они подметили, что в живой природе красота форм и членов неразрывна с их целесообразностью. Лактанций, описывая те или иные члены и органы человека, обычно затрудняется сказать, что в них более достойно удивления, их красота или та польза (species an utilitas), которую они приносят человеку. И то и другое органически присуще им в одинаковой мере. Из природы почерпнуло раннее христианство свой идеал единства прекрасного и полезного.
Подчеркивая парность и симметричность многих членов и органов человеческого тела, а также бинарность во всей структуре мироздания. Лактанций видит в «двойственности из единого (простого)» (de simplici duplex) или в «единстве из двойственного)» (de duplici simplex) (10, 11) важную структурную основу красоты материального мира. Число «два» воспринимается им как совершенное число (10, 10), но прекрасны не просто два члена, а их особое единство, их целокупностъ, их некое «неслитное единство». Здесь хорошо видно стремление Лактанция усмотреть структурные закономерности красоты, приводящей его в удивление и восхищение.
Конечно, как мы уже неоднократно убеждались, не физическая, но нравственная красота стояла в центре внимания апологетов. Ранних христиан сильно волновала проблема внутренней связи и соотношения нравственной и физической красоты. В этом плане интересны их представления о внешнем виде Иисуса Христа, служившего христианам идеалом нравственного совершенства.
Юстин считал, что Христос «имел вид, лишенный красоты, чести и славы» (Tryph. 36), был «невзрачен» (άειδής) и все принимали его за обычного плотника, так как он вырос в семье плотника и занимался плотницким делом (88).
«Не красотой плоти блистал он,- писал Климент Александрийский,- а истинной красотой души и тела: первая проявлялась в благих делах, вторая - в бессмертии плоти» (Paed. III, 3,3). Более того, при воплощении Христос принял телесный образ, невзрачный и презренный для того, чтобы слушающие его не увлекались блеском видимой красоты и не упускали бы духовных истин, излагаемых им и превосходящих внешнюю красоту. «Ибо всегда следует иметь дело не со словами, но с обозначаемым ими (περί τά σημαινόμενα)» (Str. VI, 151, 4). Мысль о простом, даже «невзрачном» (ευτελής) внешнем виде Христа ляжет впоследствии в основу аскетической практики монахов, найдет отражение в системах художественных образов средневекового искусства, даст толчок развитию ареопагитовской эстетической теории «неподобных образов»
[321]. С неумолимой последовательностью, доходящей иногда до натуралистического уродства, она будет реализована в западном средневековом искусстве и станет там главным критерием изображения человеческого тела вообще. Иная картина наблюдается в византийской и древнерусской живописи. Здесь никогда не забывали другую мысль Климента - о том, что внутреннее благородство и душевная красота человека (особенно гностика, идеалом которого был Иисус) находят отражение и в его внешнем виде, прежде всего в лице. У истинного гностика оно изливает «сияние» Логоса, поражающее всех своей красотой (VI, 104). Гностик уже на земле становится «ангелоподобным» (VI, 105, 1). Византийские и древнерусские мастера в своих изображениях стремились воплотить именно этот облик человека. На снятии двух противоположных эстетических тенденций (невзрачная простота и ангельское сияние), сформулированных уже Климентом Александрийским, и складывался образ человека и Христа в первую очередь во всем восточнохристианском искусстве.
Слова псалма: «Ты прекраснее сынов человеческих» (decore pulchrior es filiis hominum. - Ps. 44, 3), - Тертуллиан относил к внешнему виду Христа второго пришествия, когда он во славе придет судить живых и мертвых, а с Иисусом, жившим среди людей 33 года, он связывает слова Исайи: «нет в нем ни вида (species), ни красоты (decor), и видели мы его, и не было в нем вида и не стремились мы к нему» (Is. 53, 2). Христос, по его мнению, был лишен всякой телесной красоты (Adv. Jud. 14)
[322]. В его внешнем облике не было ничего небесного, ничего отличного от наших тел. Поэтому люди и удивлялись его уму, речам и проповедям, так как они принадлежали человеку весьма заурядного внешнего вида. Тело его не имело не только небесной, но даже обычной человеческой красоты. Чем руководствуется Тертуллиан в этих выводах, столь неожиданных для античной культуры, видевшей в своих богах и героях идеалы красоты и совершенства? Прежде всего, как это ни парадоксально, античными идеализированными представлениями. Тертуллиану необходимо доказать, что Иисус имел настоящую человеческую плоть и что он реально страдал и был казнен. Он лишает Христа телесной красоты, чтобы сделать более убедительными поругание и издевательства над ним, ибо ими чаще всего подвергали в римском обществе людей презренных. «Отважился бы кто-нибудь коснуться в высшей степени необыкновенного тела [или] опозорить лицо плевками, если бы оно не заслуживало [этого]?» - спрашивает Тертуллиан (De carn. Christ. 9). Он хорошо знает, как античность чтила красоту, и поэтому сознательно наделяет Бога внешним видом, достойным оплевания и поругания. Такому вполне под стать и позорная для римлян смерть на кресте, что и требовалось доказать Тертуллиану в данном трактате. В другом месте он, конечно, «реабилитирует» Христа и относительно его внешнего вида, но не путем наделения красотой, а утверждением того, что умаленность Бога не может быть оценена в системе обыденных человеческих ценностей «и Бог тогда предельно велик, когда [кажется] людям ничтожным (pusillus)» (Adv., Marc. II, 2). Здесь безвидность и ничтожность, невзрачность Христа начинают выступать у Тертуллиана некоторым важным эстетическим принципом в доказательстве уже божественности Христа, т. е. наделяются особой, небуквальной, фактически диаметрально противоположной значимостью.
Безобразное начинает приобретать в эстетике апологетов особое значение, ориентируя реципиента на нечто принципиально отличное от явлений реального мира.
Раннее христианство не идеализировало безобразное, не подменяло им прекрасное, как это можно иногда слышать. Оно высоко, может быть выше, чем античность, ценило красоту реального мира; оно знало и почитало божественную красоту («Бог прекраснее самих звезд и частей всего мира», - писал Минуций Феликс. - Óctav. 18, 4), но не наделяло ее особым значением. Красота мира была значима для христиан сама по себе, в своей явленности, как результат божественного творения. Безобразное же, ничтожное, безвидное выступало в их эстетике в качестве особой категории, не противостоящей прекрасному, но обладающей особой знаковой функцией и стоящей в одном ряду с такими категориями, как символ и знак. Идея неприглядности внешнего вида Христа дала толчок к разработке и осмыслению проблемы безобразного в христианстве.
Таким образом, носитель христианского нравственного идеала не обладал внешней красотой тела (эту мысль скорректируют последующие Отцы Церкви, но апологеты в ней фактически едины), поэтому и христиане должны уподобляться ему не только духовно, но и физически, т. е. не заботиться о красоте тела, но даже, как призывали некоторые ригористы, умалять ее. Знаки духовной стойкости христианина, выразившиеся в увечиях тела, украшают его, по мнению апологетов, лучше всяких драгоценностей. Прекрасно терпение мученика (Tert. De patient. 15). Непорочность - лучшее украшение для человека, чем живопись или золото для стен дома, ибо краски и позолота, слиняв, безобразят дом, ά украшение непорочности никогда не утрачивает своего блеска (Cypr. Ad Donat. 13). Целомудрием прекрасны девы, а не красотой тела. Без украшения Христова (духовного украшения) женщина безобразна (De laps.). Мученики украшаются как бы самою кровью Христа (De laud. mart. 29). Добродетели - высшее украшение, в которое может облечься человек (Lact. Div. inst. VI, 13, 13 - 14 и др.). Нравственная красота человека выступает для апологетов одной из главных ценностей в мире человеческого бытия.
Для обозначения красоты и прекрасного апологеты чаще всего пользуются традиционными терминами το κάλλος, το καλόν, καλός, pulchritudo, pulcher, decor и производными от них, но не ограничиваются только ими. Нередко в эстетическом значении употребляют они и такие термины, как ώραίος, ή ώραιότης (приятный, приятность) (Theoph. Ad Aut. 24), εϋμορφος (прекрасный, красивый) 2) εϋειδής (миловидный, благообразный) (Athen. Leg. 19), ό κόσμος (красота, украшение) (15), ή εύταξία, τό εϋτακτον (благочиние) (Tat. Adv. gr. 12; Athen. Leg. 4), εΰεπής (изящный - о речи) (Theoph. Ad. Aut. 1), ornatus (прекрасный) (Iren. Adv. haer. II, 30, 3), speciositas (миловидность) (Tert. De cult. fem. II, 2), venustas (прелесть, изящество), lepos (прелесть, изящество) (Lact. Div. inst. I, 11, 36), species (Lact. De opif. Dei 10, 2), formosus (прекрасный) (Tert. De patient. 15), cultus (красота, пышность) (De carn. resur. 12), claritas (блеск, ясность) (Min. Fel. Octav. 17, 2), nitor (блеск, сверкание) (Lact. Div. inst. II, 6, 6) и некоторые другие. Весь спектр античных значений красоты был хорошо известен апологетам, и их усилия направлены на то, чтобы переосмыслить его в духе новых, христианских ценностей.
Анализ раннехристианского понимания красоты показывает, что эстетика апологетов неразрывно связывает эту основную эстетическую категорию с другой, последовательно вводимой ими в эстетику (хотя тенденция эта была присуща и некоторым течениям языческой духовной культуры того времени - вспомним так называемое аттическое возрождение) категорией простоты (ή άπλότης, simplicitas). Она возникает у апологетов как одно из логических следствий христианского учения и как естественная реакция на изощренность и чрезмерность эстетических идеалов поздней античности.
Мы помним, что простота играла большую роль в раннехристианской идеологии. Простоту веры теоретики христианства противопоставляли всей античной философской и софистической мудрости.
Для Тертуллиана свидетельства души простой, грубой, невежественной более истинны, чем все философские знания (De test. anim. 1), ибо с «портика Соломона» было возвещено, что Бога надо искать «в простоте сердца» (έν άπλότητι καρδίας) (Sap. 1, 1), и Тертуллиан ставит этот призыв в основу своей гносеологии (De praes. haer. 7). Простота легче, чем мудрость, может открыть и познать Бога (Adv. Valent. 2). Поэтому-то язык книг божественного Писания прост и безыскусен. Истина никогда не требует украшений, утверждал Арнобий (Adv. nat. I, 58). Самому Богу присуща простота, поэтому все простое пользуется его особым вниманием и угодно ему (Tert. De bapt. 2). Отсюда и в эстетике простота становится основой красоты. Призыв Тертуллиана: от тоги к паллию - имел не только переносное значение (от пестроты и сложности мира к простоте духа), но и буквальное, эстетическое - от сложной и неудобной одежды к простой и естественной. Эстетическое стремление к простоте и естественности лежало наряду с этическими соображениями в основе борьбы ранних христиан с излишествами позднеантичной моды, против женских украшений, одежды, косметики, использования цветов.
Красота не признавалась апологетами без простоты, а простота, понятая как естественность в отличие от всего искусственного, художественного, созданного людьми, усматривалась в природе, т. е. отождествлялась не с примитивностью (хотя в религиозной гносеологии оправдывалось и это), но с природной сложностью и целесообразностью.
3. Образ
Установка на естественную красоту и простоту в эстетике отнюдь не устраняла проблемы сложности как природной, так и социальной действительности, и христианство противопоставило многим непреодолимым в тот период на уровне формально-логического мышления трудностям теологико-эстетическое решение. В основу этого решения легла апостольская мысль о том, что феноменальный мир представляет собой систему загадок, символов, образов, обозначающих некие реальности, которые на уровне земного «бывания» в них только и могут быть усмотрены и лишь в будущей жизни предстанут нам в своем чистом виде: «Теперь видим мы через отражение (зеркало) в загадке (иносказании), потом же - лицом к лицу» (1 Соr. 13, 12)
[323]. Мир, понятый как произведение искуснейшего Художника, а в нем и все созданное руками человека, подражающего в своем творчестве божественному Создателю, представлялся христианским идеологам хранилищем особой информации, сознательно заложенной в него Богом и доступной восприятию человека. Необходимо только найти ключ к этой информации, хранящейся именно в
формах произведений божественного и человеческого искусства. Проблема, таким образом, ставилась в чисто эстетической сфере - мир есть конкретно-чувственное
выражение замысла Художника. Для описания его на вербальном уровне апологеты использовали целый ряд терминов типа:
образ, изображение, подражание, подобие, зеркало, символ, аллегория, знак, загадка, знамение и т. п., служивших в целом для передачи важной мировоззренческой идеи глобального образно-символического выражения духовных реальностей в мире материальных форм. Все бытие предстает в раннехристианской философии грандиозной всеобъемлющей и всепронизывающей системой образов.
Мы останавливаемся здесь на понятии «образ», хотя в науке нередко и не без оснований в этом же значении употребляют термин «символ». «Образ» представляется нам более широкой категорией, включающей в себя всю перечисленную терминологию и лучше в целом передающей сущность и характер того многоликого понятия, которое раннее христианство положило в основу своего миропонимания - своей философии, религии, эстетики и даже этики. Диапазон значений этой категории, как мы увидим, велик - от иллюзорного подражания до условного знака, однако в целом она носит более пластический (наследие античного мышления), чем абстрактно-рационалистический характер при всей ее условности. Поэтому «образ» по-русски лучше передает ее суть, чем «символ».
С помощью этой категории описывается весь универсум, человеческое общество, сам человек, произведения рук его, тексты Св. Писания - т. е. все объекты, попадающие в сферу человеческого интеллекта.
В средневековой культуре эта категория будет иметь важное значение, но уже в более дифференцированном виде образа, символа, аллегории, знака, хотя границы между ними останутся достаточно расплывчатыми.
Причины раннехристианского образно-символического мышления общи с причинами всего позднеантичного символико-аллегорического миропонимания, которое было присуще и стоикам, и гностикам, и платоникам, и александрийским толкователям Торы, и многочисленным эклектическим философско-религиозным течениям, объединениям, и отдельным мыслителям того времени
[324]. Высокий уровень формально-логического мышления и невозможность тем не менее понятийного осмысления многих явлений природной и социальной действительности, поиски выхода из тупиков духовной жизни в религиозно-мистической сфере и неудовлетворенность простотой и примитивностью традиционных религиозных культов и учений, несоответствие глубин только что открытого внутреннего, духовного мира человека и его обыденной деятельности и т. п. противоречия, обострившиеся в период поздней античности, привели ее философию, теологию и эстетику к всеобъемлющему символизму и аллегоризму.
«Символ в средневековом его понимании,- пишет современный исследователь, - не простая условность, но обладает огромным значением и исполнен глубочайшего смысла. Ведь символичны не отдельные акты или предметы: весь посюсторонний мир не что иное, как символ мира потустороннего; поэтому любая вещь обладает двойным или множественным смыслом, наряду с практическим применением она имеет применение символическое.
Мир - это книга, написанная рукою Бога, в которой каждое существо представляет собой слово, полное смысла... Символ, следовательно, не субъективен, а объективен, общезначим. Путь к познанию мира лежит через постижение символов, их сокровенного смысла. Символизм средних веков - средство интеллектуального освоения действительности»
[325]. Зачинателями этого «символизма», его первыми теоретиками и практиками и были раннехристианские мыслители.
Учиться читать мир, как книгу, написанную рукой Бога, они начали по аналогии (важнейший принцип позднеантичной и средневековой эстетики) с символико-аллегорическим прочтением Книги Бытия, также возводимой религиозной традицией к божественному автору. Филон Александрийский (и не он один) дал великолепный пример высокодуховного символико-аллегорического толкования Писания. Христианским мыслителям оставалось только, опираясь на апостольский авторитет (ср. 1 Соr. 9, 9-10; Gal. 4, 22-26), ввести этот метод в рамки христианского миропонимания и распространить его на весь универсум: природу, человека, творения рук его. В новом свете библейского символизма предстал мир перед глазами творцов новой культуры.
С примером развернутого высокоэстетизированного символико-аллегорического мышления мы встречаемся уже в одном из ранних христианских памятников - в «Пастыре» Ерма (2-я пол. II в.), относимом наукой к апокрифическим апокалипсисам. «Пастырь» содержит ряд ярких видений и образных притч, которым здесь же даются достаточно подробные толкования.
Так, Церковь является Ерму в трех видениях в образе женщины. Первый раз это была очень старая женщина, восседающая на кафедре и читающая ему таинственную книгу. «Во втором видении она имела лицо юное, но тело и волосы старческие»; и она беседовала с Ермом стоя, «впрочем, была веселее, нежели прежде. В третьем же видении она вся была гораздо моложе и с прекрасным лицом, только волосы имела старческие; она была вполне весела и сидела на скамейке» (Vis. III, 10, 5)
[326]. Первому образу Церкви в виде старицы в «Пастыре» дано даже два толкования, что свидетельствует о ясном понимании раннехристианским автором многозначности символа.
Церковь является в образе старицы, поясняет Ерму ангел, так как «сотворена она прежде всего... и для нее сотворен мир» (II, 4). К сожалению, это понимание Церкви Божией, как сотворенной до сотворения мира, не развивается более подробно. Возможно, здесь мы впервые встречаемся с глубинной интуицией отождествления Церкви и Софии - Премудрости Божией, что будет подробнее разработано уже поздним православием.
Второе, более развернутое толкование трех образов Церкви интересно прежде всего с семантической точки зрения. Если первое объяснение относится как бы к сущностному космическому бытию Церкви, то второе - к ее конкретному историческому существованию. Старческое состояние женщины в первом видении символизирует ослабленный и обветшавший дух людей, погрязших в грехах, сомневающихся и утративших надежду на спасение. Женщина с помолодевшим лицом и более веселая означает, что дух верующих несколько обновился, когда они получили божественное откровение в первом явлении Церкви. И третий образ Церкви, когда она предстала Ерму еще более молодой, прекрасной, веселой, со светлым лицом, означает, что дух верующих почти полностью обновился, радуясь благой вести (III, 11 - 13).
В виде страшного апокалиптического зверя является Ерму «образ гонения», которое должно вскоре обрушиться на христиан: «...и вот вижу я огромного зверя наподобие кита, и из уст его выходила огненная саранча. В длину это животное имело около ста футов, а голова была подобна глиняному сосуду... Этот зверь имел на голове четыре цвета: черный, потом красный, или кровавый, далее золотистый и, наконец, белый» (IV, 1, 6 - 10). Зверь не тронул Ерма, когда тот с трепетом прошел мимо него, а явившаяся ему затем Церковь в образе «разукрашенной девы», одетой во все белое, разъяснила символику зверя: это - образ «грядущей великой напасти», и надо покаянием готовить себя к ней. Объяснила она и семантику цветов на голове зверя: «черный цвет означает мир, в котором вы живете; огненный и кровавый - то, что этому миру должно погибнуть посредством крови и огня; а золотистая часть, это - вы, которые избегаете этого мира... Белая же часть означает будущий век, в котором будут жить избранные Божий, потому что непорочны и чисты будут те, которые избраны Богом в жизнь вечную» (IV, 3, 2-5).
Помимо собственно цветовой символики это толкование интересно и своим как бы зеркальным семантическим характером. В понимании раннехристианского автора символический образ содержит элементы, относящиеся не только к основному десигнату (в данном случае - к самому гонению: страшный вид зверя, саранча и т. п.), но и фактически - к реципиенту (цвета на голове зверя). Столь сложное и многоуровневое понимание символа не часто встречается даже у более поздних виртуозных аллегористов - александрийско-каппадокийских Отцов Церкви.
Есть в «Пастыре» и более простые символы, излагаемые в притчах, близких к притчам Нового Завета. При этом автор подчеркивает, что понимание смысла притч дается только тем «рабам Божиим», которые в сердце своем имеют Господа и просят у него «разума» для этого понимания (Sirn. V, 4, 3 - 5).
Так, бесплодный вяз, дающий тень и сохраняющий влагу для обвивающей его виноградной лозы, символизирует богача, который подает бедному (лозе). Бедный же благодарит Бога и молится за богатого, отчего оба живут в достатке, так как Бог слышит молитву бедного и еще больше дает богатому (II).
Притча о господине, поручившем рабу обработать виноградник и об усердии раба толкуется в «Пастыре» следующим образом: «Поместье... означает мир. Господин поместья есть Творец, который все совершил и утвердил. Сын (хозяина поместья. - В. Б.) есть Дух Святой, Раб - Сын Божий. Виноградник означает народ, который насадил Господь». Подпорки под лозами - ангелы, приставленные Господом для сохранения народа; сорные травы, вырванные рабом,- «преступления рабов Божиих»; яства, посылаемые рабу с пира,- «суть заповеди, которые через Сына Своего дал Господь Своему народу» и т. п. (V, 5).
Богато одетый пастух, пасущий стадо тучных овец, толкуется как «ангел наслаждения и лжи», который губит души «рабов Божиих и отвращает их от истины», а грозный пастух дикого вида, гонящий безжалостно овец, принятых от первого пастуха, по каменистым и тернистым скалам, - как «ангел наказания», карающий уклонившихся от Бога (VI, 1-3).
Центральное место в «Пастыре» (и в первой книге «Видения», и в третьей - «Притчи») занимает развернутая символическая картина сооружения башни (πύργος), означающей Церковь в ее земном становлении и грядущем веке. В третьем видении Церковь в образе старицы показывает Ерму сооружение четырехгранной башни на водах. Строили ее шесть прекрасных юношей, пришедших вместе со старицей, а помогали им многие тысячи мужей. Одни приносили квадратные камни из глубины вод, а другие добывали их из земли. Камни из водных глубин хорошо подходили друг к другу, так что соединений между ними нельзя было заметить. «Таким образом, здание башни казалось построенным как будто из одного камня». Из других камней одни сразу шли в дело, другие складывались неподалеку от башни, а третьи рассекались и отбрасывались в сторону. Из отложенных около башни камней многие были шероховаты, другие имели трещины, а некоторые были светлыми, но круглыми ни не годились для постройки. Из отброшенных камней одни попадали в места пустынные, другие падали в огонь и горели, третьи оказывались около воды и стремились в нее попасть, но не могли (Vis. III, 2).
Старица подробно истолковывает Ерму удивительное видение. Строящаяся башня - это она сама, Церковь; то, что она сооружается на водах, - свидетельство того, что «жизнь ваша чрез воду спасена и спасается». Имеется в виду, видимо, вода крещения. Шесть юношей-строителей - это «первозданные ангелы Божий, которым Господь вверил все свое творение для того, чтобы они умножали, благоустраивали и управляли его творением»; они завершат и сооружение башни. Их многочисленные помощники - ангелы Божий более низкого чина. Камни, из которых сооружается башня, также имеют свое значение. Белые квадратные, хорошо стыкующиеся друг с другом,- это «апостолы, епископы, учители и диаконы», которые проповедовали учение Божие и вели (а живущие ведут и ныне) благочестивый образ жизни в согласии и мире друг с другом. Неотделанные камни в основании башни - это древние праведники (видимо, ветхозаветные); камни, идущие на сооружение самой башни, - «новообращенные к вере и верные»; камни с изъянами, сложенные неподалеку от башни, символизируют согрешивших людей, которые имеют еще возможность исправиться и занять свои места в башне, а отброшенные далеко - это грешники, имеющие получить различные наказания за свои грехи. Белые круглые камни суть богатые верующие. Войти в тело башни они могут только в том случае, если будут обработаны камнетесом, т. е. отсекут свои богатства (III, 3-7).
Башня-Церковь поддерживается по распоряжению Господа семью женщинами, которые являются дочерьми «одна другой» и символизируют веру, воздержание, простоту, знание, кротость, благочестие и любовь. Таким образом, праматерью всех их выступает вера, а любовь является дочерью благочестия (III, 8, 3-5).
В 3-й книге «Притч» (или «Подобий») собеседником Ерма, проводником его по духовным видениям и их толкователем выступает уже не Церковь, но ангел покаяния в образе пастуха (отсюда название трактата «Ποιμήν», Pastor - «Пастырь)». Он открывает Ерму еще одну картину сооружения Башни-Церкви и дает ей развернутое толкование.
Пастырь ведет Ерма в страну Аркадию на высокую гору, и их взору открывается апокалиптико-символическая картина. Перед ними простиралась живописная равнина, обрамленная двенадцатью горами различного вида. Первая была черная как сажа, вторая - голая, без растений; третья - полная «терниями и волчцами»; другие горы были покрыты в большей или меньшей степени растениями, на них обитали животные. «Двенадцатая гора была вся белая, имела вид самый приятный (ίλαρά), все на ней было самое прекрасное (εύπρεπέοτατον)» (Sim. IX, 1, 10). Посреди равнины возвышалась огромная белая скала (или камень - πέτρα) кубической формы; она была выше всех гор и выглядела древней. В ней была высечена дверь, «которая казалась недавно сделанною» и «сияла светлее солнца». У двери стояли 12 прекрасных дев, обнажив правые плечи, как будто собирались нести какую-то ношу. Четыре из них, отличавшиеся особой красотой, стояли попарно по обе стороны двери.
Затем появилось шесть высоких почтенных мужей и множество сильных красивых юношей, которым было приказано строить башню на кубе над дверью. Шестеро распоряжались строительством. Одни юноши добывали камни и отдавали их девам, те проносили их через дверь и передавали тем, кто непосредственно строил башню. Из «некоторой глубины» было извлечено сначала 10 белых хорошо отесанных камней, затем еще 25, 35 и 40 (символика их будет разъяснена пастырем). И все они в такой последовательности пошли на строительство. Затем юноши стали носить разноцветные камни с окружающих долину двенадцати гор. В здании они, будучи пронесенными девами через дверь, белели и хорошо укладывались в стену. Некоторые же камни юноши сразу передавали для строительства, минуя дев. Эти камни не делались светлыми и «были безобразны (άπρεπείς) в здании башни» (IX, 4, 6). Шесть мужей, увидев это, приказали изъять их из башни и возвратить туда, откуда они были взяты.
Через некоторое время прибыл с большой свитой «господин этой башни» - «муж высочайший ростом, так что он превышал самую башню». Он внимательно осмотрел сооружение и испытал каждый камень, трижды ударяя по нему тростью. Не все камни выдержали это испытание. «Некоторые камни после ударов его сделались черны как сажа; некоторые шероховаты; другие с трещинами; иные коротки; некоторые ни черны, ни белы; другие неровны и не подходили к прочим камням; иные покрылись очень многими пятнами» (IX, 6, 4). Господин повелел изъять все эти камни и сложить их возле башни, а на их место поставить другие, взятые с ближайшего поля. Пастырю господин приказал обработать и очистить изъятые камни и те из них, которые после этого смогут пойти на строительство, вернуть в башню, а совершенно негодные отбросить подальше от нее, что и было проделано пастырем.
Затем были призваны 12 «очень красивых женщин, одетых в черное, с обнаженными плечами и распущенными волосами». Им было поручено отнести отброшенные камни на горы, с которых они были взяты, что те с радостью и исполнили.
Когда строительство было доведено до определенного предела (но не завершено), пастырь обошел вокруг башни, «увидел, что она прекрасна (εύπρεπή) по своей постройке, и сделался очень весел (ίλαρός); она была построена так хорошо, что всякий увидевший ее полюбовался бы ее видом, потому что она казалась сделанной как бы из одного камня: не было видно ни одной спайки; она представлялась высеченной из одной скалы» (μονόλιθος). Пастырь стал «очень весел от такого прекрасного вида» (IX, 9, 7). Затем девы вымели строительный мусор, и «место около башни стало веселым и красивым» (ίλαρός καί εύπρεπέστατος). Пастырь оставил Ерма на попечение дев у башни. Они целовали его как брата, играли вокруг башни, водили хороводы, пели псалмы (IX, 9 - 11).
Некоторое время спустя пастырь подробно разъяснил Ерму символическое значение увиденной картины. Скала (πέτρα) и дверь (πύλη) - это Сын Божий. «Древность скалы означает, что Сын Божий древнее всякой твари, ибо присутствовал на совете Отца своего о создании твари. А дверь новая потому, что Он явился в последние дни, сделался новой дверью, для того чтобы желающие спастись через нее вошли в Царство Божие» (IX, 12, 1 - 3). Именно поэтому только камни (которые суть члены Церкви, т. е. верующие), пронесенные чрез дверь, органично входили в здание башни. Итак, Сын Божий - это единственная дверь к Богу и в Царство небесное, единственный вход в Церковь. Господин, принимавший строительство и испытывавший камни,- тот же Сын Божий; мужи и юноши-строители - ангелы; 12 дев, проносивших камни через дверь,- это духовные силы (πνεύματα, δυνάμεις) Сына Божия: вера, воздержание, мощь, терпение, простота, кротость, целомудрие, радость, правдивость, разумение, согласие и любовь. 12 женщин в черных одеждах символизируют человеческие пороки: вероломство, неумеренность, неверие, сластолюбие, печаль, лукавство, похоть, гнев, ложь, неразумие, злоречие, ненависть. Те, кто соблазняется их красотой, даже уже будучи в Церкви, извергаются из нее, как те камни, которые были отданы этим женщинам. 12 гор, поясняет пастырь, «означают двенадцать племен, которые населяют весь мир», но в дальнейшем он истолковывает их скорее как категории верующих, различающихся по степени веры от отступников и богохульников (первая черная гора) до «верующих, подобных младенцам» (двенадцатая белая гора).
В этом самом по себе очень интересном толковании, в котором фигурируют символы и аллегории, вошедшие впоследствии в христианскую культуру, отметим несколько моментов, особо важных для нашей проблематики. В частности, наряду с традиционными для позднеантичной культуры аллегорическими образами автор «Пастыря» достаточно упорно акцентирует внимание на таком специфическом символе, как имя (όνομα). Уже в первом видении он подчеркивает, что «башня основана словом всемогущего и преславного имени, и держится невидимою силою Господа» (Vis. III, 3, 5); в Царство Божие человек может войти «только чрез имя Сына Божия» (Sim. IX, 12, 4); «имя Сына Божия велико и неизмеримо, и оно держит весь мир» (IX, 14, 5); «человек до принятия имени Сына Божия мертв» (IX, 16, 3). Из этих примеров видно, что автор наделяет имя Сына Божия большой сакральной силой, явно следуя древнееврейской традиции, отождествлявшей имя с сущностью. В этом же русле и его рассуждения об именах дев - духовных сил Сына Божия. Недостаточно человеку принять только «имя Сына Божия», утверждает автор «Пастыря», ему необходимо принять и Его силы, облечься их именами, как одеждой. «Всякий, кто носит имя Сына Божия, должен также носить и их имена, потому что Сам Сын носит имена этих дев» (IX, 13, 3). Имя для Ерма - нечто большее, чем условный знак; он ощущает его глубинную, сакральную связь с сущностью именуемого и тем самым оказывается у истоков будущей православной философии имени, как и христианского символизма в целом.
В «Пастыре» Ерма достаточно ясно вырисовывается еще один из наиболее значимых для православного сознания архетипов, получивший у русских религиозных мыслителей имя соборности. Помимо характерного для христианства обозначения одним словом церковь и здания для богослужения, и самой христианской общины, Ерму в видении Церковь предстает в образе башни (т. е. здания), составляемой из ее членов (верующих) - каменных блоков. При этом с помощью духовных сил (=имен) Сына Божия башня являет собой абсолютную целостность (μονόλιθος) - «сделана как бы из одного камня». Это означает, что «те, которые уверовали в Господа чрез Сына Его и облечены этими духовными силами, будут один дух и одно тело (είς έν πνεύμα, είς έν σώμα), и будет один цвет одежд их» (IX, 13, 5; ср.: Vis. III, 2); принявшие имя Сына Божия «сошлись воедино и стали одно тело (έν σώμα)» (Sim. IX, 17, 5).
Для нас здесь, кроме того, важно, что это «тело», т. е. Башня-Церковь, было сооружено фактически по эстетическим законам, и все описание символической картины апокалиптического строительства дома Божия пронизано эстетическими интуициями. Башня - произведение мудрых строителей и оценивается, как мы видели, пастырем как «прекрасная». Она составлена из идеально подогнанных друг к другу блоков; сияет и сверкает своей белизной; радует всех, видящих ее, так что строители ликуют, прославляя ее пением, играми и хороводами. Сооружается башня в прекрасной местности прекрасными девами и юношами, камни для строительства используются только идеальные по своей форме и цвету; двенадцатая гора, символизирующая идеальных верующих, прекрасна и т. п.
Вообще, следует отметить, что практически все явления и видения Церкви или небесных сил (ангелов, аллегорий добродетелей и т. п.), как и сами притчи у Ерма, эстетизированы, т. е. многие символы предстают в модусе прекрасного и возвышенного, доставляя истинную радость. «Пастырь» пронизан жизнеутверждающим оптимизмом новой веры, нового миропонимания. Духовная радость, наслаждение, веселие (ίλαρότης) выступают здесь своего рода критерием истинности веры, знаком приобщения к истинной духовности. При этом автор отличает удовольствия «спасительные» от вредных. Последние нередко возникают при совершении порочных дел, и за них грешники понесут наказания. Спасительные же удовольствия, особую «сладость» люди получают, совершая добрые дела (VI, 5, 5). «Беспечально и радостно» будут жить они и в «своем отечестве», т. е. в Царстве Божием, куда верующие должны в конце концов вернуться из своего странствия по земной юдоли (I). А поэтому радость - нормальное состояние для человека, и она угодна Богу, ибо дух, данный Богом нашему телу, не терпит печали. «Итак,- призывает пастырь - ангел покаяния (!), - облекись ты в радость (την ιλαρότητα), которая всегда имеет благодать пред Господом и угодна Ему, и утешайся ею. Ибо всякий радующийся человек делает доброе и помышляет о добром и презирает печаль» (Mand. X, 3, 1). Напротив, человек печальный всегда зол; он оскорбляет дух, который получил от Бога радостным, и «молитва печального человека никогда не имеет силы восходить к престолу Божию», ибо печаль как бы сковывает крылья молитве, лишает ее чистоты. «Посему очищайся от злой печали и будешь жить с Богом; и все будут жить с Богом, которые только отбросят от себя печаль и облекутся в радость» (X 3, 4).
Этот пафос неудержимой духовной радости, испытываемый первыми апологетами и проповедниками христианства, будет затем существенно приглушен у ортодоксальных Отцов Церкви, однако суть его останется неизменной и он войдет в христианство как один из главных компонентов ценностного ряда. Духовная радость станет тем идеалом., на который в конечном счете будет ориентироваться вся христианская культура, явится доминантой христианской эстетики, обретя широкий спектр выражения.
В «Пастыре» Ерма мы встречаемся не только с ликующей радостью от созерцания прекрасного символа Церкви, но и с более сложными проявлениями эстетического чувства, возникшего при соприкосновении со столь грандиозными видениями и пророчествами, которые значительно превышают по значимости и содержанию привычные для позднеантичного мира символы и аллегории. Явленные Ерму «великие и прекрасные вещи» вызывают у него чувство удивления и изумления (Sim. IX, 2, 2), доходящего подчас до ужаса, так что волосы стают дыбом (Vis. III, 1). Старица-Церковь читала по книге нечто «величественное и дивное (μεγάλως καί θοαυμαστώς), чего не мог я удержать в памяти. Ибо слова были страшны (έκφρικτα), так что человек не мог вынести их» (I, 3, 3). Это тоже эстетическая реакция на символические образы, но она уже имеет иную окраску. Здесь перед нами то качество эстетического сознания, которое наиболее адекватно, в соответствии с традиционной эстетической терминологией, может быть обозначено как возвышенное. Символико-аллегорические картины апокалиптического характера вызывают у Ерма именно это возвышенное состояние духа, сочетающее в себе удивление, восторг, изумление и ужас.
Таким образом, уже в одном из самых ранних христианских памятников, стоящем на рубеже двух эпох - эпохи апостольских отцов и времени апологетов, мы обнаруживаем яркое образно-символическое христианское мышление, пронизанное эстетическими интуициями. Начиная с «Пастыря» Ермы символ (в самом широком смысле) становится одним из главных принципов художественно-эстетического мышления в христианской культуре.
Апологеты активно продолжили традиции образно-символического понимания Св. Писания и других текстов, сложившиеся у их предшественников. Центром наиболее последовательного и виртуозного образно-символического мышления была александрийская школа, непосредственно опиравшаяся на метод своего земляка Филона. Однако дух образно-символического философствования, ориентированного не только на разумную, но и на эмоциональную сферу сознания, был присущ и малоазийским, и карфагенским, и римским христианам.
Сирийскому грекофилу Феофилу универсум представляется системой образов. Солнце выступает у него образом (έν τύπω) Бога, луна - образом человека. Самые яркие звезды - образы (είς μίμηοιν) пророков, а менее яркие - образы (τύποι) праведных людей. Четвероногие животные суть образы людей, не знающих Бога, а хищные птицы и звери - подобия людей алчных и преступных. Три дня творения до создания светил - образы (τύποι) Троицы, а четвертый день - образ человека, нуждающегося в свете (Ad Aut. 15 - 17).
У Тертуллиана Вселенная с ее природным круговоротом умирания и возрождения жизни в растительном и животном мире выступает образом (figurat) будущего воскресения человека (De carn. resur. 12-13). Минуций Феликс считает, что земные царства суть образы (exempla) Царства небесного (Octav. 18. 6). Лактанций видит в частях света - юге и севере - образы (figura) жизни и смерти (Div. inst. II, 9, 10), а в обычном земном дне с восхода до заката солнца - образ (speciem gerere) великого эсхатологического дня длительностью в 6000 лет; как «мы часто говорили,- поясняет он,- и незначительные [предметы] могут служить образами (figuras) и предзнаменованиями (praemonstrationes) [вещей] великих» (VII, 14, 12).
Мысль образно-символической значимости невзрачных и даже безобразных (на чем сделает акцент Дионисий Ареопагит) предметов и явлений лежала в основе раннехристианской идеологии, отражавшей чаяния «невзрачной», обездоленной части населения Империи. Мысль эта обосновывала переоценку всех традиционных ценностей, проводимую ранним христианством. Все, почитавшееся в мире римской аристократии ценным (в том числе богатство, роскошь, внешняя красота и т. д.), утрачивает свое значение в глазах христиан, и высоким духовным смыслом наделяется все невзрачное и презираемое Римом. Отсюда и представления о невзрачном внешнем виде Христа.
Тертуллиан, обращаясь к библейской символике, указывает, что «голубь обычно обозначает (demonstrare) Христа, змей - искусителя» (Adv. Valent. 2). Голубь как «образ (figura) Святого Духа любит восток, образ (figuram) Христа» (Ibid. 3). Лодка, в которой Иисус с учениками плыл по бурному морю (Мф 8, 24), представляет собой образ (figura) Церкви (De bapt. 12).
Феофилу Антиохийскому мир представляется подобным (έν όμοιώματι) морю, в котором христианские церкви - спасительные животворные острова, а ереси - скалистые безжизненные утесы (Ad Aut. 14).
Любитель символико-аллегорического философствования Ипполит Римский также рисует мир (как социум) в образе бушующего моря, а Церковь - как спасительный корабль в нем. Корабль этот носится в пучине, но не тонет, так как имеет опытного кормчего - Христа. Нос у корабля - Восток, а корма - Запад. Два руля у него - два Завета (Ветхий и Новый). Любовь Христова, связующая Церковь, служит скрепами корабля. Паруса на этом корабле - Дух с небес, а якоря - заповеди самого Христа, имеющие такую же крепость, что и железо. Корабельщиками служат ангелы, стоящие по правому и по левому борту и помогающие кормчему вести корабль в свирепых штормах житейского моря, и т. д. (Dem. de Chr. 59).
Наиболее полный материал по вопросам
образа и
символа находим мы у Климента Александрийского, ибо духовная атмосфера Александрии того времени активно способствовала развитию этих представлений. Именно у Климента начинает складываться христианское образно-иерархическое понимание универсума, нашедшее свое окончательное воплощение в иерархической системе автора «Ареопагитик». Как отмечал В. Фёлькер, Климент первым из христианских писателей сделал учение об образе (είκών) главным пунктом своей мировоззренческой системы
[327]. Образ начинает играть у него роль структурного принципа, гарантирующего целостность всей системы. Первопричина - Бог - исходный пункт образной иерархии, первообраз для последующих отображений. Логос является первым образом Архетипа (Protr. 5, 4; 98, 4; Paed. I, 4, 2), максимально изоморфным, подобным (όμοιος) ему практически во всем. Это еще невидимый и чувственно не воспринимаемый образ. Его образом (по воле Логоса) является разум (или душа) человека - «образом образа состоит разум человека» (Str. V, 94, 5; ср. Protr. 98, 4). В этом плане Климент не различает разум и душу, т. е. имеет в виду вообще духовную сущность человека. Сын. по его мнению, «запечатлевает в духе гностика свой образ, чтобы гностик мог возвыситься до созерцания его полноты». Поэтому сам гностик становится уже только «третьим образом Бога» (Str. VII, 16,б)
[328]. Это уже материализованный, визуально и тактильно осязаемый образ, достаточно слабо отражающий первообраз. И совсем далеко «отстоит от истины» четвертая ступень образа - образы изобразительного искусства, в частности статуи, изображающие людей или антропоморфных богов (Protr. 98,3-4). Очевидна платоновская подоснова этой иерархии
[329], хотя и развитая уже в христианском русле.
Внимательно всматриваясь в образно-символические представления апологетов, мы замечаем, что у раннехристианских мыслителей намечается тенденция к различению, по крайней мере, трех основных типов образа, которые условно можно было бы обозначить как миметические (подражательные), символические, или символико-аллегорические, и знаковые (в узком смысле слова «знак»). Отличаются они друг от друга характером выражения духовного содержания в материальных образах, или степенью изоморфизма. Для миметических образов характерна высшая степень изоморфизма, они подобны отражениям в зеркале. К ним апологеты относили все изобразительные искусства античности, которые, по их мнению, не имеют никакой самостоятельной ценности, но значимы лишь как более или менее искусные (верные) копии оригиналов. Символические образы более условны. Кроме того, они обладают определенной автономной ценностью как самостоятельные предметы, но в их структуре или в отдельных ее элементах может быть достаточно уверенно усмотрено отражение каких-то иных реальностей. В знаковых образах соотношение между образом и оригиналом (или ýже - денотатом) еще более условно и неоднозначно, но и в них все еще сохраняется определенная взаимопронизанность образа и денотата в отличие от ее полного отсутствия в чисто знаковой ситуации. Главную ценность здесь для апологетов представляет не денотат, но скорее десигнат или то часто достаточно произвольное значение, которое они усматривали в знаке.
Главную роль в раннехристианской философии и эстетике играл средний тип образов - символико-аллегорические. Как мы видели, весь универсум и, как мы увидим ниже, тексты Писания понимались апологетами прежде всего в свете этих образов. Два других типа образа - это как бы семантические крайности главного типа. Тем не менее и они имели в раннехристианской культуре свое самостоятельное значение.
Миметические образы апологеты усматривали прежде всего в изобразительном искусстве, продолжая в этом плане традиции античного иллюзионистического понимания скульптуры и живописи, о котором мы уже имели случай говорить. В космической иерархии образов Климента Александрийского миметические изображения живописцев и скульпторов занимают нижнюю ступень, максимально удаленную от высшей истины. Они в лучшем случае лишь зеркальные копии материальных предметов, не обладающие своим онтологическим статусом.
Рассуждая о деятельности художника, Ириней Лионский отмечает, что хороший художник создает «похожие» (similis) образы, а плохой - «непохожие» (dissimiles); «поэтому, если образ непохож, то плох художник» (Adv. haer. Π, 7, 2). Это чисто миметическое, изоморфное понимание Ириней, как и некоторые другие раннехристианские мыслители, распространяет на образ в целом, не замечая, что этим он вступает в противоречие с общим для духовной культуры христианства символико-аллегорическим пониманием образа.
Полемизируя с гностиками, Ириней стремится доказать, что «несходные и противоположные по природе вещи» не могут быть ни образами одного и того же предмета, ни - друг друга (II, 7, 4). «Вещи же противоположные (contraria) могут быть разрушительными для тех, которым они противоположны, но не [их] образами (imagines); как, например, вода и огонь, свет и тьма и многое другое никак не могут быть образами друг друга. Так же [предметы] тленные, земные, сложные, преходящие не будут образами тех [вещей], которые, по их мнению, духовны». Ириней спорит здесь с гностиками по поводу конкретно-чувственного изображения невидимых эонов. «Если они (гностики. - В. Б.) называют их духовными, не ограниченными [ничем] и необъятными, то как могут [предметы], имеющие вид (in figura) и ограниченные пределами, быть образами того, что не имеет вида (sine figuratione) и необъятно?» (II, 7, 6). И далее Ириней сознательно противопоставляет миметическое понимание образа символическому: «Если же они скажут, что [эти вещи] - подобия не по виду и форме (secundum figurationem et formationem), а по числу и порядку произведения, то... их уже нельзя называть образами и подобиями (imagunes et similitudines) находящихся наверху эонов; ибо как вещи, не имеющие ни формы, ни вида (nec habitum, nec figuram) тех, могут быть их образами?» (II. 7,7). Итак, образ, по Иринею, должен «по форме и по виду», т. е. по внешнему виду, прежде всего быть подобным отражаемому прототипу. Если же прототип духовен, т. е. не имеет «внешней формы», то не может быть и его конкретно-чувственного образа, а то, что имеет не миметическое, не изоморфное подобие (вернее, соотношение. - В. Б.) с прототипом, то уже и не может быть названо его образом. Ириней дал классическое определение миметического образа, на которое впоследствии опирались, по-разному его истолковывая, и иконоборцы и иконопочитатели в Византии. «Тип (typus) же и образ (imago), - писал Ириней,- по материи и по субстанции несколько отличны от истины (т. е. прототипа. - В. Б.); но по виду и очертаниям (secundum habitum et lineamentum) должны иметь сходство (similitudinem) [с нею] и по подобию (similiter) должны выражать во внешней форме (per praesentia) то, что отсутствует» (II, 23, 1). Сам Ириней, как и другие раннехристианские мыслители, своей теорией миметического образа стремился доказать, что изображение (конкретно-чувственный образ) духовных предметов невозможно, т. е. был одним из духовных отцов иконоборчества.
Миметический образ имел в виду и Тертуллиан, полемизируя с гностиком Гермогеном. Последний утверждал, что мир создан из первичной материи и носит в себе черты этой материи, т. е. как бы отражает ее в себе. Тертуллиан возражает, что лучшее и устроенное не может носить в себе образ худшего и неустроенного. «Никакая вещь не является зеркальным отражением (speculum) другой вещи, не одинаковой [с ней]; никто не видел себя [в зеркале] у цирюльника мулом вместо человека, за исключением того, кто думает, что в этом мироздании бесформенная и неустроенная материя отражается в устроенной и украшенной (соmpta). Что сегодня бесформенно в мире? Что прежде было устроенного (speciatum) в материи, чтобы мир стал зеркалом материи?» (Adv. Herm. 40). Тертуллиан требует от образа того же подобия, сходства с прототипом, что и Ириней. Кроме того, он утверждает, что образ (отражение - speculum) не может быть красивее оригинала: в лучшем не может отражаться худшее, но лишь наоборот. В полемических целях Тертуллиану выгодно здесь понимать образ только как изоморфное, миметическое изображение, и он указывает его специфические признаки в качестве главных признаков образа, как бы забывая, что в других местах он много говорил и об иных, далеких от внешнего изоморфизма образах. Подобное понимание образа дает Тертуллиан и в другом трактате, утверждая, что ангелы как служители не могут быть образами (imago) Владыки - «это все равно, как если бы с осла писать мула или Птолемея списывать с Валентина» (Adv. Valent. 19). Тертуллиан и здесь вступает в противоречие с самим собой. Если в полемике с Гермогеном он указывал, что в худшем в какой-то мере все-таки может отражаться лучшее, то здесь он проводит мысль, близкую к суждениям Иринея. Только подобное, близкое друг другу по сущности и по форме может находиться в отношении «зеркального отражения», т. е. образовывать миметический образ.
Однако Тертуллиан непоследователен в своем понимании этого типа образа. В трактате «О плоти Христа», утверждая, что тело человека создано из земли и воды, он показывает, что в нем как в образе отражается структура земли, т. е. лучшее (тело) является образом худшего. Мускулы человека похожи на глыбы земли, кости - на камни, соски на груди человека покрыты небольшими бугорками, подобно мелким камешкам. Жилы напоминают корни деревьев, сеть кровеносных сосудов - ручьи, разбегающиеся по всей земле. Мягкие волосы похожи на мхи, а волосы на голове - на дерн. Скрытые массы мозга - это рудоносные пласты (De carn. Chr. 9).
Здесь Тертуллиан уже отходит от миметического типа образа в сторону более условного - символически-аллегорического, которому он уделил немало внимания в своих трудах.
О миметическом образе писал и Арнобий, утверждая: «Нельзя ведь называть и считать правильным изображением (simulacrum) то, которое не представляет одинаковых черт с оригиналом» (Adv. nat. VI, 10).
В борьбе с идолопоклонством, выступая против изображений Бога, Лактанций заявлял, что образ (imago) имеет важное значение и тогда, когда отсутствует оригинал, т. е. он выполняет чисто утилитарную функцию по замене оригинала. При наличии оригинала образ не нужен, а так как Бог находится везде, то в его изображениях нет надобности. Они бесполезны даже как напоминание о Боге, ибо слишком далеки от оригинала. Лактанций, доводя до логического конца позднеантичную теорию миметического образа, утверждает, что и «изображение (simulacrum) вечно живого Бога должно быть живым и обладающим чувствами» (Div. inst. Π, 2, 6 - 10). Это понимание образа как практически тождественного оригиналу лежало в основе как раннехристианского, так и последующих иконоборческих движений.
Отрицая возможность существования миметического изображения Бога в искусстве, апологеты не отказываются от понятия «мимесис», но переносят его в сферу морально-нравственного облика человека. Как мы помним, у Климента Александрийского цель и смысл жизни человека, стремящегося к совершенству, к идеалу, к постижению высших истин, состоит в «подражании Богу». Миметический образ получает у ранних христиан новое развитие и новую интерпретацию в плоскости религиозно-нравственного совершенствования человека, сохраняя при этом свою эстетическую окраску, но наполняясь совершенно новым содержанием.
В основе этой теории лежит ветхозаветная мысль о том, что человек был создан «по образу и по подобию» (κατ' είκόνα καί καθ' όμοίωσιν) Бога (Gen. 1, 26). Эта идея дала богатую пищу для всей позднеантичной эстетики, ориентирующейся на Библию. Много внимания уделял ей Филон Александрийский. Христианские мыслители практически не замечали ее вплоть до последней трети II в.
[330]. Первых апологетов или вообще не интересовала эта проблема (Афинагор Афинский, Феофил Антиохийский), или же они уделяли ей мало внимания, не делая различия между είκών и όμοίωσις (Юстин, Татиан). Продолжателями филоновских традиций в области эйконологии стали прежде всего гностики, а затем - Ириней Лионский и Климент Александрийский.
Многочисленные чины эонов в гностических учениях соотносились друг с другом и с демиургом по принципу образного отображения (είκών). Начала христианской иерархии образов закладывались уже здесь, хотя, как мы помним, еще Ириней активно полемизировал с подобными представлениями. При этом у гностиков имелось в виду не только отображение по форме, но и по существу. В ряде гностических теорий существовала числовая образность (предметы и явления создавались «по образу» чисел). Первыми осознанно разделять «образ» и «подобие» начали валентиниане. «Образу», по их мнению, соответствует материальная, «гилическая» (от греч. ϋλη) часть человека, а «подобию» - «психическая» (душа, берущая начало от демиурга)
[331].
Наиболее интересные для эстетики гностические суждения об образе мы встречаем в более поздних (IV в.), но характерных для гностицизма текстах, известных под названием «Псевдоклиментины» и приписывавшихся некогда Клименту Римскому
[332]. Адам назван в них «образом по подобию» (καθ' όμοίωσιν ή είκών. - Нот. III, 17), а человек - созданным «по образу и подобию Бога» (XI, 4). «Образ» (είκών) носят в себе все люди, а подобие (όμοιότης) человек утратил в результате грехопадения и может обрести его вновь только совершая праведные дела. Под όμοιότης имеется в виду идеальный нравственный облик человека; είκών - это видимый образ невидимого образа Бога (XVII, 7). Бог, по мнению автора «Псевдоклиментин», обладает особым, невидимым для человека обликом - «образом» (μορφή, σχήμα). Бог есть красота, а «красота невозможна без образа» (μορφή) (XVII, 10), следовательно, Бог, стремящийся быть любимым, не может быть безобразным (είδος ούκ έχοντα), не имеющим формы. И образ (μορφή) он имеет исключительно из эстетических соображений - не ради какой-либо практической пользы, но «ради первой и единственной красоты» (XVII, 7)
[333]. Человек же в своем теле (έν τω σώματι) носит уже
видимый образ (είκών) невидимого образа Бога (μορφή, είδος, σχήμα) (Χ, 6). Отображение это необходимо (и здесь эстетика смыкается с гносеологией) для познания «идеи истинно сущего», ибо из образа человека может быть извлечен его «истинный прообраз» (XVI, 10). Именно ради этой цели и необходимо «путем праведных дел уподобляться (εξομοιωθήναι) Богу». Богоподобие, кроме того, поднимает человека над всем творением, дает ему власть над природой (XVI, 19; X, 3). Таким образом уже в «Псевдоклиментинах» намечена эстетическая программа, которую последовательно на протяжении многих веков будут разрабатывать христианские мыслители.
Первые греческие апологеты, как мы указывали, не уделяли этому вопросу особого внимания. Так, Татиан, бегло останавливаясь на указанной фразе из Gen. 1, 26, отмечает, что «подобие» человека Богу состоит в его духовности (Adv. gr. 15). Предшественник Иринея и тоже выходец из Малой Азии Мелитон Сардский считал, что «образ» (κατ' είκόνα) следует искать не в душе человека, но в его теле
[334].
Проблема «образа и подобия» специально не интересовала и латинских апологетов II-III вв., хотя мимоходом они нередко затрагивали ее. Наиболее интересный материал находим мы у Тертуллиана.
Со ссылкой на Послание апостола Павла к Филиппийцам (Флп 2,5 - 6) Тертуллиан указывает, что Христос есть образ (effigies) Божий. Бог, хотя и является духом, имеет тело, ибо «дух [имеет] тело особого рода в своем образе» (Adv. Prax. 7).
Арнобий, опираясь на то же Послание (Флп 2, 7), утверждал, что Сын Божий принял образ (forma) и подобие (similitudo) человека, чтобы скрыть свое могущество и иметь возможность вступить в контакт с людьми (Adv. nat. Ι, 60).
Трактуя библейскую фразу из Gen. 1, 26. Тертуллиан писал, что образ (imago) означает материальность (materialis) человека, а подобие (similitudo) его одушевленность (animalis) (Adv. Valent. 24). Правда, в трактате «О крещении» он дает иное понимание этих слов из Книги Бытия. С омытием водой крещения грехов «человек восстанавливается для Бога по подобию того, который прежде был создан по образу Бога. Образ (imago) ценится в изображении (in effigie), подобие (similitudo) - в вечности». Человек при крещении вновь принимает тот Дух Божий, который он получил при сотворении чрез дуновение Бога, но затем потерял его, начав грешить (De bapt. 5). Здесь же Тертуллиан отмечает, что воды Красного моря, потопившие фараона и его войска,- ясный образ (figura) таинства крещения (9).
Еще в одном трактате Тертуллиан толкует слова «по подобию» Божию как выражение свободной воли, дарованной Богом человеку (Adv. Marc. II, 6). Образ же, считает он, потому и является образом, что не может во всем сравниться с оригиналом. Он не содержит сущности оригинала, т. е. по необходимости обладает рядом отличий от него (II, 7 - 8). На примере образного соотношения дыхания (как важного атрибута земного человека) и духа (как атрибута Бога) Тертуллиан стремится показать сходство и различие образа (imago) и прототипа (человека и Бога): «[Дыхание] является образом духа. И действительно, человек духовен, ибо он есть образ Бога; Бог же есть дух. Образом духа является дыхание. В свою очередь, образ не всегда приравнивается к истине. Одно дело - соответствовать истине (secundum veritatem esse), другое - быть самой истиной. Так и дыхание, если оно является образом духа, не может быть настолько сопоставлено с образом Бога, чтобы человек [можно было утверждать, что если истина, т. е. дух, т. е. Бог, не содержит погрешности, то и образ, т. е. дыхание, <т. е. человек>, не должен иметь [в себе] ошибки. В этом [смысле] образ будет хуже истины и дыхание ниже Духа; тем не менее [душа] содержит такие черты Бога, как бессмертие, свобода воли, большая степень предвидения, разумность, восприимчивый ум и знания; однако и в этом образе [черты сходства] не доходят до самой божественной силы (до полной аналогии. - В. Б.); не свободен он и от погрешностей, ибо сие присуще только Богу, т. е. истине, и только это не дозволено образу. И как образ, когда он изображает все черты истины и лишен только самой [ее] силы, не имея движения, так и душа, образ духа, не способна выразить только его силу, т. е. не ошибаться [относительно] счастья. В противном случае это была бы [уже] не душа, но [сам] дух, не человек, наделенный душой, но [сам] Бог» (II, 9). Образ понимается здесь Тертуллианом, в отличие от уже приведенных выше толкований, как некий имеющий самостоятельное бытие предмет, наделенный, однако, определенными, достаточно большими чертами сходства с оригиналом, но в своей сущности (в силе) отличный от него. Это достаточно общее и по сути своей эстетическое понимание образа Тертуллиан распространяет только на человека, как особое, главное творение Бога-Художника. Не случайно далее он приводит сравнение человека как образа с произведением земного художника - гончара: «Творение же по необходимости есть нечто иное, чем художник, именно - оно ниже художника. Не кувшин, сделанный гончаром, будет [выше], а сам гончар; также - не дыхание, произведенное духом, но - сам дух» (II, 9).
В полемике с античными критиками христианства Минуций Феликс по поводу культовых изображений вопрошал: «Какое изображение Бога я сделаю, когда сам человек, если ты правильно рассмотришь, является изображением (simulacrum) Бога?» (Octav. 32, 1). Лактанций писал о сотворении человека следующее: «Тогда создает он себе изображение (simulacrum) чувственное и умное, то есть по образу (ad imaginis) своему форму, совершеннее которой ничего не может быть» (Div. inst. II, 10, 3). Интересно, что Лактанций опирается здесь на Платона, писавшего со ссылкой на Гомера о «богоподобии» человека (De rep. VI, 501b), и на высказывание Сивиллы, гласившее, что «человек является образом (είκών), обладающим правильным разумом» (Syb. VIII, 402). Лактанций, таким образом, знал греческую и гностическую теории образа, хотя и не уделял этой проблеме специального внимания. Для обозначения человека как «образа Божия» он часто использует термин simulacrum (изображение), т. е. понимает этот образ близким к изоморфному пластическому изображению. Simulacrum он употребляет и для обозначения статуи. Человек выступает у него как simulacrum dei, а статуя - simulacrum hominis (Div. inst. II, 17, 6). Библейская идея толкуется им в чисто античном духе. Человек оказывается образом Бога, близким к пластическому изображению. Более того, человек становится у Лактанция идеальным образом и образцом для пластических искусств, моделью образа вообще.
Ириней Лионский, объединивший в своем учении восточные и западные тенденции в христианстве, первым сознательно и последовательно занялся анализом проблемы
образа и
подобия в человеке
[335], стремясь «держать мысль на почве твердой действительности»
[336]. Почти вся его литературная деятельность была направлена, как уже указывалось, на полемику с гностицизмом
[337]. Именно большая роль понятия образа в гностических учениях заставила и их христианского оппонента уделить этой категории специальное внимание и дать, отталкиваясь от гностических теорий, христианское понимание проблемы. Творение мира для Иринея, как мы видели,- художественный акт. Бог у него прежде всего художник, творящий мир в соответствии с мерой и ритмом. Человек - вершина божественного искусства. Он создан «по образу и подобию» Божию. Не только его душа, но и тело причастно «художественной премудрости (τεχνικής σοφίας) и силе Божией» (Adv. haer. V, 3, 3). В полемике с «ложными гностиками» Ириней сформулировал ставшее затем традиционным для христиан различие между
образом (είκών, imago) и
подобием (όμοίωσις, similitudo). Είκών у него низшая, а όμοίωσις высшая ступени Богоподобия.
Образ понимается Иринеем, с одной стороны, в смысле наделения души человека разумом и свободой воли, а с другой - в плане особой телесно-духовной организации человека, отражающей «в форме и виде» прообраз. Для эстетики особенно важно это второе, пластическое понимание образа.
Образ - это нечто изначально данное эмпирическому человеку в самом акте творения (in plasmate) (V, 6, 1), это нечто природное, неразрывно связанное с самой природой человека. Он знаменует единство духовного и телесного начал в человеке, «смешение души и тела» (II, 8, 2, V, 20, 1), которое не может быть утрачено человеком, пока он жив. Более того, сама «плоть» (σάρξ, caro) человека создана по «образу» (είκών) Бога (V, 6, 1)
[338]. Телесный вид человека является материальным
выражением божественной духовности. Это было неясно, полагает Ириней, до вочеловечивания (воплощения) Логоса. Когда же сам Логос явился миру в образе человека, ясна стала сущность этого образа. «В прежние времена хотя и было сказано, что человек создан по образу Бога, но это не было показано. Был еще невидимым Логос, по образу (κατ' είκόνα) которого создан человек. Поэтому он (человек. -
В. Б.) легко потерял подобие (όμοίωσις). Когда же Слово Божие стало плотью, оно подтвердило и то и другое; ибо и истинно показало образ, само став тем, что было его образом, и прочно установило подобие, делая человека соподобным невидимому Отцу посредством видимого Слова (V, 16, 2).
Подобие, таким образом, уже никак не связано с телом. Это характеристика духовно-душевного состояния человека. Адам до грехопадения обладал и образом и подобием. Подобие состояло в особой сверхприродной святости, бессмертии, добродетельной жизни, близости к Богу, общности с ним
[339]. С грехопадением Адама человечество утратило
подобие, но с воплощением Логоса человек получил возможность
уподобления с помощью своих дел, своим образом жизни. Дело восстановления
подобия находится теперь в руках самого человека, хотя он может получить
подобие и как дар божественной благодати, опять же в награду за соответствующий образ жизни
[340]. Ομοίωσις, таким образом, является у Иринея идеалом духовного и прежде всего нравственного совершенства человека, είκών понимается им в двух смыслах: во-первых, как Логосо-подобие в телесно-духовном единстве человеческой природы и, во-вторых, как Бого-подобие - в разуме и свободной воле Бога.
Климент Александрийский во многом развивал идеи Иринея
[341], трактуя, однако, некоторые положения по-своему. Человек у него не только в целом является образом Логоса, но и отдельные черты его духовного облика суть образы высших реальностей. Повторяя мысли Филона и Иринея, Климент полагает, что свобода воли и есть «образ Бога в человеке». Образами Логоса являются разум и совесть (Protr. 59, 2), а грех затемняет «образ», делает его незначительным. Климента прежде всего интересует нравственно-психологический аспект образа. В этом направлении он и развивает мысль о «подобном образе» - подобии (όμοίωσις). По его мнению, все люди от рождения являются образами, но в данном случае είκών - только третья ступень отображения истины. Поэтому истинный гностик должен стремиться к усовершенствованию этого
образа, к подобию Богу (Protr. 122, 4; Str. II, 97, 1; 134, 2 и др.). Ομοίωσις у Климента - особый динамический образ,
образ-уподобление, образ-процесс. Одновременно он и идеал, цель устремлений христианина, и бесконечный процесс осуществления этой цели, ибо достигнуть полного
подобия Богу вряд ли возможно даже идеальному гностику.
Όμοίωσις - бесконечный путь к совершенству
[342]. Только Христу присущи оба образных состояния, человек же должен стремиться к «уподоблению Богу», насколько это в его возможностях (Str. IV, 152, 3). Климент разрабатывает и «правила гностического уподобления» в плане религиозно-нравственного совершенствования. Главными среди них являются кротость, человеколюбие, воздержанность, благочестие, рассудительность, постоянное самонаблюдение (IV, 152, 3; VII, 13, 4)
[343].
В отличие от Иринея Климент считает, что ни образ, ни подобие не имеют никакого отношения к телу человека, «ибо невозможно, чтобы смертное бессмертному уподоблялось». В Gen. 1, 26 речь идет о подобии Богу духом и разумом (Str. II, 102, 6). Смысл жизни человека, стремящегося к познанию высших истин, к счастливой жизни, состоит в стремлении и достижении подобия Богу.
Гносеологическую функцию образа и подобия подчеркивает и Ипполит Римский: «Ведь через образ, составляющий подобие, достигается познание Отца. Если же ты не познал образ (είκών), которым является Сын, как же ты хочешь увидеть Отца?» (Contr. Noet. 7). Образ (подобие, в этом аспекте понимается христианскими мыслителями как своеобразный
путь этически-гносеологического восхождения к идеалу, божественной Первопричине
[344]. У византийцев и изобразительный
образ - икона займет важное место в структуре этого
пути, став его важным звеном.
Миметический образ трансформируется у ранних христиан в образ духовно-нравственный. Он все больше утрачивает чисто пластический характер, ярко выступавший в понимании изобразительного искусства, и почти сливается с символическим образом, который господствовал в раннехристианском миропонимании, выполняя его анагогически-гносеологическую функцию.
Если говорить о терминологии, то она очень неустойчива. Климент даже не всегда соблюдает различие между είκών и όμοίωσις. Термин είκών иногда употребляется им для обозначения идеала (см., например, Paed. I, 4, 2: «таков наш безукоризненный образ»), часто используется в рассуждениях об изобразительном искусстве, а иногда и о «литературе»,- как правило, там, где речь идет о пластически представимых образах. Так, киренаик Аристотель заказал «в высшей степени похожий портрет» (μάλιστα όμοιοτάτην είκόνα) гетеры Лаисы (Str. III, 51, 1), а в притче о Лазаре перед нами предстает «изображение (είκόνα) богача и бедняка» (IV, 30, 4). Кроме того, для обозначения образа, часто духовного, Климент употребляет такие «пластически осязаемые» термины, как статуя (άγαλμα - духовный образ. - Protr. 51, 6), внешний вид (μορφή - образ Логоса в человеке. - Paed. III, 1,5), идол (είδωλα - образы. Protr. 66, 2). Фантасия также часто используется Климентом в значении образа (είκών) (обычно порицаемого), запечатлевающегося в душе человека. Так, всякое заблуждение «образует в душе свой образ» (τήν φαντασίαν), и душа повсюду носит с собой образ (είκόνα) своей страсти (Str. II, 111, 4). Удовольствие также создает в душе «дурные образы» (φαντασίαι), ослепляет душу, нарушает покой человека (Str. II, 111, 3). И только стремление к истинному знанию, к обучению постепенно заменяет в душе человека ложные фантазии на «разумные образы» (VII, 100, 4).
Раннее христианство разрабатывало на основе богатых античных и ближневосточных традиций и другой тип образа, во многом противоположный миметическому, - знаковый, близкий к условному знаку.
Проблема знака в раннехристианской культуре требует специального исследования, далеко выходящего за рамки нашей работы. Здесь имеет смысл указать только на отдельные аспекты знакового образа, рассмотренные апологетами.
Татиан интерпретирует словесный знак (τό σημεϊον) в узком лингвистическом смысле, отличном как от платоновского, так и от ветхозаветного понимания. Буква и слово, по Татиану, - условные знаки
[345], установленные людьми для обозначения тех или иных предметов, явлений, понятий. Они не содержат в себе сущности явления, но только обозначают его, «ибо начертания букв и слова, состоящие из них, не могут сами по себе иметь значения; люди установили знаки своих мыслей и из некоторого соединения их узнают то, для чего был узаконен и порядок букв» (Adv. gr. 17). Однако знак в этом смысле мало интересовал апологетов. Наиболее последовательную разработку его мы найдем только у Августина
[346]. Внимание раннехристианских мыслителей было привлечено к иному, более, если так можно выразиться, образному пониманию знака, сформировавшемуся еще в новозаветной литературе. Термин «знак» (σημεϊον) и его производные употребляются в Новом Завете практически в трех значениях, имеющих некую общую основу. Во-первых, как условный знак, который в собственном, узком смысле этого понятия встречается, пожалуй, лишь один раз в Новом Завете, когда апостол Павел называет свой автограф (собственноручный текст)
знаком аутентичности его посланий (2 Th. 3, 17). Близко к этому смыслу стоит понимание обрезания Христа как знака (Rom. 4, 11), и «младенца в пеленах, лежащего в яслях» как знака рождения на земле Спасителя (Luc. 2, 12). Сюда же можно отнести, с определенной оговоркой, и обозначение Иисусом трехдневного пребывания Ионы во чреве кита знаком грядущего трехдневного пребывания Сына Человеческого «в сердце земли» (Mat. 12, 38-40; Luc. 11, 29). Однако этот знак уже сильно тяготеет к символико-аллегорическому образу.
Во втором и более распространенном смысле знак понимается в Новом Завете как знамение, некоторое чудесное, нарушающее порядок феноменального бытия явление, возвещающее (знаменующее) собой некие сверхъестественные события, связанные в основном с осуществлением пророчеств. Так, ученики Христа просят сообщить его, какое будет знамение (σημεϊον) его второго пришествия и начала нового эона (Mat. 24, 3; Mar. 13, 4; Luc. 21, 7). Таким знамением, помимо других признаков, будет явление самого Сына Человеческого на небе (Mat. 24, 30), а также большие землетрясения, голод и мор, странные явления в небе, на солнце и в звездах (Luc. 21, 11; 25). А вот апокалиптические знамения: «И явилось на небе великое знамение (σημεϊον μέγα) - жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд» (Ар. 12, 1); «И другое знамение явилось на небе: вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем» (12, 3); «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, - семь Ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия» (15, 1). Эти знамения понимались ранним христианством не столько в качестве имеющих быть реально событий (хотя и буквальное понимание, как мы увидим ниже, не отрицалось многими из христианских мыслителей), сколько в качестве системы знаков, выраженной в ярких пластических образах.
Наконец, третье понимание знака или, точнее, использование термина σημεϊον, - для обозначения чудес, реально творимых на земле, прежде всего самим Христом, но также его учениками и редко - ангелами и демонами. В Евангелии от Иоанна (изредка и в других книгах Нового Завета) почти все чудеса Христа (исцеления, воскрешения, превращение воды в вино и т. п.) названы знаками, ибо автора, посвятившего свою книгу выявлению божественной сущности Христа, и чудеса интересовали не в их имманентной данности, но исключительно в их семантическом аспекте - как знаки божественной сущности Иисуса. Эта связь знака с чудом привела и к обратному - наделению знака вообще чудесными свойствами, что также было присуще практически всей раннехристианской духовной культуре и имеет своими истоками ветхозаветные религиозные представления.
Отсюда берет начало толкование Юстином библейского эпизода с избавлением от змей путем создания изображения змея на кресте (у Юстина - «на знаке» - έπί σημεϊον). Этот знак обладал чудодейственной силой против змей (Tryph. 94). В другом месте, доказывая отсутствие какой-либо святости в древнееврейском обряде обрезания (в частности, неспособностью женщин к обрезанию по плоти), он считает, что обрезание было простым знаком (23).
Интересные представления о знаке встречаем мы у латинских апологетов. Для Тертуллиана крест является знаком (signum) из дерева (Ad nat. Ι, 12), багряница и золотые диадемы у египтян и вавилонян служили, по его мнению, знаком (insignia) достоинства (De idol. 18). Минуций Феликс, так же как и Юстин (Αροl. Ι, 55), усматривает знаки креста и в мире природы, и в произведениях рук человеческих, и в структуре человеческого тела (Octav. 29). Арнобий понимает слова нашего языка как знаки, созданные для общения людей, но не передающие адекватных знаний о божественной сущности (Adv. nat. III, 19). Статуи античных богов у него также выступают как signa (VI, 25). Лактанций, рассуждая о Сыне Божием, указывал, что «Христос» (помазанник) не является именем собственным, но знаком могущества и царственной власти (Div. inst. IV, 7, 4).
Большое внимание уделяли апологеты знаковому образу - знамению, развивая новозаветные представления. Знамение выступает у них таким знаком, значению которого необходимо верить. Оно не может быть никак формально-логически объяснено и доказано; оно свершается по божественной воле, и только некоторые люди обладают даром его истолкования. Знамение, подчеркивал Тертуллиан. лишь тогда является знамением, когда оно необыкновенно, чудесно. Чудо же, помимо своего феноменального содержания, выступает для христиан, как правило, еще и важным знаком чего-то иного, более высокого. Уже первые апологеты хорошо поняли смысл иоанновского обозначения чудес Христа термином «знак» и углубились в постижение смысла этого знака. Помимо общего смысла чуда как знака божественной силы Христа они стремились и каждое конкретное чудо истолковать в знаково-символическом плане по аналогии с евангельским толкованием эпизода («знака») с Ионой. Трехдневная смерть Лазаря и его воскрешение Христом знаменовали для них трехдневную смерть и воскрешение самого Христа, превращение Иисусом воды в вино на свадебном пиру в Кане Галилейской выступало знаком Евхаристии и т. п.
Лактанций подчеркивал, что страдания и чудеса Христа имели также «великую образную и знаковую» функции (figuram et significantiam magnam) (IV, 26, 3). Так, исцеление слепых и глухих Христом означает открытие им духовных глаз и ушей людей для принятия истины. Распятие Христа на кресте свидетельствует о том, что он, поднявшись высоко, объял весь мир своей смертью и т. п. (IV, 26, 16-36).
«Крестное знамение» (signum), по глубокому убеждению христиан, творит чудеса, защищает от демонов, изгоняет их (IV, 27).
Элемент чудесного играет большую роль во всей христианской эстетике, и прежде всего в связи с пониманием образов и знаков, которые часто наполняются у христиан чудодейственной силой, как правило, и появляясь необычным образом. Отрицая наличие чудесных сил в изображениях языческих богов, апологеты наделяют этими силами многие свои знаки и образы. С развитием и распространением христианства процесс этот активно прогрессировал. Голубь, в представлении апологетов, выступая «образом» (figura) Святого Духа в крещении Христа, реально являлся самим Духом, не теряя субстанции голубя (Tert. De carn. Chr. 3). Так же и Иисус, являясь образом Бога, есть сам Бог.
Итак, знаковый образ, обладавший в понимании ранних христиан своей спецификой, с другой стороны, как миметический тяготел к символико-аллегорическому образу.
Однако ни иллюзионистическое подражание действительности, ни абстрактный условный знак не могли стать основой нового религиозного сознания. Синтез формально-логического и образно-пластического мышления наиболее полно осуществлялся в символика-аллегорическом образе. Он и занял главное место как в философско-религиозной системе, так и в эстетическом сознании ранних христиан, а затем и во всей средневековой культуре.
Наиболее развернуто все грани этого образа, весь широкий диапазон его значений проявились в подходе ранних христиан к Св. Писанию и отчасти к античной мифологии, т. е. прежде всего в связи со словесными текстами.
В плане символическо-аллегорического понимания библейских текстов апологеты опирались во многом на Филона Александрийского, который показал, что иносказательный подход к Писанию был распространен достаточно широко в его время и у его предшественников. Терапевты, к которым он относился с большим уважением, «иносказательно толкуют учение предков. Они полагают, что изреченное в словах - лишь символ скрытого смысла, который обнаруживается при толковании. Есть у них и сочинения древних мужей, основателей секты, которые оставили после себя много произведений иносказательного характера» (DVC, 28 - 29). И далее Филон, поясняя отношение терапевтов к Писанию, по сути дела, дает характеристику и своему аллегорически-символическому методу: «Толкование Священного Писания происходит путем раскрытия тайного смысла, скрытого в иносказаниях. Весь Закон кажется этим людям подобным живому существу: тело Закона - словесные предписания, душа же - заключенный в словах невидимый смысл. В нем разумная душа начала лучше видеть особые свойства. Она узрела необычайную красоту мыслей, отраженную в наименованиях словно в зеркале, обнаружила и раскрыла символы, извлекла на свет и открыла помыслы для тех, кто способен по незначительному намеку увидеть в очевидном скрытое» (78)
[347]. Точно так же относились к библейским текстам и многие из ранних христиан.
Юстин практически все Писание рассматривал как систему аллегорически-символических образов, специально созданную древними, которые «открывали свои слова и действия в притчах и образах (παραβολαϊς καί τύποις), скрывая [содержащуюся] в них истину, чтобы нелегко было всякому постигнуть многое и чтобы ищущие потрудились найти и узнать [ее]» (Tryph. 90). Речь у Юстина идет в основном о Ветхом Завете, который он стремится представить символическим предвосхищением новозаветных событий. Юстин хорошо знает текст Писания. При этом он считает, что еврейские переводчики опустили в тексте Септуагинты почти все места, в которых предсказано о божественной и человеческой сущности Христа, о его крестной смерти. Он даже пытается «реконструировать» эти пропуски (71-72). Обращается с библейскими текстами Юстин так же свободно, как и Филон, тем не менее многие из его толкований станут основой для всей последующей христианской экзегетики.
Во фразе Книги Бытия: «Он привязывает к виноградной лозе осленка своего...» и т. д. (Быт 49, 11), - он видит символ (σύμβολον) «входа Иисуса в Иерусалим» и последующих событий (Αροl. Ι, 32). Агнец, предназначенный для зажаривания на вертеле, - символ крестной смерти Христа; приношение пшеничной муки за очистившихся от проказы - «прообраз» (τύπος) евхаристического хлеба, 12 звонцов на одежде первосвященника - символ 12 апостолов, да и все остальные установления Моисея «были прообразами, символами и возвещениями (καταγγελίας) того, что должно было случиться с Христом» (Tryph. 40-42). Символическое осмысление основных положений древнееврейского Закона позволяло христианам отказаться от его религиозно-бытовых предписаний, но сохраняло их святость в качестве священных символов. Этим христиане подрывали древнееврейскую религиозную традицию и одновременно стремились усилить авторитет своего учения с помощью ее главных священных книг. В полемике с иудаизмом Юстин посвятил много страниц параллельному анализу текстов Ветхого и Нового Заветов, вскрывая глобальный символико-иносказательный характер многих текстов Ветхого Завета (ср. 98 - 105 и др.).
Уже у Юстина намечается понимание библейских образов в трех смыслах, хотя он и не акцентирует на этом специально внимания. Во-первых, он показывает, что все в Писании допускает иносказательное толкование (129). но что многие события ветхозаветных текстов имеют и буквальное и символическое значение (134). Последнее, в свою очередь, имеет разновидности, в частности притчу (παραβολή) и «тропологический образ» (τροπολογία). Так, «Христос часто в притче называется камнем, и тропологически (εν τροπολογία) Иаковом и Израилем» (114). Под «тропологией» Юстин имеет в виду иносказательное предвозвещение (καταγγελία) важных событий, а под притчей особый жанр иносказаний, на котором мы еще будем иметь возможность остановиться подробнее у других авторов.
Ириней Лионский также понимал многие места Ветхого Завета аллегорически. Библейский эпизод совокупления дочерей Лота с отцом он толкует как символ двух синагог, родивших от одного и того же отца (Adv. haer. IV, 31, 1-2); Лазарь в пеленах представляется ему символом человека, повязанного грехами (V, 13. I), и т. п.
Большой интерес для истории художественной культуры представляет символическая связь апокалиптических животных с головами человека, льва, быка (тельца) и орла (см. Иез 1, 10; Откр 4, 7) с четырьмя Евангелиями, впервые установленная Иринеем, а затем повторенная и развитая Ипполитом, Иеронимом. Григорием Великим
[348] и прочно вошедшая в изобразительное искусство как на Западе, так и, хотя и в меньшем объеме, на Востоке (Византия, Древняя Русь, Закавказье).
Толкуя указанное место из Апокалипсиса (Откр 4, 7), Ириней отмечает, что четыре лика животных, на которых восседает Христос, суть образы (символы) различных аспектов деятельности Сына Божия. Лев означает его действенность, господство и царскую власть; вол (бык, телец) - знак его священнического достоинства; лицо человека ясно означает его явление в мир человеком; орел указывает на обладание Духом. Евангелия же соответствуют тому, на чем восседает Христос. Поэтому Евангелие от Иоанна, как излагающее «первоначальное, действенное и славное рождение от Отца», он соотносит со львиным ликом, Евангелие от Луки, носящее на себе священнический характер,- с тельцом, Евангелие от Матфея, изображающее человеческое рождение, земную родословную и деятельность Иисуса на земле,- с лицом человека, а Евангелие от Марка, начинающееся «с пророческого Духа, свыше приходящего к людям», - с орлом. Ириней подчеркивает, что каждое животное соответствует определенному характеру деятельности Христа, запечатленному наиболее полно в одном из четырех Евангелий. И именно потому, что четверовидны животные, четверовидны Евангелия и деятельность Христа. И ведь не случайно человечеству были даны четыре завета: один при Адаме до потопа, второй после потопа при Ное, третий - при Моисее и четвертый - в Евангелиях (Adv. haer. III, 11, 8).
Это соотношение Евангелий с ликами четырех животных (так называемый
тетраморф) было затем скорректировано Иеронимом и соотнесено с самими евангелистами (Матфей - человек или ангел. Лука - телец, Марк - лев и Иоанн - орел). В этой форме оно и вошло в средневековое искусство, особенно широко - в западное. Первые подобные изображения евангелистов появились в начале V в. (мозаики баптистерия в Неаполе, апсиды церкви Сан Пуденциана в Риме). Позже средневековая литургическая традиция соотнесла символы Евангелий и с главными значимыми моментами жизни Христа: человека - с воплощением (рождением во плоти), тельца - с жертвенной смертью на кресте, льва - с воскресением, а орла - с вознесением на небо
[349].
Однако Ириней, выходец из Малой Азии, более трезво смотрел на аллегорезу, чем его греческие коллеги, особенно александрийцы. Его смущает многозначность толкований, с которой он постоянно сталкивался, разбирая учения гностиков, дававших, как правило, свои толкования библейским образам. Не случайно он скептически относится к притче. «Притчи могут восприниматься во многих смыслах», поэтому основывать на них исследование о Боге дело неразумное, подобное сооружению дома на песке (II, 27, 3).
Большим мастером аллегорически-символического толкования библейских текстов (в духе Филона и александрийских христиан) был Ипполит Римский, полагавший, что пророки обо всем говорили «таинственно в притчах и загадках» (Dem. de Chr. 29). У него символический образ постоянно отождествляется с «мистическим», «таинственным».
Наиболее последовательно из раннехристианских мыслителей теорией и практикой символико-аллегорического толкования занимался в структуре своей гносеологии Климент Александрийский
[350], развивая и приспосабливая к христианской проблематике (иногда дословно повторяя) соответствующие идеи Филона.
При этом он стремился разграничить греческую литературную образность и образность ветхозаветную, пророческую, из которой он и выводит христианский символизм. Климент указывает, что греческие поэты и писатели часто употребляли слова в переносном смысле с тем, чтобы придать большую красоту и выразительность речи. Пророки же никогда не пользовались «образными выражениями» (τούς περί τάς λέξεις σχηματισμούς) для украшения речи (το κάλλος της φράσεως), но лишь для «многообразного сокрытия истины» (τήν άλήθειαν έπικρύπτεται πολυτρόπως) (Str. VI, 129, 2-4), которая, по мнению Климента, может быть доступна только посвятившим себя поискам истины; толпе же, полагал он, доступно лишь подобное ей (V, 20, 3).
Опираясь на филоновский аллегорический метод, Климент практически первым из христианских писателей последовательно разрабатывает теорию символизма
[351], прилагая ее в основном к литературному материалу. Кроме самого термина «символ» (σύμβολον), Климент использует в близком значении такие понятия, как «символический образ» (τό συμβολικόν είδος), «загадка» (αίνιγμα), «тайна» (μυστήριον), «аллегория» (αλληγορία), «иносказание», или «притча», (παραβολή), «иносказательный образ» (παραβολικόν είδος), «перенос» (μεταφορά) и некоторые другие. Теория символизма Климента - естественное порождение его гносеологии. Вслед за Филоном, но значительно острее, чем другие христианские авторы этого периода, ощущал он трансцендентность Божества. «Един Бог,- писал Климент,- и он по ту сторону единичности и превыше этой монады» (Paed. I, 71, 1), и соответственно никакое понятие о Боге не может быть передано на письме (Str. V, 65. 2). Однако в священных книгах и в Предании, по мнению Климента, сохранены «зерна истины» за особой формой этих текстов. И так как «начала всех вещей скрыты [от нас], то истина была передана [нам] в форме загадок, символических аллегорий, метафор и других подобных образов» (τρόποις) (V, 21, 4). Только человеку, достигшему высот гностического совершенства, удается узреть истину под покровом символических форм.
Символизм, по мнению Климента, имеет древнее происхождение (VI, 4, 2). Он восходит еще к учениям древних египетских мудрецов (V, 41, 2). Не случайно, полагает Климент, и их алфавит обладает многозначной символикой (V, 20, 3). Многие из египетских символов и «загадок» близки к древнееврейским (VI, 4, 2). Символизм, как древний - древнеегипетский, древнееврейский (пророческий), пифагорейский, так и современный - в частности его собственный, воспринимался Климентом как сознательная гносеологическая установка. Композиционная запутанность, недосказанность и обрывочность «Стромат», оказывается, особый символический прием изложения материала, ибо необходимо «искусно скрыть... семена познания» от непосвященных (I, 20, 4). Непосвященные и инакомыслящие не должны знать истин, чтобы они не исказили их и не обесчестили (VI, 126, 1-2) и чтобы истина не «сожгла» этих неразумных «величием своего учения» (V, 54, 4). Кроме того, «истина, усматриваемая за завесой, выглядит более величественно и внушает к себе большее благоговение» (V, 56, 4-5). Знание символического языка необходимо всякому мудрецу. «Оно полезно для богословия, для благочестия, для изощрения остроты ума, для экономии времени, для проявления своей мудрости и разума». Свойство мудреца, говорил грамматик Дидим, - умело пользоваться символом и постигать тайну, скрытую под его формой (V, 46, 1-2). С другой стороны, символическая форма должна так «искусно скрыть истину», чтобы, «скрывая, высказать и, утаивая, выявить ее» (I, 15, 1), и выявить в украшенном виде, ибо символом украшается божественная истина (V, 45, 3). Эстетизм греческого мышления постоянно проникает в гносеологию и теологию Климента.
У гностика иносказательная форма должна поддерживать исследовательский дух и трезвость ума (VI, 126,1), чтобы разум человека, как бы ощущая сопротивление оболочки (формы), за которой, по его убеждению, скрыта истина, напрягся и собрался с мыслями для преодоления ее (V, 24, 2). Символический образ необходим в литературном тексте для мобилизации духовных сил человека, для ориентации его разума на постижение высших истин бытия. Конкретные символические (и этимологические)
[352] толкования Климента во многом восходят к филоновской аллегорезе. Так, основные цвета покрова скинии: пурпурный, гиацинтовый, багряный и льняной - означают основные стихии, открывающие Бога, так как пурпур добывается из воды, лен (виссон - βύσσος) из земли, гиацинт своим цветом подобен воздуху, а багрец (ό κόκκος) - огню (V, 32, 3)
[353]. Библейские херувимы - чисто символическое изображение, ибо нельзя себе представить, чтобы где-то на небе обитали подобные существа. Их лицо означает душу, крылья - служение и энергии, голос - благодарственный гимн славы души созерцательной (V. 36, 4). Семь драгоценных камней - символ семи планет или семи дней творения; золотая диадема первосвященника означает царственную власть Господа, наплечник - символ священнической деятельности, два светлых смарагда на нем - образ солнца; блеск драгоценных камней - сияние Св. Духа (V, 37-38) и т. д. Эта конкретная символика, развитая и дополненная последующими Отцами Церкви, легла в основу символического языка художественной культуры Средневековья, без знания которого многие ее образы остаются закрытыми.
Одной из конкретных форм символического образа Климент, как и его предшественники, считал притчу (παραβολή), широко распространенную в библейских текстах. По его мнению, притча - это такой способ выражения мыслей, при котором явление не называется, но самим изложением делается «намек» на более глубокий, «истинный» смысл: «Писание использует метафорический способ выражения; к нему относится и притча - такая форма выражения, которая не содержит в себе главного смысла (κυρίου), но намекает на него и приводит к пониманию его, или, как говорят некоторые, это - форма (λέξις), выражающая один смысл через другой...» (VI, 126, 4). При этом форма притчи специально рассчитана на многозначность восприятия, чтобы «истинное» (и, конечно, единственное) значение могли воспринять только люди, стремящиеся к истинному знанию. Поэтому пророки «облекли обозначаемое ими в такие выражения, которые в различных умах вызывают различные значения» (VI, 127, 4). В данном случае Климент хорошо чувствует принципиальную многозначность литературного образа и стремится использовать ее в теологических целях
[354]. Для истории эстетики важно, что эта многозначность была понята им как результат особого, сознательно использованного литературного приема. К осмыслению многозначности притчи Климент пришел от более простой многозначности предметной символики, бытовавшей еще в древние времена. В пятой книге «Стромат» он показывает два диаметрально противоположных «прочтения» одного скифского предметного символического послания (мышь, лягушка, птица, стрела, сошник от плуга) - и как знак покорности, и как предупреждение о начале военных действий (V, 44, 2-4).
Символико-аллегорическое понимание Библии вслед за Филоном и Климентом активно развивал их последователь Ориген. Не останавливаясь здесь на анализе его символического комментария (подробнее об этом см. гл. V), которым, кстати, активно пользовались в IV в. «великие каппадокийцы», укажем только, что Ориген уже сознательно акцентировал внимание на том, что в библейских текстах может быть до трех смысловых уровней.
Последующие экзегеты, развивая идеи Оригена, будут анализировать библейские тексты на четырех и более смысловых уровнях
[355], что станет общим местом в духовной культуре Средневековья и найдет отражение практически во всех видах искусства, на которое также будет распространен многоуровневый символико-аллегорический подход.
Проблемы символико-аллегорического подхода к литературному материалу, и символического образа в частности, интересовали и латинских апологетов, хотя и в меньшей степени, чем греческих, и относились они к символизму более трезво и настороженно.
В каждой фразе божественного Писания, полагал Тертуллиан, заключено несколько смыслов, и в чувственных образах его скрыты глубокие мысли (De spect. 3). Многие события, описанные в Библии, особенно ветхозаветные, символичны и аллегоричны. В них были даны во множестве образные предсказания о Христе, скрытые в глубине символов для того, чтобы трудность понимания побуждала читателя активизировать поиски истины (Adv. Jud. 9 - 10). Многие главы трактата «Против иудеев» Тертуллиан, как и Юстин в аналогичной ситуации, посвятил толкованию ветхозаветных пророчеств о Христе.
Однако Тертуллиан не слишком увлекался аллегорическим толко ванием библейских текстов. В отличие от александрийцев, он постоян но подчеркивал, что они имеют прежде всего буквальное, а затем аллегорическое значение (De carn. Chr. 7), и подходить к ним нужно, руководствуясь «разумным основанием» (De praes. haer. 9). Возражая еретикам, Тертуллиан писал, что «священнейшая форма пророческого высказывания часто бывает аллегорической и образной, но не всегда (De carn. resur. 19). Оппоненты Тертуллиана считали, что все пророче ские высказывания аллегоричны и подлежат толкованию, с чем кар фагенский мыслитель никак не может согласиться. Пророки далеко не все проповедовали в образах, «ибо если бы было так, если бы не предсказывались реальные [предметы], по которым чертились образы, то нельзя было бы различить и сами образы (imagines). Или так: если всё - образы (figurae), то, что было бы то, чьи [это] образы? Для чего держать зеркало, если нигде нет лица? Поэтому не всё - образы, но есть и реальности, не всё - тени, но есть и тела» (20). Речь здесь идет у Тертуллиана о двух сторонах образа. С одной стороны, он стремится показать, что образы суть отражения какой-то реальности, а с другой - что образы (библейские прежде всего) не могут иметь только переносное значение, но должны обладать и каким-то само стоятельным, буквальным смыслом. Так что в образе представлено как бы две реальности - реальность самого образа и реальность обозначаемого предмета.
Рассматривая многие предсказания Ветхого Завета, Тертуллиан стремится показать, что они имеют прежде всего буквальное значение. «Какие здесь фигуры у Исайи,- вопрошает он, - какие образы у Давида, какие загадки у Иеремии?..» Пророки предсказывали и в том, и в другом смысле, но совершенно очевидно, что больше у них высказываний буквальных,- «голых, простых и чистых от всякого аллегорического покрова» (20). В этом отрывке для обозначения образа Тертуллиан употребляет практически в качестве синонимов такие термины, как figura, imago, aenigma, parabola, allegoria.
Окончательный вывод Тертуллиана о характере ветхозаветной литературы гласит: «Вещи хранятся в письменах, поскольку письмена вычитываются в вещах. Итак, не всегда и не во всем пророческое высказывание имеет аллегорическую форму, но только иногда и кое в чем» (20). Аллегориями пророки пользовались лишь «при особых обстоятельствах» (20). Это же относится и к новозаветной литературе. Тертуллиан резонно отмечает, что места, где Христос говорил «в притче», всегда особо оговариваются. Следовательно, чаще всего в своих речах он не прибегал к иносказаниям. В противном случае евангелисты обязательно отметили бы, что он всегда говорил притчами. Кроме того, добавляет Тертуллиан, все притчи в Писании, как правило, объясняются (33).
Критерий буквального или аллегорического значения текста у Тертуллиана достаточно шаткий и неопределенный - это ясность и очевидность тех или иных фактов. Если событие описано «ясно и достоверно», то описание может быть принято за буквальное (21). Все важнейшие истины Писания, полагает он, изложены буквально и ясно. Смутные, не поддающиеся буквальному толкованию образы Тертуллиан воспринимает как аллегорические. Так, многое из того, что в библейских книгах говорится о земле, он предлагает трактовать относящимся к плоти человека. Художественный образ из 96-го псалма: «Молнии Его освещают вселенную; земля видит, и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли» (Пс 96, 4-5),- он понимает аллегорически в том смысле, что речь здесь идет о телах безбожников, трепещущих перед лицом Бога (De carn. resur. 26). Любые художественные приемы в Библии типа метафор, гипербол, сравнений и т. п. дают Тертуллиану, как и большинству других экзегетов, основания для аллегорического толкования этих мест. Аллегоризм, признается он, помогает защищать основные положения веры, в частности телесное воскресение людей (27). Тертуллиан знает, что в Писании есть большое количество «многосмысленных» мест (De spect. 3), и стремится поэтому осознать для себя сущность символического образа (изображения). По его мнению, «если в изображении (in imagine) содержится образ (figmentum) истины, то и само изображение содержится в истине (т. е. истинно. - В. Б.); необходимо, чтобы изображение существовало само для себя прежде, чем оно послужит образом для другого [предмета], ибо подобие (similitudo) не основывается на пустоте, а притча (parabola) - на ничтожном» (De carn. resur. 30). Эта мысль Тертуллиана должна быть понята таким образом, что носителем символического значения может быть предмет, имеющий самостоятельную ценность и свое внутреннее значение. Кроме того, необходимо некоторое соответствие, «подобие» (similitudo) между «образом» и обозначаемым явлением. Относительно словесного текста, в частности притчи (parabola), имеется в виду, что он должен обладать буквальным значением, прежде чем будет «нагружен» глубинным смыслом.
Эти выводы одного из первых западных апологетов имеют важное значение для понимания сущности художественных образов средневекового искусства.
Аллегорически понимая многие места библейских текстов, апологеты наследуют традиции, присущие всей эллинистической и позднеантичной культуре. К подобным приемам прибегали и древнееврейские талмудисты при толковании Торы
[356], и греческие и римские писатели и философы, размышлявшие над античными мифами. Аллегоризм позволял защищать не только постулаты христианства, но и сказания древних греков и римлян об их богах, что создавало новые трудности перед христианством в его борьбе с античностью. Апологетам необходимо было отказать в аллегоризме античной мифологии, усиливавшей с его помощью свои позиции, и обосновать в противоположность ей свое понимание аллегорического толкования библейских текстов
[357]. Задача сложная, и в целом латинские апологеты недоверчиво относились к аллегоризму, стремясь, как мы видели на примере Тертуллиана, показать, что иносказательных образов не так уж и много в Писании.
Интересна критика аллегоризма античной мифологии у Арнобия, которая с равным успехом могла быть направлена и против христианских аллегористов.
Во всех античных мифах, позорящих богов, по мнению апологетов, их ученые защитники (стоики, неоплатоники) усматривают священные тайны и достойные удивления глубокие идеи, в которые нелегко проникнуть людям непосвященным. «В них ведь,- считают они,- не то обозначается (significatur) и говорится, что написано и что на первый взгляд выражается словами, но все это должно быть понимаемо в аллегорическом смысле и мистически» (Adv. nat. V, 32). Ритор Арнобий
[358] возражает своим бывшим коллегам, что все это уловки и хитросплетения, подобные тем, какими в судах поддерживают обычно безнадежное дело, что это пустая софистика, с помощью которой достигается подобие, вид истины, но не она сама (V, 33). Откуда вы узнали, спрашивает он толкователей мифов, написано ли это аллегорически или буквально? Разве вы беседовали с писателями или пытались проникнуть в их мысли, чтобы узнать их замысел? Откуда вы знаете, что ваши изъяснения аллегорий верны? Ведь можно придумать сколько угодно толкований (infinitibus interpretationibus) одного и того же мифа. «Ибо если вся эта так называемая аллегория заимствуется из сокровенной области и не имеет определенных границ, в которых смысл того, о чем говорится, оставался бы твердым и неизменным, то каждый может свободно направлять читаемое туда, куда ему угодно, и утверждать, что там изложено то, к чему привело его собственное его мнение и предположение. Но если это так, то каким образом вы можете выводить что-либо определенное из того, что неопределенно, и придавать один смысл выражению, которое, как вы видите, может подвергаться бесчисленным видам разнообразных толкований?» (V, 34). Подчеркивая многозначность художественного текста (ибо в понимании апологетов античные мифы - творение поэтов), Арнобий справедливо ставит вопрос о возможностях и границах его однозначного понимания. Далее он риторически спрашивает у античных «художественных критиков»:
[359] все ли древние сказания или только их отдельные части следует понимать аллегорически, и если все, то что означает каждый отдельный их элемент? Он знает, что однозначный ответ на эти вопросы дать невозможно, и заключает, что ученые защитники мифов облекли «аллегорической темнотой» то, что было написано просто и оглашено для общего понимания. Если в древнем сказании не все аллегорично, то откуда узнать, где в нем аллегория, а где буквальный смысл? «Ибо когда в составе одного произведения одна часть признается написанною аллегорически, а другая, без сомнения, - имеющей буквальный смысл и когда в произведении (in
те) нет признака (signum), по которому можно было бы определить различие между двусмысленными и простыми выражениями, то возможно как простое признать за изложенное в двояком смысле, так и написанное двусмысленно (ambigue) считать свободным от иносказаний (reclusis esse obtentionibus)» (V, 36). Здесь Арнобий прямо ставит вопрос о критериях аллегорического понимания текста и отмечает, что символико-аллегорические образы должны иметь в тексте какой-то особый признак (signum). по которому их можно было бы определить. (Тертуллиан, как мы помним, отмечал, что все притчи в библейских текстах оговорены особо.) Если такой признак отсутствует, то текст следует понимать буквально, иначе открывается путь к бесконечному аллегорическому произволу. Приведя для примера аллегорические толкования мифологических сцен с похищением Прозерпины и попыткой Юпитера под видом быка добиться соития со своей матерью Церерой, Арнобий заключает: «Я нахожу [здесь] применение закона аллегории (legem allegoriam) темным и неопределенным» (V, 37).
Чтобы как-то разобраться в вопросе с аллегорией, Арнобий приходит к заключению, что один текст не может состоять из буквальных и аллегорических частей. Он или весь аллегоричен и так и должен пониматься, или в нем все имеет только буквальный смысл, «ибо то, что находится в целостности (quod concretum), не представляется как бы состоящим отчасти из истории и отчасти из аллегории» (V, 38). Арнобий стремится показать, что целостность литературного текста требует, чтобы и части, его образующие, были организованы по одним и тем же законам. Целостность текста не может возникнуть, по его мнению, из разнородных частей.
Арнобий не может признать античные мифы за аллегорические тексты, ибо считает, что в основе их всех лежат события реальной жизни и истории. Аллегории создаются специально. Отчасти противореча раннехристианскому символизму, он заявляет, что «то, что составляет действительный и очевидный факт, не может превратиться в аллегорию, совершившееся не может быть не совершившимся и природа события не может перейти в другую природу. Разве может Троянская война превратиться в осуждение Сократа и известная битва при Каннах в проскрипции и жестокость Суллы? ...потому что совершившееся, как я сказал, не может быть ничем другим, как только тем, что совершилось, и не может перейти в другую сущность (substantiam) то, что неизменно в своем существе и в своих свойствах» (V, 38).
Но даже если признать античные мифы аллегориями, продолжает свои рассуждения Арнобий, то каков смысл такого аллегоризма. Не является ли верхом непристойности такие природные явления, как смачивание земли дождем или посев семян, обозначать как совокупление богов
[360]. Раньше был обычай с помощью аллегорических образов придавать неприличному приличный вид. Теперь же, отмечает Арнобий, если верить толкователям мифов, о благопристойных вещах говорится в непристойной форме. Несуразность этого приема кажется очевидной Арнобию, и он использует ее в качестве еще одного аргумента против античной культуры (V, 40-41). Для нас важен не столько конечный вывод Арнобия о том, что защитники мифологии стремятся под туманным покровом аллегорических толкований скрыть недостойное поведение своих богов, сколько его замечание о смысловых трансформациях аллегорического образа в ходе его исторического развития. Аллегорический образ, по мнению Арнобия, возник для сокрытия неприличных явлений жизни как особый художественный покров непристойного. Принцип аллегоризма настолько вошел в этой функции в дух и культуру людей, что они и сами неприличные явления (содержащиеся в мифах) стали толковать как аллегорические образы иных (природных) реальностей. В этом состояла важная духовная потребность позднеантичной культуры, и Арнобий, почувствовав ее, постарался как мог, конечно, ее осмыслить, закладывая тем самым фундамент для последующих изысканий средневековых мыслителей в области символических образов.
В заключение этих рассуждений следует напомнить, что ученик Арнобия Лактанций по-иному подходил к мифологическим образам. Будучи и сам причастным к мусическим искусствам, он и мифологию воспринимал не буквально, что требовалось Арнобию для обличения античных богов, а как поэтическое творение. Также считая, что в основе мифов лежат реальные (даже обыденные) события жизни, он занял среднюю позицию между буквализмом Арнобия и свободным аллегоризмом стоиков и неоплатоников. Будучи не лишенным поэтического дара, он и к содержанию мифов не так строг, как Арнобий. Напомним еще раз мысль Лактанция: «Многое в таком-то плане преобразовали поэты, но не для того, чтобы оболгать богов, как думают [некоторые], а чтобы многоцветными образами (figura) придать изящество и красоту своим песням. Те же, кто не понимает, чем, для чего и как создаются образы, объявляют поэтов лжецами и нечестивцами» (Div. inst. I, 11, 36). Таков еще один из главных выводов апологетов, размышлявших над проблемой образа.
Подводя итог раннехристианским суждениям об образе - достаточно непоследовательным, часто противоречивым, мы с полным основанием можем сказать, что они сыграли важную роль в развитии эстетики и теории художественной культуры.
Используя ряд близких, хотя и различных по значению терминов, таких, как είκών, τύπος, μίμησις, όμοιότης, μορφή, σχήμα, είδος, τροπολογία, αίνιγμα, μυστήριον, αλληγορία, παραβολή, σύμβολον, σημεϊον, figura, imago, simulacrum, speculum. similitudo, forma, exemplum, species, effigies, allegoria, signum, апологеты в целом говорили об образном выражении духовных реальностей самого разного характера. Образы эти в целом материальны и обладают конкретной, чувственно воспринимаемой формой.
Они отражают вещи более высокого уровня, чем они сами, а форму свою часто образуют путем подражания формам материального мира и из материалов этого мира, т. е. более низкого уровня.
Образ не содержит сущности оригинала и, с другой стороны, часто представляется апологетам почти тождественным оригиналу.
В эйконологии апологетов можно достаточно ясно различить три типа образов: миметические (подражательные, зеркальные, предметно-пластические), символико-аллегорические и знаковые, отличающиеся друг от друга характером отношения к объекту отражения, степенью изоморфизма.
Миметические образы «по виду и очертаниям» близки к оригиналу. Апологеты связывали их прежде всего с живописными и скульптурными изображениями. В таких образах, по представлениям некоторых из них, невозможно передать духовное содержание. Это понимание образа легло в основу всех иконоборческих движений Средних веков.
Религиозно-нравственной разновидностью миметического образа явился образ-подобие, понятый в общем процессуально и динамически как путь нравственного совершенствования человека и одновременно его восхождения по ступеням познания. В нем выразилась анагогически-гносеологическая сторона образа.
Знаковый образ в понимании апологетов чаще всего служил предзнаменованием каких-то важных грядущих событий, как правило, сакрального характера. Поэтому он обычно наделялся чудесными свойствами и мистическим значением.
Символико-аллегорический образ имеет прежде всего гносеологическое (в Писании) и гносеологически-онтологическое (в универсуме) значение.
Образ как ступень космической иерархии обладает онтологическим бытием, и в нем, в зависимости от ступени образной иерархии, реализуется определенная доля Истины. Реализация эта, особенно на низших ступенях (человек, искусство), осуществляется на основе подобия, более или менее полного изоморфизма. В связи с этим в образе даже непосвященный, но принадлежащий данной культуре человек практически однозначно «узнает» (но не познает!) прообраз, во всяком случае, ближайший.
В понятии образ у ранних христиан нашел отражение важный принцип античного мышления - пластичность. Образ у них часто сохраняет пластический характер даже тогда, когда речь идет о самой высокой ступени образной иерархии - о Логосе как образе умонепостигаемого Бога. Пластичность этого образа вступает в острое противоречие с абстрактными идеями трансцендентного Бога и духовного Логоса, и тем не менее апологеты (хотя и не все) не отказываются от него. Антиномичность понятия «образ не имеющего образа Божества», впоследствии развернувшаяся на византийской почве в целую систему, уже в этот период (особенно в александрийском направлении) ощущается как явление закономерное для новой философско-религиозной системы.
Однако в чисто гносеологическом плане этот образ малоэффективен. Здесь апологеты придерживались мнения киника Антисфена о том, что «Бог ни на кого не похож, поэтому его невозможно познать ни из какого образа» (Clem. Protr. 71, 2).
Христиан выручает, однако, теория символа, примененная к библейским текстам, в которых они различали несколько смысловых (образно-символических) уровней. Символический образ более абстрактен и условен: в своем генезисе он восходит, как полагает Климент, к древнеегипетским иероглифам - практически условным знакам - и тяготеет больше к ближневосточному типу мышления, чем к греческому. Он часто специально вводится (Богом, пророками, евангелистами, наконец, самими апологетами) для зашифровывания, сокрытия истины. Он носит прежде всего интеллектуальный характер. В первую очередь необходимо знать, что он означает, т. е. получить от кого-то (в данном случае не важно - от Бога или от мудреца) ключ для его расшифровки.
Однако символический образ не является просто знаком. Как мы видели, и аллегория, и символ, и притча как конкретные его реализации содержат в себе нечто присущее обозначаемому предмету или явлению.
Любой образ в понимании апологетов обладает, как правило, своей имманентной значимостью и уже на основе ее - иным, переносным значением.
Специфика поэтических образов состоит в придании красоты и изящества изображаемому. Последний вывод, принадлежащий Лактанцию, важен еще и тем, что здесь усмотрена, пожалуй, впервые в истории эстетической мысли, связь между красотой и образом, показано, что образ в искусстве (поэзии) является основой и носителем этой красоты, ради которой он и создается.
Апологеты не уделяли специального внимания эстетической проблематике. Она затрагивалась ими в связи с более актуальными для того времени вопросами духовной культуры, и тем не менее своими высказываниями, суждениями и критикой античной культуры они наметили те основные проблемы, которые позже оказались в центре средневековой художественной культуры и эстетики.
Глава V. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ В ПЕРВОЙ СИСТЕМЕ ХРИСТИАНСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ
Особое место среди апологетов занимает фигура Оригена, о котором вскользь уже упоминалось. Настало время остановиться на его взглядах подробнее. Необычное место этой фигуры определяется в основном двумя факторами. Во-первых, Ориген был первым христианским мыслителем, который пытался сознательно создать систематическое христианское учение, т. е. христианскую догматику, основы которой он изложил в своем трактате «О началах». И во-вторых, Ориген был единственным из всех рассматриваемых в данной работе Отцов Церкви, который, несмотря на свой огромный вклад в развитие христианского богословия, был осужден церковью как еретик. Анафематствование оригенистов произошло по инициативе императора Юстиниана I (543 г.).
Трактат «О началах», который вызывал гневные нарекания со стороны многих клириков и при жизни Оригена, и особенно после его смерти, к сожалению, не дошел до нас в полном виде. Сохранились только его фрагменты в сочинениях других Отцов Церкви и достаточно свободный, «исправленный» перевод пресвитера Руфина Аквилейского (ок. 345-410). Из этого перевода трудно понять, за что же все-таки так сурово обошлась церковь с одним из своих наиболее талантливых и вдохновенных защитников и пропагандистов, хотя, безусловно, в учении Оригена много элементов, которые не вошли в установившийся позже канон христианской догматики.
Во всяком случае, общеизвестно сильнейшее влияние Оригена на всю последующую патристическую мысль да и на христианское богословие (особенно грекоправославное) в целом. Церковный историк Евсевий Кесарийский (263-340) и крупнейшие Отцы Церкви IV в. Григорий Богослов и Григорий Нисский испытали безусловное воздействие богословско-философских идей Оригена. (В частности, к нему восходят первые грекоязычные концепции Богочеловека и Троицы.) Экзегетическая методика Оригена легла в основу александрийско-каппадокийского направления в патристике, и, соответственно, его эстетическое сознание оказалось близким многим греческим Отцам Церкви. Он считается родоначальником нравственно-практического направления в христианской мистике (концепция пламенной любви к Богу и учение об обожении как «воображении» Христа в сердце верующего) и т.д. и т.п.
[361]. Неприемлемыми для официальной церкви оказались воспринятая Оригеном от платоников идея о предсуществовании душ, его учение об апокатастасисе - конечном спасении, просветлении и единении с Богом всех душ и духов и ряд других. Обо всем этом в науке существует большая специальная литература. Нас в данном случае будет интересовать другое.
У Оригена начала складываться система христианской религиозной философии, а эстетическое сознание, как мы уже неоднократно убеждались, играло далеко не последнюю роль в философско-религиозных исканиях ранних христиан. Более того, оно активно вторгалось в сферы христианской гносеологии и онтологии, и именно тогда, когда дискурсивное мышление испытывало определенные трудности, когда познавательные интенции богослова или философа подводили его к иррациональной сфере. Ориген в этом плане представляет для нас особый интерес. В нем на высоком духовном уровне органично сочетался систематизаторский ум философа-аналитика с тонким чувством христианина-практика, углубленного в мистический опыт сверхразумного бытия. Органическому сочетанию этих обычно трудносовместимых в одном человеке способностей и помогало эстетическое сознание Оригена, нашедшее выражение как в его учении о познании, так и в его религиозной онтологии.
1. Неформализуемый гносис
...и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. 2 Кор 12, 4
В древности не один апостол Павел слышал «невыговариваемые слова», получал невербелизуемое вéдение, «знал» то, что превышает человеческое «знание».
Ориген был убежден, что библейские пророки и евангелисты владели знаниями о вещах более высоких и возвышенных, чем те, о которых они поведали в своих книгах, ибо получили они эти знания, таинственно просветившись по милости Божией. Они точно знали и то, о
чем и как им следует писать, чтобы нечто из своих знаний передать всем, «имеющим уши слышать», и
что необходимо сокрыть за завесой молчания (Contr. Cels. VI, 6)
[362].
«И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать; но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего»,- сказано в Откровении Иоанна Богослова (10, 4). В От-кровении - о со-кровении, о со-кровенном. Между этими двумя полюсами - от-кровения и со-кровения - и пульсировала мысль ранних христиан. Особого напряжения она достигла у третьего (после Филона и Климента) крупнейшего александрийца - Оригена, стремившегося постичь Истину, интегрируя идеи платонизма и озарения профетизма на основе евангельского учения.
Нам уже не раз приходилось видеть, что эстетическое сознание христиан, наиболее полно выраженное в святоотеческой письменности, теснейшим образом связано с их способами и формами познания, с их учением о знании и познании, т. е. что эстетика Отцов Церкви может быть правильно понята только в контексте христианского миропонимания, и в частности патристической гносеологии, а для ранних александрийцев -
гносисо-логии - учении о гносисе
[363]. У Оригена это учение находилось, пожалуй, в фокусе всех его богословско-философских изысканий, и поэтому имеет смысл остановиться на некоторых его аспектах.
Ориген, как и его близкие и дальние предшественники (греческие философы и христианские учителя), хорошо знает, что есть две мудрости - божественная и человеческая и два вида знания - вещей божественных и вещей человеческих; и если второе более или менее доступно человеческому разуму, то первое - труднодостижимо, хотя и не невозможно. Земной гносис, или «внешнее учение», в котором достигли определенных успехов греческие языческие философы, составляет лишь малую часть общего гносиса (In Ps. 36 Hom. V, 1). Главное же - «небесный гносис» - знание духовных сфер, сущностей и самого Бога; он по Божией милости был более доступен ветхозаветным пророкам, ученикам Христа, евангелистам и составлял предмет особой заботы раннехристианских Отцов Церкви. К уяснению путей овладения им и стремился Ориген.
Однако здесь перед его взыскующим умом возникло много проблем, и Ориген хорошо сознавал их. Уже его предшественники Филон и Климент знали, что Бог в его сущности непознаваем человеческим разумом, т. е. высшее божественное знание сокрыто от нашего ума, и Ориген принимал это положение как должное. Для него, как и для Климента, разум отнюдь не является последней (или высшей) инстанцией в деле познания; тем не менее и он в глазах автора «О началах» не совсем бесполезен на путях божественного гносиса. Ориген убежден, что Бог одарил нас стремлением к постижению «истины о Боге и познанию причины вещей» отнюдь не для того, чтобы оно осталось неудовлетворенным. В противном случае пришлось бы считать, что «Творец-Бог напрасно вложил в наш ум любовь к истине» (De princ. II, 11, 4). Для христианина подобная мысль недопустима, и на основе своего собственного духовного опыта и свидетельств мудрых предшественников Ориген заключает, что благочестивые люди (пневматики, гностики) и при жизни получают кое-что из «безмерных сокровищ божественного гносиса» и тем самым развивают в своих душах любовь и стремление к исследованию истины, которая в полном объеме будет открыта им в будущем веке (II, 11, 4).
Доступные нашему познанию частицы божественного гносиса - фактически предварительный набросок, эскиз истины, начертанный рукой самого Иисуса Христа «на скрижалях нашего сердца». Здесь Ориген, как и другие Отцы Церкви, прибегает к художественной аналогии, т. е. подключает эстетическое сознание к пояснению собственно гносеологической проблемы. Как живописец сначала набрасывает тонкими линиями общий рисунок картины, чтобы затем было легче писать ее красками, так и Господь дает некоторым людям уже в этой жизни некое «предначертание истины и знания», которому в будущей жизни должна быть придана «красота законченной картины» (pulchritudinem perfectae imaginis) (II, 11, 4).
Далеко не все удостаиваются чести получить «предначертание истины», но только предрасположенные к духовной жизни - пневматики, или гностики, или люди «внутренние». Им божественный гносис (доступный в этой жизни) дается в «ясных» выражениях (т. е. им открывается внутренний смысл учения). Для большей же части людей - соматиков («называемых тирянами») гносис вообще закрыт, а «внешним» (или психикам) учение дано в «неясных притчах» (III, 1, 17). Кроме того, многие «божественные тайны», сокрытые от земных мудрецов, открыты младенцам, пребывающим благодаря этому в состоянии «высшей степени блаженства» (III, 1, 12).
В отличие от Климента Ориген избегает точных определений гносиса, не полагаясь, видимо, на адекватность словесного выражения. У него гносис - это некий сложный, многоаспектный феномен, близкий к глубинному созерцанию -
пребыванию в
созерцании. Как отмечает В. Фёлькер, и терминологически у Оригена γνώσις и θεωρία употребляются как синонимы
[364]. В отличие от «человеческих знаний», добытых мудрыми людьми с помощью разума, гносис - дар Божий в награду за нашу любовь к истине и стремление к познанию; это результат откровения самого Бога или Св. Духа (In Ierem. Hom. X, 1). Ориген нередко пытается описать его в виде особого духовного света,
просвещения, опираясь на свидетельства как библейских («наших» в терминологии Оригена) мудрецов, так и греческих. Он с одобрением вспоминает, что Платон в письме к Диону (Ер. 7) писал о невыговариваемости и невыразимости словами высшего блага. Только в результате длительных умственных трудов и упражнений оно вдруг возникает в душе в виде некоего света (Contr. Cels. VI, 3). Об этом же еще до Платона, как считает Ориген, ссылаясь на Книгу Псалмов, говорили и авторы Св. Писания (VI, 5).
Просвещение духовным светом способствует возникновению и возрастанию гносиса в человеке, приближает его к Логосу и продолжается в нем и после смерти - в раю, приводя к полному гносису, понимаемому Оригеном как единение (ένωσις) с Богом (In Ioan. Com. XIX, 4). Это - конечная цель гносиса; его венец - в бесконечном блаженстве будущего века, в прямом, без посредства Логоса, созерцании Бога, в полном слиянии с Ним при сохранении принципиального различия сущностей. Многообразны, трудны и длительны пути к этой цели.
Вряд ли можно говорить (что правомерно, скажем, относительно Климента) о поступенчатом возрастании гносиса у Оригена. Тем не менее очевидна общая тенденция этого возрастания - от рационального знания к иррациональному, мистическому, сверхразумному. При этом Ориген еще столь высоко ценит первый, рациональный уровень познания, что в своем компендиуме христианского учения («О началах») отводит ему видное место в «полном гносисе», которым пневматик будет обладать в будущей жизни.
Весь комплекс знаний дает только Христос-Логос. При этом благочестивые (или пневматики) будут на первом этапе иметь как бы «двоякое знание». Одно они получат в земной жизни, исследуя многообразие мира и доискиваясь его причин. После смерти же им будет дано и «истинное познание» этого разнообразия. В первый период после смерти их души будут еще пребывать на земле, в месте, которое Св. Писание называет раем. Здесь они пройдут начальный этап обучения, получая в основном рациональные «истинные» знания обо всем, что они видели и знали при жизни (De princ. Π, 11, 6).
Они обретут полные знания о человеке, душе, уме; о духе, действующем в каждом из них. и о благодати Св. Духа, даваемой им; об Израиле, его истории и значении, многие религиозные истины; о творении и Творце, о всех животных и растениях; об ангелах и о суде божественного Промысла, который ожидает всех людей и животных (II, 11, 5). Чистые сердцем и непорочные умом, однако, очень скоро двинутся дальше и через «обители различных мест» достигнут Царства небесного. Эти «обители» греки называли «сферами», а Писание - «небесами». В каждом из этих небес, которые прошел Иисус при вознесении, святые узнают, что там делается и почему. Затем Бог откроет святым все о небесных телах, обо всем творении, причины всех вещей. И только после этого им будет дано знание о небесных чинах и духовных сущностях, которые они смогут созерцать и познавать «лицом к лицу». Ум, достигший этой ступени совершенства, напитается «созерцанием и познанием вещей и уразумением их причин», и только на самой вершине гносиса этой пищей станет «созерцание и познание Бога» (II, 11, 7).
В трактате «О началах» не говорится прямо о характере и форме этого «созерцания и познания», однако из многочисленных гомилетических сочинений Оригена, особенно из его толкований псалмов и книги Песни Песней, становится ясно, что речь идет, конечно, не о рациональном (формализуемом, вербализуемом) знании, а о его более высоких формах. При этом выясняется, что эти формы доступны пневматику (или гностику) не только после смерти, но и в земной жизни - на путях мистического гносиса с помощью божественного «просвещения».
Оригена не без основания считают предтечей монашеского, т. е. индивидуального мистического, гносиса. Он много внимания уделил вопросам аскезы, мистики, мученичества
[365] как путям к истинному гносису, проповедовал идеи отречения человека от всего земного, что должно было способствовать еще при жизни выходу его «за» пределы человеческого (ύπέρ άνθρωπον - In Ioan. Com. XIIÍ, 7), превращению в ангела; размышлял о мистическом опыте - «духовном браке» (πνευματικός γάμοσς) души с Логосом, «подражании» Иисусу с целью «обретения утраченного подобия (όμοιότης) Богу, самозабвенной мистической любви к Богу, ведущей к непосредственному созерцанию Бога и к полному слиянию с ним, т. е. к обожению
[366]. Затрагивались Оригеном и вопросы мистического видения и экстаза
[367]. Главная линия оригеновского гносиса, как ее хорошо проследил В. Фёлькер, развивается не в рациональной, а в мистической сфере. «От укорененной в чувстве Логосо-мистики, которая хорошо выражается символикой брачных отношений, идет путь к Бого-мистике, к экстатическому visio beatifica и отказу от всех личных связей, что оценивается не как утрата, но как ценное приобретение. Только при полной концентрации на Божественном, только при причастности к его бытию душа может стать его сосудом. Бог - все во всем - это последнее значение, какое гносис имеет у Оригена, и этот гносис приравнивается им к блаженству»
[368].
Итак, и Платон, и пророки, и первые ученики Христа, и раннехристианские мыслители, т. е. все предшественники Оригена, и он сам были едины в том, что высшее Благо невыговариваемо и невыразимо словами, а истинный гносис реализуется на вненациональных, вневербальных путях. С другой стороны, вся эта вневербальная, мистическая сокровенная гносисо-логия и самим Оригеном, и всеми его предшественниками излагается в словесной форме. Отсюда - повышенный интерес Оригена к слову, имени, глубокое благоговение перед их тайной.
У Оригена
антиномизм в отношении слова, имени как носителя и выразителя смысла достигает особой остроты. С одной стороны, как мы уже отчасти видели, он достаточно скептически относится к его возможностям на путях высшего гносиса. Завершая изложение начал христианского миропонимания и догматики, он в духе греческого философствования предупреждает читателя: «Итак, всякий, кому дорога истина, пусть поменьше заботится об именах и словах, так как у каждого отдельного народа существует различное употребление слов, и пусть больше обращает внимание на то, что обозначается, нежели на то, какими словами обозначается». Внимательно изучая тексты Св. Писания, Ориген приходит к выводу, «что есть такие вещи, значение которых вовсе нельзя выразить надлежащим образом никакими словами человеческого языка, - такие вещи, которые уясняются больше чистым разумом, чем какими-нибудь свойствами слов.(...) о том, что говорится [в Писании], следует судить не по слабости слова, но по божественности Св. Духа, вдохновением которого они написаны» (De princ. IV, 3, 15)
[369].
С другой стороны, ему не чужда и ветхозаветная традиция понимания слова, имени как носителя сущности именуемого. В своих сочинениях он неоднократно возвращается к мысли о том, что имена не случайно и не произвольно даны предметам и людям, но как-то связаны с сущностью или характерными чертами именуемого (см.: Exhort. 46; De orat. 24, 2; Contr. Cels. I, 24 и др.). Особенности духа, души и тела человека отражены в его имени, поэтому в Писании зафиксированы случаи, когда с изменением некоторых черт менялось и имя человека: Аврам на Авраам, Симон на Петр, Савл на Павел и др. (De orat. 24, 2). Соответственно имена ангелов (Михаил, Гавриил, Рафаил и др.) выражают те служения, которые они призваны выполнять по воле Божией (Contr. Cels. I, 25).
Более того, имена, слова, само их звучание наделены силой именуемого. На этом основано воздействие некоторых заклинательных формул и персидских и египетских имен на тех или иных духов. Подобная сила заключена и в имени «нашего Иисуса»; она служила орудием изгнания многих демонов из душ и тел, одержимых ими. При этом действенная «внутренняя сила» слов, как было замечено знатоками искусства заклинаний, заключена «в свойствах и особенностях звуков». Соответственно заклинательные формулы и магическая сила имен действенны только на отечественных языках, в оригинальном звучании и не сохраняются при переводе на другие языки (I, 25).
Все сказанное в полной мере относится и к именам Бога. Полемизируя с Цельсом, который полагал, что безразлично, каким именем обозначить высшую сущность - то ли Зевсом, то ли Адонаем, то ли Саваофом, то ли как-то иначе,- Ориген утверждал, что имена Бога не произвольны, но связаны с его сущностью (V, 45). Фактически в них заключено целое «таинственное богословие», возводящее дух к Творцу Вселенной. Изреченные же в определенном порядке, они обладают «особой силой» (I, 24). Поэтому христиане и не называют своего Бога Зевсом и т. п. именами. «Мы не верим, - пишет Ориген, - что Зевс и Саваоф имеют одну и ту же сущность» (V, 46). Если к этому напомнить еще, что христианство отождествляло Логос-Слово с одной из ипостасей Бога и Логосо-логия занимала видное место в учении первых александрийских отцов, то станет понятным особое внимание Оригена к именам, словам, словесным конструкциям, вообще к словесной материи - особенно священных текстов, текстов Св. Писания.
Древность всегда с повышенным интересом, почтением, а нередко и со священным трепетом относилась к слову, прозревая в нем какие-то магические и сакральные силы, глубинные энергетические токи и связи с сущностными основаниями бытия. И христианство не было в этом плане исключением, усвоив и признав за свои многие вербальные интуиции древнего мира. Отказываясь от каких-то из них, как не соответствующих их религиозной доктрине, христиане активно развивали другие, осознав Слово в качестве Начала и Источника тварного бытия.
Итак, Ориген, опираясь на предшествующие философско-религиозные традиции, на тексты Св. Писания и свой собственный духовный опыт, оказывается перед ситуацией многоаспектного, полифункционального бытия слова в культуре. Слово стоит
до и
в начале творения, ибо это одна из ипостасей Бога, притом -
творческая ипостась. Ориген, как и многие ранние Отцы Церкви, отождествляет ее с Софией - Премудростью Божией
[370], утверждая, что мир был сотворен Словом-Премудростью. Слово (имя) каким-то образом связано с сущностью вещи и нередко бывает наделено силой, или энергией, обозначаемого; в нем открываются какие-то аспекты сущности. С другой стороны, далеко не все, особенно в духовной и божественной сферах, можно выразить словами. Словесный текст является достаточно слабым отражением истинного знания. И тем не менее он активно используется не только людьми, но и более высокими духовными сущностями для передачи знания, гносиса. При этом акцент делается на своеобразной амбивалентности (и даже антиномичности) словесного текста - одновременно в одном тексте
от-крывать и
со-крывать знание в зависимости от субъекта восприятия.
Все это побуждает Оригена, как и его александрийских предшественников Филона и Климента, при всем его скепсисе относительно возможностей слова, с особым пристрастием изучать тексты Св. Писания, доискиваясь в них сокровенных смыслов, пытаясь усмотреть в слове то, чего в нем вроде бы и невозможно усмотреть. На этом пути он вынужден от слова как самоценной смысловой единицы перейти к словесным конструкциям - словесным образам, символам, аллегориям и т. п., т. е. к проблемам герменевтики словесного текста. Здесь он видит себя наследником и продолжателем дел самой Софии - Премудрости Божией, которая в его понимании называется Словом Божиим потому, что открывает в словах всем прочим разумным существам тайны, сокрытые в ее глубинах: «она называется Словом потому, что является как бы толкователем тайн духа» (De princ. Ι, 2. 3).
И хотя эти тайны Божественной Премудрости составляют предмет высшего гносиса, реализующегося на невербальных уровнях, сама Премудрость воплотила определенные знания и в словесных текстах, побуждая многие поколения экзегетов отыскивать их в формах, в принципе мало для них приспособленных. И здесь речь идет уже не об отдельных словах, хотя и о них тоже, а о словесных структурах - образах, символах, притчах, иносказаниях, аллегориях и т. п. Человеческий ум, вдохновляемый высшими силами, изобрел немало способов и форм образно-иносказательной речи для передачи знания, и всеми ими, согласно Оригену, в изобилии пользовались авторы Св. Писания.
По мнению Оригена, в человеческой душе есть особые силы и чувства (правда, они не у всех людей развиты) для формирования и восприятия образов. Создаются они с помощью некой «руководительной» силы души, которую Ориген называет ήγεμονικόν, а воспринимаются «особого рода божественным чувством» (θείας τινός γενικής αίσθήσεως)
[371]. Присуще это чувство блаженным и святым, и оно как бы совершенствует, обостряет, преобразует все обычные органы чувств человека: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. С его помощью человек видит, слышит и т. п. не чувственные вещи, но духовные (Contr. Cels. I, 48). Обладающие этим чувством и в словесных образах способны увидеть глубинные небуквальные уровни.
Понятно, что образное выражение рассчитано не на простаков, и Ориген неоднократно подчеркивает это, стремясь доказать высокообразованным критикам христианства, что под внешне простой формой христианского учения сокрыты особые знания. Многообразные же формы их выражены в загадках, «таинственных речениях», «параболических и трудно понимаемых фразах» (διά παραβολών καί προβλημάτων), которые помимо сокрытия истины от непосвященных служат и для «упражнения ума слушателей», воспитания из них мудрецов (III, 45). Только последним, да и то с божественной помощью, могут открыться истинные смыслы иносказательных, прикровенных выражений, ибо, хотя «все символическое и образное приземленнее и менее ценно, чем истинное и духовное», все же оно выше собственно земных ценностей (De orat. 14, 1).
В опыте восприятия и понимания образов существенное значение имеет подготовка (уровень знаний, духовный опыт и т. п.) субъекта восприятия. В этом плане для эстетики и искусствознания особенно интересны замечания Оригена об изменчивости внешнего облика Христа в зависимости от уровня духовной зрелости смотрящих на него. В рамках своего глобального и свободного метода (о котором речь впереди) аллегорической экзегезы он считал, что именно на это указывает и сам Иисус в словах: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14, 6), «Я есмь хлеб» (Ин 6, 35), «Я есмь дверь» (Ин 10, 9) и т. п. Каждому он является и видится в том облике, какой доступен его восприятию. Только Петру, Иоанну и Иакову он показал себя на Фаворе в божественном блеске. Остальные же ученики, оставленные им под горой, были не в состоянии созерцать «Его Величие». В земной жизни он менял свой облик, и не все видевшие его могли затем узнавать его. Поэтому и потребовался поцелуй Иуды, чтобы пришедшие за Иисусом не ошиблись. По воскресении он являлся только тем, кто по своему духовному уровню был уже в состоянии его увидеть. Гонителям же своим он не показал себя ни разу, боясь ослепить их не подготовленные для этого глаза своим сиянием (Contr. Cels. Π, 64).
Но если Иисус (Божественный Логос), по Оригену, сам являл людям тот свой облик, который был доступен их восприятию, то со словесными образами дело обстоит несколько иначе. В одном и том же образе (и облике) духовный взор читателя может усмотреть разные сокрытые в нем смыслы, разные семантические уровни. В первую очередь это касается текстов Св. Писания, над которыми Ориген размышлял всю свою жизнь.
Поздняя античность, на которую пришлись годы жизни и деяний Оригена,- это расцвет герменевтики, экзегетики, гомилетики, время изучения, осмысления, толкования текстов, утвердившихся в культуре в качестве авторитетных, сакральных, священных. Ориген, ранние христианские апологеты, иудейские экзегеты, гностики размышляли над библейскими текстами; современник Оригена, основатель неоплатонизма Плотин, фактически комментировал Платона и т. д. Комментаторски-герменевтический дух времени как нельзя лучше способствовал расцвету изощренной аллегорезы и самого Оригена.
«Неизреченные слова», в которых Истина открывалась пророкам и евангелистам, они облекли в словесные символы, и Св. Писание, по убеждению Оригена, есть полная и всеобъемлющая символическая философия бытия, требующая своего прочтения. Те, кто внимательно читает Писание, узрит в каждом описываемом историческом событии символ (σύμβολον) более глубоких истин (II, 69). Однако иудеи да и многие христиане видят в библейских текстах только буквальный смысл и на его основе делают неверные выводы. Так, евреи не признали в Христе Мессию, ибо не усмотрели за внешним содержанием библейских текстов предсказанных пророками событий, которые должны были сопровождать его явление (De princ. IV, 2, 1).
Ориген не устает порицать и тех христиан, которые привыкли буквально понимать Писание, «угождая больше своему удовольствию и похоти и будучи учениками одной только буквы». Они полагают, что «обетования» будущего века «будут состоять в телесном наслаждении и роскоши»; поэтому они и «желают по воскресении иметь такие тела, которые никогда не были бы лишены способности есть, пить и делать все, что свойственно плоти и крови». Они мечтают, что Иерусалим будет восстановлен из драгоценных материалов, что им будут прислуживать иноплеменники, что к ним потекут сокровища со всего мира, и т. д. и т. п. В подтверждение этого они приводят многие места из Ветхого и Нового Заветов, «не зная, что их нужно понимать образно». Эти христиане, считает Ориген, веруя во Христа, мыслят и понимают Писание еще по-иудейски (II, 11, 2). Те же, кто понимает Писание «по разуму апостолов», т. е. видит в нем истины, сокрытые под сенью буквального повествования, те надеются, что святые в будущем веке будут есть не земную пищу, а «хлеб жизни, питающий душу пищею истины и премудрости», просвещающий ум. «Напитанный этой пищей премудрости ум достигнет чистоты и совершенства, с какими человек был создан изначально, и будет восстанавливать в себе образ и подобие Божие». Богатством же, которое нищие необразованные верующие обретут в небесном Иерусалиме за свою добродетельную жизнь, будет высшее знание (II, 11, 3).
Удивительны эти дух и пафос чисто эллинского философского сознания, присущие многим раннехристианским мыслителям, и Оригену прежде всего. Их уже давно утратили сами языческие философы поздней античности. Стоицизм, скептицизм, неоплатонизм отошли от несколько наивного упования эллинской классики на познавательные возможности человека. Ранние христиане, и особенно александрийцы, усмотрели выход из тупиков античного агностицизма в сферах благодатного откровения истины, сакрального опыта и на путях герменевтики Св. Писания - постижения его образно-символического языка, способного выразить невыразимые, невыговариваемые, неформализуемые на уровне обычного языка знания и истины.
Вчитываясь в тексты Писания
[372], Ориген обнаруживает в них по меньшей мере три смысловых уровня, соответствующих трем уровням человеческого восприятия -
телесному, душевному и
духовному (IV, 2, 4). Не каждый текст Писания содержит все три смысла. Есть тексты, в которых вообще отсутствует буквальный (т. е. телесный - τό σωματικόν) смысл. О том, что в каком-либо тексте может не быть иносказательного смысла, Ориген молчит. За этот безбрежный пан-символизм он будет впоследствии неоднократно осуждаться многими Отцами Церкви, хотя и найдет достойных последователей в лице великих каппадокийцев, и прежде всего - Григория Нисского. В своих семантико-герменевтических исследованиях Ориген активно опирается на апостола Павла, утвердившего в христианстве традицию иносказательного понимания многих изречений Иисуса. Начало этой традиции, как известно из Евангелия, было положено самим Христом, часто говорившим притчами и нередко здесь же разъяснявшим их смысл.
Все это дало основание Оригену утверждать, что три смысла в тексты Писания были вложены Св. Духом по промыслу Божию (IV, 2, 7) или самим Словом Божиим (IV, 2, 9). При этом часто в них специально нарушена последовательность изложения, отсутствует изящество речи (γλαφυρόν), чтобы читатель не отвлекался внешним повествованием («телесным» смыслом) и его красотой, но искал бы внутренний смысл. В противном случае, считает Ориген, мы едва ли подумали бы о каком-либо ином смысловом плане, кроме поверхностного (πρόχειρον - дословно: «находящегося под рукой»). «Поэтому Слово Божие позаботилось внести в Закон и Историю некоторые как бы соблазны, камни преткновения и несообразности» (αδύνατα) (IV, 2, 9). Споткнувшись о них, человеческий ум начинает доискиваться причины, т. е. всматриваться в текст, искать иные смыслы
[373]. Фактически ради них, т. е. ради духовного содержания, Писание и дано людям. При этом Слово, считает Ориген, придерживалось определенного принципа. Там, где историческое событие могло соответствовать «таинственным предметам», оно использовало текст в чистом виде «для сокрытия глубочайшего смысла от толпы»; там же, где исторические деяния не подходили (Ориген, естественно, не дает критерия такого соответствия) для выражения духовных смыслов, там «Писание вплело в историю то, чего не было на самом деле,- частью невозможное вовсе, частью же возможное, но не бывшее в действительности». В одних местах эти вставки невелики, в других же достаточно пространны (IV, 2, 9).
Подобным же образом Дух Божий обошелся и с Евангелиями и апостольскими посланиями. В этих книгах также содержится много такого, чего не было на самом деле и что не во всем согласуется с разумом, если их понимать буквально (IV, 2, 9; 16). Ориген приводит примеры подобных несуразных и бессмысленных в буквальном понимании мест из Писания. Вряд ли разумный человек, читая о днях творения, считает Ориген, поверит, что первые три дня были без солнца, луны и звезд; что Бог насаждал рай в Эдеме наподобие человека-земледельца; что древо жизни или древо познания - это настоящие деревья с плодами, которые можно попросту съесть, или что Бог вечером разгуливал по раю, как обычный человек по саду, а Адам прятался под деревом. Все это «образно» (τροπικώς) указывает на некие тайны, смысл которых далек от буквального содержания самих рассказов (IV, 3, 1).
Много неразумного и невозможного с точки зрения буквального понимания содержится и в заповедях Моисея, и в евангельских текстах. Например, запрет есть коршунов, которых никто и при величайшем голоде никогда не употребляет в пищу. Или не существующее в природе животное трагелаф, которое Моисей повелевает приносить в жертву, и т. п. А как понимать евангельское утверждение об обидчике, ударяющем по правой щеке, когда нормальный человек (не левша) всегда бьет по левой? И почему именно правый глаз служит к соблазну? и т. п. Все эти примеры, завершает свои рассуждения Ориген, я привел для того, чтобы доказать, «что божественная сила, давшая нам Св. Писание, имела целью, чтобы мы не принимали слова Писания только буквально, так как по букве они иногда не сообразны с истиной, даже бессмысленны и невозможны» (IV, 3, 4).
Конечно, в Писании много и истинных исторических сообщений; также и многие заповеди следует понимать буквально. Только «духовных», т. е. исключительно символических, мест в Писании меньше, чем имеющих и буквальный смысл. Однако сокровенное знание аллегорически содержится и там, где буквальный смысл невозможен, и там, где он вполне реален. Писание все имеет духовный смысл (τό πνευματικόν), но не все - буквальный (τό σωματικόν) (IV, 3, 5). Отсюда и особый герменевтический пафос Оригена.
Сам отрывочный, непоследовательный способ изложения библейской истории уже указывает, по Оригену, на необходимость иносказательного толкования многих событий и текстов, их описывающих. Ибо они рассчитаны на два класса читателей - простых верующих (для них - буквальный смысл) и «тех немногих», которые пожелали бы вникнуть в сокровенный смысл этих событий. И усмотрение аллегорического смысла не изобретение современных иудеев или христиан; к образному выражению мыслей, убежден александрийский мыслитель, сознательно прибегли и сами авторы Св. Писания, чтобы иносказательно выразить глубокий внутренний смысл учения (Contr. Cels. IV, 49).
На это же двойное прочтение ориентирована и внешне простая форма изложения в Св. Писании - чтобы и необразованный читатель получил свою долю буквального знания, и пневматик постиг глубинный «духовный смысл» (τα λεγόμενα πνευματικά). При этом оба смысла часто заключаются в одном и том же тексте (IV, 71).
Буквальный текст Писания доступен всем верующим, а вот иносказательный открывается только по благодати Божией (IV, 50), которая, полагал Ориген, дается не только христианам. В полемике с Цель-сом, считавшим многое в Писании баснями, недостойными внимания, Ориген убежден, что Цельс не читал серьезных аллегорических объяснений Писания. А таковыми он считает и толкования пифагорейца Нумения, и сочинения эллинизированных иудеев Филона и Аристобула. Книги последних, писал он, настолько удачно передают мысли священных писателей, «что даже греческие философы могли бы увлечься чтением их. В этих книгах мы находим не только изысканный и отделанный слог, но также и мысли, и учение, и надлежащее пользование теми местами Писания, которые Цельс считает баснями» (IV, 51). Понятно, что в этот же ряд (а может быть, и выше) Ориген ставит и свои толкования библейских текстов.
Ориген различает ряд способов, в которых пророки выражали свои знания, но называет только три из них: «собственно-словесный» (αύτο-λεξεί), энигматический (δί αινιγμάτων - «через загадки») и аллегорический (δί αλληγορίας), добавляя, что есть и другие (άλλω τρόπω τινές) (Ι, 50). К сожалению, точных разъяснений и для названных способов Ориген не дает. Да это и вряд ли возможно, ибо для понимания (уразумения) смыслов всех этих «тропов» необходимо некое «мистическое созерцание» (μυστική θεωρία. - Π, 6), результаты которого плохо поддаются словесной фиксации. Можно только предположить с большей или меньшей долей вероятности, что «собственно-словесный» способ выражения соответствует телесному смыслу, согласно трехуровневому делению в «О началах» (IV, 2, 4), энигматический - душевному, а аллегорический - духовному. Это соотнесение было бы убедительно, если бы Ориген не упоминал о неких «других образах». С какой из трех составляющих человека (телом, душой или духом) могут быть соотнесены они. неясно.
Итак, пафос непостигаемой возвышенности Бога, удивительной высоты и духовности христианского учения привел Оригена (а в его лице и берущее от него начало направление в патристике - так называемое александрийское) к осознанному утверждению символико-аллегорического (т. е. небуквального) уровня словесного текста (прежде всего священного) в качестве наиболее высокого и, соответственно, предпочтительного. Этот же пафос и развитое воображение способствовали появлению в его гомилетике очень свободных и даже произвольных в богословском плане, но художественно часто оригинальных и убедительных толкований Св. Писания, что объективно свидетельствует об активном включении Оригеном в свою философско-богословскую методологию форм и способов художественно-эстетического опыта, или - эстетического сознания, для которого образно-символическое, нелогичное и даже абсурдное с позиции формальной логики мышление является определяющим.
Фактически с ним мы сталкиваемся на каждом шагу Оригеновых толкований и шире - в самом способе его мышления. Обращаясь, например, к платоновской гносеологии, он напоминает о четырех ступенях (или элементах) познания любой вещи:
имя (όνομα),
речь (λόγος),
образ (εϊδωλον) и
знание (επιστήμη) (см.: Plat. Ер. VII, 342ab) и толкует их применительно к христианству следующим образом. Имени соответствует (άνάλογον) Иоанн Предтеча, речи (или слову) - Иисус; слово εϊδωλον христиане не употребляют в позитивном смысле
[374], но этой ступени, по Оригену, соответствует «отпечаток ран» (τών τραυμάτων τύπον), которые производит в душе внедряющееся в нее слово, т. е. сам Христос, проникающий в нас через слово. И четвертой, высшей ступени познания (знанию, по Платону) соответствует у христиан
Премудрость-Христос (σοφία ό Χριστός), которой обладают люди совершенные (Contr. Cels., VI, 9). Речь здесь идет как об
источнике абсолютного знания Софии - Премудрости Божией, так и об исходящем от нее самом
знании - о «божественной мудрости»
[375], которая, по Оригену, во-первых,- дар Божий, во-вторых,- наука познания и, в-третьих,- вера, несущая спасение почитающим Бога (VI, 13).
С точки зрения традиционно-философской, пожалуй, только последний, четвертый, этап «соответствия» может быть хотя бы как-то понят и оправдан; в трех других «аналогии» весьма произвольны, и никакая традиционная философия их не примет, а богословие еще и сочтет еретическими. Однако с позиции художественно-эстетической, или образно-символической, подобные соотнесения (άνάλογον) вполне уместны и их ассоциативно-семантические линии достаточно очевидны. Своим άνάλογον Ориген, может быть, сам того не подозревая, открывает богословско-философскому мышлению, испытывающему трудности на путях формальной логики, русло художественно-эстетического опыта, не претендующего на однозначность, строгую логику, формальную доказуемость. И в своей экзегетике он смело устремляется вперед, навстречу опасности.
Трудно сказать, как сам Ориген отнесся бы к подобной интерпретации его метода, но в его время еще никто и не знал о таком специфическом духовном опыте, как художественно-эстетический, хотя он, естественно, имел широкое распространение на практике. В частности, постоянное внимание Оригена к Платону, который активно опирался на этот опыт в своей философии, использование им многих платоновских образов и символов в экзегетике
[376] позволяют заключить, что Ориген интуитивно тяготел к сфере эстетического сознания, причем в большей мере, чем к чистому и строгому философствованию (аристотелевского типа). Сам он в соответствии с духом времени осмысливал этот свой опыт несколько в ином плане. Вопреки противнику христиан Цельсу, считавшему иудейские и христианские священные тексты безыскусными и не имеющими никакого иного смысла, кроме буквального (IV, 87), Ориген верил в эзотеризм библейских книг. Он неоднократно утверждал, что они написаны по вдохновению Св. Духа и содержат скрытый смысл, правильно понять который можно, только руководствуясь откровением Св. Духа, т. е. следуя путем, указанным Христом (V, 60). Себя самого он видел в ряду таких пневматиков, что и вдохновляло его на герменевтические эксперименты со Св. Писанием.
До Оригена ни один христианский мыслитель не толковал в таком объеме и столь подробно тексты Св. Писания. В своих гомилиях и комментариях он затронул почти все книги Ветхого и Нового Заветов;
[377] и толковал и разъяснял каждый текст, каждый образ, каждое действие персонажей, каждое слово увлеченно и вдохновенно. Радость постижения смысла, обретения истины переполняет все экзегетические работы Оригена; он, безусловно, верит в то, что получает из глубин своего духа истинные знания, и испытывает от этого утешение и неописуемое наслаждение. «Ведь кто удостоился участия в Святом Духе, тот, познавши неизреченные тайны, без сомнения получает утешение и сердечную радость (laetitia cordis)» (De princ. II, 7, 4).
Всмотримся в некоторые характерные для Оригена аллегорезы
[378]. Так, под «хлебом насущным» из «Отче наш» (Лк 11, 3) он склонен на основе Ин 6, 51; 54 - 57 и др. понимать самого Христа (De orat. 27, 3 - 4). Восхождение Иисуса на небо он предлагает рассматривать не буквально, а духовно (23, 2) и «аллегорически» (άλληγορικώτερον), и видеть в Христе «трон» Отца, а в Церкви Христовой - «подножие ног Его» на основе Ис 66, 1, Деян 7, 49 (23, 4; 26, 3). В чисто духовном плане видится Оригену и «Царство Божие»: под ним следует «разуметь то счастливое состояние разума, когда его мысли упорядочены и проникнуты мудростью; а под Царством Христовым нужно разуметь слова, высказанные для спасения слушателей и исполнения дела праведности и прочих добродетелей: ибо Сын Божий есть
Слово (Ин 1, 1) и
праведность (1 Кор 1, 30)» (25, 1).
Интересна Оригенова экзегеза на Книгу Бытия. Здесь за незамысловатым повествованием о сотворении мира Ориген, принимая его и буквально, усматривает духовный смысл, раскрывающий глубинное содержание христианства. Уже в первом слове «Начало» в первой фразе: «В
начале сотворил Бог небо и землю» (Быт 1, 1), - Ориген усматривает Слово Божие, Спасителя, Иисуса Христа (In Gen. Hom. I, 1). И далее ведет толкование, выходя в основном на уровень христианской этики. О водах
вышних и
нижних, разделенных твердью неба (Быт 1, 7), он пишет: «Таким образом, причастностью вышней воде, которая поверх небес, каждый верный становится небесным, т. е. когда он весь ум свой устремляет к вещам возвышенным и высоким, помышляя не о земном, но о небесном, ища горнего, где Христос восседает одесную Бога» (Ι, 2)
[379].
Плоды и семена, которые прозрастила земля (Быт 1, 11 - 12), в духовном смысле означают, что «и мы также должны и плод приносить, и семена иметь в самих себе, то есть содержать в сердце своем семена всех добрых дел и всех добродетелей, с тем чтобы, укоренившись в нашем сознании, они побуждали нас поступать по справедливости во всех случаях жизни» (I, 4).
Слова «да будут светила на тверди небесной» (Быт 1, 14) Ориген переосмысливает применительно к внутреннему миру христианина: «Как на той тверди, которая уже называется небом, Бог велит быть светилам... так может произойти и в нас, если только мы будем стремиться называться и стать небом: тогда будем иметь в себе светила, освещающие нас,- Христа и Его Церковь» (I, 5).
Под «большими рыбами» и пресмыкающимися (Быт 1, 21) Ориген понимает «нечестивые и безбожные мысли», а под птицами нечто доброе, и здесь же он предвосхищает вопрос: а почему, создав нечто недоброе, Бог увидел, «что это хорошо»? На что, не задумываясь. в духе свободной аллегористики отвечает: «Для святых является хорошим все, что враждебно им, ибо они могут одержать над этим победу и тем самым удостоиться перед Богом еще большей славы». Какое может быть достоинство в добродетели, если за нее не нужно бороться с противным? Поэтому Бог и создал «больших рыб» и пресмыкающихся и увидел их разумную пользу для стремящихся к добродетели (I, 10).
Что сказать обо всем этом? Да и было уже достаточно сказано за прошедшие столетия... Строго критикуя Оригена с позиций немецкой научной библеистики за слишком вольные, иногда даже смешные и «ненаучные» толкования, исследователь прошлого века делает вывод: «...его столь многочисленные экзегетические сочинения в том, что касается исследования текста, насколько совершенно бесполезны для здравого научного объяснения Писания, настолько могут быть интересны в некотором ином отношении»
[380]. Ныне очевидно, что на это «иное отношение» может с большим основанием претендовать история эстетики. Экзегетика Оригена, как и его александрийских предшественников Филона и Климента, конечно же, в значительной мере продукт свободно творящего эстетического сознания, чем строго научного мышления. В своих гомилиях Ориген в большей степени художник, чем богослов новоевропейского толка. Его дух погружен в стихию аллегорически-символических образов, глубоких духовно-пластических ассоциаций, наконец, древних глубинных архетипов.
Для доказательства истинности своих толкований Ориген привлекает, как правило, другие тексты Писания (обычно из Нового Завета), в которых то или иное ключевое слово разъясняемого образа стоит в необходимом для Оригена смысловом контексте. Однако и здесь, строго говоря, речь может идти только о свободном художественно-ассоциативном параллелизме, но никак не о строгих доказательствах формально-логического типа. Но Оригену этого вполне достаточно, ибо он уверен, что обладает глубинным, полученным от Бога видением символических уровней текстов Св. Писания. Строгий схоласт, может быть, и отмахнется от этой «уверенности» древнего мыслителя, но человек, занимающийся художественным мышлением и эстетическим сознанием, т. е. сферами духовной жизни, альтернативными философскому и научному знанию, отнесется к ней с большим доверием и вниманием. Сегодня, когда мы хорошо знаем, что феномены художественной деятельности не просто игрушки развлекающегося от безделья сознания, но особые формы выражения духовных сущностей; что символы в широком смысле слова - нечто большее, чем условные знаки; что дискурсивное мышление - не единственная и далеко не самая оптимальная форма познания и что высшая духовная жизнь не сводится только к формально-логическому мышлению, мы, конечно, с большим интересом отнесемся к проявлениям подобного типа мышления в древности. Человеческому сознанию тогда были еще доступны результаты древнего духовного опыта, живы еще были архетипические смыслы и символы, о которых мы теперь только можем догадываться.
Ясно, что эти вопросы требуют специального изучения. Здесь только можно указать на существование проблемы, с тем чтобы привлечь к ней внимание ученых и наметить направление исследований, а именно - рассматривать экзегетико-герменевтические опыты Оригена не столько в узкобогословском плане, где они действительно дают не очень много, но на уровне художественно-эстетического опыта проникновения вглубь сакральных текстов.
Взять, к примеру, хотя бы такой древний символ человеческой культуры, как Ноев ковчег - символ спасения жизни на Земле. Ориген посвятил ему специальную беседу в своих гомилиях на Книгу Бытия. Ощущая особую значимость этого символа, он проводит толкование его по трем уровням раздельно: буквальному, духовному и нравственному, обосновывая наличие этих уровней ссылкой на трехэтажную надводную часть ковчега. Три этажа, полагает он, указывают на три смысла в Писании, а два подводных этажа - на то, что в некоторых текстах не бывает буквального (исторического·) смысла (II, 6).
Опираясь на эту дефиницию смысловых уровней и соотнося ее с указанными выше, можно полагать, что нравственный уровень соответствует душевному уровню введенного ранее деления, хотя точного соответствия здесь нет. Если душевный смысл текста занимает иерархически среднее положение между буквальным и духовным, то о нравственном смысле, введенном здесь, сказать это трудно. Ориген обращается к нему в последнюю очередь, после буквального и духовного толкований и в вводном тексте никак не обозначает иерархическое место этого уровня: «В самом деле, первое, предшествовавшее [другим] буквальное (историческое) изъяснение было положено снизу, словно некое основание. Следующее за ним, таинственное (духовное.- В. Б.), было более высоким и возвышенным. Попытаемся же. если сможем, добавить и третье, нравственное» (II, 6).
В буквальном изъяснении Ориген достаточно подробно стремится показать критикам и скептикам, что все изложенное в этом тексте вполне могло быть и было осуществлено и нет никаких оснований считать рассказ о ковчеге выдумкой, включая его форму и размеры.
По форме Ноев ковчег представлял собой огромное пирамидальное сооружение, собранное из четырехгранных деревянных брусьев, пазы между которыми были скреплены смолой. Пирамидальная форма придавала ему особую устойчивость и непотопляемость. Он имел два этажа в нижней, подводной, части - на верхнем хранилась пища для обитателей ковчега, нижний использовался в качестве отхожего места. Три верхних этажа были жилыми. На нижнем помещались дикие и свирепые животные и пресмыкающиеся, выше - более спокойные и мирные и на самом верху - люди, как существа разумные, мудрые, признанные главенствующими на земле.
В духовном плане рассказ о Ноевом ковчеге представляется Оригену символическим изображением основ христианского миропонимания. Ной выступает прообразом самого Иисуса Христа, потоп знаменует конец мира, который со страхом и надеждой на спасение ожидается христианами. Этажи ковчега и содержащиеся на них живые существа указывают на структуру Церкви и различные уровни совершенства ее членов - от нижнего, где обитают те, чьи сердца «не смягчила сладость веры» (свирепые животные), до высшего, где пребывают умудренные в вере (Ной и его родственники, т. е. сам Иисус Христос и близкие к нему по духу). Мощные стены ковчега из четырехгранных брусьев - надежная защита для тех, кто внутри Церкви; смола, скрепляющая их,- внешняя и внутренняя святость. Числа, указывающие на размеры ковчега, «освящены великими тайнами», и каждое из них наполнено символическим содержанием. Ориген указывает на некоторые из значений чисел: 100 - «число всей разумной твари»; 50 - знаменует отпущение (грехов, на свободу и т. п.) и прощение и т. п. Этажи ковчега означают также и преисподнюю, землю и небо, согласно словам ап. Павла: «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних» (Флп 2, 10). Объединенность всех живых существ в ковчеге является образом Царства Божия, где пасутся вместе волк и ягненок, барс и козленок, лев и волк (II, 5).
Наконец, на уровне нравственного толкования Ориген видит в Ноевом сооружении ковчег нравственного спасения, который представляется ему «библиотекой Божественного слова», складывающейся из нравственных норм, заповедей и добродетелей (библиотекой души). Они же, в свою очередь, записаны в книгах пророков, апостолов и других добродетельных мужей, т. е. составляют уже библиотеку духовных книг. Ковчег и является символом этой библиотеки. «Ты же, если строишь ковчег (в душе своей.- В. Б.), если собираешь библиотеку, собирай ее из писаний пророков и апостолов либо тех, кто прямо следовал им в вере, и сделай ее «двухэтажной» и «трехэтажной». С ее помощью изучи буквальные повествования; с ее помощью познай «великую тайну», коей преисполнены Христос и Церковь; с ее помощью учись очищать душу, сбрасывая пленяющие ее оковы, и размещать в ней «отделения и отделения» различных добродетелей и совершенств. Ты поистине «осмолишь ее «внутри и снаружи», «неся в сердце веру, а устами исповедуя [ее]», имея внутри знание, а снаружи деяния, шествуя с чистым сердцем внутри и с непорочным телом снаружи» (II, 6). Оструганные и отшлифованные четырехгранные брусья предстают здесь книгами почитаемых христианами авторов, ибо им удалось отсечь и отрубить все пороки, отшлифовать и уравновесить со всех сторон свою жизнь, в то время как книги языческих авторов представляются грубыми, неотесанными бревнами.
Итак, Ноев ковчег на нравственном уровне (т. е. уровне души) видится Оригену символом нравственной культуры человечества как библиотеки, т. е. хранилища духовных и нравственных ценностей, воплощенных в письменном, книжном слове. И этот ковчег - спаситель человечества, вообще жизни на земле от гибели. Спасение через Церковь, Иисуса Христа, спасение через нравственную культуру, спасение через Библиотеку духовных книг. Спасающая человечество культура как библиотека освященных Церковью книг - один из важнейших глубинных (как правило, до сих пор еще не до конца осознанных) символов Средневековья; и он впервые был хорошо прочувствован и выражен одним из первых крупнейших апологетов христианства на путях свободного символико-аллегорического толкования Св. Писания, то есть на путях символического выражения неформализуемого духовного опыта, на путях, которые мы сегодня относим к сфере эстетического опыта, эстетического сознания.
Этот вывод можно без особых натяжек распространить на все экзегетико-герменевтическое творчество Оригена. Осознав ограниченность сферы рационального, дискурсивного познания, он в поисках более совершенных форм и способов познания вывел свой гносис на уровень свободной символико-аллегорической герменевтики, т. е. фактически на уровень неформализуемого эстетического сознания, и пришел на этом пути к интересным находкам, выявлению значимых для культуры символов и архетипов, более полное осмысление которых еще ждет своего часа.
2. Эстетика космического бытия
Значительный пласт раннехристианского эстетического сознания был связан, как мы видели (гл. IV, 1), с принципиальной для христианства концепцией творения мира Богом из ничего, концепцией, по сути дела, выводящей и богословие, и философию в эстетическую сферу. Ориген приложил немало усилий для развития именно эстетических аспектов этой концепции, хотя понимал суть творения отнюдь не традиционно. У него есть специальная гомилия на Первую Книгу Бытия, повествующую, как известно, о сотворении мира. Однако в ней мы не находим почти ничего интересного для нашей темы, ибо в ней Ориген рассматривает только аллегорические уровни понимания Книги Бытия, а буквальному смыслу, т. е. собственно творению мира, не уделяет практически никакого внимания. Поэтому по интересующей нас проблеме нам придется обращаться к другим трудам мыслителя.
Творцом и Художником мира, по Оригену, является невидимый и умонепостигаемый Бог, имеющий вечное бытие «в трех ипостасях» - Отце, Сыне и Св. Духе
[381]. «Троица, и только она одна, превосходит всякое понятие не только о времени, но и о вечности» (De princ. IV, 4, 1). Бог благ,
прекрасен (καλός) и всегда пребывает в состоянии
блаженства (εύδαιμονία) (Contr. Cels. IV, 14-15). Он выше всяческого понятия о пространстве, месте и т. п. и при этом вездесущ. Он прост и един, ибо является причиной всего. «Он есть Ум и в то же время - источник, от которого получает начало всякая разумная природа, или ум» (De princ. Ι, 1, 6). И, однако, это не абстрактное и безличное
Единое Плотина, а конкретное живое существо, самосознающая
личность в трех ипостасях. Ипостаси же (Отец, Сын и Св. Дух) не равны друг другу (в этом и состоит субординационизм Оригена, за который он был порицаем официальной церковью). Сын меньше Отца, и его деятельность простирается только на разумные существа. Св. Дух меньше Сына, и его воздействие ограничивается только святыми (De princ. Ι, 3, 5; ср. также: In Ioan. Com. II, 6; XIII, 25).
Именно этот, недоступный в своей абсолютной простоте человеческому пониманию Бог и является Творцом всего космоса. Притом единственным Творцом. В борьбе с еще живым и даже процветающим языческим политеизмом этот тезис приходилось не просто утверждать, но и доказывать. Ориген, как и некоторые другие христианские мыслители, делал это с помощью эстетической аргументации. Мир един, целостен, совершенен и гармоничен и в силу этого может быть произведением единственного Художника - Бога (Contr. Cels. I, 23). Много творцов вряд ли смогли бы добиться такой согласованности всех частей космоса и столь высокого гармонического порядка во всем. Но если эстетические качества Универсума являются едва ли не главным аргументом в пользу единственности Творца, то отсюда понятно и высокое место эстетического сознания в христианстве, и, соответственно, роль искусства в системе зрелой христианской культуры. Фундамент этого закладывали уже первые христианские мыслители, и Ориген был одним из наиболее активных среди них в этом плане. При этом небезынтересно отметить, что многие из тех положений его богословской концепции, которые не вписались впоследствии в официальную доктрину христианства, способствовали у него разработке собственно христианской эстетики.
Концепция творения у Оригена вытекает из его понимания Творца. Бог вечен и пребывает вне времени. Для Него все Его бесконечное бытие - один «сегодняшний день» (In Ioan. Сот. I, 32). Но Бог - и Вседержитель, а тем самым - вечный Вседержитель; а это означает, что «всегда должно было существовать и то, чрез что Он есть Вседержитель, и всегда было подчинено Ему все, состоящее под Его владычеством» (De princ. Ι, 2, 10). Мир, таким образом, совечен Богу, существовал всегда, и акт творения, по Оригену, следует понимать не во временном, но только в логическом смысле.
Точнее, разъясняет Ориген в другом месте, наш мир, творение которого описано в Книге Бытия, не единственный во времени. Он действительно имеет начало и будет иметь конец. Но до него существовали другие миры и после него будут тоже. Размышляя над «новым и особым термином», которым в Писании обозначено «сотворение» мира - καταβολή (ср.: Мф 13, 35; Ин 17, 24; Еф 1, 4) и который в буквальном смысле означает «низвержение», «низведение», Ориген и строит свою концепцию творения. До сотворения мира все твари существовали вечно в некотором невидимом высшем состоянии. Что это за состояние, Ориген не поясняет, но, безусловно, это не мир платоновских «идей», ибо эту теорию Платона Ориген считал ложной.
«Итак, словом καταβολή, по-видимому, указывается низведение всех вообще существ из высшего состояния в низшее, но вся тварь питает надежду на освобождение от рабства тлению» и возвращение в изначальное состояние, когда она еще пребывала в блаженном наслаждении (De princ. III, 5, 4). Суть же творения состояла в том, что «Художник всего» создал материю и из нее - тела всем тварям, соответствующие «низшему» состоянию нашего видимого мира.
При этом было сотворено не бесконечное, но ограниченное количество материи (именно такое, какое необходимо «для украшения мира») и конечное число разумных (или духовных) тварей. Если бы их было бесконечное число, их нельзя было бы познать и описать: «бесконечное по природе непознаваемо» даже для Бога (II, 9, 1).
Непосредственным творцом нашего мира является Слово Божие, Сын Божий, Христос, ибо через Него как через свою ипостась творит Бог (Contr. Cels. VI, 60; De princ. Π, 9, 4 и др.). Библейское выражение о том, что Бог при сотворении мира что-то делал «своими руками», Ориген, естественно, считает здесь образным выражением (Contr. Cels. VI, 61).
Ипостась Сына у Оригена несколько ниже ипостаси Отца, ибо Сын лишь Слово, образ, первая объективация хотения Отца, внутреннее самооткровение Отца. Отец - единое простое сокровенное Начало, которое открывается в Сыне и обретает множественность, сложность, разнообразие, красоту. Главным отличием Сына от Отца является его рождение. При этом рождение впервые Оригеном осмысливается не как единоразовый акт, но как вечно длящийся сакральный процесс. «Не родил Отец Сына и перестал рождать, но всегда рождает Его», ибо Сын - сияние Его славы, (ср.: Евр 1, 3), а сияние длится, пока светит свет (In Ierem. Hom. IX, 4). «Рождение Сына есть нечто исключительное и достойное Бога; для него нельзя найти никакого сравнения не только в вещах, но и в мысли, и в уме, так что человеческая мысль не может понять, каким образом нерожденный Бог делается Отцом единородного Сына. Ведь это рождение - вечное и непрерывающееся наподобие того, как сияние рождается от света» (De princ. I, 2, 4).
Идею о вечном, безначальном и бесконечном, т. е. вневременном, рождении Сына современное богословие считает самым ценным вкладом Оригена в ее сокровищницу
[382].
Для нас же здесь особо важно, что постоянно рождающаяся (т. е. находящаяся в бесконечном становлении, притом становлении и эстетическом, ибо - «сияние славы») ипостась Бога выступает непосредственным творцом конкретно воспринимаемого (тварного) мира.
У Оригена Сын предстает потенциальной энергией, глубинной сущностной силой Бога - vigor virtutis, духовной энергией и мощью божества - его
творческой энергией. «Рождение Сына есть действие силы, адекватной самой сущности Отца; Сын рождается не из существа Отца, он в строгом смысле не есть ни объект, на который воздействует сила Отца, ни произведение этого действия: Сын есть само ипостасное действие силы Отца, Его объективирующееся хотение, различаемое от существа Отца»
[383]. Если Отец, по Оригену,- единое простое начало, Бог - сокровенный, но живой, т. е. имеющий интенцию к откровению, то Сын и является этим первым внутренним самооткровением Отца в многообразной
идеальной красоте. Только Сын вмещает в себя
сияние всей
славы Отца, всю волю Отца, и поэтому он является первым и главным «Его образом» (είκών αύτοΰ - Ιη Ιoan. Com. XIII, 36). И этот первый и идеальный
образ находится в состоянии совершенного знания Отца и
духовной радости и
наслаждения от созерцания в самом себе своего архетипа, т. е. Отца (XXXII, 18).
Как сам «невидимый Бог», так и его «знание» и его «созерцание» неописуемы, однако уже в Его образе - в Боге-Сыне они предстают у Оригена или, точнее, следуя принципам его экзегетики, аллегорически изображаются в виде сияния славы, величия, соразмерности, красоты (Contr. Cels. VI, 69), т. е. в чисто эстетических характеристиках. Отсюда и возможность самосозерцания и самонаслаждения самого Слова, а также - наслаждения пневматиков, достигших возможности созерцания Бога-Сына; хотя, как подчеркивает Ориген, такое созерцание - нелегкое дело, ибо для этого пневматик должен обладать высшей формой мудрости - «божественной мудростью», о которой мы уже говорили.
С Оригена и первых Отцов Церкви начинается долгая и устойчивая традиция отождествления Бога-Сына, Логоса, второй ипостаси Троицы, с ветхозаветной Премудростью Божией, с которой и в которой Бог сотворил мир, т. е. с творческим началом Бога, с Его творящим Принципом.
Σοφία, chokma - мудрость, или Премудрость, - один из древнейших архетипов, пра-образов культуры. Святоотеческое понимание Софии основывается на своеобразном толковании книг Премудрости Ветхого Завета: Книги Притчей Соломоновых, Книги Премудрости Соломона и Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова.
В Книге Притчей Соломоновых Премудрость как некая странница бродит по дорогам и распутьям, поднимается на возвышения, останавливается у городских ворот и у дверей каждого дома и взывает к разуму людей, повествуя о самой себе.
До творения мира:
8.22 Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони:
23 от века я помазана, от начала, прежде бытия земли.
Во время творения Богом мира:
8.30 тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время,
31 веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими.
В истории человеческого рода:
9.1 Премудрость построила себе дом. вытесала семь столбов его,
2 заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу;
3 послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских:
4 «кто неразумен, обратись сюда!»
Эти словесные самооткровения Софии породили огромную толковательную литературу в европейской культуре. Нам в данном случае важно отметить лишь, что София предстает здесь не каким-то абстрактным принципом бытия, но достаточно ясно выраженной личностъю, которая имеет бытие у Бога до начала творения, до начала времени, в вечности; что она сама является Началом творения; что в акте творения мира она выступает художницею и радостию (т. е. творческим, а именно эстетическим Началом) и что в «нашем веке», в человеческой истории, она предстает активным носителем и проповедником мудрости.
Намеченный здесь образ Софии развивается в Книге Премудрости Соломона:
7.21 Познал я все, и сокровенное и явное; ибо научила меня Премудрость, художница всего (ή γάρ πάντων τεχνϊτις),
22 ибо в ней
[384] есть дух разумный, святый, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый,
23 благодетельный, человеколюбивый, твердый, неколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи.
24 Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает. Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя. <...>
26 Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия (ένεργείας) Божия и образ благости Его.
27 Она - одна, но может все. и, пребывая в самой себе, все обновляет, и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков;
28 ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью.
Далее говорится о том, что София прекрасна, «приседит престолу» Бога, является тайной хранительницей знания Божия, имеет «сожитие с Богом» и т. п. Здесь, таким образом, более подробно разъясняется онтологический статус Софии и ее функции как самостоятельной духовной сущности, теснейшим и таинственным образом связанной с Богом.
Подобные идеи развиваются и в Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова (гл. 1 и 24). Здесь говорится о том, что Софию Господь «произвел» (έκτισε) «прежде век от начала» и что она не скончается «во веки». Он «излил ее на все дела Свои и на всякую плоть по дару Своему, и особенно наделил ею любящих Его» (1, 9 - 10); София «вышла из уст Всевышнего и подобно облаку покрыла землю» (24, 3).
Уже из этих нескольких цитат видно, что яркий образно-поэтический язык книг Премудрости не дает возможности создать какую-либо однозначную концепцию Софии. Ее сущность настолько сложна, многомерна и многозначна, что не поддается строгой вербальной формализации. Авторы книг Премудрости, хорошо ощущая это, прекрасно использовали возможности поэтического языка, чем подготовили почву для последующей многовековой герменевтической традиции.
Идеи книг Премудрости были восприняты в большей или меньшей степени всеми основными духовными движениями поздней античности - неоплатонизмом, гностицизмом и христианством.
У основоположника неоплатонизма Плотина София имеет выраженную онтологически-эстетическую окраску. Речь о ней идет в трактате «Об умной красоте» (Эн. V, 8), и она предстает здесь как творческий принцип бытия («все происходящее, будь то произведение искусства или природы, создает некая мудрость (софия), и творчеством везде водительствует мудрость» - (V, 8, 5), как совокупность всего «сотворенного сущего» (V, 8, 4), как сущность самого бытия («истинная софия есть бытие (οϋσία=сущность), и истинное бытие есть софия». - V, 8, 5)
[385]. Ни о каком личностном начале Софии здесь нет и речи.
В многочисленных концепциях гностиков, возникавших, как правило, на основе слияния библейских, других ближневосточных и эллинских традиций, София появляется в различных обликах. Чаще всего так обозначается один из многочисленных (отнюдь не главных) эонов (духовных сущностей), составляющих божественную Плерому (полноту). Нередко он изображается в виде страстного юного существа, наделенного почти человеческими чувствами и влечениями. Выделяется эротический аспект Софии. Эту гностическую традицию понимания Премудрости развивала и средневековая Каббала (мистическое учение евреев), а за ней и отдельные западноевропейские мистики и визионеры Нового времени.
Раннехристианские Отцы Церкви тоже не могли пройти мимо столь важного образа Св. Писания, как Премудрость. В частности, Ориген уделяет Софии достаточно внимания в своей христологии. Для него (на основе новозаветного тезиса о Христе как «Божией силе и Божией премудрости» - 1 Кор 1, 24) София Премудрость Божия - это Сын Божий Христос: «Единородный Сын Бога есть Премудрость Его, существующая субстанциально» (De princ. Ι, 2, 2), «Сын есть Премудрость, а в Премудрости нельзя мыслить ничего телесного» (I, 2, 6), Христос «есть Премудрость Божия» (In Ierem. Hom. VIII, 2), «Спаситель наш есть Премудрость Божия» (IX, 4), Бог-Сын, «через которого все стало и который есть Премудрость Божия, открывающаяся во всех частях вселенной» (Contr. Cels. VI, 69), и т. д. и т. п. Поэтому все, что в Св. Писании говорится о Софии, он относит к Христу, и в этом плане ветхозаветная софиология обращается у него в христологию, наполняется новыми смыслами. Главный и единственный признак Сына во внутритроичной жизни Бога - рожденностъ - переносится теперь и на Софию. «Бог-Отец никогда, ни на один момент не мог, конечно, существовать, не рождая этой Премудрости» (De princ. I, 2, 2).
Участие Сына=Слова=Премудрости в творении мира достаточно основательно разрабатывается Оригеном, и София предстает у него личностным носителем всей совокупности божественных идей творения. «В этой самой ипостаси Премудрости находилась вся сила и предначертание будущего творения - и того, что существует с самого начала мира, и того, что происходит впоследствии; все это было предначертано и расположено в Премудрости силою предведения. В виду этих-то творений, которые были как бы предуказаны и предначертаны в самой Премудрости, Премудрость и говорит через Соломона о себе самой, что она сотворена началом путей Божиих или, что то же,- содержит в себе начала, или формы, или виды всего творения» (I, 2, 2). Кроме того, София, по Оригену, как уже указывалось, есть форма и способ самооткровения Бога миру и именно поэтому она называется «Словом Божиим»: «Премудрость открывает всем прочим [существам], то есть всей твари познание тайн и всего сокровенного, содержащегося внутри Божией Премудрости; она называется Словом потому, что служит как бы толкователем тайн духа (mentis)» (I, 2, 3).
Эти две концепции: отождествление Софии со вторым лицом Троицы - Богом-Сыном и понимание ее в качестве предвечной целостной и полной совокупности всех идей (форм, эйдосов, архетипов) творения, т. е. бытия всего сотворенного универсума, стали общим местом почти у всех Отцов Церкви. Только апологеты Феофил Антиохийский (Ad Aut. 2, 10) и Ириней Лионский (Contr. haer. IV, 20, 1) отождествляли Софию с третьей ипостасью Троицы - Святым Духом. Относительно же понимания Софии в качестве носителя всей полноты творческих замыслов Бога и конкретного их исполнителя все Отцы Церкви были едины.
Точно так же, как Сын и Слово Божие именуется и реально является Премудростью Божией, он есть и Истина, и Жизнь, и Воскресение, ибо все эти имена «взяты от дел и сил Его, и ни в одном из этих наименований даже самая поверхностная мысль не может разуметь ничего телесного, имеющего величину, или форму, или цвет» (De princ. Ι, 2, 4). У Оригена начинает складываться уже будущая христианская философия имени, прозревающая в именах (особенно Божиих) нечто большее, чем просто условные знаки. Своей исчерпывающей полноты она достигнет лишь к концу V в. в катафатическом богословии знаменитого автора «Ареопагитик», но будет волновать умы богословов и философов до XX в. Мистическое, неуловимое балансирование имени между сущностью именуемого и условным знаком, между онтологией и гносеологией станет в патристике со времен Оригена для многих камнем преткновения.
Все это относится и к оригеновскому пониманию Премудрости. Александрийский мыслитель определяет ее как субстанциальное начало творения, реальную Художницу мира, «парение силы Божией и чистое истечение славы всемогущего Творца, отражение вечного света, неиспорченное зеркало величия Божия и образ Его благости»
[386] и, одновременно, - как «знание вещей божественных и человеческих и их первопричин» (Contr. Cels. III, 72). Совмещая в одной дефиниции Премудрости классическое античное определение мудрости как гносеологической категории и библейский почти личностный образ Премудрости Божией, Ориген фактически и закладывает основы принципиально умонепостигаемого многомерного антиномического христианского образа Софии, над которым впоследствии будут ломать головы многие мистики и мыслители христианского мира, как западного, так и православного, вплоть до нашего столетия, а может быть, - и будущих времен.
Эта труднопонимаемая София, тождественная Слову Божьему, представляется Оригену путем, ведущим к Отцу (De princ. Ι, 2, 4), ибо, помимо всего прочего, именно она делает человека мудрым, т. е. приводит его к истинному знанию. Однако мало кто, как свидетельствует и ап. Павел (1 Кор 2, 6 - 8), достиг этого знания. Проповедниками и носителями его являются христиане. Мир же остается охваченным двумя другими формами «мудрости», согласно ап. Павлу, - «мудростью века сего» и «мудростью князей века сего». В специальной главе «О троякой мудрости» трактата «О началах» Ориген дает свое понимание этой проблемы.
Под «мудростью князей мира сего» он разумеет «египетскую, так называемую тайную и сокровенную, философию; астрологию халдеев и индийцев, обещающих высшее знание, а также многоразличные и разнообразные мнения греков о Божестве» (De princ. III, 3, 2). Под «князьями мира» имеются в виду некоторые духовные силы, которые сами считают свою мудрость и свои знания истинными и стремятся из благих побуждений наделить ими людей (III, 3, 3).
«Мудростью мира сего» Ориген склонен считать мудрость, с помощью которой постигается все, относящееся к нашему земному миру, и которая не претендует на познание божества, сущности мира и других высоких предметов. К этой «мудрости» Ориген относит традиционные для его времени искусства: поэзию, грамматику, риторику, геометрию, музыку. К ним же он причисляет и медицину. «Во всех этих искусствах, нужно думать, и заключается мудрость века сего» (III, 3, 2). Ее производят особые «князья», которых Ориген называет «энергиями (energiae) мира сего»; каждая из них вдохновляет определенную деятельность людей. Так, существует специальная энергия, «которая инспирирует (inspirat) поэзию, есть другая, [внушающая] геометрию,- и так каждое искусство и науку (artes disciplinasque) этого рода побуждает особая сила». Многие греки считали, что поэзия вообще не может существовать без исступления (insania) ума, и их легенды наполнены эпизодами о прорицателях, исполняющихся вдруг духом «безумия». Подобного рода энергии лежат и в основе «чудес», творимых всевозможными магами, чародеями и волшебниками.
В целом Ориген как истинный христианин, вкусивший от Премудрости Божией, не высоко оценивает и «мудрость века сего», и «мудрость князей», но считает их вполне приемлемыми, если они не вредят человеку и не уводят его от истинной Премудрости.
Бог с помощью своей Премудрости, своего предвечного Слова сотворил мир (κόσμος), и Ориген прилагает много усилий, чтобы осознать причины, характер, смысл и динамику бытия этого мира. Здесь он опирается прежде всего на греческий текст Св. Писания - Септуагинту и духовный опыт поздней античности. Греческое слово κόσμος, подчеркивает он, многозначно и имеет, сказали бы мы теперь, как онтологический (мир), так и эстетический (украшение) смыслы. Авторы Септуагинты употребляют его в обоих значениях, и Ориген сразу же акцентирует на этом внимание, приводя соответствующие цитаты (II, 3, 6), ибо для его семантически обостренного восприятия эстетический смысл термина, обозначающего весь мир в целом, имеет существенное, если не сущностное, значение.
Миром (или космосом) в онтологическом смысле называется, по Оригену, и наш видимый мир с его небом, землей и всеми обитателями, и вся Вселенная в целом, включая и ее духовные сферы, и та невидимая и недоступная человеческому восприятию часть Вселенной, из которой явился к нам Господь наш - Спаситель, согласно его высказыванию: «Я не от мира [сего]» (Ин 17, 14). Интересно, что Ориген и этот невидимый и неописуемый мир не склонен считать «бестелесным», полемизируя в этом плане с платоновской концепцией абсолютной реальности мира «идей». Он подчеркивает, что христиане не признают существование каких-то образов, которые греки называют идеями (ίσέας); мы совершенно чужды того, пишет он, чтобы признавать бестелесный мир, существующий только в воображении ума и в игре представлений, и «я не понимаю, как можно утверждать, что Спаситель - из этого мира или что туда пойдут святые» (II, 3, 6). Несомненно, что «тот мир» «славнее и блистательнее» нашего видимого мира, однако его местонахождение и конкретные свойства недоступны человеческому разуму. Тем не менее и он, как и вся сотворенная Вселенная, «телесен», хотя эта «телесность» может быть самого утонченного свойства. Бестелесна, по Оригену, только Троица (II, 2, 2).
Вселенная, называемая космосом, состоит из четырех частей:
вышенебесного, небесного, земного и
преисподнего. Миром также именуют и некую «высшую сферу», обозначаемую греками как άπλανή
[387], - это «мир святых и достигших высшей чистоты». А выше него есть еще одна сфера, объемлющая пространства всех сфер и также называемая этим емким словом мир (κόσμος).
Кроме того, наш видимый мир, по убеждению Оригена, не является единственным и во времени. До него существовали подобные ему (хотя и не равные, не точные копии) миры и будут существовать и после. Однако об этих мирах человеку не дано знать ничего определенного.
Итак, обобщает Ориген, «миром мы теперь называем все, что находится выше небес, или на небесах, или на земле, или в так называемой преисподней, и вообще все какие бы то ни было места и всех тех, которые живут в них: все это называется миром» (II, 9, 3). Все части мира обитаемы и наполнены разнообразными существами - от «вышенебесных», облеченных в утонченные сияющие небесные тела, до человека, животных, птиц и других земных существ.
Ориген различает три вида разумных существ: небесные, земные и преисподние. К небесному виду он причисляет, ссылаясь на ап. Павла (Еф 1, 21), чины ангелов, сил, начальств (или начал), властей, престолов и господств (I, 5, 11 и др.), Это высший вид разумных существ, которые (кроме части ангелов) никогда не отпадали от Бога, находятся во вневременном состоянии блаженства, в том «Начале», в котором был сотворен весь мир и к которому он должен вернуться в грядущем «конце» (De princ. Ι, 6, 2; 5, 1; Contr. Cels. IV, 29). Ориген не знает и не определяет никаких свойств и отличий этих чинов, хотя считает, что они у них есть. Однако имеют они их не изначально, но получили за свои дела и побуждения. Отличия эти запечатлены в их именованиях и связаны с порученными им функциями в мире. Так. «начала имеют начальство», «власти имеют власть», господства господствуют, престолы являются «начальниками суда и управления» (De princ. Ι, 8, 4). Ангелы поставлены самим Богом над каждым человеком и над каждой Церковью. В свою очередь над ними стоят более высокие чины ангелов - архангелы, каждый из которых также выполняет свои функции. Например, Рафаилу поручены дела лечения и врачевания, «Гавриилу - наблюдение за войнами, Михаилу - попечение о молитвах и прошениях со стороны смертных» (I, 8, 1) и т. п. Небесные чины иерархичны - «различные силы по заслугам, а не по преимуществу природы превознесены и поставлены над теми, над кем они начальствуют или властвуют» (I, 5, 3). Структуры же небесной иерархии Ориген еще не знает; она будет открыта в патристике значительно позже. В окончательном виде ее опишет только Псевдо-Дионисий Ареопагит где-то на рубеже V-VI вв.
Земной чин составляет род человеческий - это те существа, которые по своей воле (ибо все разумные существа наделены свободой воли) отпали от Бога и «ниспали из первоначального состояния блаженства», но способны еще вернуться в это состояние под воздействием наставлений и учения (I, 6, 2). В преисподней же обитают существа, павшие настолько глубоко, что не только сами не в состоянии внимать истинным наставлениям, но и ведут борьбу с людьми, пытающимися постичь истину и встать на пути возвращения к Богу. Это диавол и отпавшие с ним ангелы. Они являются главными носителями зла в мире (I, 6, 3).
Все существа и вообще весь тварный мир, по Оригену, состоят из тел, которые, в свою очередь, образованы из материи (ύλη) прибавлением к ней качеств - теплоты, холодности, сухости и влажности. Сама материя сотворена Богом бескачественной и бесформенной, но нигде и никогда не существовала и не существует в обособленном аморфном виде, ибо создана как основа тел, обладающих формой, видом, величиной, цветом (II, 1, 4; 4, 3). Именно поэтому, считает Ориген, материя была сотворена в конечном счете для «украшения мира» (II, 9, 1).
В зависимости от уровня, который занимают существа в мире (в соответствии со степенью их отпадения от первоначального состояния), они получают и соответствующие тела. Небесные чины блистают красотой небесных сияющих эфирных тел, не доступных восприятию человеческими чувствами, земные существа имеют более плотные и грубые тела (II, 2, 2). Другими словами, характер телесности разумных существ зависит от степени их греховности (равно и - своевольной удаленности от первоначального блаженного состояния), однако сами по себе материя и тело не содержат ничего нечистого и греховного. «Природа тела не является нечистой (ού μιαρά); телесность сама по себе, по своей природе, не связана с грехом - этим источником и корнем нечистоты» (Contr. Cels. III, 42). Полемизируя здесь с Цельсом, отстаивавшим характерную для позднеантичных дуалистов концепцию изначальной «нечистоты» (μιαρώτερα) тела, Ориген закладывает одно из важнейших положений всей христианской культуры (и, соответственно, открывает широкие перспективы христианской эстетике и художественной культуре) - о принципиальной безгрешности, сакрально-этической нейтральности материи, телесности, плоти.
Это положение станет одним из главных культуросозидающих принципов христианского Средневековья, одним из основных внутренних стимулов искусства христианского мира, но наряду с этим - и одной из труднейших проблем, вставших перед патриотической, да и более поздней богословской мыслью. И здесь Ориген, как и другие Отцы Церкви его и последующего времени, достаточно эффективно опирается на опыт эстетического сознания.
Материю в необходимом количестве, тела и весь тварный мир создал первый Художник - Бог и оценил свое творение как прекрасное (καλά λίαν). Отсюда и Ориген видит мир в свете этой божественной, по сути своей эстетической, оценки. Материя создана в определенном количестве «для украшения мира» (De princ. II, 9, 1); душа человека является в некотором смысле одеждой и украшением тела (II, 3, 2); различие и почти бесконечное разнообразие тел служит украшением миру, и это разнообразие могло осуществиться только в «телесной материи» (II, 3, 3), и т. д. В конечном счете сотворение материи и разнообразных тел видимого мира и явилось причиной красоты тварного мира.
Далее Ориген задумывается и над причинами разнообразия образующих мир тел, и над характером их организации в нечто целостное, каким и является, по его убеждению, мир.
«Разнообразие не есть первоначальное (principium) состояние твари», - считает Ориген (II, 9, 7). Вначале Бог сотворил все разумные существа «равными и подобными», ибо у него не было причины для различения. Однако свободная воля привела одних к сохранению совершенства путем подражания Богу, других - к отпадению от Него в той или иной степени. Именно это отпадение (или падение) и явилось главной причиной различия и разнообразия существ тварного мира (II, 9, 6). «Действительно, не то ли послужило причиной разнообразия мира, что существа, возмутившись и уклонившись от первоначального состояния блаженства и будучи побуждаемы различными душевными движениями и желаниями, превратили единое и нераздельное добро своей природы в разнообразные духовные качества, соответственно различию своих намерений?» (II, 1, 1). Этому способствует легкая трансформируемость «телесной природы» - возможность переходить из одного качества в другое (II, 1, 4).
Допустив, таким образом, многоразличие форм и видов тварных существ. Бог не позволяет им привести мир в хаотическое состояние. «Неизреченным искусством своей Премудрости» он обращает во благо все, что бы ни происходило в мире по своеволию отдельных существ, т. е. элементов творения. Он приводит в согласие и гармонию все разнообразие уклонившихся в разные стороны тварей. Он организует их деятельность так, чтобы все разнонаправленные движения душ работали для общей пользы, полноты и совершенства единого мира; чтобы самое разнообразие умов служило достижению этой единой цели тварного бытия - совершенству целого. Единая сила, именно сила Премудрости Божией, которая, сотворив мир, участвует и в управлении им,- эта сила «связывает и содержит все разнообразие мира и из различных движений образует одно целое; иначе столь великое мировое дело распалось бы вследствие разногласия душ» (II, 1, 2).
При этом гармонизация мира осуществляется без какого-либо насилия над каждым из существ, т. е. полностью сохраняется их свободная воля. Мудрость же божественного управления миром заключается в том, что «различные движения их воли искусно направляются к гармонии (consonantiam) и пользе единого мира. Так, одни существа нуждаются в помощи, другие могут помогать, иные же возбуждают брани и состязания против преуспевающих, - и все это затем, чтобы в борьбе лучше обнаружилось усердие этих последних, а после победы надежнее сохранялось состояние, приобретенное ими путем затруднений и страданий» (II, 1, 2). Идея божественной гармонизации и упорядочения разнообразных и часто противодействующих существ и явлений в мире будет постоянно волновать Отцов Церкви. Много внимания ей уделит, в частности, Блаженный Августин, разрабатывая концепцию глобального порядка в Универсуме (см. часть II, гл. IV).
Ориген, стремясь к предельной конкретизации идеи мировой гармонии разумных существ, делает характерное для раннехристианского мышления, хотя, может быть, и не совсем адекватное его же собственным представлениям, сравнение: «Как наше тело, будучи единым, сложено из многих членов и содержится одною душою, так, думаю я, и весь мир нужно считать как бы некоторым необъятным и огромным животным, которое содержится как бы единою душою, силой и разумом Бога» (De princ. II, 1, 3). Ясно, что Ориген не наделяет каждый член и орган человеческого тела свободной волей, а вот усмотрение общего функционально-гармонизованного подобия между человеком и Универсумом, своеобразный космический антропоморфизм вполне в духе и позднеантичного мышления, и христианского пафоса целесообразной организации всего тварного мира и высокого места в нем человека.
Другим символом гармонической и упорядоченной организации космоса разумных существ предстает у Оригена разумно устроенный дом. Бог, управляя каждым существом в соответствии с его «заслугами», сводит все многообразие действий и помыслов различных умов «к гармонии единого мира; из различных сосудов, или душ, или умов Он создал как бы один дом, в котором должны находиться сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни сосуды - для почетного употребления, другие же - для низкого» (II, 9, 6). В конечном счете, по Оригену, причина разнообразия в мире и заключается в изначально промысленной идее божественной гармонизации Универсума, в создании совершенного целостного организма, в котором каждое существо, каждое тело и явление займет свое место и будет выполнять свои функции.
Поэтому один из видов наказания (в частности человека) Ориген усматривает в выведении души из общей гармонии, из порядка и связей бытия. Душа тогда будет мучиться и страдать от ощущения полного разлада с собою «во всех своих разумных движениях», «чувствовать возмездие за свое непостоянство и беспорядочность» (II, 10, 5). И обратно, жизнь «будущего века» представляется александрийскому мыслителю пределом совершенства, красоты и гармонии во всех отношениях. Его эсхатология пронизана эстетическими интуициями.
Конец мира Ориген видит подобным началу (I, 6, 2), т. е. тому тварному миру, который был замыслен и создан Творцом с помощью его Премудрости. При этом он категорически не согласен с теми, кто считает, что этот «конец» будет сопровождаться уничтожением материи, плоти, телесности; он не может себе представить, как кто-либо, кроме самого Бога-Троицы, может существовать «без материальной субстанции и без всякой примеси телесности». Ориген склонен предполагать, что конец мира, «переход от видимого к невидимому» будет заключаться не в уничтожении материи и телесности, но в их обновлении, в «некотором изменении качества и преобразовании формы», в «изменении форм настоящего мира» (I, 6, 4). Суть этих изменений будет состоять в утончении плоти и в некоторой «идеализации» формы, приближении ее к первоначальному состоянию (согласно замыслу Творца).
Относительно воскресения людей в своих телах у Оригена (на основе 1 Кор 15, 35 - 38; 42-44) сложилась следующая концепция (см. Contr. Cels. V, 18-19; De princ. II, 10, 1-3 и др.). После смерти человека его тело распадается на мельчайшие составляющие, как и любое другое материальное тело, и эти составляющие остаются в составе материи. Когда же архангел протрубит сигнал к воскресению мертвых, для каждого тела соберутся все частицы, которые составляли его до смерти. Однако они необязательно будут те же самые, но скорее всего - такие же
[388]. Практически неизменной останется только форма. Точнее - узнаваемой, но идеализированной - без телесных дефектов, признаков пола и возраста. Люди станут подобны ангелам. Сама плоть утончится, станет нетленной, т. е. тела, «посеянные» душевными, воскреснут духовными,- повторяет Ориген тезис из Павлова Послания (1 Кор 15, 44)
[389].
«Духовное тело» будущего века будет во всем превосходить наше видимое тленное тело, «...можно только предполагать, - пишет Ориген, - какою красотою (decor), каким великолепием (splendor), каким блеском (fulgor) будет обладать духовное тело» (De princ. III, 6, 4). Освободившись от слабости, немощи и болезней, в какие тело было вовлечено греховным своеволием человека, оно «изменится в состояние славы... станет сосудом чести и жилищем блаженства» (III, 6, 6). Однако не все тела по воскресении будут равны между собой. Тела праведников воссияют как солнце, луна и звезды, а тела грешников и безбожников будут более темными и мрачными. Они должны еще будут пройти длительный период очищения, прежде чем достигнут первоначального состояния «славы». Каждое существо (и человек в том числе) будет осуждено по грехам его на свой срок очищения, которое будет сопровождаться адскими муками и горением в неугасимом огне.
Огонь этот, считает Ориген, ссылаясь на пророка Исайю (Ис 50, 11), не следует, однако, понимать внешним образом. Пламя этого огня будет гореть внутри каждого грешника, и пищей ему будут накопленные при жизни грехи и злые деяния. Главным же мучителем человека станет его совесть. Она с помощью божественной силы будет воспроизводить в памяти «некоторые знаки, или формы», всех гнусных, постыдных и злых дел человека. Совесть сама «будет преследовать себя и изводить своими собственными терзаниями, и сама сделается своею обвинительницею и свидетельницею [против себя]»; она сама выстроит орудия мучений «вокруг самой субстанции души из гибельных греховных настроений» человека (II, 10, 4).
В результате такого мучительного очищения в конце концов все существа могут вернуться в первоначальное состояние, как грешные люди, так и отпавшие ангелы (I, 6, 3). Ориген называет этот процесс «восстановлением» (άποκατάστασις)
[390], которое предполагает следующий и последний шаг в космогенезе - упразднение какого-либо разнообразия и
полное единение всех существ и всего бытия
в целом с Богом, когда «будет Бог все во всем» (1 Кор 15, 28). Ориген понимает это состояние как первоначальное состояние тварного мира До грехопадения, когда разумный дух каждого существа не будет ничего иного воспринимать, видеть, понимать, кроме Бога; когда Бог станет «пределом и мерою всякого его движения» и он никогда не пожелает вкусить плода от древа познания добра и зла. Тогда все вернется в свое исходное состояние и «поистине Бог будет все во всем» (III, 6, 3).
Итак, мы видим, что классические эстетические законы и принципы (красота, совершенство, гармония, соразмерность, украшенность, целостность, единство разнообразного и т. п.) играли и играют, согласно Оригену, важную роль в космическом творчестве Премудрости Божией по созиданию и управлению Универсумом. При этом мы оставили не затронутым еще один важный творческий принцип, который, в отличие от уже рассмотренных, не был присущ греко-римскому эстетическому сознанию, но был развит именно первыми Отцами Церкви на основе Св. Писания. Речь, конечно, идет о понятии и категории образа.
Мы уже видели, что эта категория занимала видное место в онтологии, гносеологии, этике и эстетике ранней патристики, и Ориген здесь не был исключением. Более того, типичные для ранних Отцов Церкви идеи были организованы у него впервые в систему христианского миропонимания. Это касается и концепции образа. В предыдущем параграфе мы рассмотрели эстетико-гносеологический аспект образа (или символа) у Оригена. Здесь нас интересует его онтолого-эстетический аспект.
В этом плане Ориген различает, ссылаясь на традицию («что люди обыкновенно называют...»), два вида образов: «Иногда образом называется то, что обыкновенно изображается или высекается на каком-нибудь материале, т. е. на дереве или на камне. Иногда же образом называется рожденный по отношению к родившему, а именно: когда черты родившего совершенно похожи на черты рожденного» (I, 2, 6). Первый вид - это, как мы видим, образы изобразительного искусства. Они не имеют полного «сходства» (или тождества) с прообразом. Так, живописные картины не передают объема изображаемого объекта; статуи, напротив, передают объем, но не имеют цвета; восковые фигуры имеют цвет и объем, но не отображают внутренней стороны предмета (Ιn Matth. Com. X, 11). К этому типу образов в Универсуме Ориген относит прежде всего человека, созданного «по образу и подобию Божию».
Второе значение образа приложимо к Сыну Божию как «невидимому образу невидимого Бога, подобно тому как Сиф, по историческому повествованию, есть образ Адама» (De princ. Ι, 2, 6). Здесь Ориген, однако, как и другие Отцы Церкви, не имеет, естественно, ясного представления о сути этого образа и ограничивается цитатами из Св. Писания и некоторыми, в общем достаточно противоречивыми представлениями. С одной стороны, этот Образ, как единственный и уникальный, практически во всем подобен Архетипу. В этом плане Ориген даже упрекает Цельса в том, что тот не различает выражений «быть по образу Бога» (κατ' είκόνα θεοϋ) и «быть образом Его» (της είκόνος αΰτοϋ). «Образом Бога является «рожденный прежде всех творений» (Кол 1, 15), само-Слово (αύτολόγος), само-Истина, само-Премудрость, «образ его благости» (Прем 7, 26); «по образу» же создан был человек» (Contr. Cels.'VI, 63). Иисус Христос, как воплотившаяся ипостась Сына, также сохраняет в себе образ Бога (см.: De orat. 22, 4 и др.),
С другой стороны, следуя своему принципу субординационизма в ипостасях Троицы, Ориген постоянно подчеркивает, что Сын (Христос) не равен Отцу, что Он свят, но меньший Отца и по «икономии», и «по сущности» (In Ioan. Com. II, 21; II, 18); что он «ни в чем несравним с Отцом; ибо Он есть образ (εϊκών) благости Его и сияние не Бога, но славы Его и вечного света Его» (XIII, 25). Отсюда вроде бы следует, что этот Образ существенно отличается от Архетипа. Достаточно ясными относительно этого типа образа у Оригена являются две вещи. Во-первых, «только один Сын может вместить всю волю Отца, поэтому он и является его образом» (XIII, 36). И в этом смысле образ совершенно неотделим от первообраза, как воля, происходящая от ума, но не отделяющая от него никакой части и сама не отделяющаяся от него (De princ. I, 2, 6). И во-вторых,- в образе созерцается первообраз: «В Слове, которое есть Бог и образ Бога невидимого, созерцается родивший его Отец, так как взирающий на образ невидимого Бога тотчас же может видеть первообраз этого образа - Отца» (In Ioan. Сот. XXXII, 18). Как это конкретно осуществимо, Ориген не разъясняет, но важен сам принцип понимания образа как некоего онтологического посредника на пути созерцания недоступного восприятию архетипа. Этот аспект универсален для обоих типов образа и имеет прямое отношение к эстетической функции образа.
О первом виде образа Ориген размышляет, когда речь у него заходит о человеке и особенно о сотворении человека. В общем случае под «образом Бога» в человеке он имеет в виду его «умственную природу» - ум, разум (De princ. Ι, 1, 7; Contr. Cels. IV, 86 и др.). Более конкретно и развернуто в духе оригеновской герменевтики эта проблема обсуждается в XIII главе Первой гомилии на Книгу Бытия.
Комментарий на известное место о сотворении человека (Быт 1, 26) Ориген начинает с указания на высокую значимость человека в Универсуме для автора Книги Бытия, который подчеркивает это двумя способами. Во-первых, указанием на то, что из всех существ только человек (наряду с небом, землей и небесными светилами) был создан самим Богом; все остальное было сотворено по «Его повелению». «Из этого ты можешь судить о величии человека, который приравнивается к столь важным и великим предметам» (In Gen. Hom. I, 12). И во-вторых, только о человеке сказано, что он сотворен «по образу Божию» (I, 13 и далее изложение идет по этой главе). Однако речь здесь идет, полагает Ориген, не о телесном, видимом человеке с его материальным телом, а о нашем внутреннем, бестелесном, невидимом и бессмертном человеке в единстве его души и духа
[391].
Само выражение «по образу Божию» (а не «по образу Своему»)
[392]Ориген склонен понимать в том смысле, что человек был создан не по образу самого Бога (который у Оригена часто отождествляется с Отцом), но по подобию «образа Божия», которым является, как всем известно, Спаситель. Человек сотворен «по подобию» Спасителя, т. е. является «образом образа» Божия, и поэтому именно Христос принимает особое участие в человеке. Видя, что человек по своей воле отложил прочь Его образ и «облекся в образ диавола», Христос сам принял «образ человека», т. е. «образ (forma) раба», и сам пришел к людям, чтобы способствовать восстановлению своего образа.
Христиане еще при жизни, приходя к Христу, становятся «сообразными» (conformes) Его «умного» образа, Его «славного тела». Так «преобразились» (reformarunt) по подобию Спасителя апостолы, хотя сначала имели в себе, как и многие из нас, образ диавола. Однако все они, так или иначе приходя «к образу Божию», созерцая Его, и сами преображались «в образ образа Божия» (forma imaginis Dei). Павел (Савл) настолько был предан образу диавола, что люто преследовал христиан, но, когда увидел «великолепие и красоту» образа Божия (т. е. Спасителя), преобразился по его подобию.
Итак, уже само созерцание «образа Божия» преображает всю суть человека, восстанавливает его изначальное идеальное состояние и способствует обретению им «подобия Божия». Дело в том, что Ориген, внимательно анализируя текст Быт 1, 26-29, пришел к убеждению, что, хотя Бог и намеревался сотворить человека «по образу» и «по подобию» (1, 26), но сотворил его только «по образу» (1, 27). Это означает, по Оригену, что достоинство «подобия» человек должен приобрести себе «собственными прилежными трудами в подражании Богу, так как возможность совершенства дана ему вначале через достоинство образа, совершенное же подобие он должен получить в конце сам через исполнение дел» (De princ. III, 6, 1). И это подобие Богу, как идеальное онтологическое состояние человека, к которому он должен стремиться в течение своей жизни, имеет, согласно эсхатологии Оригена, тенденцию к совершенствованию и превращению в единство с Богом (III, 6, 1), о котором мы уже говорили.
Таким образом, попытка Оригена по созданию первой системы христианского вероучения, оказавшаяся в богословском плане не совсем удачной, что, собственно, вполне закономерно для первой попытки, дала помимо богатейшего богословского опыта и интересный материал историко-эстетического плана. Она убедительно показала, что новое христианское миропонимание уже на раннем этапе должно было опираться на эстетическое сознание практически на всех главных направлениях своей системы. Эстетический опыт оказывал значительную помощь как мыслителям и теоретикам христианства уровня Климента или Оригена в построении их концепций и систем, так и непосредственным «практикам» христианской жизни, церковным пастырям вроде Киприана Карфагенского или Дионисия Александрийского, на взглядах которого необходимо остановиться, завершая разговор об Оригене и эстетике апологетов вообще. Фактически именно Дионисия можно рассматривать в качестве переходной фигуры от апологетов, т. е. активных и горячих защитников христианства, к классической патристике.
В плеяде знаменитых раннехристианских мыслителей Дионисий Александрийский первым удостоился почетного титула «Великий» (magnus), сохранив его в христианской культуре до наших дней. Дионисий родился в конце II в. в семье знатного и богатого язычника, жившего в Александрии. Получил хорошее образование и на основе изучения различных философских и религиозных направлений своего времени пришел к принятию христианства. Сошелся с Оригеном, руководившим тогда философско-религиозной школой, учился у него. Вынужденный отъезд Оригена в 232 г. из Александрии позволил Дионисию занять место руководителя школы, которое он сохранял за собой не менее шестнадцати лет. После смерти александрийского епископа Иракла Дионисий был избран в 247/48 г. на его место и занимал кафедру одной из наиболее крупных и влиятельных в то время христианских общин до своей кончины в 264/65 г.
Будучи учеником Оригена, Дионисий, видимо, уже на раннем этапе разделял далеко не все теоретические положения своего наставника. Во всяком случае, в богословском конфликте между Оригеном и Ираклом он не встал (открыто, по крайней мере) на позиции своего учителя, что и дало ему возможность занять его место, а впоследствии и епископскую кафедру. В отличие от своих знаменитых предшественников Климента и Оригена он был скорее практиком христианской жизни, чем ее теоретиком. Если Климент и Ориген, создавая философию, во многом отличную от древнегреческой уже по самому типу философствования, все же оставались
философами в эллинском понимании этого слова, т. е. теоретиками-созерцателями, то их преемник Дионисий был в ряду александрийских мыслителей, пожалуй, первым «философом» собственно христианского толка, т. е. не теоретиком, но практиком, который не столько размышлял о жизни, сколько строил ее, философствовал не словом, но делом. При этом само слово превращалось у него нередко в инструмент дела. Если Ориген невысоко ценил ораторское искусство, считая, что оно ничем не облегчает пути божественного познания, то Дионисий усматривал большую пользу красноречия в делах защиты и пропаганды истинного учения, в донесении христианских идей до самых широких масс. Будучи великолепным оратором
[393], он активно использовал искусство красноречия в своей многообразной пастырской деятельности: участвовал в богословских диспутах и спорах по всем вопросам, волновавшим в то время Церковь; боролся с новацианским расколом, с хилиазмом, с еретическими учениями Савелия и Павла Самосатского. Для опровержения хилиазма (учения египетского епископа Непота о грядущем на земле тысячелетнем Царстве Божием и блаженстве для всех мучеников) он отправляется в Арсиною и три дня ведет публичный диспут с приверженцами этого учения, а затем пишет две книги «Об обетованиях» в его опровержение.
Дионисий вел обширную переписку со множеством людей. По объему корреспонденции его не могли превзойти ни римский епископ, ни крупнейший деятель африканской церкви Киприан Карфагенский
[394]. Многие послания и письма Дионисия написаны по всем правилам античного эпистолярного искусства. Особым мастерством в этом плане отличаются так называемые «Праздничные послания». Еще Евсевий Памфил отмечал, что они написаны в панегирическом духе (Hist. eccl. VII, 20), а современный исследователь видит в них «маленькие шедевры раннехристианской риторики»
[395].
Дионисий не создал ничего нового ни в философии, ни в богословии. Он многое воспринял у своих предшественников - Климента и особенно Оригена. Последнему он обязан знанием Библии, экзегетической выучкой
[396], пониманием многих проблем христианства, но ему. увы, не суждено было стать «блестящим представителем оригенистической теологии» (хотя в науке существует и такое мнение)
[397]. Многие черты оригеновской философии (осужденные впоследствии V Вселенским собором как еретические) не были восприняты им. Не увлекаясь свободными аллегорическими импровизациями в духе Оригена на темы Св. Писания и не впадая в голый буквализм, он стремился оставаться на почве трезвого, но достаточно гибкого, умеренно иносказательного понимания библейских текстов, которое со временем утвердилось практически во всей патристике. Дионисий был одним из первых зачинателей этой традиции, стремившимся почерпнутые таким способом истины Писания (прежде всего религиозно-этические) воплотить в жизнь руководимой им общины. Не философские находки, а неустанная практическая деятельность по защите и внедрению в жизнь евангельского учения и снискала ему титул «Великого».
В тесной связи с церковно-практической деятельностью и религиозными взглядами Дионисия находятся и его эстетические представления, составляющие важное звено его мировоззрения. В трактате «О природе»
[398] Дионисий, стремясь опровергнуть материалистически-атомистическое учение Эпикура, а косвенно - и некоторые взгляды Оригена, прибегает в основном к эстетической аргументации. Эпикур и Демокрит считали, что мир состоит из бесчисленного количества мельчайших неделимых тел - атомов, которые «носятся по воле случая в пустом пространстве, сами собою (αυτομάτως) сталкиваются друг с другом вследствие беспорядочности движения и, соединяясь между собою по причине разнообразия своих форм, взаимно удерживают друг друга в этих соединениях и таким образом производят мир и все, находящееся в нем, или лучше - беспредельные миры» (De nat. 1). Дионисию эта концепция представляется неубедительной. Он никак не может согласиться с тем, что «исполненные мудрости и потому прекрасные творения (τα καλά δημιουργήματα) суть случайные создания» (2). Даже в человеческой практике ничто полезное и прекрасное не возникает случайно, без участия человеческих рук и разума. Кусок ткани появляется только в результате усилий ткача, дома и города сооружаются строителями, а не сами камни занимают положенные им места. Когда же мудрость оставляет материю без своего попечения, то и ткань ветшает и превращается в лохмотья, а от домов остаются лишь груды развалин. Кто может поверить после этого, что роскошные ткани создаются «этими самыми атомами без участия мудрости и сознания»? «И кто может согласиться с тем, будто это великое здание, состоящее из неба и земли и называемое космосом вследствие величия и множества вложенной в него мудрости, приведено в порядок атомами, носящимися без всякого порядка, и беспорядок сделался порядком (γεγονέναι κόσμος άκοσμίαν)? Каким образом правильные движения и пути произошли от беспорядочного метания? Как гармонический (παναρμόνιον) хоровод небесных тел составился из нестройных и несогласованных инструментов?» (2). Воспитанный в традициях платоновско-христианского идеализма, Дионисий не может представить себе, как столь удивительный в своей красоте и упорядоченности мир мог возникнуть из произвольного сочетания атомов, без участия высшего разума.
Обратившись к человеку, он видит те же красоту и целесообразность, которыми пронизан весь мир. В человеке даже мельчайшие члены «содействуют или укреплению [тела], или красоте вида. Ибо Провидение заботится не только о пользе, но и о красоте. Волосы - защита и покров всей головы, а борода - украшение для философа» (7). Находятся, однако, «мудрецы», которые безрассудно приписывают «столь изумительнейшее прекраснейшее творение» (τήν θαυμασιω-τάτην καλλιέργειαν) случайному соединению бездушных и неразумных атомов. Но если даже для создания мертвых статуй, этих подобий и теней, требуется мудрость и великое искусство, то неужели их истинные прообразы возникли без участия мудрости? «А душа, разум и слово откуда явились у философа? Неужели все это произошло от бездушных, неразумных и бессловесных атомов, и из них каждый внушил ему какое-либо понятие и мнение?» Обращение к духовному миру человека должно, по мнению Дионисия, выявить полную бессмысленность теории атомистов, и он с легкой иронией продолжает: «А всю поэзию, и всю музыку, и астрономию, и геометрию, и прочие искусства эллины уже не будут считать изображениями и детищами богов: теперь явились одни только мудрые и опытные во всем музы - атомы» (7). Таким образом, эстетическая сторона материального и духовного мира человека выступает у Дионисия важным аргументом в пользу существования разумного устроителя мира, вольно или невольно, включается на правах активного участника в мировоззренческую борьбу позднеантичного мира на стороне христианского миропонимания.
Риторская выучка и высокая филологическая культура позволяют Дионисию подойти к текстам Св. Писания с позиции литературного критика. Он, например, первым в истории культуры усомнился в том, что автором Откровения Иоанна является евангелист Иоанн, и попытался обосновать это с помощью сравнительного текстологического анализа. В Откровении Иоанна, отмечает Дионисий, автор три раза называет себя, а евангелист нигде не указывает своего имени. Далее Дионисий подмечает один и тот же образ речи, одни и те же периоды, общие словесные стереотипы в Евангелии и Послании Иоанна
[399] и ничего близкого к этому не находит в Откровении. «Нетрудно заметить,- пишет он,- один и тот же образ речи как в Евангелии, так и в Послании. Напротив, отлично от них и чуждо им Откровение. Оно ничем не соприкасается и, можно сказать, вовсе не в родстве с ними; в нем нет ни одного общего с ними слога» (De promis. Π, 6). Более того, сам язык подтверждает предположение о разных авторах Откровения и Евангелия. Послание и Евангелие написаны не только без ошибок против греческого языка, «но и с особым изяществом в выражениях при составлении умозаключений и при построении речи». В них нет ни иностранных речений, ни неправильного или простонародного словоупотребления. «Видно, что писатель обладал и тем и другим разумом, так как Господь даровал ему оба: и разум ведения, и разум речи». Дионисий не сомневается в том, что автор Откровения также имел дар ведения и пророчества, однако «речь и язык его не чисто греческие, но смешаны с речениями иностранными и местами неправильными» (II, 7). В результате он приходит к выводу о том, что Откровение и Евангелие принадлежат разным авторам. С богословской точки зрения, для Дионисия все новозаветные тексты священны и в равной мере истинны. Это не мешает ему тем не менее заметить, что авторы их в различной степени владели искусством слова. И хотя мысль и слово, по мнению Дионисия, нераздельны, мысль является как бы отцом слова, который только в нем и существует (Athanas. De sent. Dion. 23), однако словесные конструкции зависят еще и от искусства владения словом. Если мысль новозаветных текстов дана писателям в божественном откровении, то словесная форма ее выражения во многом происходит от их личного умения обращаться со словом.
Искусства, в том числе и искусство слова, человек изобрел с помощью мудрости, которая является даром Божиим. Обучается же искусствам, развивает и совершенствует их человек сам, поэтому в зависимости от степени владения искусством он и может по-разному выражать свои мысли.
Одним из важных стимулов в занятиях искусствами, помимо пользы, Дионисий считает удовольствие (ηδονή). Пока человек не овладел тем или иным искусством в совершенстве, он, занимаясь им, испытывает чувство тяжести, но как только приходят опыт и мастерство, начинает получать удовольствие от любого искусно выполненного им дела (De nat. 5). Особое наслаждение доставляют их занятия философам. Они «гордятся даже более других, занимаясь воспитанием людей». Те же Эпикур и Демокрит вряд ли могли бы сказать, что они философствовали без наслаждения. И конечно, они не предпочли бы своему занятию никаких других удовольствий. «И хотя они признают, что благо есть высшее наслаждение
[400], однако они не постыдятся сказать, что философствовать им еще приятнее (ήδύ öv), чем владеть благом» (5). В увлеченности этим (земным) эстетизмом и усматривал, видимо, Дионисий главную причину заблуждений древних атомистов. Искусства, к которым он причислял практически все виды человеческой деятельности от ремесел до наук и философии, приносят человеку утилитарную пользу, доставляют ему наслаждения, но не способствуют его духовному (в христианском смысле слова) совершенствованию, т. е. бесполезны в духовном отношении (In princ. Eccl. 11). Более того, человек, погрузивший свой ум в наслаждение этими искусствами, не может оторваться от них и устремиться к божественным истинам, с которыми христиане и связывают красоту и наслаждение.
По-настоящему человек ликует и радуется, только когда мыслит о грядущем вокресении из мертвых. Поэтому христианские праздники, и прежде всего Воскресение Христово, доставляют человеку истинное наслаждение, ибо красота таинства воскресения непреходяща. «Этот закон веселия,- пишет Дионисий, - таинство священных дней и праздник вечный, исполняются в нас по завершении покаяния и любви, и непрерывность его никогда не уменьшает красоты воскресения, а привычка не ослабляет приятности красоты»
[401].
Античной науке и философии, античному пониманию красоты и искусства Дионисий, как типичный представитель ранней патристики, противопоставляет принципы нового христианского эстетизма. Красота природного мира служит ему важным аргументом для утверждения бытия божественного Творца, а высшую красоту и истинное наслаждение он находит в сфере грядущего преображенного бытия человечества, проповедуемого христианским учением, т. е. в сфере идеального бытия.
Часть вторая. ЭСТЕТИКА БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Когда мы думаем о закате античного мира на Западе и обращаемся мысленным взором к последним десятилетиям римской культуры, перед нами невольно встает образ крупнейшего мыслителя поздней латиноязычной античности Аврелия Августина, вписавшего заключительные страницы в историю духовной культуры Рима и, пожалуй, всей античности и заложившего своими трудами прочный фундамент новой культуры - средневековой. Вряд ли имеет большой смысл полемика на тему, кому больше принадлежит Августин - античности или Средним векам. С одинаковым успехом его можно считать последним в ряду больших мыслителей античности и первым крупным идеологом Средневековья. Однако, если говорить более строго, поле его духовной культуры значительно шире того достаточно устойчивого стереотипа, которым мы привыкли определять античную культуру, и еще плохо вписывается в абрис культуры средневековой. Августин, может быть, более чем кто-либо иной, принадлежал своему времени, уже не античному, но еще и не средневековому. Он был человеком и мыслителем одного из сложнейших и интереснейших в истории культуры переходных периодов. При этом, как показывает историческая ретроспектива, он оказался на гребне последней волны античной культуры, которая вот-вот должна была обрушиться и уступить место новой, уже набирающей силу в ее недрах и под ее прикрытием волне грядущей культуры - средневековой. Сам Августин, однако, не осознавал этого своего пограничного положения. Он не предвидел падения античной культуры, жил и думал как человек античный, а не как один из главных идеологов «господствующей по всему миру церкви Средних веков»
[402]. Это не помешало ему тем не менее стать для нового западного христианства авторитетнейшим Отцом Церкви, одним из основоположников схоластического метода мышления
[403], заслужить с легкой руки Абеляра титул «excellentissimus doctor Augustinus» (Introd. ad theol. 1, 2). В области философии Августин, опираясь на традиции античных философских систем (прежде всего платоновско-неоплатонической), сохраняя многие элементы этих систем, заложил фундамент новой философии
[404] и даже, как полагает современный историк философии, «создал христианскую философию в ее предельном латинском варианте»
[405]. В Средние века августинизм повсеместно господствовал в западной философии. Только с XIII в. у него появился серьезный соперник - томизм, но последний был авторитетен только у католиков, в то время как августинизм находил активных сторонников и среди протестантов
[406].
Если обратиться к августиновской эстетике, то все сказанное вполне правомерно отнести и к ней, но с некоторыми коррективами, которые вытекают из особенностей индивидуального духовного развития Августина
[407]. В то время, как многие основные положения его философии сформировались в зрелый и поздний периоды его жизни, когда он весь был погружен в духовный и социально-практический мир христианства, его эстетические взгляды в своей основе сложились в раннем возрасте, в период активных духовных исканий, находок, сомнений и разочарований. Это отнюдь не означает, конечно, что эстетика Августина не развивалась по мере его духовной эволюции, но изменения в ней были менее заметными и менее существенными, чем в его философских взглядах. Ядро эстетики латинского Отца Церкви сложилось значительно раньше, чем основные представления его философии. В трактатах зрелого периода, посвященных главным образом проблемам философско-религиозного характера, экскурсы в эстетику часто представляют собой почти дословное повторение идей, высказанных в ранних сочинениях.
Получив от природы дар обостренной эмоционально-эстетической восприимчивости, Августин с раннего возраста был чуток и к художественной культуре своего времени, и к эстетическим теориям античности, которые он знал достаточно хорошо и в полной мере использовал в своих многочисленных эстетических экскурсах. И не просто использовал, но определенным образом и синтезировал, приводя в систему многое из того, что почерпнул из античности. В своей эстетике Августин в значительно большей мере, чем в философии, предстает античным мыслителем, завершителем многовековой истории античной эстетики. Здесь мы могли бы почти согласиться с выводом исследователя августиновской эстетики, который более полувека назад писал: «Таким образом, можно сказать, что эстетика Августина является синтезом и венцом античной эстетики; более того, Августин почти ничего не почерпнул в иудеохристианских идеях, кроме, быть может, тех случаев, когда он идентифицировал высшую идею Платона с Богом, когда он называл Бога создателем всякой красоты, когда высоко оценивал аллегорию и когда не доверял театру и классическим искусствам»
[408]. Однако эта оговорка К. Свободы не случайна: новая духовная культура IV в. наложила свой отпечаток и на эстетику Августина, отпечаток не слишком рельефный и не сразу усмотренный историками эстетики. Только пристальное вглядывание позволяет выявить его достаточно ясно.
Творчество Аврелия Августина - конечно же венец античной эстетики, но оно же - и прочный фундамент эстетики средневековой, ее основополагающие начала. Ибо сам венец собирался из античных ценностей, но уже по новой мерке. Из античных эстетических теорий Августин воспринял и развил прежде всего то, что было созвучно новым духовным исканиям эпохи. И библейский угол зрения играл здесь далеко не последнюю и не второстепенную роль. Венец античной эстетики складывался уже sub specie Scripturae Sacrae, определяя тем самым непрерывность эстетической традиции. Августин, писал Вл. Татаркевич, «чувствовал себя римлянином так же органично, как и христианином; он принадлежал еще к античной культуре, но уже принадлежал и к христианской; он в полной мере пользовался древней культурой и создавал новую. В его сочинениях сталкиваются две эпохи, две философии, две эстетики: он воспринял эстетические принципы древних, но преобразил их и в преображенном виде передал Средним векам. Он был узловым пунктом истории эстетики: к нему сходятся все линии древней эстетики, от него идут пути средневековой»
[409].
Августин конечно же сознательно не ставил перед собой задачи обобщить достижения античности и создать на их основе новую эстетическую теорию. Он, как и вся античность в целом, вообще не знал, что такая теория возможна. Более того, он и не стремился к сознательному созданию какой-либо философской системы. Активно участвуя сначала в мирской, а затем в религиозной жизни своего времени, он просто пытался осмыслить основные проблемы человеческого бытия и помочь людям найти правильный путь в жизни. Ясно, что, как человек своего времени, он и мыслил и действовал в духе этого времени. За исключением небольшого ряда ранних философских сочинений (386-391 гг.), почти все его многочисленные работы (а писал он практически ежедневно в течение сорока лет) написаны Августином на злобу дня - по поводу конкретных событий церковной или культурно-исторической жизни тех лет - или как подробные ответы на вопросы знакомых и незнакомых людей, постоянно обращавшихся к нему, как к видному церковному авторитету. В его работах исследователи обнаруживают массу противоречий и тем не менее приходят к выводу о системности его мышления в целом и даже об определенной философской системе, хотя и не упорядоченной самим Августином, но достаточно ясно, при некоторых частных вариациях, вычитываемой из его работ
[410]. Эстетические идеи занимают большое место в общей мировоззренческой системе Августина, хотя разбросаны они по его работам еще более хаотично, чем философские суждения. Однако и они, при внимательном изучении, складываются в некоторую достаточно целостную систему, в которой, пожалуй, ни одна из главных эстетических проблем не оказалась забытой. С сожалением следует отметить, что именно эта сторона августиновского наследия до сих пор остается наименее изученной. В поистине бескрайнем море «августинианы», насчитывающей многие тысячи работ
[411] по самым различным аспектам мировоззрения крупнейшего представителя латинской патристики, исследования, посвященные его эстетике, в буквальном смысле слова можно пересчитать по пальцам.
Среди старых работ, оказавшихся мне недоступными, следует указать на штудии А. Берто (1891), В. Тимме (1908) и И. Грубана (1920)
[412]. В 1909 г. в Германии были защищены сразу две диссертации по эстетике Августина - К. Эшвайлером и А. Викманом
[413]. Оба соискателя ограничились рассмотрением отдельных аспектов проблемы прекрасного у Августина. При этом первого из них интересовали не столько суждения Августина о прекрасном, сколько влияние его представлений о прекрасном на его религиозную философию. А. Викман, напротив, заостряет внимание на собственно эстетической проблематике Августина, справедливо упрекнув исследователей в том, что они совершенно просмотрели всю раннехристианскую и средневековую эстетику
[414]. Викман, пожалуй, первым из историков эстетики почувствовал всю глубину и широту эстетических представлений Августина, рассматривая свою, серьезную и интересную для того времени, работу лишь как небольшой фрагмент еще не осуществленных исследований в области августиновской эстетики
[415]. В своей работе Викман пытался выявить общее понимание прекрасного Августином, анализировал его классификацию прекрасного по видам и ступеням, показал его отношение к чувственной красоте. Интересным, хотя и достаточно частным, эстетическим исследованием можно считать работу Г. Эдельштейна о музыкальных воззрениях Августина
[416]. По трактату «De musica» здесь анализируются представления его автора о числе, ритме, музыке, чувственном суждении.
Все эти работы подготовили появление специального и до наших дней остающегося наиболее полным исследования К. Свободы «Эстетика св. Августина и ее источники», увидевшего свет в 1933 г.
[417]. Эта монография до сих пор сохраняет свое значение в качестве единственного и достаточно подробного источниковедческого исследования. В ней проанализированы практически все сохранившиеся произведения Августина под углом выявления в них эстетических суждений и соотнесения их с аналогичными или близкими взглядами античных авторов. Основное внимание К. Свобода направил на конкретный анализ источников, показав, что наряду с прекрасным, которое и здесь стоит на первом месте, Августин размышлял о числе, порядке, некоторых видах искусства, о проблемах художника, эмоционального восприятия, образа, аллегории, удовольствия и т. п. В этой работе затрагиваются практически все реальные проблемы августиновской эстетики. Однако сама монография является лишь первым серьезным шагом на пути к исследованию эстетических взглядов Августина в целостном их виде. К. Свобода ограничился лишь краткими обобщающими выводами, заметив, что из сочинений Августина вырисовывается целостная эстетическая система
[418], но самой этой системы он так и не изложил. В книге К. Свободы совершенно оставлен в стороне вопрос о месте эстетики в мировоззренческой системе Августина.
Вышедшая в 1939 г. работа Э. Чепмена
[419] посвящена в основном проблеме прекрасного у Августина. Только частично затрагивается в ней вопрос о таких «эстетичеких компонентах», как число, форма, единство, порядок, и несколько страниц отведено вопросам искусства.
В 1969 г. появилась небольшая, но интересная монография Т. Манфердини
[420], в которой эстетика Августина рассматривается в проблемном плане. Наряду с анализом августиновского понимания красоты автор поднимает вопросы рационализации чувства у Августина, чувственного восприятия, эстетической аксиологии, критерия эстетического суждения и т. п., т. е. уделяет особое внимание психологической стороне августиновской эстетики, намечая новые подходы к анализу эстетического наследия латинского богослова.
Кроме этих монографических исследований, можно было бы указать на ряд статей по отдельным проблемам эстетики Августина. В процессе изложения материала на них сделаны ссылки в соответствующих разделах книги.
В общих историях эстетики Августину до сих пор уделяется (если уделяется вообще) незаслуженно мало внимания. Исключение составляют лишь некоторые труды. Это, во-первых, многотомное исследование по богословской эстетике Г. У. фон Бальтазара, во втором томе которого 50 страниц посвящено эстетике Августина
[421]. Поднимая ряд фундаментальных проблем этой эстетики (таких, как видение, свет, единство, иллюминация, прекрасное и его связь со светом, образ, аналогия и др.), автор рассматривает их в контексте общей истории христианской эстетики. Другой работой, знаменующей собой новый шаг в исследовании августиновской эстетики, является небольшая по объему, но емкая по содержанию глава в «Средневековой эстетике» В. Л. Татаркевича
[422]. В этой главе польский ученый сделал то, на что не хватило времени его чешскому коллеге - он обобщил все, что до него было сделано на путях изучения эстетики Августина, опираясь прежде всего на материалы К. Свободы, но анализируя их уже с позиций теоретической эстетики середины XX в. В. Татаркевич впервые определил место Августина в истории эстетики и показал значение его эстетических взглядов для развития последующей, прежде всего средневековой, эстетики.
Глава I. ЖИЗНЬ КАК ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ
Культура поздней античности знаменательна своим переходным характером. Здесь подводился определенный итог многовековому развитию сложных и противоречивых культур древности и намечались черты нового этапа истории - средневекового. Особо болезненно этот переход осуществлялся в сфере духовной культуры. Традиционная античная духовность, предельную концентрацию которой можно усмотреть в античной философии, отнюдь не без боя сдавала свои позиции. Соответственно и новая идеология, которой суждено было господствовать в Средние века, далеко не спокойно и последовательно вырастала из предшествующей культуры. Для поздней античности характерен предельный накал духовной борьбы - острая схватка нового со старым
[423]. В IV в. с признанием христианства официальной религией Римской империи исход этой борьбы был уже предрешен, однако страсти не утихали и борьба стала принимать иные формы. Если апологеты II-III вв. активно противостояли всем формам и проявлениям античной культуры, то в IV-V вв. фронт борьбы в целом сузился до чисто религиозной сферы и конфликт начал развиваться вглубь, превращаясь, в частности, в борьбу официальной церковно-государственной идеологии с бесчисленными отклонениями от нее - ересями.
В этот богатый и напряженнейший период культурно-исторического развития греко-римского мира в латинской части Империи явилась фигура выдающегося мыслителя, не уступавшего по силе ума и высоте духа таким крупнейшим философам древности, как Платон и Аристотель; личность сильная и глубокая, но предельно противоречивая в своем развитии, как бы сконцентрировавшая в себе сущность всего сложного пятивекового пути духовного развития поздней античности. Речь идет об авторе первой в истории культуры «Исповеди» - Аврелии Августине.
Будущий епископ Гиппона
[424] и один из известнейших представителей западной патристики родился в 354 г. в небольшом африканском городке Тагасте (ныне Сук-Арас в Алжире) в небогатой семье. Отец его, член городского совета патрициев, в жилах которого, как практически и всякого уроженца Северной Африки, текла доля берберской крови, был типичным представителем среднего слоя населения африканской провинции, со всеми присущими ему привычками, потребностями, непритязательными интересами. Жил он, как сказали бы христиане, которых уже много было в то время в Африке, «по плоти», а не «по духу». Только перед самой смертью он принял крещение, видимо, по настоянию своей глубоко верующей жены Моники. Естественно, что такой отец мало чем мог способствовать духовному развитию сына, поэтому Августин почти и не упоминает о нем в «Исповеди» - истории своего духовного становления. Тем не менее будущий столп западного христианства взял от отца многие черты его горячего африканского темперамента, любовь к яркой, полнокровной жизни, к плотским радостям и земным удовольствиям. От него он унаследовал все то «просто человеческое», во что был с головой погружен в годы своей юности, в чем искренне и глубоко раскаивался, осознав себя христианином, и что продолжало бурлить в нем до последних дней его многотрудной жизни.
Напротив, матери Аврелий уделяет много великолепных, наполненных искренним и глубоким чувством страниц своей «Исповеди». Будучи последовательной и искренней христианкой, она прилагала немало усилий, таланта и воли, чтобы приобщить к истинной церкви и своего равнодушного к какой-либо духовности мужа, и пылкого как в чувствах, так и в духе сына. Долгие годы стремилась она «выправить» извилистый путь духовных исканий своенравного сына, рано ощутившего, не без ее влияния, конечно, глубокое обаяние духовности, устремившегося к ней со всей необузданностью берберского потомка и, наконец, ворвавшегося галопом туда, куда следовало бы входить бесшумно, с благоговейным трепетом. Трудно представить себе что-либо более далекое от темпераментного, чувственно обостренного, себялюбивого и честолюбивого характера юного африканца, чем философию смирения и предельной униженности. Поэтому так труден и мучителен был путь Августина к христианству и, может быть, именно благодаря этому он смог так много сделать в нем, переключив всю мощь своей столь трудно управляемой энергии в русло созидания и защиты здания новой духовности.
В одном были едины отец и мать юного Аврелия - это в стремлении дать сыну хорошее образование. Начальный курс обучения он прошел в Тагасте и в расположенном неподалеку от него Мадавре. Затем по настоянию отца, хотя семье это было явно не по средствам, и с полного согласия матери Августин был отправлен для получения высшего по тем временам образования в риторскую школу Карфагена, где провел три года. Родители понимали, что образование откроет сыну путь к служебной карьере, и ограничивали себя во всем, чтобы позволить ему закончить обучение.
Уже в 15 -16-летнем возрасте в Августине активно заговорили позывы плоти, что радовало отца и очень беспокоило мать (Conf. II, 3, 6)
[425]. В Карфагене, не уступавшем в те времена Риму своей индустрией развлечений, наслаждений, нескучного проведения досуга, Августин прежде всего погрузился в стихию любовных наслаждений. «Любить и быть любимым, - писал он, - было мне сладостнее, если я мог овладеть возлюбленной. Я мутил источник дружбы грязью похоти; я туманил ее блеск адским дыханием желания. Гадкий и бесчестный, в безмерной суетности своей я жадно хотел быть изысканным и светским. Я ринулся в любовь, я жаждал ей отдаться. Боже мой милостивый, какой желчью поливал Ты мне, в благости Твоей, эту сладость. Я был любим, я тайком пробирался в тюрьму наслаждения, весело надевал на себя путы горестей, чтобы секли меня своими раскаленными железными розгами ревность, подозрения, страхи, гнев и ссоры» (III, 1, 1). В первый же год своего пребывания в Карфагене он сблизился с женщиной, которой оставался верен в течение пятнадцати лет. Уже в 373 г. она родила ему сына Адеодата, умершего в 390 г. О сильном влиянии матери на Августина можно судить хотя бы по тому, что она настояла на разрыве сына с этой женщиной, к которой он был сильно привязан на протяжении всех лет совместной жизни. Но мать убедила его, что для его будущей карьеры ему необходим официальный брак с девушкой из богатой и знатной семьи, до которого дело так и не дошло, ибо, приняв христианство, Августин пришел к мысли, что всякая связь с женщиной греховна.
С детства Аврелий больше всяких наук любил игры, зрелища, театральные представления; поэзию он предпочитал в начальной школе другим занятиям. В Карфагене его страсть к театру и зрелищам еще более усилилась, ибо нашла богатую пищу.
Курс наук в риторской школе давался ему легко, и он не был лишен честолюбивых мечтаний. «Тянули меня к себе и те занятия, которые считались почтенными: я мечтал о форуме с его тяжбами, где бы я блистал, а меня осыпали бы похвалами тем больше, чем искуснее я лгал... Я был первым в риторской школе: был полон горделивой радости и надут спесью» (III, 3, 6).
В соответствии со школьной программой в 373 г. Августин изучает диалог Цицерона «Гортензий»
[426], который поразил его не красотой языка, но глубиной содержания, страстным призывом к мудрости, к духовной деятельности: «Любовь к мудрости по-гречески называется философией; эту любовь зажгло во мне это сочинение. <...> я наслаждался этой книгой потому, что она увещевала меня любить не ту или другую философскую школу, а самое мудрость, какова бы она ни была; поощряла любить ее, искать, добиваться, овладеть ею и крепко прильнуть к ней» (III, 4, 8). За этой мудростью сын ревностной христианки обратился, естественно, к Св. Писанию, хотя с детства почитал религию матери за «бабушкины сказки». Увы, и прямое знакомство с библейскими текстами только укрепило его детскую неприязнь к христианству. Содержание прочитанных текстов показалось ему непонятным или «нелепым» (VI, 4, 6), а язык - грубым и примитивным. Он не мог идти ни в какое сравнение с красноречием Цицерона. Юный слушатель риторской школы оставался верным сыном культуры, взрастившей и воспитавшей его. Однако жажда духовности, подспудно копившаяся в нем и под влиянием материнских увещаний, и в процессе естественного развития юного духовно одаренного организма,- эта жажда, разбуженная теперь «Гортензием» и получившая, наконец, материализацию в магическом слове
мудрость, требовала конкретной реализации. Ее-то Августин и обрел на долгие годы в учении манихеев. Риторская школа того времени знакомила своих учеников только с ограниченным кругом римских писателей и не Могла дать никакой пищи философски настроенному уму. Поэтому Августин и вынужден был искать духовность за стенами своего карфагенского «университета».
Манихейство было популярным в то время космополитическим философско-религиозным учением
[427]. Его основатель, персидский проповедник и мыслитель Мани (216-277), соединил в нем многие типичные для восточного позднеантичного мира духовные искания. Мани использовал в своем учении как образы вавилонской и персидской мифологии, так и многие христианские идеи, стремясь соединить в некоем универсальном философско-религиозном синтезе иррационализм мифологии с формально-логическими объяснениями и доказательствами, что импонировало самым широким слоям населения как на Востоке, так и на Западе. Принципиальный дуализм этой системы - бескомпромиссная борьба между Добром и Злом (двумя началами мира), Светом и Тьмой, Духом и Материей, - стал естественной ступенью развития человеческого духа, только что осознавшего себя и сразу же окончательно отгородившегося от бренной материи. Христианство было уже следующим шагом духовного развития человечества, когда активно встал вопрос если не о равенстве материи и духа, то по крайней мере о реабилитации материи, оправдании плоти, о признании de facto материально-духовного синтеза, противоречивого единства этих присущих миру человеческого бытия начал. Хронологически манихейство появилось, когда христианство уже активно формировало свою систему, однако типологически оно тяготело к более древним системам восточного дуализма, как бы подводило итог их многовековому развитию с учетом пришедших с Запада тенденций и потребностей нового времени. Аналогичную роль играл и возникший в III в. в греко-римском мире неоплатонизм. Он как бы суммировал опыт многовекового развития греческой духовной культуры, опираясь на некоторые восточные тенденции и потребности того же времени. И манихейство, и неоплатонизм претендовали на мировое господство в сфере духа и в период поздней античности во многом достигли этого. Но принципиальный дуализм материи и духа, а также излишний спиритуализм и интеллектуализм в неоплатонизме и причудливая мифологическая фантастика в манихействе обрекали эти системы на поражение (хотя далеко и не полное) в борьбе с христианством, поставившим одной из главных задач оправдание материи при безусловном приоритете духа.
Конечно, юному Августину, вкусившему от плода духовности, было далеко до этих тонкостей; многое в безбрежном море духа было тогда ему просто неизвестно. Поэтому не случайно, как и многие неискушенные, но алчущие духовных откровений души, он и обратился к манихеям, высоко ценившим разум в человеке, как частицу Божественного Света. Они обещали «всякого, кто пожелает их слушать, привести к Богу и освободить от всех заблуждений, руководствуясь одним только разумом, отказываясь от авторитета и его угроз... Они никого не принуждали к вере, не обсудив и не разъяснив прежде истины. Кого не соблазнили бы подобные обещания, тем более юношу, жаждавшего истины?..» (De util. cred. 1, 2).
Около девяти лет Августин был ревностным манихеем, водил дружбу с видными его представителями, обратил в манихейство и ряд своих друзей
[428]. Позже он красочно опишет свою духовную незрелость того времени. «Я не знал... того, что есть воистину, и меня словно толкало считать остроумием поддакиванье глупым обманщикам... Я не знал еще тогда, что зло есть не что иное, как умаление добра, доходящего до полного своего исчезновения. Что мог я тут увидеть, если глаза мои не видели ничего дальше тела, а душа дальше призраков? Я не знал тогда, что Бог есть Дух, у которого нет членов, простирающихся в длину и в ширину, и нет величины... А что в нас есть, что делает нас подобными Богу, и почему в Писании про нас верно сказано: «по образу Божию», это было мне совершенно неизвестно» (Conf. III, 7, 12). Жажда знаний, стремление к истине заставляют Августина читать и изучать все относящееся к наукам, мудрости, философии. Он проштудировал многие тома манихейских сочинений, «прочел и понял все книги, относившиеся к так называемым свободным искусствам, какие только мог прочесть» (IV, 14, 30). Науки легко давались ему, и Августин гордился тем, что сам без помощи учителей справился с «запутаннейшими книгами». На двадцатом году жизни он самостоятельно изучил считавшиеся в его среде труднейшими «Категории» Аристотеля и пытался приложить их к познанию Бога (IV, 14, 26-29).
С 375 г. началась его преподавательская деятельность. В течение 8 лет он, по его собственному выражению, «продавал за деньги искусство победоносной болтливости» (IV, 2, 2), т. е. риторику в Карфагене и - короткое время - грамматику в Тагасте. В этот период он, будучи от природы одаренным психологом, на практике освоил психологию педагогики, положив ее впоследствии в основу своей теории христианского красноречия.
К карфагенскому периоду относится и начало литературной деятельности Августина. Примечательно, что его первая проба пера связана с проблемой эстетического: в 380/381 г. он пишет в античных традициях трактат «О прекрасном и соответствующем» (De pulchro et arto), который, однако, был вскоре утерян. Обостренную любовь к прекрасному Августин пронес через всю свою жизнь, хотя специально больше никогда не возвращался к этому вопросу.
К концу карфагенского периода Августин все больше начинает ощущать неудовлетворенность манихейством. К этому времени он изучил уже многие науки, был начитан в философии. Сравнивая положения философских учений «с бесконечными манихейскими баснями», он понял, что первые значительно ближе к истине, ибо основаны на разумном исследовании видимого мира (Conf. V, 3, 3). Особенно вопиющим было противоречие между астрономическими знаниями того времени и фантастическими построениями манихеев (V, 3, 6). Окончательно подорвали веру Августина в манихейство его знакомство и беседы с кумиром манихеев - епископом Фавстом, который оказался милым человеком, красноречивым проповедником, но совершенно неосведомленным в свободных науках и философии. Фавст сам начал с большим рвением учиться у Августина, а последний устремился на поиски новых духовных горизонтов.
В 384 г. не без помощи своих друзей он перебрался в Рим и по ходатайству римских манихеев получил должность учителя красноречия в риторской школе Милана. Все еще пользуясь поддержкой манихеев, Августин уже ищет новых путей к истине, с тем чтобы изоблачить заблуждения своих бывших наставников (V, 14, 25). У него появилась даже мысль, что наиболее разумным из всего, ему известного, является скептицизм «академиков», утверждавших, что истина вообще недоступна человеку и поэтому во всем следует сомневаться (V, 10, 19). Позже Августин писал, что, будучи в Италии, он часто вел беседы с самим собой о способе нахождения истины и часто ему казалось, что найти ее невозможно, и в своих мыслях он уносился к Академии. «С другой стороны,- писал он,- часто всматриваясь, насколько я был в состоянии, в человеческий ум, такой стремительный, такой проницательный, такой глубокий, я начинал полагать, что скрыта не истина, а метод ее нахождения; метод же этот может быть получен от некоего божественного авторитета. Оставалось только найти этот авторитет после того, как его обещали в постоянных спорах между собой столько учителей. Здесь предо мной вставала непроходимая чаща, пробиться через которую мне не удавалось; однако вопреки этому дух мой без устали подгоняло желание отыскать истину» (De util. cred. 8, 20).
Нередко Августину приходили на ум и мысли о христианстве, но он еще никак не мог уловить его сути, ибо даже в своих представлениях не мог отрешиться от телесности, не мог представить себе ничего бестелесного, чисто духовного. И Бог, и мысль, и зло понимались им как наделенные определенной телесностью субстанции.
По приезде в Милан Августин сразу же посетил знаменитого на всем Западе миланского епископа Амвросия О жизни, деятельности и взглядах Амвросия см.: Адамов И. И. Амвросий Медиоланский. Сергиев Посад, 1915; Homes-Duddon F. The Life and Times of St. Ambrose. Oxford, 1935, v. 1-2; Paredi A. Saint Ambrose: His Life and Times. Notre Dame, 1964., который принял его радушно, но особого внимания не уделил. Августин начинает регулярно слушать проповеди Амвросия, сначала подходя к ним лишь с точки зрения красноречия; но постепенно его захватывает и содержание речей знаменитого Отца Церкви, в которых христианство представало отнюдь не примитивной, грубоватой религией, но сложным и глубоким учением. Амвросий толковал все события ветхозаветной истории не в буквальном, но «в духовном смысле». Он находился под сильным влиянием аллегорически-символического метода толкования Ветхого Завета, восходящего еще к Филону Александрийскому и его христианским последователям Клименту и Оригену. Этот прием был нов для Августина и явился своего рода откровением. Он понял, что все смущавшие его ветхозаветные события и высказывания имеют не только буквальное, но и глубокое духовное значение.
Амвросий, как и его духовный наставник Симплициан, находился под сильным влиянием неоплатонизма
[429], который был распространен тогда как среди язычников, так и среди христиан. В ряде проповедей Амвросия, относимых к 386 г. (цикл на «Шестоднев», «Об Исааке и душе» и др.), особенно сильно ощутимо влияние плотиновских идей о прекрасном. В Милане существовал целый кружок «платоников»; широко читались латинские переводы «Эннеад», сделанные известным философствующим ритором Марием Викторином
[430]. Эти тексты скоро попали в руки Августина и поразили его своей духовной силой и глубиной. Они-то и дали ему представление о бестелесной, т. е. нематериальной, духовности; неоплатонизм указал ему путь внутрь себя, ориентировал на поиск истины не во внешнем мире, но в сокровенных тайниках души. Сильное влияние неоплатонизма на Августина
[431] ощутимо практически во всех его работах, во всех частях его философско-религиозной системы. Позже, став одним из главных идеологов христианства, Августин постоянно сохранял глубокое уважение к неоплатоникам, считая, что они подошли ближе остальных философов к христианству. По его мнению, стоит лишь изменить отдельные слова и мысли в текстах неоплатоников, и они превратятся в христианские. Однако Августин не стал чистым платоником. «Восприняв в себя, таким образом, - писал русский исследователь его мировоззрения, - неоплатонические элементы, Августин, однако, и в этом периоде не был вполне неоплатоником. Для него на первом плане стоит жизненная, практическая задача и умозрительный, мистический идеал неоплатонических философов не удовлетворяет его по своей отвлеченности»
[432].
В это время в Милан приезжает мать Августина и с помощью Симплициана опять пытается направить сына к христианству, к которому он и сам уже тяготел все больше и больше. Мучительные внутренние искания истины и духовности, аллегорически-символргческий подход Амвросия к библейским текстам, личный пример и мольбы матери, беседы с Симплицианом, чтение «Эннеад», услышанный им рассказ о жизни христианского отшельника Антония и других монахов, чтение посланий ап. Павла - все это приводит в конце концов Августина к мысли о том, что христианство является единственно истинным учением. Он бросает службу, удаляется с группой друзей и родственников на виллу своего друга в Кассициаке (близ Милана), где предается духовным размышлениям, беседам с друзьями и активно готовится к принятию христианства. 24 апреля 387 г. он принимает крещение вместе с сыном Адеодатом и другом Алипием от рук Амвросия Медиоланского. Уже в Кассициаке Августином были написаны первые философские трактаты: «Против академиков», «О жизни блаженной», «О порядке», «Монологи», «О бессмертии души», начат трактат «О музыке». Принятие христианства Августин понимал как уход от суеты житейской в гавань истинной философии и глубокой духовной жизни
[433]. Поэтому и начало регулярной литературной деятельности практически связано у него с окончательным приходом к христианству (386 г.). Деятельность эта будет очень плодотворной. По подсчетам самого Августина, до 427 г. он написал 93 трактата общим объемом в 232 книги, не считая огромного количества писем и проповедей (из последних - 500 сохранилось до наших дней). До нас не дошло только 10 из перечисленных Августином сочинений. В первых трактатах он предстает перед читателем христианствующим античным философом. В дальнейшем собственно христианские мотивы усиливаются в его творчестве, но дух и горение философа, искателя и защитника истины всегда были живы в нем.
После принятия крещения Августин направляется в родную Африку. По дороге умирает мать. Августин задерживается на некоторое время в Риме, пишет здесь еще несколько книг и осенью 388 г. прибывает на родину. Там он распродает свое скромное имущество и организует в Тагасте небольшую общину монастырского типа, состоявшую всего из шести человек. Три года, прожитые в Тагасте, полностью посвящены духовной жизни. Пост, молитва, добрые дела, размышления о Боге, беседы с друзьями и работа над книгами составляют основное содержание этих лет
[434]. Имя его становится широко известным в среде местных христиан, и вскоре по их настоянию епископ Гиппона (расположенного в 25 км от Тагасты) Валерий посвящает его в сан священника (391 г.).
Следует вспомнить, что в конце IV в. африканская церковь переживала тяжелый внутрицерковный кризис, связанный с борьбой двух течений - католического, опиравшегося на императорскую власть, и донатистского
[435]. Раскол африканской церкви официально оформился в 312 г. избранием второго карфагенского епископа Майорина. Одним из главных идеологов раскола был нумидийский епископ Донат из города Казы Нигры. После кончины Майорина в 312 г. он и занял его место, ведя непримиримую борьбу против римско-католической церкви. В основных богословских вопросах донатисты ничем не отличались от католиков. В борьбе за церковную власть в Африке нумидийские епископы воспользовались некоторыми социальными и религиозно-нравственными противоречиями внутри церкви IV в. Донатисты опирались на широкие слои обездоленных христиан, поддерживавших строгие, даже аскетические традиции древней гонимой церкви, считавшей мученичество главным и необходимым подвигом христианина. После признания церкви государством отпала необходимость в мученичестве. В церковь пришло (уже с III в.) много знатных и обеспеченных граждан (они и заняли основные места в руководстве церкви), которыми не поощрялись идеалы нищенства, аскезы, мученичества. Из религии обездоленных масс, стоявшей в оппозиции к государству, христианство все более превращалось в официальную религию Империи, утверждавшую интересы ее господствующих классов. Против этой религии и выступили достаточно широкие круги обездоленных христиан. Одно из таких движений оформилось в Северной Африке в начале IV в. в донатизм, который к концу века стал религией подавляющего большинства населения Африки
[436]. Донатисты преследовали католиков во многих районах, устраивали на них вооруженные нападения, захватывали храмы. Католическая церковь испытывала острый недостаток в клириках
[437]. Ясно, что в такой атмосфере церковь не могла позволить вести уединенную созерцательную жизнь одному из наиболее образованных в Африке католиков. Августина призывают к активной церковной деятельности. В 395 г. Валерий делает его своим преемником, и уже в следующем году, по смерти Валерия, Августин занимает епископскую кафедру в Гиппоне, на которой он пробыл 34 года - до конца своих дней. В качестве епископа Августин потратил много сил на укрепление католической религии в Африке, на углубление христианской догматики в борьбе с еретическими движениями - донатизмом и пелагианством
[438] прежде всего. Августин пережил разгром Рима войсками Алариха в 410 г. и скончался 28 августа 430 г. в Гиппоне, осажденном вандалами
[439].
Для нас Августин интересен в первую очередь как крупнейший мыслитель своего времени, долгий жизненный путь которого отразил перипетии духовной и культурной жизни сложного переходного периода от античности к Средним векам. Августин был последним и самым крупным представителем античного христианства на Западе. Он завершил линию активного развития латинской христианской мысли, связанной с Северной Африкой (Тертуллиан, Минуций Феликс, Киприан, Арнобий, Лактанций)
[440]. При этом он ушел значительно дальше своих предшественников в ряде философско-религиозных вопросов, был мыслителем более крупного масштаба, но начал он свое духовное развитие не с того, что было достигнуто ими. Христианство того времени (особенно западное) еще не имело своей школы, своей разработанной системы духовного воспитания. Поэтому любой человек, имеющий призвание к духовной деятельности, должен был начинать с классического античного образования
[441]. Он должен был как бы в миниатюре пройти весь тот путь духовного становления, которым прошла греко-римская культура от времен Гомера до поздней античности. Августин не только «прошел» эту школу духовного воспитания: он глубоко пережил его основные вехи как этапы личной, глубоко интимной жизни. «Великий епископ Гиппона, - писал автор одной из известных «Патрологии», - объединял в себе творческую силу Тертуллиана и духовную широту Оригена с церковным духом Киприана, диалектическую остроту Аристотеля с идеалистическим воодушевлением и глубокими спекуляциями Платона, латинский дух практицизма с одухотворенной подвижностью греков. Августин был крупнейшим философом патриотического периода и, пожалуй, самым значительным и влиятельным церковным богословом вообще, чьи выдающиеся достижения сыскали ему уже при его жизни немалое количество восторженных поклонников».
[442]С другой стороны, затянувшийся путь духовного становления будущего столпа западной церкви, его удивительная привязанность к материальному миру с его плотскими удовольствиями, суетой и бесчисленными грехами свидетельствуют, что Августин, может быть, как ни один из его предшественников и современников (как язычников, так и христиан), был плоть от плоти позднеантичной культуры, сыном своей эпохи, до предела заострившей противоречия между духом и материей. Языческое (а скрытно и часть христианского) население Империи стремительно погружалось в плотскую жизнь с ее чувственными удовольствиями. Духовная же элита, т. е. представители основных мыслительных течений того времени (неоплатонизма, неопифагорейства, стоицизма, всех разновидностей гностицизма), и идеологи христианства ратовали за жизнь «в духе», полный или частичный отказ от увлечений благами преходящего и суетного мира. Августин начал свою жизнь как полнокровный «соматик», вкусил удовольствий «телесной жизни» и только затем, ощутив неудовлетворенность этой жизнью, устремился на поиски высшей истины. Но и когда перед ним начали уже раскрываться горизонты духовной жизни, он еще долго и крепко держался за удовольствия материального мира и продолжал «ходить путями века сего, избитыми и торными» (Conf. VI, 14, 24). Особо трудным для него было отказаться от связи с женщиной, от удовольствий плотской любви. Libido прочно удерживало тело и душу Августина.
Две тенденции раздирали позднеантичный мир - абсолютная духовность и предельная чувственность
[443]. Две воли, по выражению самого Августина, разрывали его душу - плотская (старая) и духовная (новая). Научившись у неоплатоников всматриваться в свой внутренний мир (ср.: VII, 10, 16) и обострив эту способность до предела, Августин дает великолепные по своей глубине и художественной выразительности описания своего внутреннего драматического состояния и душевных борений того времени. «От злой же воли,- пишет он, - возникает похоть (libido); ты рабствуешь похоти - и она обращается в привычку; ты не противишься привычке - и она обращается в необходимость... А новая воля, которая зарождалась во мне и делала, чтобы я чтил Тебя ради Тебя и утешался Тобой, Господи, единственным верным утешением, была еще бессильна одолеть прежнюю, окрепшую и застарелую. И две мои воли, одна старая, другая новая, одна плотская, другая духовная, боролись во мне, и в этом раздоре разрывалась душа моя. Я понимал, что сам являюсь доказательством того, о чем читал, как «тело замышляет против духа, а дух против тела» (Гад 5, 17). Я жил и тем и другим...
Мирское бремя нежно давило на меня, словно во сне; размышления мои о Тебе походили на попытки тех, кто хочет проснуться, но. одолеваемые глубоким сном, вновь в него погружаются. И хотя нет ни одного человека, который пожелал бы всегда спать,- бодрствование, по здравому и всеобщему мнению, лучше,- но человек обычно медлит стряхнуть сон: члены его отяжелели, сон уже неприятен, и, однако, он спит и спит, хотя пришла уже пора вставать» (VIII, 5, 10-12).
Духовное пробуждение Августина длилось долго. Начинает он с эклектической философии Цицерона, затем увлекается манихейством, изучает и стремится практически использовать «Категории» Аристотеля; разочарование в манихействе приводит его на пути скептической философии, и, наконец, его увлекает неоплатонизм и неоплатонически-аллегорический аспект христианства, проповедуемый Амвросием Медиоланским, за которым стоят Филон и вся александрийская школа ранней патристики. Сложный и тернистый путь, но это, по сути, путь развития всей позднеантичной духовной культуры последних пяти веков ее существования. Последний крупный представитель этой культуры на Западе прошел его весь, от начала до конца, показав историческую закономерность именно такого его завершения, знаменующего новый этап культурно-исторического развития
[444]. Интересно, что будучи, особенно в первый период своей литературной деятельности, мало начитанным в христианской литературе и находясь под сильным гнетом телесных представлений, он бился над решением многих из тех вопросов, которые уже были решены его предшественниками - христианами, прежде всего Тертуллианом, а также Киприаном, Арнобием, Лактанцием. Некоторые из них так и остались для него закрытыми. В частности, типичный для раннего христианства гуманизм
[445] как всеобъемлющее человеколюбие во многом чужд Августину. В системе его упорядоченного божественным Провидением космоса и социума все, в том числе гибель и страдания людей, подчинено божественному Порядку, в котором нет места ни человеколюбию (в раннехристианском смысле этого слова), ни состраданию. Если ранние христианские апологеты (как греческие, так и латинские) много страниц в своих работах уделяли страданиям людей, то Августин часто, особенно в «Граде Божием», равнодушен к ним, увлеченный своими социоэкклесиологическими исследованиями.
С холодным спокойствием пишет он о бедствиях отдельных людей и целых народов, полагая, например, что божественное Провидение «войнами исправляет и выравнивает испорченные нравы людей» (De civ. Dei I, 1, 5); и далее: «Так одна и та же сила, обрушивающаяся бедствиями, добрых испытывает, очищает, отбирает, а злых отсеивает, опустошает, искореняет» (I, 8, 14). «Рассуждая о бедствиях, кровопролитиях, казнях, неравенстве состояний и положения в обществе, он нередко кажется жестоким», - писал русский исследователь Августина в начале нашего века
[446]. Конечно, Августин знал и христианскую заповедь любви к ближнему (и ставил ее выше всех остальных постулатов), и много писал о любви к людям
[447], но эта любовь понималась им чаще в античном, чем в собственно христианском смысле. Можно было бы назвать и ряд других частных проблем, более глубоко решенных его предшественниками.
Здесь нет возможности специально останавливаться на художественной значимости «Исповеди» Августина, этого выдающегося шедевра мировой литературы, который представляет автора не только глубоким мыслителем, тонким психологом, духовно богатой личностью, но и большим художником слова. Однако уже сам факт существования этого произведения увеличивает ценность и значимость эстетических взглядов Августина, показывая, что его теория основана на глубокой и результативной личной художественной практике.
Отразив своей жизнью и своим творчеством целую эпоху с ее социальными, политическими, культурными и духовными противоречиями, исканиями, заблуждениями, Августин дал своими трудами духовную пищу, пожалуй, для всех последующих эпох, но прежде всего для Средних веков и Возрождения.
Глава II. ДВА ГРАДА
Когда войска Алариха в 410 г. опустошили Рим, в среде язычников вспыхнула очередная волна антихристианских возмущений. Бедствия Рима ставились в вину христианскому государству, поправшему древних богов, которые и мстят теперь за нанесенное им оскорбление. Давно вроде бы миновали времена христианской апологетики, но перед фактом, видимо, достаточно сильных нападок на христианство со стороны, казалось бы, уже совсем побежденной античности, Августину, всегда живо откликавшемуся своими работами на актуальные идеологические движения времени, приходится взяться за перо, чтобы написать еще одну (в длинном ряду) апологию христианства, последнюю в позднеантичный период и самую грандиозную, подводившую итог раннехристианской апологетике.
Завоевание Рима варварами послужило важным толчком к созданию «Града Божия» (De civitate Dei)
[448], над которым гиппонский епископ работал с 413 по 426 г.
[449]. Однако появление этой грандиозной, во многом итоговой работы Августина закономерно вытекало и из его внутренних философских устремлений. Мыслителю, долго не принимавшему христианство, высмеивавшему его с позиций язычника, слишком хорошо знавшему всю языческую антихристианскую аргументацию, - этому мыслителю, наконец-то пришедшему к Христу, конечно, необходимо было не только обосновать свою веру, но и аргументированно разбить доводы бывших единомышленников, а также еще раз в процессе написания опровержения глубже пережить свою новую позицию; еще раз убедить самого себя на уровне ratio в истинности избранного пути. Таким же образом в свое время он выступил против учений скептиков и манихеев, которыми увлекался в юности. Эти частные опровержения нашли место и на страницах итоговой работы. Кроме того, жанр апологии давал ее автору возможность для широких
философских обобщений, для изложения практически всей своей мировоззренческой системы. Уже раннехристианские апологеты поняли это, явившись создателями первой философии культуры
[450]. Августин, продолжая их традицию, в деталях повторяя какие-то их положения, дал в целом законченную систему своей, основанной на христианском миропонимании, философии истории и культуры
[451]. Многие идеи, сведенные в «Граде Божием» в единую систему, более подробно разрабатывались автором на протяжении всего предшествующего периода и в той или иной форме были выражены во многих его работах, проповедях, письмах.
Основу августиновской философии культуры составляет идея существования двух общин, двух «государств» или «двух градов» - божественного (civitas Dei) и земного (civitas terrena). К первому относятся все духовные силы и верные Богу существа, добрые ангелы, истинные христиане и добродетельные люди. Все же, отягощенные грехами, бесчестными делами, плотскими и суетными влечениями, идущие путями заблуждений и т. п., составляют граждан земного, преходящего града. «Два града,- писал Августин,- нечестивцев и праведников - существуют от начала человеческого рода и пробудут до конца века. Теперь граждане обоих живут вместе, но желают разного, в день же Суда поставлены будут розно»
[452]. Для жителей земного града, т. е. для большинства людей, град Божий должен служить всеобъемлющим
идеалом, в том числе, как мы увидим, и в сфере эстетического. К граду Божию относятся все те, кто стремится жить «по духу» (secundum spiritum), а к земному - живущие «по плоти» (secundum carnem); к тому - живущие по законам Бога, к этому - по человеческим установлениям (De civ. Dei XIV, 1; 4). Два града явились следствием двух родов любви - «земной создан любовью к самим себе, доведенной до презрения к Богу, небесный - любовью к Богу, доведенной до презрения к самому себе» (XIV, 28). Град Божий странствует внутри града земного, как civitas peregrina, и подвергается постоянным гонениям со стороны последнего. Их тесная переплетенность (до такой степени, что один человек может носить в себе начала и того и другого) не мешает им находиться в постоянной борьбе, которая и составляет основу мирового исторического процесса, драматически развивающегося от грехопадения Адама до грядущего Страшного суда. В этой концепции, как мы видим, отразилось, хотя и в христианизированном виде, языческое, в частности и манихейское, дуалистическое мировоззрение
[453]. По манихейским и другим гностическим теориям в мире тесно перемешаны частицы Добра и Зла, Света и Тьмы, которые ведут нескончаемую борьбу. У Августина они переосмыслены в два града. Небесный град представляется ему идеальным вечным царством блаженства (II, 29), тем раем, о котором постоянно мечтал многострадальный человек древнего мира, влача беспросветную материальную жизнь. «Тот град вечен; там никто не рождается, потому что никто не умирает; там истинное и полное счастье - не богиня [счастья], а дар Божий. Оттуда мы получили залог веры на то время, пока, странствуя, воздыхаем о красоте его» (V, 16).
В Послании к Галатам апостола Павла (Гал 4, 21 - 31), напоминает Августин, дан прообраз града Божия - Иерусалим. Но это лишь тень, «служебный образ» для обозначения «горнего Иерусалима». Ветхозаветный закон и организованное на его основе общество выполняли в представлении Августина лишь служебную функцию обозначения града Божия. «Так, некоторая часть земного града стала образом града небесного, ибо обозначала не себя, а другой [град]; и потому была служебной» (De civ. Dei XV, 2). Основателем земного града, подчеркивает Августин, был братоубийца Каин; ему соответствует и братоубийца Ромул - основатель Рима. Мир и Рим основаны на крови и преступлении - в этом главное зло земного града. Авель явился прообразом странствующего и гонимого небесного града (XV, 15), который наиболее зримо и полно реализовался в этом эоне с приходом в мир христианской церкви, полномочно представляющей град Божий, который восторжествует лишь с концом «века сего». Земной град - это вся история человечества, история «земных царств». Она насчитывает «семь веков: первый - от Адама до потопа; второй - от потопа до Авраама; третий - от Авраама до Давида; четвертый - от Давида до переселения в Вавилон; пятый - от вавилонского переселения до Рождества Христова; шестой - длится сейчас от Рождества Христова и седьмой - будущий век» (XXII, 30). Вся вторая половина трактата Августина (кн. XI-XXII) посвящена истории земного града в его борьбе с небесным градом. В будущем веке все граждане земного града, если не успеют приобщиться к жизни «по духу», будут осуждены на вечные муки, а скитальцы града Божия обретут покой и вечное несказанное блаженство.
Все ли отрицательно, с точки зрения Августина, в граде земном? И каким образом его граждане могут прийти к знанию града Божия? Оказывается, есть сложное и противоречивое образование, порожденное самим земным градом (конечно, не без участия Бога), и внутри него (града) существующее; развивающееся по мере движения человеческой истории и способствующее отдельными своими частями переходу граждан земного града от жизни «по плоти» к жизни «по духу». Таким образованием предстает в теории Августина
культура. Августиновское понимание культуры во многом строится на культурологических взглядах древних римлян (прежде всего на концепции Цицерона
[454]), увиденных в свете раннехристианского историзма и эсхатологизма.
В истории только мировые катаклизмы, стихийные бедствия, войны способствовали «очищению», или духовному прозрению, какой-то части бесчисленного населения земного града. Здесь действовал «бич Божий». Но, кроме него, есть еще и «глас Божий», материализующийся на уровне земного града в различных формах культуры, доступных восприятию человеческой душой, имеющей от природы духовную основу. В культуре много сторон и аспектов, но в целом она должна быть направлена на улучшение человека, его возвышение к духовным идеалам.
Ко времени написания «Града Божия» Августин неплохо для своего времени знал историю духовной культуры и рассматривал ее под определенным утлом зрения, опираясь в основном на библейские тексты и сочинения римских писателей. В крупнейшей христианской апологии цитируется не менее 35 античных авторов, из них Варрон - не менее 210 раз, Вергилий - не менее 85, Цицерон - не менее 55, Платон - 20 раз, Апулей - 27 раз; в трактате множество античных реминисценций и пересказов отдельных идей античных писателей (в частности Плотина)
[455]. Библия цитируется в «Граде Божием» не менее 1400 раз. На апологетов Августин, как правило, не ссылается, но черпает у них многие факты и аргументы.
Здесь не место заниматься всесторонним рассмотрением философии культуры Августина. Это предмет специального исследования. Однако историку эстетики нельзя без ущерба для своей темы не остановиться хотя бы кратко на отдельных положениях этой философии, имеющих отношение к эстетике.
Культура, как и весь земной град, существует, по мнению Августина, во времени, имеет определенное историческое развитие от сотворения человека до конца мира. Град Божий - пребывает в вечности. Перейти из одного града в другой - значит осуществить переход от временного бывания к вечному бытию. И перед Августином со всей остротой встает проблема
времени. Quid sit tempus (что есть время)? - один из главных вопросов его философии
[456].
В кн. XI «Исповеди» мы можем проследить, как мучительно билась мысль Августина в поисках ответа на него. Нет вроде бы более понятного для людей слова, чем «время». Мы хорошо понимаем, о чем идет речь, когда слышим его или употребляем сами. «Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему,- нет, не знаю. Настаиваю, однако, на том, что твердо знаю: если бы ничто не проходило, не было бы прошлого времени; если бы ничто не приходило, не было бы будущего времени; если бы ничего не было, не было бы и настоящего времени. А как могут быть эти два времени, прошлое и будущее, когда прошлого уже нет, а будущего еще нет? и если бы настоящее всегда оставалось настоящим и не уходило в прошлое, то это было бы уже не время, а вечность; настоящее оказывается временем только потому, что оно уходит в прошлое. Как же мы говорим, что оно есть, если причина его возникновения в том, что его не будет! Разве мы ошибемся, сказав, что время существует только потому, что оно стремится исчезнуть?» (Conf. XI, 14, 17).
До творения мира Богом времени не было. Бог пребывал во «всегда неизменной вечности». Творение вызвало некое движение; моменты этого движения и изменения в мире и образуют время (De civ. Dei XI, 6), т. е. время - следствие движения сотворенного. До создания твари оно не существовало. Следовательно, заключает Августин, легкомыслен вопрос, почему Бог ничего не делал в течение бесчисленных веков, предшествовавших творению, ибо самих этих «веков» не было, они еще не были созданы. «Если же раньше неба и земли вовсе не было времени, зачем спрашивать, что Ты делал тогда. Когда не было времени, не было и «тогда» (Conf. XI, 13, 15). Бог всегда пребывает в вечности, а в ней «ничто не преходит, но пребывает как настоящее во всей полноте; время, как настоящее. в полноте своей пребывать не может» (XI, 11, 13).
Что же тогда это самое время? Как понимать долготу или краткость времени? Где существует это «долгое» или «краткое» время? В прошлом? Но его уже нет. В будущем? Но его еще нет. Значит, в настоящем. Но если мы возьмем отрезок настоящего времени любой длины - в сто лет, в год, в месяц, в день, в час и т. д., то увидим, что он состоит как бы из трех участков. Один из них находится в прошлом, другой еще в будущем и третий, кратчайший, неделимый уже даже на мельчайшие части, миг и составляет собственно настоящее время. Он так краток, что длительности в нем нет. «Если бы он длился, в нем можно было бы отделить прошлое от будущего; настоящее не продолжается» (XI, 15, 20). Но где же тогда мы можем измерять время, сравнивать временные отрезки и т. п.? Где же существует это неуловимое время, которому все подчинено в материальном мире?
После длительных рассуждений Августин приходит к выводу, что время существует только в нашей душе. Прошлое - в памяти; будущее - в ожидании. Его можно предвидеть по некоторым признакам, существующим уже в настоящем. Сущность настоящего времени составляет созерцание (intuitus). «Правильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени - настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего - это память; настоящее настоящего - его непосредственное созерцание; настоящее будущего - его ожидание» (XI, 20, 26). Августин, таким образом, сознает, что время лишено онтологического статуса, и усматривает его только в душе субъекта как определенную характеристику тварного бытия.
Рассматривая вопрос измерения времени, он приходит к выводу, что звук не измеряется ни тогда, когда он уже отзвучал, и ни тогда, когда он еще не прозвучал, и ни в момент самого звучания: и все-таки он измеряется. Где же? Августин находит решение опять внутри субъекта познания: «В тебе, душа моя, измеряю я время. <...> В тебе, говорю я, измеряю я время. Впечатление от проходящего мимо остается в тебе, и его-то, сейчас существующее, я измеряю, а не то, что прошло и его оставило. Вот его-то я измеряю, измеряя время. Вот где, следовательно, время, или же времени я не измеряю» (XI, 27, 36). Августин приходит к субъективно-психологическому решению проблемы времени. Быстротечность времени, неуловимость момента перехода от будущего к прошедшему заставляют его заняться психологией восприятия времени, предельно субъективизировать это понятие. «Каким же образом уменьшается или исчезает будущее, которого еще нет? каким образом растет прошлое, которого уже нет? Только потому, что это происходит в душе, и только в ней существует три времени. Она и ждет, и внимает, и помнит: то, чего она ждет, проходит через то, чему она внимает, и уходит туда, о чем она вспоминает» (XI, 28, 37). Время, таким образом, созданное, по Августину, в момент сотворения мира, является мерой прохождения тварного мира во всех его формах и находится и измеряется в душе человека. Время - производная сотворенного мира. «Там же, где нет никакой твари, чрез изменяющиеся движения которой образуются времена, там совершенно не может быть времен» (De civ. Dei XII, 16).
Для Августина, как и для всего раннего христианства, время (как и пространство, что хорошо показано в гл. 7 «Исповеди») является одной из характеристик мира явлений и немыслимо вне и без него. До сотворения этого мира времени не было, и оно исчезнет вместе с ним. Поэтому время само по себе мало интересовало христианских теоретиков. Главное внимание их было приковано к самому миру явлений, его происхождению, существованию и развитию.
Относительно самого человека время понимается Августином как «путь к смерти, на котором никому не позволяется остановиться даже на малое время или идти несколько медленнее» (XIII, 10). И только на этом временном пути человек может приобщиться к граду Божию и достичь
вечности, которая во всем противоположна времени. Сам Бог обитает в ней. Она и есть
истинное бытие. Она неизменна и непреходяща. В ней назначено пребывание града Божия; Августин отождествляет ее с Богом: «Умственным взором я отделяю от вечного всякую изменчивость и в самой вечности не различаю никаких промежутков времени; так как промежутки времени состоят из прошедших и будущих изменений предметов. Между тем нет преходящего в вечном и нет будущего; ибо что проходит, то уже перестает существовать, а что будет, то еще не начало быть; есть только вечность; она ни была, как будто ее уже нет; ни будет, как будто ее еще нет. Поэтому только она сама могла вполне истинно сказать человеческому уму: «Я есть сущий»,- и только о ней одной могло быть вполне истинно сказано: «Сущий послал меня»
[457]. Время же «является знаком, т. е. как бы следом вечности» (De Gen. ad lit. imp. 13, 38). Град Божий видит свою цель в вечности: град земной пребывает в быстронесущемся потоке времени.
Развивая библейскую традицию, Августин представляет время линеарным и конечным. Тварный мир движется от своего сотворения к концу «века сего» и измеряется равномерно текущим временем. Движение человечества во времени составляет содержание истории, борьба и существование двух градов протекает в истории, и философия культуры Августина предельно исторична. Из всех греко-римских писателей поздней античности Августин был, пожалуй, самым чутким к истории и историзму. Два главных произведения гиппонского мыслителя по сути своей две своеобразные истории - история духовного развития и становления самого Августина и история духовной и культурной жизни человечества на протяжении всех «семи веков» его существования. Историзм Августина отличен от историзма в его современном понимании. В основе его лежит провиденциализм
[458] и телеологизм. Ряд сил управляет извилистым, но тем не менее поступательным движением истории. Одна из них (главная в земном граде) основывается на свободной воле падшего человечества и направлена на приобретение всеми правдами и неправдами максимума земных благ (таких, как богатство, плотские удовольствия, почести, слава, власть и т. п.). Эта сила движет как отдельными людьми, так и земными царствами, постоянно ввергающими человечество в бесчисленные войны, массовые убийства, грабежи, насилия и всяческие несправедливые деяния. Другая сила, внешне достаточно слабая в масштабе земной истории, но постоянно действующая, исходит из града Божия, стремящегося всеми доступными ему средствами исправить пути града земного, остановить злодеяния, прежде всего путем нравственной проповеди, воспитания и просвещения заблудшего человечества. Именно в этом усматривает Августин одну из главных функций католической церкви, которая должна в идеале направлять государство по пути истины
[459].
Движение истории поступательно (раннее христианство верило в исторический прогресс), ибо божественным Провидением определена цель, к которой придет человечество в конце своей истории. От воли людей зависит лишь количество и характер исторических зигзагов, которые еще сделает человечество до этой предопределенной цели - Царства Божия, да и они все известны божественному Провидению. Августиновская философия истории основывается здесь на одной из главных антиномий христианской теории - свобода воли и провиденциализм, - в которой нашли отражение реальные противоречия социальной истории. Полностью осознать их мыслители того времени, естественно, не могли, но почувствовали их достаточно ясно.
Августин начиная с 396 г. (трактат «Ad Simplicianum») разрабатывает концепцию предопределения (praedestinatio), которая вступает в острое противоречие как с христианским учением о свободе воли человека, так и с рядом главных положений его же теории культуры. По этой концепции Бог изначально по своей «безграничной милости» предопределил вполне конкретное число (соответствующее числу «отпавших» ангелов) людей (каждого персонально) к вечной блаженной жизни. Только эти «избранные» (electi) независимо от их образа жизни и мышления в этой жизни, достигнут Царства Божия. Остальные же, независимо от их заслуг или прегрешений, обречены на вечную гибель (praedestinati ad sempiternum interitum - In Ioan. ev. 48, 4, 6). Кто попал в число «избранных», известно только Богу. Людям остается лишь с трепетом ожидать исполнения своей судьбы
[460].
Несмотря на то, что концепция предопределения противоречит гуманистическому пафосу новозаветной и раннехристианской литературы, фактически обесценивает или вообще перечеркивает многие позитивные стороны учения самого Августина, да и, по сути дела, обессмысливает саму идею Церкви, он упорно держался за нее в поздний период своей деятельности. Для этого он вынужден был даже прибегать к весьма искусственным превратным толкованиям достаточно ясной мысли апостола Павла о том, что Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Tim. 2, 4) (см.: De corr. et grat. 14, 44; 15, 47). Здесь не место заниматься этим феноменом августиновского мировоззрения, но о нем следует помнить как о реальном противовесе многим излагаемым нами идеям Августина, свидетельствующем о глубоких противоречиях, постоянно терзавших душу этого мыслителя.
Историзм Августина последовательно телеологичен и, соответственно, остротенденциозен. Августин, как истинный христианин, знает конечную цель социальной истории - торжество града Божия и рассматривает всю реальную и мифологическую историю как путь к этой цели. Поэтому только события и явления истории, культуры, идеологии, способствующие осуществлению этой цели, признаются Августином как положительные и прогрессивные. Все остальное воспринимается им как негативное, греховное, составляющее основу преходящего земного града. С этих позиций и рассматривает он историю духовной культуры, философии, искусства.
Как мы помним, Августин с юности полюбил мудрость, философию. С годами он достаточно хорошо освоил античное философское наследие и до конца своих дней сохранял любовь и уважение к нему. Однако далеко не все в античной философии было принято христианским мыслителем. К философам материалистической ориентации он относился с презрением, считая, что с ними нет смысла и толковать (De vera relig, 4, 6). Начатки истинной философии и зерна мудрости усматривал Августин только у античных идеалистов. Он высоко ценил многие идеи Платона, «мудрейшего из философов» (Contr. acad. III, 17, 37), с почтением относился к автору «почти божественного» учения - Пифагору (De ord. Π, 20, 53), Плотина почитал за выдающегося философа и вообще полагал, что платоники ближе других философов подошли к истине (De civ. Dei VIII, 1). Много интересного нашел он у «первого латинского философа» Цицерона, которого, как бы раскаиваясь за свое излишнее увлечение его идеями в молодости, наградил в зрелом возрасте титулом «лжефилософа» (philosophaster) (II, 27).
В качестве примера остротенденциозного историзма Августина можно сослаться на его краткий историко-философский очерк в VIII кн. «Града Божия».
Августин указывает на две философские школы - италийскую, родоначальником которой был Пифагор, первый назвавший себя не мудрецом, но «любителем мудрости» - философом, и ионийскую с основателем Фалесом Милетским. Фалес и его исследователь Анаксимандр не знали божественного начала и пытались объяснить мир исходя из материальных оснований. Поэтому они не интересуют Августина. Зато их последователи Анаксимен, Анаксагор, Диоген, Архелай связывали творение мира с божественной силой и даже пытались ее исследовать. Учеником Архелая считают Сократа, который направил всю философию из натурфилософского русла на пути морального улучшения и совершенствования человека. Видимо, он считал, что нечистые от земных страстей души не должны касаться вещей божественных. После славной жизни и смерти Сократа осталось много его последователей, направлявших свои усилия на изучение нравственных вопросов, открывавших человеку путь к блаженной жизни. Каждый из них понимал благо по-своему. Аристипп видел его в наслаждении, Антисфен - в добродетели, другие - в чем-либо ином.
Стремление к мудрости, считал Августин, бывает деятельным и созерцательным. Деятельная (in actione) философия имеет своей целью улучшение нравов в обществе, организацию правильного порядка жизни; созерцательная же (in contemplatione) - занимается исследованием причин и первооснований всех явлений, поисками истины. Типичным представителем этой философии считается Пифагор, а превзошедшим других в деятельной философии - Сократ. Платону, самому талантливому ученику Сократа, отмечает Августин, ставят в заслугу соединение этих двух типов философствования в более совершенную философию (De civ. Dei VIII, 4). Показательно, что в качестве одной из главных заслуг Платона Августин выделяет именно этот факт. Как известно, христианство возникло и развивалось на основе синтезирования греческой умозрительной философии и ближневосточной (древнееврейской прежде всего) деятельной (направленной на активную организацию и регламентацию всей жизни общества и каждого индивида) религиозной мудрости. Августин уже у Платона усматривает начала этого жизненно важного для всего христианства синтеза. Здесь носителем деятельно-нравственной философии выступает Сократ, но Августин хорошо знает, что Платон посещал Ближний Восток. И хотя, замечает Августин, это было примерно 100 лет спустя после жизни Иеремии и задолго до перевода Библии на греческий язык, тем не менее Платону, видимо, были известны библейские книги, о чем Августин заключает прежде всего на основании «Тимея» (VIII, 11).
Другую важную заслугу Платона Августин видит в том, что он разделил философию на три части: нравственную (деятельную), натуральную (натурфилософию) и рациональную (логику) (VIII, 4).
Самого Августина интересуют только религиозные идеи Платона и его последователей. Прежде всего его внимание привлекают платоновские мысли о Боге как о причине всякого бытия, разумном начале и порядке жизни, ибо они легли в основу и его собственной философии. Платон, по Августину, называл мудрым человека, подражающего Богу, любящего и познающего его. Эта мысль лежит в основе и христианской философии. Высоко ценит Августин и логику платоников, полагая, что в ней они добились больших успехов, чем эпикурейцы или стоики, ибо последние в своих логических исследованиях опирались на телесные чувства, а платоники только на «умственный свет» (VIII, 7). Неприязнь Августина к материалистическим тенденциям в философии приводит к тому, что он (вольно или невольно) представляет мысли стоиков или эпикурейцев в огрубленном виде. Напротив, взгляды Платона и его последователей он стремится максимально приблизить к христианским, т. е. «очистить» от присущей им тяги к материальности, телесности, приписывая даже иногда Платону чисто христианские идеи. Особенно близок Платон христианам, полагает Августин, в этике, ибо, по Платону, человек обретает блаженство не в теле и не в душе, а в Боге. Философию Платон отождествляет с любовью к Богу. Только любящий Бога и подражающий ему может достигнуть познания его, т. е. наслаждения предметом своей любви или блаженной жизни. Бог, по Платону в интерпретации Августина,- высшее благо (VIII, 8).
После Платона Августин переходит к платоникам, из которых наиболее известными считает Плотина, Ямвлиха, Порфирия и африканца Апулея, писавшего как по-гречески, так и по-латыни (VIII, 12). Главный недостаток их воззрений он видел в том, что они допускали культ греко-римских богов. Вслед за раннехристианскими апологетами Августин потратил немало сил, развенчивая традиционных богов греко-римского пантеона. Именно на этом поприще ему пришлось скрестить перо с платониками, стремившимися дать новое истолкование мифологии и тем самым спасти традиционные ценности античной культуры, и попытаться противопоставить их христианству. Здесь идеолог новой религии был неумолим даже по отношению к столь уважаемым им языческим авторитетам. Интересно, что их он пытается победить не своей собственной аргументацией, а апеллируя к текстам почитаемого в позднеантичном языческом мире Гермеса Трисмегиста (VIII, 23-24), в которых говорится о том, что античные боги не что иное, как создания людей. Изобретя искусство делать статуи, люди создали изображения богов и вложили в них с помощью магического искусства души демонов. Они-то и творят мелкие чудеса, заставляя людей поклоняться этим статуям как богам. В других местах Августин с помощью уже платонических идей будет бороться с античными суевериями. В этом суть августиновского историзма - не беспристрастное изложение фактов истории культуры или философии, но активное использование их в своих идеологических целях, доходящее подчас До, пожалуй, внесознательной, фальсификации отдельных фактов или идей. Августин видит себя идеологом града Божия и стремится осмыслить всю социальную историю и историю духовной культуры как тернистый путь к торжеству этого града. Соответственно, вся дохристианская культура рассматривается им под углом выявления в ней тех идей, которые будут приняты затем христианством. Именно наличие этих идей служило христианским идеологам, с одной стороны, критерием оценки тех или иных культурно-исторических явлений, этапов, отдельных учений, а с другой - использовалось в качестве аргумента в пользу истинности самого христианства. Вся история духовной культуры человечества (как в ее ближневосточном, так и в греко-римском направлениях) предстает у Августина как путь к христианству и, соответственно, к признанию и принятию града Божия. Все заблуждения и отклонения от этого пути суть уступки граду земному, отклонение от истины и от конечной цели. В истории человечества на земной град больше работала греко-римская культура, а на град Божий - ближневосточные народы. Поэтому, будучи последовательным приверженцем греко-римской мудрости, Августин все же вынужден отдавать приоритет в сфере духовной культуры не античным философам, но библейским пророкам (De civ. Dei XVIII, 37 и др.).
Итак, земной град в процессе своего исторического существования создает, не без божественной помощи конечно, культуру, лучшие достижения которой (прежде всего в сферах философии и религии) направлены на приобщение людей к граду Божию. С приходом христианства град Божий получает в человеческом обществе свой официальный институт - Церковь, которая и должна, по мнению Августина, последовательно направлять человечество к истине. Правители земного града, и прежде всего монархи, наделенные властью от Бога, должны руководствоваться в своей деятельности указаниями Церкви. Ибо только под руководством Церкви жители земного града могут приобщиться к граду Божию и достичь по прехождении «века сего» высшего блага.
Августин много внимания уделял вопросу
блага (добра) (bonum) и
зла, стремясь отыскать истинное решение вопроса, на который еще Варрон нашел у античных философов 288 вариантов различных ответов (см. XIX, Г).
Высшим благом, по Августину, является вечный, простой, неизменяемый и не подверженный порче Бог
[461]. От него происходят все остальные блага. Весь сотворенный мир благ, все существующее - благо. Бог не создал ничего злого, неблагого. Зло несубстанциально. Оно состоит в отклонении от блага, т. е. от бытия, в нарушении божественного онтологического порядка. Полное уменьшение блага приводит к прекращению бытия. «...Следовательно, - заключает Августин, - все, что есть, - есть доброе (благое), а то зло, о происхождении которого я спрашивал, не есть субстанция» (как долгое время считал Августин в юности. -
В. Б.). (Conf. VII, 12, 18). «Зло (malum) не обладает никакой природой; но утрата блага получила название зла» (De civ. Dei XI, 9). Зло - это отсутствие или недостаток блага, порча (corruptio) блага, и поэтому без блага, делает диалектический вывод Августин, не было бы и зла. Рассмотрим подробнее эти суждения Августина, ибо частным случаем их является диалектика прекрасного и безобразного в природе, так как в мире природных явлений Августин отождествлял благое с прекрасным, а безобразное со злым.
«Итак,- рассуждает африканский мыслитель,- сколько бы природа ни подвергалась порче, в ней [всегда] остается благо, которого она может лишиться; поэтому если в природе останется что-либо, что уже не может быть испорченным, то она станет совершенно не могущей быть испорченной, и этого высокого блага она достигнет с помощью порчи. И если не перестанет подвергаться порче, не перестанет также иметь благо, которого могла бы лишить ее порча. А если она истребит природу целиком и полностью, то не останется никакого блага, так как не будет и никакой природы. Поэтому порча не может уничтожить добро кроме как с уничтожением самой природы. Итак, вся природа есть благо - большое благо, если не может подвергаться порче, и малое, если - может» (Enchirid. 12). Порча поэтому может существовать только вместе с благом, ибо при отсутствии последнего исчезает и природа, в которой только и может существовать порча. Соответственно и злым может стать только благое, а там, где нет никакого добра, не может возникнуть и зло. Здесь Августин развивает диалектические идеи посланий ап. Павла
[462], сознательно доводя их до предельной остроты. «Следовательно, ничто не может стать злым, кроме как некоторого блага. И хотя это кажется абсурдным, однако вывод из всего рассуждения принуждает нас неизбежно утверждать это». Нельзя, конечно, упрощать этот вывод, называя зло благом, а благо - злом. «Итак, вся природа, хотя и порочная, добра, поскольку есть природа, и зла - поскольку порочна» (13). Здесь Августину приходится допустить исключение из основного закона античной диалектики, которую он так почитал,- закона непротиворечия. «Благо и зло, эти противоположности, могут быть одновременно в одной и той же вещи. Зло из блага и во благе. Вот почему к этим противоположностям, которые называются злом и благом, неприложимо диалектическое правило, гласящее, что две противоположности нигде не существуют вместе». Ни один предмет не может быть одновременно белым и черным, прекрасным и безобразным, пища - горькой и сладкой и т. п. Почти все они несовместимы, и только такие бесспорные противоположности, как добро и зло, не только могут быть вместе, но помимо добра и кроме как в добре зло вообще существовать не может, хотя добро может обходиться и без своей антитезы (14).
Внимательное наблюдение за социальной историей, за реальными процессами и явлениями в современном ему обществе привели Августина к уточнению (пока на уровне исключения) античного правила «противоречия». Оказывается, важнейшая социальная закономерность не подчиняется этому правилу, противоречит ему; жизнь природы и общества развивается далеко не всегда по законам формальной логики. Позднеантичная мысль и наиболее последовательно христианская (вспомним хотя бы первого латинского апологета Тертуллиана) с разных сторон и в различных аспектах все чаще и чаще приходит к этому важному в истории диалектики выводу
[463]. Для христиан он являлся лишним доказательством ограниченности человеческого разума, покоящегося на законе непротиворечия, и весомым аргументом в пользу религиозного иррационализма. Августин стремился объяснить с помощью сделанных выводов закономерность сложной переплетенности в социальной истории злых и справедливых деяний, града земного и града небесного. В реальной истории град Божий терпит от града земного, но без первого не было бы и второго.
Благо, таким образом, бывает, по Августину, разных градаций. Человек до грехопадения, т. е. до нарушения запрета, обладал вечным благом; совершив первородный грех, он был отрешен от высшего блага и допущен к благу же, но преходящему, от духовного блага к благам телесным, т. е. к благам града земного (De vera relig. 20, 38). Однако, погрузившись в эти блага, лучшие представители человеческого рода сохранили тоску по высшему благу и стремление к нему. Они осознали, что «высшее благо есть вечная жизнь, а величайшее зло - вечная смерть», поэтому для достижения первой и избежания второй людям необходимо вести добродетельную жизнь (De civ. Dei XIX, 4), т. е. стремиться приобщиться к граду Божию. В другом месте Августин уточняет, что высшее благо для человека состоит не просто в вечной жизни, но в жизни блаженной (VIII, 16). Поэтому все усилия града Божьего направлены на приведение грешного человечества к конечной и желанной цели - блаженной жизни. Блаженство, блаженная жизнь (beatitas, beatitudo, vita beata) - важнейшие понятия в мировоззрении Августина, без которых не может быть правильно понята ни его философия, ни его эстетика. Но, прежде чем подробнее заняться ими, необходимо сделать одно важное отступление.
В XI кн. «De civitate Dei», рассуждая о предметах и явлениях тварного мира, Августин подчеркивает, что существует ряд критериев для их оценки. Предметы могут оцениваться как по их месту и роли в универсуме, в природе, так и по пользе, приносимой человеку, или с позиции чувственного удовольствия. «Таким образом,- пишет Августин,- при свободе суждения существует большое различие между разумным основанием (ratio) мыслителя и потребностью нуждающегося или удовольствием желающего: ...первое ищет того, что открывается истинным для умственного света, а удовольствие ищет того, что приятно ласкает телесные чувства» (XI, 16). В зависимости от оценивающего субъекта возможны как минимум три критерия оценки предметов и явлений нашего мира: с позиций пользы (т. е. утилитарный), с позиций истины (т. е. философский) и с позиций наслаждения (т. е. эмоционально-эстетический). Неоднократно возвращаясь в различных работах к этим критериям, и чаще всего к утилитарному и эстетическому, Августин приходит к выводу, что утилитарный подход к вещам присущ только земному граду, появился после грехопадения в связи с возникшей немощью человеческой и упразднится в «грядущем веке» с исчезновением материальных потребностей у людей. Небесному граду и людям духовным свойствен только критерий неутилитарного духовного наслаждения, т. е. практически эстетический подход к миру. Философский подход тоже преходящ, так как искание истины и истинных отношений нужно только на путях ко граду Божию.
Таково видение вещей с точки зрения оценивающего субъекта. Кроме того, сами вещи по своему экзистенциальному назначению делятся на три группы. Одними из них человек должен только наслаждаться, другие служат только для его пользы, а есть и такие, которые и полезны, и приносят удовольствие. «Предметы наслаждения (fruendum) делают нас блаженными, а предметы пользы (utendum) помогают нам в достижении блаженства и как бы способствуют овладению теми предметами, которые делают нас блаженными, и тесному соединению с ними» (De doctr. chr. I, 3, 3). Что касается людей «наслаждающихся» и «пользующихся», то они поставлены посредине между предметами пользы и наслаждения и должны по естественному закону стремиться ко вторым, как более высоким. Таким образом, у Августина намечается ценностная иерархия универсума по критерию неутилитарности или специфического гедонизма. Внизу находятся чисто утилитарные предметы, вверху - предметы абсолютного духовного наслаждения. Люди же иногда сбиваются с истинного пути и делают объектом наслаждения сугубо утилитарные, низкие предметы, что уводит их от истинных предметов наслаждения. «Наслаждаться» (frui), - поясняет далее Августин,- означает не что иное, как сильно любить некую вещь ради нее самой. Пользоваться (uti) же [вещью] - значит употреблять ее в качестве средства для достижения предмета любви, поскольку он является достойным любви» (I, 4, 4).
Те же, кто начинает наслаждаться низкими утилитарными предметами, уподобляются страннику, много страдавшему на чужбине и стремящемуся обрести счастье в родном отечестве. Для достижения его ему нужны были средства передвижения - колесницы, корабли и т. п., но, получив их, странник увлекся путешествием и стал наслаждаться самой поездкой, кораблями, колесницами, забыв о конечной цели пути - своем отечестве, где он мог бы обрести не преходящее удовольствие, но истинное блаженство. Соответственно и все мы, заключает Августин, странствующие в этом мире вдали от отечества, если желаем возвратиться в него и обрести истинное блаженство, «должны [только] пользоваться этим [земным] миром, а не наслаждаться, чтобы невидимое божественное стало видимым для нас сквозь сотворенные вещи, т. е. чтобы посредством телесных и временных вещей мы приобрели познание о вечном и духовном» (I, 4, 4). Таким образом, чистое наслаждение связывается Августином с познанием высших абсолютных истин, т. е. с чисто духовной сферой (ср.: De divers. quaest. 35). Он разъясняет далее, что «из всех вещей вообще только теми следует наслаждаться, которые мы назвали вечными и неизменяемыми; остальными же следует [только] пользоваться, чтобы достичь наслаждения первыми» (De doctr. chr. I, 22, 20).
Главным «предметом наслаждения является Отец и Сын и Дух Святой, то есть Троица, некий единый высочайший предмет, общий для всех наслаждающихся ею». Ничто чувственное не должно быть предметом самодовлеющей любви, если мы желаем свободного погружения души в наслаждение небесным светом (I, 10, 10). Это ясно относительно предметов материального мира, т. е. чисто утилитарных, а как быть с самим человеком? Ведь он, наслаждающийся и пользующийся предметами, и сам является вещью, притом созданной «по образу и подобию Божию», т. е. вещью весьма важной и значимой в универсуме. Здесь возникает трудный вопрос: должны ли люди наслаждаться собой, или только пользоваться, или и то и другое одновременно? Нам дана заповедь, рассуждает Августин, взаимно любить друг друга. Но, спрашивается, должны ли мы любить человека ради него самого или для чего-то иного? Если ради него самого, то мы должны наслаждаться им, т. е. обрести в нем свое блаженство. Августин уверен, что это неистинное наслаждение и блаженство и, следовательно, человеком, в том числе и самим собой, как и другими объектами чувственного мира, можно пользоваться для достижения высшего предмета наслаждения - Бога. Только в нем достигается полное и нескончаемое наслаждение (I, 22, 20-21).
Существует ряд ступеней наслаждения, соответствующих своим предметам любви. Августин насчитывает четыре таких предмета: «первый - выше нас; второй - мы сами; третий - рядом с нами или равен нам; последний - ниже нас». Относительно первого и третьего даны божественные заповеди (любви к Богу и любви к ближнему); второй и четвертый не нуждаются в заповедях, так как человек, как бы ни удалялся он от истины, по естественному природному закону всегда любит себя и свое тело (I, 23, 22).
Итак, истинным наслаждением Августин считает любовь к духовному предмету ради него самого, т. е. бескорыстную любовь, единственной целью которой является удовольствие, что Августин хорошо разъясняет в следующем месте: «Однако [понятие] наслаждаться (frui) употребляется [в смысле] ближайшем к [выражению] «пользоваться с удовольствием» (cum delectatione uti). Ибо, когда присутствует (adest) то, что мы любим, оно необходимо приносит с собой удовольствие; и если ты от него приходишь к чему-то иному, что пребывает неизменным, то ты пользуешься им [для какой-либо цели] и говоришь о наслаждении (frui) в несобственном, небуквальном смысле. Если же ты истинно предан [только ему] и останавливаешься [на нем], усматривая в нем (удовольствии. - В. Б.) цель своей радости, то, верно, и в собственном смысле называешь ты это наслаждением (frui)»· И чтобы не прослыть апологетом чистого гедонизма, Августин тут же добавляет: такое понятие наслаждения, в собственном смысле, может быть отнесено только к Троице, ибо она одна есть «благо высочайшее и неизменное» (I, 33, 37). Однако и это ограничение отнюдь не мешает уже сделать вывод, что Августин теснейшим образом связал область высших духовных ценностей со сферой того, что современная наука дефинирует как эстетическое, т. е. являющееся предметом неутилитарного самодовлеющего созерцания и доставляющее субъекту духовное наслаждение.
Удовольствие, наслаждение, блаженство оказываются у Августина взаимосвязанными понятиями, определяющими смысл человеческого существования, т. е. решение главных проблем человеческого бытия перенесено Августином в сферу религиозно-эстетического. Именно здесь осуществляется единение двух градов, один из которых целиком принадлежит к уровню пользы, а другой - к области духовного наслаждения, вершину которого составляет блаженство. Присмотримся к специфике этой важной религиозно-эстетической проблемы августиновской философии.
В постановке проблемы блаженства Августин, конечно, не оригинален. Сущность блаженной, или счастливой, жизни интересовала до него многих античных философов, и они решали эту проблему так же преимущественно, как и проблему добра и зла. Опираясь на своих предшественников, Августин стремится дать свое решение этого вопроса, приемлемое для христианской идеологии. Еще в Кассициаке в 386 г., готовясь к принятию христианства, он под сильным влиянием античной философии написал трактат «О блаженной жизни», основные идеи которого обдумывал, развивал и уточнял на протяжении всего своего последующего творчества.
Уже в трактате «Против академиков» Августин поднимает проблему блаженной жизни в философско-гносеологическом аспекте. Полемизируя со скептиками и стремясь осмыслить их агностицизм, Августин в основных своих положениях еще полностью находится в русле античной мысли. Он увлечен философией как высшим достижением человеческого разума и убежден, что «нет блаженной жизни, кроме той, которая проводится в философии» (Contr. acad. II, 2, 4). Однако идее академиков о том, что блаженство заключается уже в самом процессе исследования истины (по их мнению, постигнута она быть не может), он противопоставляет утверждение, что подлинное блаженство состоит только в познании истины (I, 2, 6), или более осторожное: блаженная жизнь - это жизнь согласно наилучшей господствующей части души - уму или разуму (I, 2, 5). В другом сочинении того же времени Августин пишет, что изучение «свободных наук» приближает человека к истине, т. е. к блаженной жизни, «ибо изучение свободных наук, благоразумное и строгое, ободряет любителей истины в стремлении к ней, делает их более настойчивыми и более подготовленными, так что они и пламеннее ее желают, и с большим постоянством ищут, и, наконец, с большим удовольствием прилепляются к ней; это... и называется жизнью блаженной» (De ord. I, 8, 24). Над всеми свободными науками господствует философия. Она-то и ведет непосредственно к блаженной жизни. Из двух частей складывается предмет философии: «первая - учение о душе, вторая - о Боге. Одна приводит нас к познанию самих себя, другая - к познанию нашего происхождения, та приятнее нам, эта дороже; та делает нас достойными блаженной жизни, а эта - блаженными; первая - предмет исследования для учащихся, последняя - для ученых уже» (II, 18, 47).
Дальнейшее развитие эти идеи получают в трактате «О блаженной жизни». Здесь, продолжая разговор, начатый в «Contra academicos», Августин стремится уточнить предмет философии и соответственно сущность блаженной жизни. Он вынужден опять погрузиться, с одной стороны, в вопросы гносеологии, а с другой - эстетики. Блажен тот, кто обладает истиной, а таковым является только мудрец, таким образом, быть мудрым и значит быть блаженным (De beat. vit. 4, 33). Мудрость, в свою очередь, «есть мера (modus) духа» (4, 32), т. е. то, что держит дух в равновесии. «Итак,- заключает Августин,- всякий, кто имеет свою меру, т. е. мудрость, блажен» (4, 33). Мудрость - это мудрость Бога, а по евангельской традиции (1 Кор 1, 24) Христос является премудростью Божией, следовательно, «всякий, имеющий Бога, блажен». Истина же имеет бытие от «некой высшей меры, от которой она происходит и к которой, совершенная, возвращается»: истина и есть Бог (ср.: Ин 14, 6). Абсолютное бытие состоит в тождестве Бога, истины и меры, а поэтому «блажен, кто приходит к высшей мере через истину. А это значит иметь в душе Бога, то есть наслаждаться (frui) Богом» (4, 34). «Итак,- завершает свою мысль Августин,- полное душевное изобилие, т. е. блаженная жизнь, состоит в том, чтобы благочестиво и совершенно знать, кем направляешься ты к истине, какою истиною питаешься, чрез что соединяешься с высшей мерой» (4, 35). Таким образом Августин приходит к единению гносеологии и эстетики. Блаженство выступает основой этого единения и целью устремлений духовного человека, философа и мудреца. Находясь в этот период под сильнейшим влиянием античной философской мудрости, Августин видит путь к блаженству, т. е. полному обладанию истиной, только через науки, философию, знание, считает блаженство уделом исключительно ученых людей, философов. Это, конечно, еще не христианское представление, однако сущность блаженной жизни как обладания и наслаждения Богом он уже нащупал окончательно и именно на ней строил в дальнейшем свою философию. В трактате «Об учителе» Августин писал: «Любить и знать Его [Бога. - В. Б.] составляет блаженную жизнь, о которой все кричат, что ищут ее, но не многие могут порадоваться тому, что нашли ее действительно» (De mag. 14, 46). В другом месте он отмечает, что душа должна наслаждаться (fruor) Богом, а не телом (De vera. relig. 12, 24).
Углубляясь в христианство, в котором вера играет большую роль, чем знание, Августин наконец приходит к выводу, что блаженная жизнь не может являться привилегией только ученых мудрецов, но должна быть достоянием и самых широких слоев темного и необразованного населения, т. е. всех, кто искренне встал на путь истинной веры. Поэтому теперь уже в чисто церковных традициях он заявляет, что нет надобности в светских научных знаниях для достижения блаженной жизни. Блажен только тот, кто знает Бога, хотя бы ничего иного он не знал, пишет Августин в «Исповеди» (Conf. V, 4, 7), т. е. не знания, но религиозная вера ведет к блаженной жизни. Пути веры отличаются от путей науки и философии тем, что на них главным и значимым является не тот или иной объем абстрактных знаний, но умение «правильно жить».
Известно, что «все хотят быть блаженными, но не [все] могут; ибо, имея одно лишь желание блаженной жизни, не хотят правильно жить (recte vivere)» (De lib. arb. I, 14, 30). Истинная мудрость (на этом важном понятии мы еще остановимся подробнее) поэтому состоит не столько в знании, сколько в умении «жить правильно», чтобы не заблуждаться на жизненном пути, удаляясь от истины, но стремиться к высшему благу (II, 9, 26).
Отойдя от своего раннего философского понимания блаженства как чисто интеллектуального наслаждения от обладания истиной, Августин переносит теперь основное внимание на эмоционально-эстетическую сторону этого понятия, которая была более доступна необразованному и далекому от философии большинству членов христианского общества, т.е. больше соответствовала религиозному мировоззрению. Теперь блаженная жизнь может быть объяснена, к примеру, через всем доступное понятие радости (gaudium): «Есть радость, которой не дано нечестивцам, но только тем, кто чтит Тебя бескорыстно: их радость - Ты сам. И сама блаженная жизнь состоит в том, чтобы радоваться Тобой, о Тебе, ради Тебя; в этом подлинно [блаженная жизнь], и нет другой. Те, кто полагает ее в другом, гонятся за другой радостью - ненастоящей» (Conf. X, 22, 32); «блаженная жизнь - это радость, даруемая истиной, т. е. Тобой, Господи. <...> Этой блаженной жизни все хотят, этой жизни, единственно счастливой, все хотят; радости от истины все хотят» (X, 23, 33).
Августин не забывает при этом постоянно подчеркивать, что далеко не все достигают этой радости, ибо она духовна, возвышенна и далека от обыденных потребностей обитателей земного града. «Высшее счастье, - утверждает он, - есть полное видение» неизреченной красоты (Enchirid. 5). Ниже мы сможем убедиться, что Августин понимал «высшее счастье» в «чувственном» смысле, связывая его с восприятием видимой красоты. Последняя, по его мнению, услаждает Душу «ложными удовольствиями» (De vera relig. 20, 40). Люди часто считают себя счастливыми, когда после долгой разлуки с любимой Могут прижать к себе ее прекрасное тело; когда в жару и зной находят источник с прохладной водой; когда вдыхают аромат чудесных цветов. Но что может быть блаженнее, когда утоляешь голод и жажду истины, вдыхаешь ее аромат? - риторически вопрошает Августин. Люди радуются пению и музыке, но какое блаженство сравнится с тем, когда тобой овладевает «мелодичное и красноречивое молчание истины». Люди радуются блеску золота и серебра, драгоценных камней и красок, свету огня, звезд, луны и солнца. Блаженная же жизнь заключена в свете истины (De lib. arb. II, 13, 35).
Августин испытывает явное затруднение в окончательном определении блаженства. Он не желает свести его к чувственному удовольствию, ибо считает последнее, как мы увидим далее, низким, но в то же время полагает невозможным и лишить его совершенно чувственно-эмоциональной окраски, ограничить только интеллектуальным наслаждением, полным бесстрастием, бесчувствием. К философскому бесстрастию (άπάθεια, impassibilitas) Августин, как и все христианство, относится настороженно, если не отрицательно вообще. По его мнению, гражданин небесного града, странствуя в этом эоне и живя по божественным законам, страшится и желает, скорбит и радуется, т. е. живет нормальной эмоциональной жизнью; он не бесстрастный мудрец, созерцающий жизнь извне, но ее активный участник, находящийся в самом потоке жизни. Августин отнюдь не считает пороком человеческие чувства и переживания, если они, конечно, направлены на благое дело, ибо и сам Иисус имел их (De civ. Dei XIV, 9), хотя и уверен, что они проистекают от слабости и немощи человеческой. Поэтому, считает он, бесстрастие никак не может быть уделом подлинной жизни. Более того, если под άπάθεια понимать отсутствие всякого движения чувства, то эта оцепенелость хуже всякого порока, «ибо нельзя себе представить блаженства без любви и радости» (XIV, 9). Даже о первых людях, живших в раю до грехопадения, вряд ли уместно думать, что они не испытывали никаких душевных волнений. Они жили с чувством бесконечной любви к Богу и друг к другу, ощущая несказанную радость (XIV, 10). Августин приходит к выводу о необходимости избегать άπάθεια (XIV, 9) и не отказываться от эмоционально-эстетической сферы.
Размышляя о блаженной жизни, Августин не раз задумывался о ее критериях. Практически все стремятся к блаженной (или счастливой) жизни, но откуда они знают о ней? Уже в трактате «О свободном выборе» он приходит к выводу, что основы таких понятий, как «мудрость», «истина», «блаженство», изначально заложены в нашей душе и, не умея, как правило, словами описать их, человек тем не менее имеет некое представление об их сущности (De lib. arb. II, 9, 26). В «Исповеди» Августин добавляет, что понятие о блаженной жизни, видимо, хранится в памяти с древнейших времен, когда человек еще был блаженным (Conf. X, 20, 29).
Перед смертью Моники Августин неоднократно беседовал с ней о вечном блаженстве, стремясь извлечь представление о нем из глубин как своей души, так и прежде всего души матери, находившейся уже у врат Царства и обладавшей большим опытом духовной жизни. В «Исповеди» он пытался описать эти совместные представления: «...Если в ком умолкнет волнение плоти, умолкнут представления о земле, водах и воздухе, умолкнет и небо, умолкнет и сама душа и выйдет из себя, о себе не думая, умолкнут сны и воображаемые откровения, всякий язык, всякий знак и все, что проходит и возникает, если наступит полное молчание... и заговорит Он Сам, один - не через них, а прямо от Себя, да услышим слово Его, не из плотских уст, не в голосе ангельском, не в грохоте бури, не в загадках и подобиях, но Его Самого, которого любим в созданиях Его; да услышим Его Самого - без них,- как сейчас, когда мы вышли из себя и быстрой мыслью прикоснулись к Вечной Мудрости, над всем пребывающей; если такое состояние могло бы продолжиться, а все низкие образы исчезнуть, и она одна восхитила бы, поглотила и погрузила в глубокую радость своего созерцателя - если вечная жизнь такова, какой была эта минута постижения, о которой мы вздыхали, то разве это не то, о чем сказано: «Войди в радость господина твоего» (Мф 25, 21)?» (Conf. IX, 10, 25). Таково одно из образных представлений Августина о сущности блаженной жизни, приближающееся к философскому «экстазу безмыслия», но не лишенное еще ряда эмоционально-эстетических характеристик. В этом специфика и своеобразие августиновского эвдемонизма.
Грядущее вечное блаженство града Божия описывается Августином в конце «De civitate Dei» уже исключительно в эстетической терминологии. Тогда отпадает необходимость в какой-либо телесной деятельности, «наступит полное, несомненное безмятежное и вечное счастье. Не будут уже скрыты все те, расположенные внутри и вне по всему составу тела, числа телесной гармонии... которые в настоящее время скрыты, и вместе с прочими великими и удивительными предметами, которые мы увидим там, будут воспламенять наш разумный дух в похвалу такому Художнику наслаждением разумной красоты (retionabilis pulchritudinis delectatione)» (De civ. Dei XXII, 30). Это наслаждение Августин не забывает постоянно отграничивать от чувственных удовольствий и от наслаждения чувственно-воспринимаемой красотой, ибо хорошо ощущает, что граница эта, проходящая где-то в глубинах души, весьма расплывчата и что определить, где кончаются наслаждения чувств и начинается наслаждение духа, как правило, достаточно трудно.
Чувственные удовольствия, которые так цепко держали в своих сладостных оковах душу и тело юного Августина, в зрелом возрасте расцениваются им в целом как явление негативное и греховное, квалифицируются как похоть и обозначаются обычно термином voluptas; хотя иногда этот термин употреблялся им и для обозначения позитивного удовольствия. Так, в раю до грехопадения первый человек «занимался земледелием не как рабским трудом, но с благородным духовным удовольствием (honesta animi voluptate)» (De Gen. ad_lit. VIII, 9, 18). Со ссылкой на Варрона, а через него и на Эпикура
[464], Августин указывает, что удовольствие (voluptas) наряду с покоем (quies) лежит в основе тех природных начал, к которым люди стремятся чисто физиологически, без всяких знаний, наук, без обучения (De civ. Dei XIX, 1). Причина удовольствий находится как в теле, так и в душе. Вожделение (concupiscentia) «происходит от них обоих: от души потому, что без нее не ощущается удовольствие (delectatio), от тела же потому, что без него нет самого удовольствия» (De Gen. ad lit. X, 12, 20).
Удовольствия могут возникать на основе всех органов чувств. Особенно греховными и порочными, по мнению Августина, являются тактильные удовольствия, возникающие в результате полового общения, которые в юности представлялись ему верхом блаженства и от которых его так долго не могли оторвать ни поиски истины, ни философия, ни религия. И днем и ночью, и во сне и наяву преследовали его эти удовольствия (Conf. VI, 6, 10). Плотские искушения на протяжении всей жизни не оставляли гиппонского епископа. Исповедуясь в них, Августин разбирает практически все виды чувственных удовольствий.
Прежде всего, пишет он, по ночам его преследуют образы плотских наслаждений и он часто не может удержаться во сне от общения с женщинами; осуждая эту свою слабость, Августин просит Бога освободить его от нее (X, 30, 41-42). Угнетает его и чревоугодие. Пища, особенно после длительного воздержания, доставляет ему большое удовольствие. Еда и питье необходимы для поддержания здоровья, но к ним порой примешивается и удовольствие. А мера у здоровья и удовольствия не одна и та же: что достаточно для здоровья, того мало для удовольствия. При этом бывает трудно определить, где кончаются потребности здоровья и начинаются вожделения чревоугодия (X, 31, 44).
Существуют удовольствия обоняния, но они не очень распространены и не столь опасны для души, поэтому Августин и не уделяет им особого внимания.
Главными из чувственных удовольствий являются, по Августину, удовольствия слуха и зрения. Их он разбирает достаточно подробно, ибо они находятся на границе между чисто плотскими и собственно духовными удовольствиями и бывают как негативными, так, отчасти, и позитивными, когда содержат «следы разума».
Много внимания уделил Августин слуховым удовольствиям в трактате «De musica», и мы еще остановимся на этом в соответствующем месте. Здесь мы затронем лишь рассуждения Августина об этом предмете в «Исповеди».
В молодости его сильно увлекали музыка и пение. Затем он осудил доставляемые ими удовольствия как чувственные и постарался отказаться от них, хотя, исследуя на предмете стихосложения и музыки закономерности их возникновения, он пришел к выводу, что они основываются на «разумных» основаниях, содержат «следы разума». Тем не менее отношение к «удовольствиям слуха» у него постоянно оставалось настороженным, даже когда речь заходила о церковном пении, доставлявшем ему особое удовольствие. «Иногда, мне кажется, я уделяю им (духовным песням. - В. Б.) больше почета, чем следует: я чувствую, что сами святые слова зажигают наши души благочестием более жарким, если они хорошо спеты; плохое пение такого действия не оказывает». Августин начинает осознавать здесь, что эстетическое наслаждение может способствовать благочестию. Однако слишком хорошее знание языческого гедонизма и раннехристианский ригоризм побуждают его осторожно подходить к этому вопросу. Сначала пример Афанасия Александрийского, заставлявшего, по его мнению, «произносить псалмы с такими незначительными модуляциями, что это была скорее декламация, чем пение», представлялся Аврелию более уместным в церкви, чем пение, введенное в Медиолане его духовным кумиром Амвросием. Однако в конце концов эстетическая чуткость берет верх в Августине и он убеждает себя одобрить храмовое пение: «...я вспоминаю слезы, которые проливал под звуки церковного пения, когда только что обрел веру мою; и хотя теперь меня трогает не пение, а то, о чем поется, но вот - это поется чистыми голосами, в напевах вполне подходящих, и я вновь признаю великую пользу этого установившегося обычая. Так и колеблюсь я,- и наслаждение опасно, и спасительное влияние пения доказано опытом. Склоняясь к тому, чтобы не произносить бесповоротного суждения, я все-таки скорее одобряю обычай петь в церкви: пусть душа слабая, упиваясь звуками, воспрянет, исполнясь благочестия» (X, 33). Опасаясь музыкального гедонизма, Августин тем не менее отдает себе отчет, что античная теория музыкального этоса содержит рациональное зерно и в какой-то мере опирается на нее в своих рассуждениях. Она помогает ему отчасти понять причины воздействия церковной музыки на верующего. «Каждому из наших душевных движений,- в лучших пифагорейских традициях пишет Августин,- присущи и только ему одному свойственны определенные модуляции в голосе говорящего и поющего, и они, в силу какого-то тайного сродства, эти чувства вызывают» (X, 33, 49).
Таким образом, «удовольствия слуха» в религиозно-эстетической области, хотя и с осторожностью, принимаются Августином как способствующие в конечном счете достижению блаженной жизни.
Далее автор «Исповеди» переходит к «удовольствиям глаз». Эти удовольствия возбуждаются при созерцании красивых и разнообразных форм, ярких и приятных красок, блеска света в его различных проявлениях, т. е. при созерцании видимой красоты, о которой у нас предстоит еще специальный разговор. Здесь следует только указать на Двойственность отношения Августина и к этим удовольствиям. С одной стороны, он считает их порочными - как удовольствия чувственные и ориентированные на преходящую внешнюю красоту, уводящие человека от истинной красоты; а с другой - ясно сознает, что красота материального мира создана Богом и отражает в какой-то мере божественную невидимую красоту, напоминает нам о ней. Поэтому наслаждение чувственной красотой, если оно является не самоцелью, а лишь путем к абсолютной красоте, может быть допущено и даже поощрено. Это прежде всего относится к природной красоте. Красота искусства ценится Августином меньше, ибо он усматривает в деятельности художника некую конкуренцию с божественным Творцом, но к этому вопросу мы еще будем иметь случай вернуться специально.
Итак, чувственные удовольствия, как отвлекающие человека от духовного служения, в целом не поощряются Августином. Удовольствия слуха и зрения принимаются им только в той мере, в какой они способствуют приобщению к духовным наслаждениям, т. е. помогают человеку от града земного перейти к граду Божию и достичь вечного блаженства, которое по сути своей является также удовольствием или наслаждением, но несравненно более высоким и духовным.
Таким образом, культурология и социология Августина, реализованные в теории двух градов, выдвинули в качестве главного идеала и предела человеческого существования идею блаженства, которая по сути своей является религиозно-эстетическим идеалом. Сущность блаженства, по Августину, составляет бесконечное ничем не ограниченное наслаждение абсолютной духовностью, включающей в себя высшую Истину, высшее Благо и высшую Красоту как нечто единое, неделимое, абсолютно простое. Это не чисто интеллектуальное, но возвышенно-эстетическое наслаждение, высшая степень радости и любви земного человека к духовному абсолюту, воплощенному в его представлении в личностном божестве, с которым возможно интимное глубоко человеческое общение. Блаженство у Августина - главная цель человеческого существования вообще, к которой ведут все пути правильной духовно-практической деятельности человека, и прежде всего пути нравственной, добродетельной жизни, познания истины и постижения красоты. Идеал этот имеет у Августина ярко выраженную эстетическую окраску. Утилитарная, связанная с пользой деятельность граждан земного града - одна из самых нижних ступеней на пути к этому идеалу. Все утилитарное по сути своей и по своему происхождению чуждо миру блаженства. Только абсолютно не заинтересованная в бытовых выгодах высоконравственная жизнь (нравственно-практический путь), чистое познание истины (философский путь) и созерцание красоты (эстетический путь) ведут к блаженной жизни. Богословие, гносеология, этика, эстетика и другие компоненты августиновской теории - не что иное, как всестороннее исследование путей к достижению этого идеала. Исследователь любой из сторон теоретической деятельности крупнейшего представителя западной патристики не должен забывать это, тем более историк эстетики. Эстетизм всего мировоззрения Августина определяется не в последнюю очередь этим идеалом.
Глава III. Не RATIO единым
В своем обширном литературном наследии основное внимание Августин уделял главным путям достижения блаженной жизни - философскому (особенно на раннем этапе) и нравственно-практическому, постоянно наполняя и тот и другой эстетическими элементами. Философский путь, как мы уже видели, сводился к познанию Первопричины, нравственно-практический - к организации «правильной», или праведной, жизни.
Здесь нет возможности подробно излагать гносеологию, этику или теологию Августина. Все эти проблемы всесторонне проанализированы в огромной специальной литературе
[465]. Мы ограничимся лишь отдельными аспектами этих проблем, необходимыми для историко-эстетического исследования.
Одной из главных проблем, постоянно занимавших Августина, особенно в ранний период творчества, была проблема познания. Она волновала многих мыслителей поздней античности, но решали они ее по-разному. Ко времени написания своих первых работ Августин, как мы помним, находился одновременно под влиянием двух сильнейших духовных течений того времени - неоплатонизма (Плотина прежде всего) и христианства. От неоплатонизма он уже активно шел к христианству, однако неоплатоническими идеями наполнены все его ранние (да и не только они) трактаты
[466]. Именно неоплатонизм, как считал и сам Августин, указал ему выход из агностицизма скептиков, и под его влиянием он написал свой первый из дошедших до нас трактатов, опровергавший учение скептиков («академиков»), пафос которого сводился к утверждению возможности практически неограниченного познания мира (а отчасти и его первопричины) разумом
[467].
Однако Августин был человеком своего времени. Характерной же тенденцией всего периода поздней античности являлся кризис рационального мышления, кризис разума как главного инструмента познания. В духовной культуре того времени спекулятивные философские системы уступают место иррациональным течениям, различным религиозным учениям, среди которых религия откровения занимала одно из видных мест. Возрастает интерес к психологии, к эмоционально-эстетической сфере человека. Учение о познании умонепостигаемой Первопричины все чаще покидает сферу дискурсивного мышления, включая в свой арсенал различные непонятийные приемы передачи, хранения и возбуждения самой разнообразной информации, среди которой эстетическая занимала далеко не последнее место
[468]. Конечно, и в античности теория познания никогда не была принципиально разведена с эстетикой
[469], но теперь этот союз приобретает особый, качественно новый характер, обусловленный сознательным подрывом авторитета разума в период укрепления христианской идеологии.
Не случайно гносеологию раннего Августина венчает красивая притча о философии и филокалии, о которой он позже, правда, отзывался критически (см.: Retr. I, 1, 3), но в которой хорошо выразился дух его философии
[470]. Собственно, и в «Retractaciones» Августин осуждал слишком уж нехристианскую форму притчи, но не отказывался от идеи «филокалии», если под ней понималась любовь к истинной, т. е. духовной, красоте
[471].
Философия и филокалия имеют сходные названия, т. е. они являются как бы родными сестрами. «Ибо что есть философия?» - спрашивает Августин и отвечает: «Любовь к мудрости. А что такое филокалия? - Любовь к красоте. Спроси у греков. А что такое мудрость? Разве не сама истинная красота? Итак, они поистине родные сестры, рожденные от одного отца; и хотя филокалия совлечена силками сладострастия со своего неба и заперта простонародьем в клетку, сходство имени она все-таки сохранила для напоминания ловцу, чтобы он не презирал ее. И ее-то, бескрылую, опозоренную и нищую, свободно парящая сестра узнает часто, но освобождает редко; ибо филокалия и не знала бы, откуда ведет род свой, если бы не философия» (Contr. acad. Π, 3, 7). Мудрость отождествляется Августином с красотой и возводится в создатели как философии, так и науки «любви к прекрасному» - филокалии. Следуя платоновской традиции, Августин при всем своем уважении к филокалии полагает, что она, как жаждущая лишь чувственной красоты, стремится, как и опирающаяся на нее поэзия, к ложной красоте. Истинная же красота доступна только философии.
Ранние трактаты Августина дышат пафосом поиска и обретения «истинной философии»
[472]. Еще в юности, как мы видели, прочитав «Гортензия» Цицерона, он воспылал любовью к философии, но приятная сердцу юноши житейская суета - любовь прелестной женщины, успехи по службе, светские развлечения долгое время не позволяли ему, как он пишет, полностью отдаться занятиям философией. Когда же он устремился наконец «на всех парусах и веслах в гавань философии», корабль его стали сотрясать не только житейские, но и философские бури. Волны манихейства, скептицизма и платонизма изрядно поиграли им. «И вот,- заключает Августин, - меня охватила такая сердечная боль, что, не имея уже сил переносить тяжесть профессии, которая, может быть, унесла бы меня к сиренам, я бросил все и привел разбитый, весь в щелях корабль в желанное затишье» (De beat. vit. 1, 4), которым оказалась некая «идеальная» философия, созвучная христианству. Эта философия впитала в себя находки всех философских школ древности
[473]. Нашлись, по мнению Августина, проницательные мужи, которые своими рассуждениями показали, что «Аристотель и Платон так между собою согласны, что кажутся противоречащими друг другу только людям несведущим и непроницательным. Таким образом, хотя и за многие века, и в продолжительных спорах, однако, как я думаю, наконец выработана (дословно - отцежена. -
В. Б.) единая наука истиннейшей философии». Конечно, это не философия материального мира, которую не принимает христианская религия, но философия мира идеального, интеллигибельного (Contr. acad. III, 19, 42), к которому Августин относит такие общие понятия различных наук, как
истина, ложь, единство, вечность, подобие, мудрость, благо, праведность, целомудрие, красота, а также математические понятия. Особое место в нем, как главное его содержание, занимают числа
[474]. Таким образом, «единая система истиннейшей философии» Августина - это эклектическая философия, составленная на основе главных философских систем античности. Особенно активно созданием этой философии занимались греческие христианские предшественники Августина: Климент Александрийский, Ориген, Григорий Нисский. Высоко оценивает Августин и вклад Цицерона в создание этой системы.
Тройственен предмет этой философии. Он заключается в познании порядка и единства универсума, своей души и Бога. Первое и второе - лишь путь к третьему. Но постижение Бога - цель и предмет религии. Соответственно Августин усматривает и два пути из «мрака окружающих явлений» к истине - путь разума (философский) и путь веры, или авторитета (религиозный). «Разум обещает философия, но она освобождает от мрака весьма немногих». Эта «истинная философия» учит тому, что является «безначальным началом» (principium sine principio) всех вещей, и она не пренебрегает тайнами веры, но всячески укрепляет их (De ord. II, 5, 16). Вера, в свою очередь, является важным условием для достижения знания. Как подчеркивает один из современных исследователей, вера понимается ранним Августином не в узкорелигиозном смысле, но скорее как некий «акт воли и знания», предшествующий познанию истины, особый способ гносеологического предвосхищения, задающий направление процессу познания
[475].
Путь философии - это путь избранных. Он труден и мало кто достигает цели. Проще идти путем авторитета. При изучении наук, безусловно, имеет первенство авторитет, но в отношении существа предмета - разум. Авторитет бывает божественный и человеческий. Первый, естественно, выше и истиннее (9, 26-27). Для необразованных авторитет - единственная сила, ведущая к истине, для образованных - путь к знаниям, к преодолению скепсиса, сила, очищающая Душу, и т.п.
[476]. «Авторитет,- пишет Августин,- требует веры и готовит человека к разуму. Разум же приводит его к пониманию и познанию. Хотя и разум не обходится совершенно без авторитета, когда речь заходит о предмете веры; и совершенно ясно, что высшим авторитетом является познанная и постигнутая истина» (De vera relig. 24, 45). Августин, таким образом, особенно в ранний период, не видит принципиального различия между верой и разумом, полагая их Двумя тесно связанными и взаимопереплетенными механизмами (или инструментами) познания единой истины. У гиппонского мыслителя «разум и вера не являются двумя началами, которые, будучи длительное время разделенными, затем снова встречаются. Разум в вере, вера в разуме. Августину неизвестен конфликт, который должен закончиться порабощением разума. Ему чужды sacrificium intellectus, credo quia absurdum Тертуллиана»
[477].
Августин раннего периода любит философию так же сильно, как и своего Бога, и верит, что на ее путях можно достигнуть истины. В этом его укрепляет евангельская мысль: «Ищите, и найдете» (Мф 7, 7) (Contr. acad. II, 3, 9)
[478]. За великое счастье почитает он иметь досуг для философствования и, как мы помним, жизнь, «проводимую в философии» называет блаженной (II, 2, 4). Философский оптимизм Августина еще так велик, что он пытается даже защищать скептиков от их собственного агностицизма. Он считает, что и сами «академики» не очень серьезно относились к своему утверждению, что абсолютную истину познать невозможно, но выдвигали его, чтобы сохранить знание в тайне от недостойных. Последователи Платона Полемон и Аркесилай, по мнению Августина, скрыли учение своего учителя от Зенона как недостойного, ибо он признавал существование только материального мира. В народе укрепились эти материалистические тенденции, и «академики» решили, что в такой неблагоприятной обстановке их истины не могут быть усвоены. Поэтому они считали своей главной задачей критику материалистических теорий стоиков, а не изложение «позитивной» философии (см. III, 17, 38).
Этот историко-философский миф, отражавший реальную борьбу материалистических и идеалистических тенденций в античной философии, необходим Августину для укрепления авторитета его философии интеллигибельного, берущей начало в глубинах греческой мысли. Непрерывность философской традиции выступает у Августина важным критерием истинности философии. Поэтому, в целом не разделяя скепсиса «академиков», он в то же время и не желает исключать их теорию из общей картины развития идеалистической философии, но пытается объяснить ее борьбой философских направлений. Вслед за раннехристианскими апологетами Августин, для которого почти вся античная философия была уже историей, сознательно отмечает борьбу в ней материалистического и идеалистического направлений. Вся его неприязнь, конечно, направлена против материализма стоиков. Однако при определении мудрости, любовь к которой Августин ценит выше всего, он использует традиционную стоическую формулу (Arnim. Stoic. vet. fragm. II, 35; 36), заимствуя ее у Цицерона (De fin. Π, 37; De orat. I, 212): «мудрость - это знание дел человеческих и божественных» (Contr. acad. I, 6, 16), способствующее достижению «жизни блаженной» (I, 8, 23). В приобретении мудрости усматривает ранний Августин жизненный идеал, следуя в этом лучшим традициям античной философии. Здоровье, добрые друзья, жизненное благополучие и. наконец, сама жизнь необходима ему лишь для создания наиболее благоприятных условий к приобретению мудрости (Solil. I, 12).
С другой стороны, он хорошо сознает, что и прекрасные женщины, и служебная карьера преграждают путь к истинной мудрости. Быть мудрым, замечает он в одном из писем, значит «умереть для этого мира» (Ер. 10, 3), уйти из мира, чтобы созерцать истину о нем со стороны. Здесь Августин находится еще всецело под влиянием античных традиций. Мудрость для него - это «отыскание истины, ведущее к достижению блаженной жизни» (Contr. acad. I, 9, 24). Истина же (заключена в мире духовном, и мудрость поэтому прежде всего - постижение вещей интеллигибельных
[479], ведущее в последней инстанции к познанию Первопричины. Мудрость, заявляет Августин, «является не чем иным, как истиной, в которой познается и достигается высшее благо» (De lib. arb. II, 9, 26), или Первопричина. Но так как путь к высшему благу начинается с самопознания, то в ранний период Августин уделял особое внимание sapientia «как пониманию своего собственного способа бытия»
[480].
В философской системе Августина
мудрость является центральным, ключевым понятием
[481]. Она тесно связана у него с такими категориями, как истина (veritas), блаженство (beatitudo), высшее благо (summum bonum), знание (scientia). Относительно последнего понятия интересно заметить, что у раннего Августина scientia выступала составной частью sapientia и ее необходимой предпосылкой
[482]. При этом под scientia имелось в виду дискурсивное познание (ratiocinari), опирающееся на эмпирические данные, а под sapientia - духовное видение (intelligere) неизменных предметов вечного интеллигибельного мира
[483]. Это гносеологическое различие Августин сформулировал позже (De Trin. XII, 15, 25; De div. quaest. II, 2, 3), отделив scientia от sapientia. Мудрость относится им к высшему уровню разума (ratio superior), а scientia - к низшему (ratio mferior)
[484]. Scientia как знание «дел человеческих» лежала в основе всех наук. Но если на раннем этапе Августин считал, что без знания наук мудрость, познание истины и блаженная жизнь недостижимы, то позже он отказался от этой идеи
[485]. Теперь sapientia - знание только божественных предметов, которое возможно без scientia. Таким образом, Августин-теолог, стремясь максимально дифференцировать предмет религиозного знания, фактически намечает путь к секуляризации культуры.
Мудрость, с другой стороны, как мы помним, тождественна высшей красоте, и эстетическая окраска мудрости характерна для всех философских трактатов Августина. Призывая любить «чистейшую красоту» мудрости, он сравнивает ее с прекрасной женщиной, которая отвечает взаимностью только тому, кто любит лишь ее одну. Мудрость, как и красоту, любят не ради какой-либо утилитарной цели, но только ради нее самой (Solil. I, 13, 22). Она - «единственное и истиннейшее благо», некий «невыразимый» и непостижимый умственный свет» (I, 13, 23), особая «мера духа» (modus animi) (De beat. vit. 4, 32). Красота, свет, мера также тесно связаны с мудростью, как истина или знание. Эстетика и гносеология нашли у Августина в этом понятии общий знаменатель.
Итак, философ занимается поиском истины и, став мудрым, может ее достигнуть. В этом, как подчеркивает Августин, состоит различие между ним и скептиками. Последние считали, что истину познать нельзя, Августин же полагает, что хотя она лично им еще и не найдена, «но может быть найдена мудрым» (Contr. acad. III, 3, 5). Этим гносеологическим оптимизмом пронизано все творчество раннего Августина. Вторая книга «Монологов» начинается молитвой: «Боже, пребывающий всегда одним и тем же, пусть я узнаю себя, пусть я узнаю Тебя! Я помолился» (Solil. II, 1, I)
[486]. Истина пребывает вечно (II, 2), но не в преходящих вещах, а в предметах бессмертных, поистине существующих (I, 15, 29). Принадлежностью же тварного, преходящего мира, полагает Августин, является не сама истина (veritas), но ее производная -
истинное (verum). Истинное не может существовать без истины, но оно рождается и гибнет, никак не влияя на нее. Весь тварный мир истинен, но не вечен и, следовательно, не содержит, но только отражает истину. Последняя пребывает в сфере божественной мудрости
[487], «множественной в простоте и единообразной в многообразии» (De civ. Dei XII, 18)
[488], которую Августин понимал как платоновскую страну идей - «невидимые и неизменяемые смыслы (идеи) предметного мира» (XI, 10; De div. quaest. 46, 2)
[489]. Истина поэтому будет существовать и после гибели материального мира.
Августин объединяет истину с сущностью (essentia). Она является «первой сущностью» и как таковая не имеет ничего противоположного себе. «Ибо всякая сущность есть сущность не почему-либо иному, как потому, что она существует. Существованию же противостоит только несуществование. Поэтому сущности противоположно ничто (nihil)» (De immort. anim. 12, 19). Соответственно и «ложность» (falsitas) не имеет истинного бытия. Это онтологический аспект истины.
В гносеологическом плане Августин оперирует больше понятием «истинное» (verum), которому противопоставляет «ложное» (falsum) или «истиноподобное» (verisimile). Именно «в подобии истинному обитает ложность» (Solil. II, 6, 12). Во внешнем сходстве с истинным заключается суть ложного суждения. Ложным, по мнению Августина, называется лишь то, что «или выставляет себя тем, чем оно не является, или всеми силами стремится быть, но не есть» (II, 9, 16). Первый вид ложного имеет два подвида - «лживый» (fallax) и «неистинный» (mendax). Под fallax Августин имеет в виду намеренную ложь, стремление обмануть или скрыть истину, любое ложное суждение. Это негативная категория в его гносеологии. Mendax - тоже ложь, но производимая не с целью обманывать, а, скажем, для возбуждения чувства удовольствия. Она не носит негативной окраски в системе Августина и практически полностью помещается им в эстетическую сферу, в сферу искусства, которое основывается на «неистинном», с точки зрения формально-логического мышления. Вплетая в свою гносеологию эстетическую проблематику, Августин поднимает здесь ряд важных для истории эстетики вопросов, в том числе проблему вымысла и истины в искусстве, на которых подробнее мы остановимся в главе «Искусство».
Частичное перенесение решения проблемы истины в область эстетического позволило Августину выйти в теории познания за узкие рамки дискурсивного мышления. Показав, что ложное, с точки зрения формальной логики, может оказаться «истинным» в другом отношении именно благодаря своей формально-логической «ложности», Августин одним из первых в истории философии сознательно поставил вопрос об особых, отличных от дискурсивных формах если не мышления, то, во всяком случае, передачи и хранения знания. К подобной трактовке проблемы он смог прийти прежде всего на основе анализа искусства, как особой формы отображения действительности. И именно этот подход позволил Августину, как мы увидим, впервые в истории эстетики найти общее между различными видами искусства - изобразительными искусствами, театром и литературой.
Возвращаясь к теории познания Августина, вспомним, что мудрость есть знание истины. Знание же это в конечном счете абсолютно, так как объект познания вечен и неизменен и является источником и первопричиной всего преходящего и изменяющегося. Гносеология Августина имеет две основные ступени - подготовительную, на которой познаются «дела человеческие», и главную, ориентированную на познание абсолюта, «таинственнейшего Бога». Первая ступень включает формально-логическое, научное познание мира и морально-нравственное совершенствование человека, ибо «знанием дел человеческих является то, которое знает свет благоразумия, красоту умеренности, силу мужества, святость справедливости» (Contr. acad. Ι, 7, 7, 20). На второй - и главной - ступени Августину приходится перейти в область религиозно-эстетического познания и заменить философскую терминологию на эстетическую. Философский агностицизм поздней античности рано привел Августина к убеждению, что «высший Бог... лучше познается незнанием» (scitur melius nesciendo) (De ord. II, 16, 44), т. е. показал ему ограниченность дискурсивного мышления и направил в сферу иррационального опыта, что привело в свою очередь к эстетизации процесса познания, которой подверглась также и первая его ступень.
Интересными в этом плане представляются нам наблюдения над соотношением чувственного и духовного у раннего Августина. Он традиционно различает чувственное (sensibilia), или «телесное» (carnalia), познание и умственное (intelligibilia), или духовное (spiritualia) (De mag. 12, 39; ср.: Solil. I, 3, 8). В душе, соответственно, имеются две части, высшая из которых связана с умом, а низшая - с чувствами и памятью (De ord. Π, 2, 6). Чувством или чувственным восприятием, по определению Августина, является испытываемое телом состояние, не укрывающееся, однако, благодаря все тому же телу и от души (De quant. anim. 25, 48; 30, 58)
[490]. Чувственное познание мало интересует христианского мыслителя, и здесь он во многом разделяет плотинорские идеи. Оно выступает рабом интеллигибельного познания, на которое и устремляет все свое внимание Августин. Именно посредством разума (ratio) и знания, «которые несравненно превосходнее чувств», как полагает он, душа возвышается над телом (De quant. anim. 28, 54). Разум возносит человека над всем животным миром и предоставляет ему возможность общения с Богом.
Августин дает много определений разума, но, с точки зрения гносеологии, пожалуй, наиболее значимым является следующее: «Разум (ratio) есть взор души, которым она сама, без посредства тела, усматривает истинное; или он есть самое созерцание истинного без посредства тела; или он есть само истинное, которое созерцается» (De immort. anim. 6, 10). Это тройственное определение разума, как инструмента, процесса и объекта познания, показывает, что Августин понимает под разумом некую всеобъемлющую неизменную интеллигибельную сущность души, имеющую практически единственную функцию - гносеологическую. По отношению к уму разум предстает тем же, чем взгляд по отношению к глазам, т. е. познавательной, или умозрительной, способностью. Но если зрительное, как и любое чувственное, созерцание направлено во внешний мир и объект этого созерцания определен конкретным пространством и временем, то объект интеллигибельного познания заключен в самом познающем уме и не ограничен определенным местом (6, 10). Таким образом, чувственное познание направлено вовне (foris), а «умственное» (cognitio intellectualis) - внутрь (intus) субъекта познания
[491]. Отсюда более важным для Августина, как и для всего христианства, является познание не внешнего материального мира, но познание человеком самого себя, своего внутреннего мира. Ведь разум - это и само «истинное», заложенное Богом в человека. А следовательно, лучший путь поиска истины заключается в ответах самому себе на свои же вопросы (Solil. II, 7, 14), к чему часто и прибегает Августин. Его «Исповедь» представляет собой великолепный образец вдохновенного самопознания, самопостижения. Однако это самопознание принципиально отлично от психологически-субъективистской рефлексии человека Нового времени, хотя и является ее прообразом. Погружаясь в глубины своего внутреннего мира, августиновский субъект познания ищет там не оригинальные, неповторимые черты и стороны своей личности, но следы объективной истины. Погружаясь в себя, он должен преодолеть все индивидуальное, относящееся к его личной неповторимости; в самопогружении он должен «превзойти самого себя» и выйти к абсолютной, трансцендентной истине. Августиновский призыв: «Превзойди самого себя!» (Transcende teipsum - De vera relig. 39) - становится лейтмотивом его концепции самопознания.
Чувства, как правило, являются источником ложных суждений, ибо люди, обольщаемые внешним сходством, нередко принимают «истиноподобное» за истинное. Поэтому Августин предостерегает излишне доверять чувственному познанию даже в постижении внешнего мира (Solil. II, 6, 12). Лучший результат дает «разумное познание» (cognitio rationalis) (De Trin. XII, 25) внешнего мира, которое основывается как на данных чувственного познания, так и на опыте «умственного» познания
[492].
Чувственное восприятие располагается у Августина на одной из низших ступеней, по которым дух, постигая материю, поднимается к божеству. Он различает семь таких ступеней, или степеней (gradus), «могущества души». Первая ступень - «одушевление» (animatio), присущее растениям. Вторая - чувство (sensus), связанное с ощущением; иногда душа, отделившись от «чувства», произвольно перебирает полученные образы вещей, создавая сновидения, образы памяти; эта ступень соответствует животному миру (включая и человека). Остальные пять ступеней относятся только к душе человека. Третья - искусство (ars) - некая творческая потенция души, способствующая созданию всего запаса культурных достижений человечества: наук, искусств, государственного устройства и т. п. Эта ступень - общая для душ ученых и неученых, добрых и злых. Четвертая - добродетель (virtus): здесь берет начало доброта и все, достойное похвалы; душа начинает осознавать себя и отделять от всего телесного. Пятая - покой (tranquillitas): душа очищается, освобождается от тления и, уверившись в себе, устремляется к Богу, т. е. «к самому созерцанию истины». Шестая - вступление (ingressio): душа приступает к созерцанию истины, вступает в область божественного; и, наконец, седьмая - созерцание (contemplatio): высшее состояние души, когда она пребывает в видении и созерцании истины, достигая «виновника бытия, или высочайшего начала всех вещей».
Восходя последовательно, ступень за ступенью, от чувственного восприятия к созерцанию, душа достигает наконец единения с абсолютной истиной, обретая радость и «наслаждение высшим и истинным благом, дыханием его безмятежности и вечности». И наслаждение это неописуемо словами (De quant. anim. 33, 70 - 35, 79). Таким образом, последняя ступень (или «степень могущества») души близка к тому, что мы сегодня назвали бы эстетическим наслаждением, а в терминологии Августина именуется
блаженством. Она описывается им в эстетических терминах и фактически представляет собой непонятийную, неформализуемую ступень его гносеологии. Наслаждение, испытываемое душой на этой ступени,- результат обретения особого высшего знания, по сравнению с которым любое другое знание - ничто: «В созерцании истины, насколько каждый в состоянии ее созерцать в ее частях, такое наслаждение, такая неподдельность, такая несомненная Достоверность вещей, что каждый полагает, что, кроме этого, он никогда ничего не знал, хотя и казался самому себе знающим» (33, 76). Связав высшую ступень с эстетической сферой, Августин и всю лестницу познания осмысливает в эстетической терминологии, полагая, что всем ступеням присуща своя «определенная и своеобразная красота» (distincta et propria pulchritudo) (34, 78). Под этим углом зрения и семь ступеней могут быть последовательно обозначены так: «прекрасное из другого; прекрасное через другое; прекрасное относительно другого; прекрасное к прекрасному; прекрасное в прекрасном; прекрасное к красоте; прекрасное перед красотою» (35, 79)
[493]. Высшая истина и божество предстают здесь в облике красоты (pulchritudo), и познание сводится к постижению красоты. Отсюда понятно и наслаждение на седьмой ступени.
В другом раннем трактате у Августина намечается концепция иерархической передачи прекрасного от высших ступеней к низшим. «Внешний» вид, облик (species) любой ступени души отражает соответственно в той или иной мере высшую красоту: «Считается, что, по естественному порядку, вид, принятый от высочайшей красоты, слабейшим передают сильнейшие» (De immort. anim. 16). Таким образом, объект познания у Августина практически постоянно
[494] отождествляется с высшей, истинной красотой, а познание сводится к эстетическому созерцанию.
Сама проблема ratio рассматривается Августином в различных аспектах, среди которых интеллектуальный и эстетический преобладают и тесно переплетены между собой.
В собственно гносеологическом плане Августин, опираясь на цицероновскую традицию, различает разум (ratio) и умозаключение, или рассудочное суждение (ratiotinatio). Разум всегда присущ здравому уму, а умозаключение - не всегда, ибо «разум есть своего рода взгляд ума, а умозаключение - разумное исследование, т. е. движение этого взгляда по всему подлежащему обозрению» (De quant. anim. 27, 53). Когда ум с помощью разума видит предмет, это называется знанием (scientia), если не видит, хотя и напрягает взор,- незнанием (27, 53). Разум является основой мыслительной деятельности человека, это «движение ума, способное разделять и объединять то, что подлежит изучению» (De ord. Π, 11, 30), т. е. разум прежде всего - основа дискурсивного мышления (ratiocinari). Но Августин не ограничивается этим и показывает, что разум лежит в основе всей сознательной или разумной деятельности человека. При этом он, ссылаясь на традицию, восходящую «к ученейшим мужам прошлого», различает два вида разумного: rationale и rationabile. Первый относится к субъекту и показывает, что субъект обладает разумом, который может быть использован в его деятельности. Второй вид означает свойство объекта, созданного с помощью разума; это нечто «разумно организованное». У раннего Августина этот термин удобнее всего переводить как «рациональное» или «целесообразное», имея в виду разумную организацию объекта
[495]. Так, бани или наша речь могут быть обозначены как целесообразные (rationabiles), а строители их или мы, говорящие, - как разумные (rationales). «Итак, разум от разумного души переходит в рациональное [объекта], т. е. в то, что делается или говорится» (П, 11, 31).
Августин различает три рода предметов, в которых обнаруживается рациональное. Во-первых,- в действиях, направленных к какой-либо цели, во-вторых,- в любых формах словесного выражения и, в-третьих, - в удовольствиях (in delectando). Первое связано с морально-нравственной стороной человеческого бытия, второе и третье - с широким кругом наук и искусств; при этом третий аспект подразумевает «блаженное созерцание» (II, 12, 35), наиболее последовательно связываемое Августином с высшими ступенями познания и с эстетической сферой. Поэтому, что характерно для всего стиля мышления раннего Августина, он переносит свои рассуждения в плоскость эстетического, хотя и понимает rationabile в более широком плане. Рациональное - это отражение в структуре вещи творческого разума, следы разума в чувственно воспринимаемых предметах. К таким предметам он относит, однако, лишь произведения людей, воспринимаемые зрением или слухом. Так, «когда мы видим что-либо образованным из взаимно соответствующих (congruentibus sibi) частей, мы не без основания говорим, что оно является рациональным (rationabiliter). Точно так же, слыша какое-нибудь стройное пение, мы без колебаний заявляем, что оно звучит целесообразно (rationabiliter sonat)» (Π, 11, 32)
[496]. Однако было бы смешным, считает Августин, сказать: «рационально пахнет», «имеет рациональный вкус» или «рациональную мягкость». Rationabile имеет отношение только к предметам зрительного и слухового восприятия и, более того, является источником удовольствия (voluptas), возникающего при таком восприятии. «Что касается предметов зрительного восприятия, то все, в чем наблюдается рациональное соответствие частей, обычно называется прекрасным. Относительно же звуковых предметов, когда мы находим созвучие рациональным и размеренное пение построенным разумно, то [возникающая] приятность (suavitas) называется уже своим собственным именем. Но ни о прекрасных вещах, пленяющих нас только цветом, ни о звонком и чистом звуке струны не принято говорить, что они рациональны. Остается, следовательно, сказать, что в наслаждении, доставляемом этими чувствами (зрением и слухом. -
В. Б.), мы признаем относящимся к разуму то, в чем проявляется некоторая размеренность и стройность (dimensio... atque modulatio)» (II, 11, 33).
Таким образом, рациональное в творениях рук человеческих сводится у Августина к чисто эстетическим характеристикам объекта - размеренности, стройности, соответствию частей, ориентированным на возбуждение чувства удовольствия, наслаждения у субъекта восприятия. Это понимание распространялось Августином на все виды искусства. В архитектуре ratio имеет связь с симметрией и пропорциональностью, в поэзии - с соразмерностью и т. п. Но не только формальные достоинства произведений искусства отражают в них Деятельность разума. В тех видах творчества, которые имеют не только гедонистическую ориентацию, но направлены и на воплощение какого-то содержания, смысла, рациональным (rationabile), по мнению Августина, в первую очередь является их содержательный компонент. Так, «когда пляшет актер пантомимы, то хотя различные движения его членов радуют глаз все той же размеренностью, однако если все его жесты представляются внимательным зрителям знаками тех или иных предметов, то его танец называется рациональным потому, что он хорошо означает и показывает нечто, без всякого отношения к доставляемому наслаждению чувств» (II, 11, 34).
Форма и содержание, по мнению Августина, должны соответствовать друг другу. Если изобразить Венеру крылатой, а Купидона одетым в плащ, то при всей размеренности и согласованности движений и целостности композиции зрелище будет оскорблять глаз. Ибо глаз передает информацию духу, который и осознает смысл изображенного, в данном случае - его нелепость. «Итак, одно - ощущение, другое - то, что получается посредством ощущения; красивое движение услаждает ощущение, а посредством ощущения красивый смысл движения услаждает дух». Подводя итог своим рассуждениям о рациональном в искусстве, Августин на примере поэзии показывает, что, хотя содержание в ней передается только с помощью формы, тем не менее мы с различных точек зрения хвалим размер и смысл «и не в одном и том же значении говорим: разумно звучит и разумно сказано».
Разум у Августина изобретатель всех наук и искусств, и rationabile составляет их основу, при этом, как было показано, в большой степени эстетическую. Посредством находящегося в людях rationale разум изобрел, в частности для передачи мыслей и чувств, слова, т. е. «некоторые служащие знаками звуки» (II, 12, 35). И в своей знаковой теории, как мы увидим далее (см. гл. IX), Августин сближает гносеологию и эстетику, что представляется вполне закономерным в системе его познания. В период поздней античности именно эстетическое сознание предоставляло ищущему разуму наиболее оптимальный выход из тупиков понятийного мышления.
В зрелый период с углублением Августина в христианство философско-эстетическая окраска его гносеологии постепенно сменяется на религиозную, в которой преобладающую роль продолжают играть эмоциональные моменты. Меняется понимание им ряда основных гносеологических проблем и категорий; складывается окончательное представление о главном и высшем объекте познания - Боге.
Идея Бога как высшего духовного начала с детства жила в душе Августина. В процессе его духовного развития менялись конкретные представления о Боге, но сама идея оставалась неколебимой. В бурных перипетиях жизни, в период юношеского горения чувств, буйства страстей и игры честолюбивых помыслов где-то в глубинах его души жила тоска по высокой духовности, жажда чистого и абсолютного духа. Она и гнала его по извилистым дорогам позднеантичной духовности в поисках абсолютной истины.
Мы помним, что неоплатонизм помог Августину отказаться от чувственных представлений о божестве, а символически-аллегорический подход Амвросия к ветхозаветным текстам показал ему путь к духовному пониманию библейского Бога. Развитие понятия Бога продолжалось на протяжении всей его духовной деятельности. Отметим некоторые характерные моменты эволюции этого главного понятия августиновской философии.
На раннем этапе литературной деятельности у Августина преобладал философский подход к проблеме Бога, опиравшийся прежде всего на идеи Плотина и Цицерона, хотя и прилагаемый к христианскому Богу. В «Монологах» Бог выступает «отцом истины, отцом мудрости, отцом истинной и высшей жизни, отцом блаженства, отцом добра и красоты, отцом интеллигибельного света» (Solil. I, 1, 2). «Бог, по Августину, есть блаженство, в котором и чрез которое блаженно все, что блаженно. Бог - добро и красота, в котором, от которого и чрез которого добро и прекрасно все, что только добро и прекрасно. Бог - умный свет, в котором, от которого и чрез которого разумно сияет все, что сияет разумом» (I, 1, 3). Удалиться от Бога - значит умереть, а обитать в нем - жить. Это «единый Бог, единая вечная истинная сущность, где нет никакого различия, никакого смешения, никакого перемещения, никакого недостатка, никакой смерти; где - высшее согласие, высшая очевидность, высшее постоянство, высшая полнота, высшая жизнь» (I, 1. 4). Абсолютно неизменная и постоянная сущность Бога стремится привести к этому состоянию (ибо в нем истина и блаженство) и весь подвижный и изменчивый мир явлений. Постоянным круговращением веков Бог придает ему «подобие неподвижности» (I, 1, 4). Бог является «безначальным началом» всех вещей (De ord, Π, 5, 16) и «высшей мерой» всего существующего (De beat. vit. 4, 34); он - причина всего существующего, «всякого соответствия и согласия» (De mus. VI, 8, 20), высшая истина и единство, абсолютная неописуемая красота (De ord. Π, 19, 51) и т. п.
Этот философский трансцендентализм в понимании Бога, восходящий к неоплатоникам
[497], сохранится у Августина и в дальнейшем. Однако уже в ранних его трактатах начинают звучать и новые ноты в определении Бога, присущие только христианству, - это ощущение Бога как личности, в чем-то очень близкой и родственной человеку, с которой можно поговорить по душам, перед которой можно излить все свои горести, сомнения, рассказать о своих сокровенных помыслах и быть уверенным, что тебя услышат, поймут, пожалеют и простят. Особой силы звучания эта интимно-личностная сторона Бога достигает в «Исповеди», этом откровенном разговоре души с Богом.
Вот один из типичных примеров обращения Августина к своему высокому собеседнику: «Разве это не великое несчастие не любить Тебя? Горе мне! Скажи мне по милосердию Твоему, Господи. Боже Мой, что Ты для меня? «Скажи душе моей: я - спасение твое». Скажи так, чтобы я услышал. Вот уши сердца моего пред Тобой, Господи: открой их и скажи душе моей: «Я спасение твое» (Пс 101. 28). Я побегу на этот голос и застигну Тебя. Не скрывай от меня лица Твоего: умру я, не умру, но пусть увижу его.
Тесна храмина души моей, чтобы Тебе войти туда: но Ты расширь ее. Вся она - в развалинах: но Ты восстанови и обнови ее. Знаю и сознаюсь, что много в ней нечистот, которые могут оскорбить Твой взор; но кто очистит ее? ...Позволь все-таки говорить: к милосердию Твоему, не к человеку, который осмеет меня, обращаюсь я. Может быть, и Ты посмеешься надо мной, но, обратившись ко мне, пожалеешь меня» (Conf. I, 5, 5 - 6, 7). Бог, способный пожалеть обездоленного горемыку,- это, конечно, новый мотив в духовной культуре, чуждый античным философским представлениям о Боге.
В «Исповеди» Августин продолжает сознательно развивать и образ абсолютного Бога, как предел всех мыслимых идеалов; Творца всего и Вседержителя, вмещающего в себя и все человеческое, даже «слишком человеческое»: «Высочайший, Благостнейший, Могущественнейший, Всемогущий, Милосерднейший и Справедливейший; самый Далекий и самый Близкий, Прекраснейший и Сильнейший, Недвижный и Непостижимый; Неизменный, Изменяющий все, вечно юный и вечно старый, Ты обновляешь все и старишь гордых, а они того и не ведают; вечно в действии, вечно в покое, собираешь и не нуждаешься, несешь, наполняешь и покрываешь; творишь, питаешь и совершенствуешь; ищешь, хотя у Тебя есть все. Ты любишь и не волнуешься; ревнуешь и не тревожишься; раскаиваешься и не грустишь; гневаешься и остаешься спокоен; меняешь Свои труды, и не меняешь совета; подбираешь то, что находишь, и никогда не теряешь; никогда не нуждаешься и радуешься прибыли; никогда не бываешь скуп и требуешь лихвы. Тебе дается с избытком, чтобы Ты был в долгу, но есть ли у кого что-нибудь, что не Твое?» (I, 4, 4). «Ты создаешь нас, Господи, Ты, для которого нет разницы между бытием и жизнью, ибо Ты есть совершенное Бытие и совершенная Жизнь. Ты совершенен, и Ты не изменяешься: у Тебя не проходит сегодняшний день, и, однако, он у Тебя проходит, потому что у Тебя все; ничто не могло бы пройти, если бы Ты не содержал всего. И так как «годы Твои не иссякают» (Пс 101, 28), то годы Твои - сегодняшний день. Сколько наших дней и дней отцов наших прошло через Твое сегодня» (I, 6, 10).
Августин дает сложный, внутренне антиномичный образ Бога, который одновременно предельно недосягаем и абсолютен и, с другой стороны, максимально близок миру, присущ ему, пронизывает его во всем, постоянно печется и заботится о каждой его мелочи, и прежде всего, конечно, о спасении грешного человечества, удалившегося от своего Творца, забывшего его. Стремление объединить в Боге все идеальное, предельно духовное и возвышенное с чем-то очень человечным, интимным, до слез родным и близким побуждает Августина и глубинную сущность Бога писать земными красками: «Что же, любя Тебя, люблю я? Не телесную красоту, не временную прелесть, не сияние вот этого света, столь милого для глаз, не сладкие мелодии всяких песен, не благоухание цветов, мазей и курений, не манну и мед, не члены, приятные земным объятиям,- не это люблю я, любя Бога моего. И, однако, я люблю некий свет и некий голос, некий аромат и некую пищу и некие объятия - когда люблю Бога моего; это свет, голос, аромат, пища, объятия внутреннего моего человека - там, где душе моей сияет свет, который не ограничен пространством, где звучит голос, который время не заставит умолкнуть, где разлит аромат, который не развеет ветром, где пища не теряет вкуса при сытости, где объятия не размыкаются от пресыщения. Вот что люблю я, любя Бога моего» (X, 6, 8). Христианство уже до Августина нашло определенное разрешение проблемы трансцендентальности и имманентности Бога в образе Христа и в идее триединства Бога, и Августин с «Исповеди» начинает все более последовательно обращаться к христологическому и тринитарному вопросам.
На долю Христа выпало реализовать приобщение грешного человечества к вечной жизни, спасение его, и Августин остро переживает этот важнейший мистический акт религиозной истории: «Сюда спустилась сама Жизнь наша и унесла смерть нашу и поразила ее избытком жизни своей. Прогремел зов Его, чтобы мы вернулись отсюда к Нему, в тайное святилище, откуда Он пришел к нам, войдя сначала в девственное чрево, где с Ним сочеталась человеческая природа, смертная плоть, дабы не остаться ей навсегда смертной, и «откуда Он вышел, как супруг из брачного чертога своего, радуясь, как исполин, пробежать поприще» (Пс 18, 6). Он не медлил, а устремился к нам, крича словами, делами, смертью, жизнью, сошествием, восшествием,- крича нам вернуться к Нему. Он ушел с глаз наших, чтобы мы вернулись в сердце наше и нашли бы Его. Он ушел, и вот Он здесь; не пожелал долго быть с нами и не оставил нас. Он ушел туда, откуда никогда не уходил, ибо «мир создан Им» и «Он был в мире» (Ин 1, 10) и «пришел в этот мир спасти грешников» (1 Тим 1, 15) (IV, 11, 19).
На спасение мира было направлено творческое начало Бога - его «вечно пребывающее в безмолвии Слово», которое является «вечным разумом» и началом всего, главной истиной и Учителем. Оно «совечно Богу» и бессмертно. Этим Словом все вызывается из небытия к бытию, им сотворен мир. Именно Слово воплотилось и благовествует нам в Евангелиях, т. е. стало доступным для чувственного восприятия людей (XI, 6, 8-8, 10). Августин хорошо сознает, что только «воплотившийся» Бог становится действительно доступен людям, ибо, пишет он, на чисто духовную «пищу» даже у него не хватало сил, но Христос «смешал ее с плотью, ибо «Слово стало плотью» (Ин 1, 14), дабы мудрость Твоя, которой Ты создал все, для нас, младенцев, могла превратиться в молоко» (VII, 18, 24).
Иисус Христос, неоднократно отмечает Августин, со ссылкой на ап. Павла (1 Тим 2, 5), потому и был истинным и единственным посредником между Богом и людьми, что имел «нечто подобное Богу и нечто подобное людям». Он - праведен как Бог и своей праведностью умертвил смерть и, одновременно, - смертен как люди (X, 43, 68). Более того, Христос явился среди грешных и подверженных смерти людей в «зраке раба», смиренным и униженным. Беспредельную возвышенность Бога он объединил в себе с глубочайшим смирением (humilitas) и полным уничижением (infirmitas). Долго не понимал Августин смысла и значение этого удивительного и почти непостигаемого для греко-римского мышления поступка Бога: «Я, сам не смиренный, не мог принять смиренного Иисуса, Господа моего, и не понимал, чему учит нас Его уничиженность. Он, Слово Твое, Вечная Истина, высшее всех высших Твоих созданий, поднимает до Себя покорных; на низшей ступени творения построил Он себе смиренное жилище из нашей грязи, чтобы тех, кого должно покорить, оторвать от них самих и переправить к Себе, излечить их надменность, вскормить в них любовь; пусть не отходят дальше в своей самоуверенности, а почувствуют лучше свою немощь, видя у ног своих Божество, немощное от принятия кожной одежды нашей; пусть, устав, падут ниц перед Ним, Он же, восстав, поднимет их» (VII, 18, 24). Глубины уничижения, таким образом, потребовались Богу для более тесного и полного контакта с людьми. При этом «образ раба» (forma servi) (Флп 2, 7) отнюдь не умалил в нем «образа Бога» (forma Dei) (Enchirid. 35), но способствовал тому, что Христос взял на себя всю вину и весь грех и искупил их своей позорной смертью на кресте (Enchirid. 49 - 50; De civ. Dei X, 24). Именно в силу этого «образа раба» Христос и мог стать истинным посредником
[498], совмещая в себе одновременно и жертву, и священника, приносящего эту жертву Себе самому (De civ. Dei X, 6). Для верующих он является и целью - как Бог, и путем к этой цели - как человек (Conf. XI, 2).
В своих главных работах зрелого периода, письмах и проповедях Августин много внимания уделял тринитарной проблеме. Все последние тридцать лет жизни он размышлял над этим вопросом, что нашло отражение практически во всех его основных трудах того времени, и прежде всего в специальном фундаментальном исследовании «О Троице», над которым он работал не менее двадцати лет. Находясь долгое время под сильным влиянием плотиновских идей о Едином и о начальной Триаде
[499], Августин последовательно стремился объединить их с библейским понятием личностного Бога. Особенно тяжело давалось ему христианское представление об одновременном единстве и троичности простого и неделимого Бога. Верность античной логике долго не позволяла ему принять эту антиномию в ее принципиально противоречивой данности. Чтобы убедить самого себя в ее истинности. гиппонский мыслитель всесторонне изучил под этим углом зрения Св. Писание и сотворенный мир, и особенно внимательно - внутренний мир человека, его духовную сферу. На многих страницах «De Trinitate» он приводит цитаты из Библии, часто не очень убедительные, в доказательство триединства Бога (кн. I-IV), затем подробно исследует догматическую формулу триединства (кн. V-VII) и, наконец, весь материальный и особенно духовный мир представляет в виде бесконечной совокупности триединств, являющихся, по его мнению, наглядными образами и неопровержимым доказательством изначального триединства Первопричины (кн. VIII-XV).
Духовный мир человека в силу его духовности значительно ближе стоит к Богу, чем материальный, и является поэтому близким (более похожим) образом божественной Троицы. Путем длинных, порой достаточно утомительных объяснений Августин стремится представить все процессы человеческой психики (восприятие, познание, мышление и т. п.) состоящими из трехчленов, объединенных некоторым внутренним единством. В акте любви: любящий, любимое и любовь; в человеческом духе: дух, самопознание и самолюбовь; память, понимание и воля; в акте зрительного восприятия: объект зрения, само видение и внимание души; в акте представления: память, внутреннее видение и воля; в способности человеческого духа: помнить, созерцать и любить Бога - во всех этих и им подобных триединствах
[500] усматривает Августин следы и образы божественной Троицы, стремясь убедить и себя, и своих читателей в том, «что Отец, Сын и Св. Дух - один Бог, творец и управитель созданного мира, что Отец - не Сын, и что Св. Дух - не Отец и не Сын, и что это - Троица соотносимых друг с другом лиц и единство равной сущности» (De Trin. IX, 11).
Отмечая в «Исповеди», что быть, знать и желать (esse, nosse, velle) в человеке являют собой некое подобие Троицы, он подчеркивает, что этот образ все же очень далек от оригинала, который не может быть постигнут разумом: «Троичен ли Бог по причине этих трех свойств, или в каждом Лице имеются эти три свойства, так что троично каждое Лицо, или, в том и другом случае, Троица, дивным образом простая и многообразная, закончена в Себе и бесконечна, и потому Она и есть и знает Себя и неизменно полна в обилии и величии своего единства? Кому это легко понять? Как рассказать? Кто осмелится объяснить каким бы то ни было образом эту тайну? (Conf. XIII, 11, 12). Сам Августин очень желает все же хоть как-то понять это (не зря же nosse и velle составляют для него основу человеческой жизни); но ох как трудно постигать умонепостигаемое! Мысль о том, что божественное триединство, христианская Троица - одновременно «неслиянна и нераздельна) (neque confusam, neque separatam) (De Gen. ad lit. VIII, 19, 38), долго усваивается гиппонским приверженцем античной мудрости и требует от него длинных объяснений и многочисленных примеров - аналогий
[501].
Неугомонный разум христианского философа не дает покоя его религиозной вере и требует постоянных объяснений и доказательств, которые принципиально чужды вере. Одна из окончательных формул Бога сводится у Августина к следующему: «Троица - это единый Бог, из которого все, чрез которого все, в котором все (Rm. 11, 36), это Отец и Сын и Дух Святой - каждый в отдельности Бог и все вместе - единый Бог; каждый в отдельности полная сущность и все вместе - единая сущность. Отец не есть ни Сын, ни Дух Святой; Сын не есть ни Отец, ни Дух Святой; Дух Святой не есть ни Отец, ни Сын; но Отец есть только Отец, и Сын - только Сын, и Дух Святой - только Дух Святой. Все три равным образом есть вечность, есть неизменяемость, есть величие, есть сила. В Отце - единство, в Сыне - равенство, в Святом Духе - согласие единства и равенства (unitatis aequalitatisque concordia); и эти три - все едины благодаря Отцу, все равны благодаря Сыну, все соединены благодаря Св. Духу» (De doctr. chr. I, 5, 6). Это, конечно, формула умонепостигаемого (т. е. описываемого на формально-логическом уровне) божества, но составлена она (как и многие другие у Августина) все-таки с ориентацией на разум, на предельно возможное в рамках антиномизма понимание ее сути человеком. Крайний алогизм и предельный иррационализм веры, так рельефно продемонстрированные на латинской почве еще Тертуллианом, остались чужды гиппонскому мыслителю. Однако и он должен был выйти далеко за пределы ratio, чтобы утвердить окончательную истину: эта предельно простая, но умонепостигаемая Троица обитает внутри каждого человека. «Ты же был во мне глубже глубин моих и выше вершин моих» (interior intimo meo et superior summo meo) (Conf. III, 6, 11).
Узрение внутри себя Бога побудило Августина особенно пристально вслушиваться в еле уловимые движения души, в труднодоступные для наблюдения процессы внутренней жизни человека. В дальнейшем мы еще не раз будем иметь случай использовать результаты этих наблюдений, ибо они оказались значимы как для августиновской гносеологии, так и для его эстетики. Здесь имеет смысл остановиться только на одном доказательстве бытия Божия Августином, отличном, как отметил еще И. В. Попов, от традиционных в раннем христианстве доказательств и имеющем прямое отношение к эстетике. Красота и целесообразность мира заставляют его думать не только о причине этой красоты (что можно наблюдать у большинства философов и церковных писателей), но дают своеобразный ход его мыслям. «Красота и разумность природы, - писал И. В. Попов, - служит для него лишь поводом обратиться к своему внутреннему миру, чтобы в нем узреть Бога. Одобряя одни вещи и порицая другие, мы производим их оценку. Это обстоятельство побуждает нас подумать, на чем основана эта оценка. Углубляясь с этой целью в область своего мышления, мы находим, что колеблющаяся и изменяемая деятельность нашего ума в оценке вещей опирается на неизменяемые и вечные принципы. Эти последние и есть та Божественная Истина, бытие которой нужно было доказать»
[502].
Определяя так сложно и так многоразлично главный объект религиозного ведения, Августин вносит в зрелый период и существенные дополнения, и изменения в свою теорию познания.
Прежде всего, происходит постепенная трансформация представлений Августина о мудрости.
Если на раннем этапе у него преобладало философское понимание человеческой мудрости, сводящееся к «поиску истины, в которой достигается блаженная жизнь» (Contr. acad. I, 9, 24), или к самой «истине, в которой познается и постигается высшее благо» (De lib. arb. Π, 9, 26), то с началом его церковной деятельности на первый план выступают новые, религиозно-библейские аспекты мудрости, ориентированные уже не на знание и разум, но на иррациональные уровни человеческого духа. Не вдаваясь в подробности, тщательно исследованные в специальной литературе, и в частности в цитированной работе В. Штейна, отметим, что теперь в своем понимании мудрости Августин все больше использует ветхозаветные представления, не отказываясь при этом от гносеологических идей греко-римской античности. Мудрость понимается им как «страх Божий» (timor Dei)
[503], как «благочестие» (pietas) (Conf. V, 5, 8; VIII, 1, 2; Aduct. in Job 5; Enchirid. 2), как «богопочитание» (cultus Dei) (De Trin. XIV, 1, 1; Ep. 155, 5). Cultus Dei включает в себя познание Бога и любовь к нему (Ennar. in Ps. 135, 8; De Trin. XIV, 12, 15). Любовь к Богу (caritas Dei, amor Dei) становится главнейшим признаком мудрости. Мудрец - это прежде всего amator Dei, человек, посвятивший всего себя Богу. «Умереть для этого мира» ради высокой любви к идеалу становится важной препосылкой мудрости (Ер. 10, 3). Любовь же к Богу неразрывно связана с «подражанием» ему (imitatio Dei) (De util. cred. 15, 33), т. е. с определенным образом жизни, ведущим к достижению мудрости, усматриваемой Августином в «созерцании вечных вещей» (contemplatio aeternorum) (De Trin. XII, 14, 22; 15, 25; XV 3,5). Мудрость, таким образом, переносится постепенно Августином из философской сферы в религиозную, где главными ее атрибутами становятся этически-эстетические принципы -
почитание, любовь, подражание, созерцание. По-новому осмысливаются им теперь и семь ступеней подъема к высшей мудрости (De doctr. chr. II, 7, 9 - 11).
Первой ступенью в соответствии с известной библейской мыслью (Пс 110, 10) Августин полагает страх Божий, который возбуждает в людях мысли о смерти, смиряет их гордость. Второй ступенью выступает благочестие (pietas), прививающее людям кротость и побуждающее их верить учению Писания. Третья ступень - знание (scientia), основу которого составляет изучение библейских текстов, прежде всего на предмет изыскания в них и усвоения двух главных заповедей: любви к Богу ради самого Бога и любви к ближнему ради Бога.
Любить Бога следует всем сердцем, всей душой, всем разумом; а ближнего - как самого себя, т. е. таким образом, чтобы эта любовь, как и любовь к самому себе, вела к Богу, а не являлась самоцелью.
Страх, принятый на первой ступени, располагает человека к скорби и слезам, и, чтобы не впасть в отчаяние, он путем молитв с божественной помощью стремится достичь четвертой ступени - силы (fortitudo), которая наполняет его жаждой праведности. В этом расположении духа он отрешается от смертоносного наслаждения преходящими чувственными благами и обращает всю любовь свою на блага вечные, т. е. к «неизменяемому единству в Троице».
Троица предстает верующему неким дальним лучезарным сиянием, и человек начинает ощущать, что по слабости своего зрения он не в состоянии объять этот свет во всей его полноте. Он стремится очистить свою душу, еще обуреваемую чувственными помыслами, и достигает этого на пятой ступени, в
совете милосердия (consilium miserocordiae). Здесь его любовь к ближнему достигает такой силы, что он обретает способность любить своего врага. Духовные совершенства его настолько возрастают, что он поднимается на шестую ступень -
чистоты сердца (purgatio cordis), где очищается его внутреннее зрение и он обретает способность видеть Бога в той мере, которая доступна всем, порвавшим с земным миром, т. е. с обыденными заботами земного бывания; ибо «Бога можно видеть... постольку, поскольку мы умираем для этого мира, и нельзя видеть постольку, поскольку мы живы для этого мира. И поэтому [по мере удаления от мира] видение того света (сияния) начинает казаться более знакомым, и не только более терпимым, но и более приятным». Но и на этой ступени божественный свет усматривается как бы сквозь темное стекло, ибо полное видение недоступно жителям этого мира. На шестой ступени искатель мудрости так очищает свое внутреннее око, что выше всего (даже выше своего ближнего и, соответственно, себя самого) начинает
любить истину. В этом состоянии его можно уже считать святым, ибо он не уклоняется от истины ни ради угождения людям, ни из желания избежать невзгод земной жизни. Только такой человек достигает высшей, седьмой, ступени - самой
мудрости, которой он наслаждается в мире и покое
[504].
Эти семь ступеней, как мы видим, существенно отличаются от «лестницы», описанной в трактате «О количестве души». Если там главный акцент делался на эстетически-гносеологическом характере духовного совершенствования (по ступеням прекрасного), то здесь - на нравственно-религиозном. Однако сущность восхождения к высшей мудрости остается в принципе той же. Основу ее составляет достижение абсолютной истины, притом достижение, как и там, отнюдь не на путях разума и философского мышления, но внутри особым образом организованной экзистенции, где главное значение имеют моральная и духовная чистота и любовь
[505]. Эти с древних времен важнейшие понятия человеческой культуры заняли теперь видное место в августиновском мировоззрении и прежде всего в его теории познания.
Процесс познания представляется Августину состоящим в целом из трех этапов: 1. Чувственное познание; 2. Разумное (рациональное) познание и 3. Сверхразумное постижение
[506]. Объект познания при этом складывается из двух частей: тварного мира во всей его полноте и его Первопричины, творца и управителя - Бога. Чувственное познание (подробнее на нем мы остановимся в гл. X) имеет отношение только к сотворенному миру, сверхразумное постижение - в основном только к Богу, а рациональное познание - как к миру, так и к Богу.
На раннем этапе духовного развития Августин, как мы помним, был твердо уверен, что путь к постижению Бога лежит через познание мира, т. е. основывается на усвоении совокупного опыта всех наук. В гиппонский период он убеждается, что светские науки, особенно естественного цикла, мало способствуют религиозному познанию. Соответственно и познание «физического» мира излишне для человека веры. Ему «нет надобности исследовать природу вещей, наподобие тех, кого греки называют физиками» (Enchirid. 9; ср.: Ер. 147). На основании такого рода высказываний некоторые исследователи склонны считать, что у Августина познание мира и познание Бога - пути диаметрально противоположные
[507]. Однако с этим вряд ли можно согласиться. При всей своей высокой духовности Августин был все-таки слишком сильно привязан к миру, в котором он видел великолепное произведение божественного Художника. Поэтому он был просто не в силах противопоставить путь познания произведения познанию самого художника или оставить без внимания это совершеннейшее произведение.
Конечно, рядовому христианину можно и не вникать в тонкости физики или медицины. С него достаточно и простой веры в Бога. Более того, как мы видели, мудрец должен умереть для мира, но «умереть» - в смысле отказаться от суетных влечений, забот и потребностей мира, но не от его разумного постижения и усмотрения в нем Первопричины. «Ведь не может быть познания, - пишет Августин в одном из своих главных трактатов позднего периода (явно не без платоновского влияния), - если ему не предшествует познаваемое, которое существует в Слове, которым все сотворено прежде, чем во всем том, что имеет быть. Поэтому человеческий ум сначала исследует с помощью телесных чувств то, что существует (facta sunt), и составляет о нем представление в соответствии с человеческой слабостью; а потом отыскивает его причины, если только в состоянии дойти до них, первоначально и неизменно пребывающие в Слове Божием, и таким образом видит разумом невидимое в том, что имеет бытие» (De Gen. ad lit. IV, 32, 49). Здесь Августин руководствуется известной мыслью ап. Павла: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим 1, 20). На эту же мысль Павла Августин ссылается и в другом месте: «Апостол сказал, что мы приходим к постижению невидимого присутствия Творца чрез созерцание всего видимого нами в творении» (De spirit. et lit. 2, 12).
Отказываться от познания тех или иных явлений физического мира иногда приходится не из-за бесполезности такого познания, но исключительно в связи с его большой трудностью. И здесь мы сталкиваемся с интересным парадоксом религиозной гносеологии. Бог, как духовная сущность, оказывается нам более близким, чем многое в материальном мире, ибо по причине своей материальности это «многое» слишком удалено от нашего ума, очень «несходно» с ним. А еще в античной гносеологии общим местом было утверждение, что «сходное познается сходным». Многие же явления материального мира оказываются недоступными нашему восприятию, и для нас закрыто познание их в идеях Бога. «Отсюда происходит, что постижение [созданных вещей] труднее, чем Того, от кого они имеют бытие, хотя чувствовать благочестивым умом Его присутствие в самой малейшей частице бесконечно блаженнее, чем познать всю вселенную. <...> Ибо основания земли неизвестны для глаз наших, а основавший землю близок нашему духу» (De Gen. ad lit. V, 16, 34). Поэтому у Августина, как практически и во всей патристике, возникает двойственное отношение к познанию мира. С одной стороны, мир греховен, и надо бежать его и всех его соблазнов; он трудно познаваем и далек от Бога, так что вроде бы нет смысла в трудах по его постижению. С другой же - он творение Бога, плод его мудрости и организован по законам этой мудрости, познав которые можно приблизиться и к познанию самого Творца. Мысль Августина постоянно колеблется между этими крайностями, не отлетая слишком далеко в мир трансцендентных абстракций, но и не увязая в трясине бытовых мелочей. В частности, он регулярно обращается к наблюдениям за окружающей действительностью и делает нередко интересные обобщающие выводы
[508].
Так, к примеру, рассматривая законы логического мышления, он приходит к заключению, что они вытекают из закономерностей развития природы: «Сама же истина соединения [мыслей] не изобретена людьми, но только подмечена и воспринята ими для того, чтобы с ее помощью можно было учить и учиться; [сама] же она заложена в вечной идее (ratione) вещей и установлена Богом» (De doctr. chr. II, 32, 50). Так же и математические законы не установлены людьми, но только найдены ими как существующие объективно независимо от человеческой воли (II, 38, 56). Истина не создается мыслью человека. Она существует объективно, в частности в законах, по которым организован материальный мир. Разум человека только находит эту истину в мире. При этом разобраться в истинности найденных законов ему помогает «свет истины», заложенный в его «внутреннем человеке» самим Богом (ср.: In Ioan. 3, 15). Сомнения, возникающие в человеке при суждении о том или ином предмете, и являются, по мнению Августина, важным указателем нахождения критерия истинности внутри него самого: «всякий, кто сознает себя сомневающимся, сознает истинное и уверен в том, что в данном случае сознает: следовательно, уверен в истинном. Отсюда всякий, кто сомневается в существовании истины, в самом себе имеет нечто истинное, на основании чего он не должен сомневаться; ибо истинное бывает истинным не иначе, как от истины. Итак, тот не должен сомневаться относительно истины, кто почему бы то ни было мог сомневаться. Там, где видим мы это, действует свет, не ограниченный пространством и временем и свободный от любых подобных призраков» (De vera relig. 39, 74).
Эмпирический способ познания мира - лишь один из путей приобретения знаний. Помимо него человек может получить их от других людей (обучением), из глубин своей памяти и непосредственно от Бога (Conf. I, 6, 9). В последнем случае знания являются наиболее истинными, если человек оказывается в состоянии их воспринять.
Августин различает познание вещи в ней самой и ее познание в вечной Истине. Идеальным является второе (De Trin. IX, 6, 11). Оно осуществимо только с помощью божественной благодати. Полученные таким образом от вечной Истины знания содержатся внутри нас в виде некоего «внутреннего слова», которое лежит в основе любого произнесенного слова и в основе любого действия (IX, 7, 13).
Здесь нет смысла останавливаться на всех моментах сложной гносеологии Августина. Этому вопросу посвящено много специальных работ
[509]. Для нас важно, что Августин видел всю сложность этой проблемы и понимал, что познание как мира, так и его Первопричины осуществляется далеко не только на путях дискурсивного мышления. Практически все самые сложные компоненты человеческого духа участвуют в этом важнейшем духовном процессе. При этом информация приобретается не только в словесной форме, а, как правило, вообще не связана с ней. Слова - лишь один из классов знаков (см. подробнее гл. IX) для обозначения «внутреннего слова», которое у Августина выступает отнюдь не подобным словам нашего языка, но скорее некоторым
образом. Знания, и особенно глубинные, априорные, содержатся внутри нас, полагает Августин, не в словесной форме, но в особых
образах, для которых далеко не всегда удается подобрать адекватное словесное выражение. Как правило, в непонятийной форме приходит к людям и божественное знание. Поэтому Августин вынужден в своей теории познания постоянно обращаться к непонятийным и чаще всего к эмоционально-эстетическим элементам.
В частности, важную роль в процессе выяснения истинности, адекватности и возможности усвоения знания играет у Августина античное понятие подобия, сходства, ибо сопоставление образов возможно прежде всего по этому принципу. Отсюда становится ясным, почему «подобное познается подобным». Ведь при отсутствии какой-либо степени конгруэнтности между объектом и субъектом познания отсутствует и возможность образной коммуникации, т. е. возникновения знания. «Каждое знание,- утверждает Августин,- по сути подобно (similis) предмету, который оно знает». Процесс познания в какой-то мере отождествляется с процессом уподобления. Так, душа наша по Мере постижения Бога становится подобной ему. Но это подобие никогда не достигает полного совпадения, равенства, так как человек Никогда не может познать Бога, как Бог знает себя. При познании Бога мы становимся лучше, чем были до того, особенно если это знание нам нравится. Внутри нас возникает «подобие Бога», которое и возвышает нас. Подобие это, естественно, ниже Бога, так как оно проявилось в более низкой природе. Когда же мы с помощью органов чувств познаем предметы материального мира или вспоминаем о них, то в нашей душе также возникают «подобные» образы, которые являются отображением реальных вещей. В силу того, что они реализуются в душе и их природа более высока, чем сами предметы, эти образы лучше самих предметов. Наконец, возможен случай, когда дух наш познает самого себя, т. е. имеет дело с природой не низшей и не высшей себя. «А если знание имеет подобие с той вещью, которую знает, т. е. чьим знанием оно является, то при таком [знании], когда познающий ум знает себя самого, подобие становится совершенным равенством», а знание - образом и словом (IX, 11, 16). Сходство или подобие образов становится теперь важным критерием истинности знания.
Видное место в теории познания Августина занимает, как мы уже указывали, понятие любви (caritas, amor, dilectio)
[510].
Задаваясь вопросом, что движет человеком, когда он стремится к познанию того, что он еще совершенно не знает, Августин приходит к выводу, что таким двигателем выступает любовь к знанию и к той действительности, которую он стремится познать. Конечно, он ее еще совершенно не знает, а любить неизвестное невозможно. Возникает же эта любовь на основе знания других предметов и любви к ним и, главное,- знания «красоты знания», которое живет практически в каждом разумном человеке (X, 1, 1-3). О силе любви к знанию говорит Августин и в другом месте: «А как велика любовь к знанию и насколько природа человеческая не желает обманываться, можно понять из того, что всякий охотнее желает горевать, владея здравым умом, чем радоваться в состоянии помешательства» (De civ. Dei XI. 27).
В целом понятие любви у Августина, как и вообще в патристике, достаточно далеко выходит за рамки собственно гносеологии и традиционно составляет основу христианской этики, но если вспомнить, что христианство выдвигает главной целью человеческой жизни вечное блаженство (см. гл. II), которое есть не что иное, как постижение, познание высшего блага или Первопричины, а любовь выполняет главные функции на пути к этой цели, являясь основой самого блаженства, то вряд ли будет так уж неуместно рассматривать эту категорию в гносеологическом контексте.
Раннее христианство, как и Августин, в определенном смысле его завершитель, видит новое отношение к миру и новое мировоззрение пронизанными идеей любви. Толкуя слова псалма: «Воспойте Господу песнь новую» (Пс 95, 1), Августин указывает, что эту песнь петь можно молча, ибо она есть любовь: «...любовь сама есть голос к Богу: сама любовь есть новая песнь. Слушай, что есть новая песнь: Господь говорит: «Новую заповедь даю я вам, чтобы вы любили друг друга» [In. 13, 34] (Enar. in Ps. 95, 2). Есть два вида любви, разъясняет Августин в толковании на другой псалом, одна земная, нечистая, плотская, увлекающая человека ко всему преходящему, а в результате - в глубины ада. Другая - любовь святая, которая поднимает нас к высотам, воспламеняет жажду вечного, непреходящего, неумирающего. Она возвозит нас из глубин ада на небо. Каждая любовь обладает своей силой. Земная, как клей на крыльях, не позволяет летать. Надо очистить крылья от этого клея и взлететь с помощью двух заповедей: любви к Богу и любви к ближнему,- в небо, в обители горнего Иерусалима. В Песни Песней есть великолепные слова: «Сильна как смерть любовь», но любовь, полагает Августин, в некотором смысле сильнее смерти, так как она умерщвляет нас, грешных, и возрождает для новой жизни (Enar. in Ps. 121 praef.).
В предшествующей главе мы уже видели, что любят, по Августину, или для пользы, или ради удовольствия. Первая любовь - путь ко второй. Только бескорыстная любовь доставляет истинное наслаждение - к ней-то и должен стремиться человек в своей жизни. Две главные заповеди, утверждает Августин, составляют основу всего христианского закона: любовь к Богу и любовь к ближнему. Он многократно цитирует те места из Нового Завета, где сформулированы эти заповеди (см.: De Trin. VIII, 7, 10). «Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим»; сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф 22, 37-40). «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него» (1 Кор 8, 3). «Ибо весь закон в одном слове заключается: «люби ближнего твоего, как самого себя» (Гал 5, 14). «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал 6, 2). «Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога; и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога; кто не любит, тот не познал Бога; потому что Бог есть любовь... Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1 Ин 4, 7 - 8; 20). Именно эти новозаветные идеи убеждают Августина в том, что всеобъемлющая любовь должна составлять основу жизни и главный стимул познания мира и его Первопричины. Истинная любовь ведет к познанию Бога, а такой любовью, вторит Августин Новому Завету, «является то, что мы, держась истины, праведно живем и презираем все смертное, кроме любви к людям, в которой мы желаем, чтобы они вели праведную жизнь» (De Trin. VIII, 7, 10).
В другом месте он соединяет любовь к ближнему с состраданием: «... в чем бы ни выражалась наша деятельность среди людей, она Должна быть проникнута состраданием и самой искренней любовью» (De cat. rud. 17, 1). Любовь к людям у Августина не довлеет себе, она лишь путь к Богу, и он постоянно подчеркивает это. В период поздней античности человечество пришло к идее гуманизма практически в современном смысле этого слова
[511]. Однако совершенно бескорыстная любовь к человеку была еще не доступна и не понятна людям того сурового времени. Идея гуманизма была понята и принята, однако, далеко не всеми и не сразу (процесс этот длится уже многие столетия), да и то лишь как освященная божественным авторитетом, как путь к высокой духовной цели. Христианство призывает любить себя самого и своего ближнего, как самого себя. Но ведь человек изначально любил себя, да и некоторых из своих ближних. Однако это была любовь эгоистическая, корыстная, плотская, лишенная высокого духовного идеала, гуманизма. Августин классифицирует такую любовь как вожделение (cupiditas) и противопоставляет ей любовь духовную и добродетельную, любовь, имеющую возвышенную устремленность. «Любовью (caritas), - пишет он,- я называю стремление души наслаждаться Богом ради него самого, а собою и ближними - ради Бога; вожделением же - стремление души любить себя и ближнего, и всякий иной предмет не ради Бога. <...> Чем более разрушается царство вожделения, тем более укрепляется царство любви» (De doctr. chr. III, 10, 16). Вожделение - это любовь, направленная на тварный мир ради него самого, а чистая любовь (caritas) имеет своей конечной целью Творца (De Trin. IX, 8, 13).
В истории человеческой культуры настал момент, когда человек осознал себя настолько высоко, что мог почувствовать, что главным двигателем человеческих взаимоотношений должна стать любовь, и он начал активно внедрять эту идею в практику социальной жизни, что возможно только под эгидой божественного авторитета. Старые боги греко-римского пантеона не годились для этой цели. Нужен был новый бог, значительно более возвышенный и авторитетный, чем древние боги, и одновременно обладающий всеми эмоционально-психологическими характеристиками человека,- нужен был Богочеловек, который бескорыстно полюбил бы всей глубиной своего человеческого сердца ненавидящих его людей, погрязших в своих страстях и преступлениях; безвинно претерпел бы ради этих людей и от их рук страдания; пошел бы, наконец, ради любви к ним на позорную смерть от их же рук и этой любовью искупил бы их грех; нужен был Иисус Христос - материальное воплощение бескорыстной, духовной любви к людям, чтобы их черствые сердца возгорелись бы наконец этой любовью, почувствовали ее красоту и силу. Эта любовь, чтобы утвердиться в сердцах людей, должна была заполнить собой все существо человеческое, все сферы его практической жизни и духовной деятельности. Теория и практика многих раннехристианских деятелей была направлена на реализацию этой великой идеи, оставшейся на многие века мечтой и утопией человечества, пребывающего в постоянной вражде с самим собой. Социальная действительность поздней Римской империи никак, естественно, не могла способствовать развитию идеала всеобъемлющей любви. Августину, как и другим христианским идеологам, находившимся на службе у Империи, приходилось прилагать немало усилий, чтобы приспособить этот идеал к несовместимой с ним жестокой действительности. Чаще, однако, его приходилось оставлять в сферах чистой теории, собственно идеальной духовной жизни, уповая на его реализацию лишь в грядущем Царстве блаженной жизни. На уровне человеческого бытия христианская философия нередко ставила понятие любви значительно выше разума. У Августина эти две категории стоят, пожалуй, на одной, но самой высокой ступени, дополняя друг друга.
Разум, как известно с древнейших времен, был связан в представлениях философов (и Августин здесь не исключение) с умом, любви же отводилась сфера
сердца, под которой имели в виду не мыслящую, но «чувствующую» часть человеческого духа. Она никак не связана с органами чувств, но составляет как бы некие тайные глубины духа -
чрево духа. Сердце (сог) поэтому активно вводится Августином в его теорию познания, причем как главный орган богопознания. Ведение Бога возможно не разумом, но любящим сердцем (см. Ер. 147; In Ioan. ev. 74, 4). Для того, чтобы сердце было способным к постижению Творца всего, оно должно быть очищено. «Очищение сердца» (purgatio cordis) - первый этап на пути к абсолютному знанию
[512]. И. Ратцингер проследил эволюцию этого важного понятия в процессе духовного развития Августина
[513], в ранних трактатах которого оно носит ярко выраженный неоплатонический характер и, по сути дела, мало чем отличается от того духовно-душевного «очищения», которое греки называли катарсисом. У Августина под влиянием неоплатонизма это понятие глубоко спиритуализировалось и стало означать очищение души ото всяческих материальных устремлений и побуждений, ее одухотворение (De ord. II, 19, 50)
[514], восхождение от материального мира к духовному, наконец,- путь духовной аскезы.
В период священнической деятельности Августин, не отказываясь от своего раннего понимания очищения, разрабатывает как бы его следующую ступень уже в чисто христианском духе. Истинную чистоту сердца Августин усматривает теперь не в духовной свободе от материи и не в ритуальной культовой чистоте (как у древних евреев), а в духовном
смирении, уничижении (humilitas) и в
послушании (oboedientia). Мы помним, что эти новые черты духовного склада принес людям, вернее, показал их величие, сам Богочеловек, и они теперь осознаются как важнейшие факторы purgatio cordis. «Humilitas u oboedientia,- пишет И. Ратцингер, - два новых мотива, которые начинают звучать теперь и заступают место голого спиритуализма. Бедственное положение человека также понимается теперь несколько по-иному: беду человека Августин видит уже не просто в том, что он, стоя на одной из нижних ступеней эманации, обременен материей, а в том, что в нем скрыт образ Бога, и скрыт прежде всего под superbia (высокомерием. -
В. Б.), которое выступает главной характеристикой философов, являющихся, несмотря на их духовность, нечистыми перед Богом из-за их гордости, так что Бог противостоит им. Так произошло одно из значительных изменений в картине мира и [в понимании] человека. Место онтологического дуализма материи и духа занял теперь этически-исторический дуализм: superbia - humilitas»
[515]. Главное несчастье человека заключается не в его обремененности материей, но в невзыскательности его духа. Ему нужна теперь не духовная аскеза, но аскеза послушания
[516].
Полное очищение осуществляется с помощью божественной благодати, схождение которой возможно лишь на путях бескорыстной любви к Богу (caritas Dei). Очищение способствует переходу веры в знание. Рассуждая о «символе веры», Августин пишет: «Немногие слова символа внушены верным, чтобы чрез веру они повиновались Богу, [и], повинуясь, праведно жили, очищали сердце, а очистив сердце, понимали то, во что верят» (De fid. et symb. 25). Таким образом,
очищение сердца является необходимым этапом на пути религиозного познания. В целом оно включает у Августина три ступени: 1) обращение от «внешнего человека» к внутреннему; 2) уничижение и смирение духа; 3) любовь к Богу
[517]. На этих ступенях максимально выявляется желание человека постигнуть Первопричину, и она сама может снизойти к нему, «просветив» его своим светом.
Здесь, на высшей своей ступени, теория познания Августина далеко отходит от философского ratio и опять теснейшим образом переплетается с эстетикой и замыкается ею, ибо понятия света и просвещения (иллюминации) в христианском мировоззрении в не меньшей мере принадлежат эстетике, чем гносеологии.
Метафизика света занимала видное место в мировоззренческих системах практически всех древних народов как на Востоке, так и в греко-римском регионе. Для нас важно, что в эстетическом ключе она рассматривалась уже в библейских текстах, Филоном Александрийским, гностиками и ранними христианами. Много внимания метафизике света уделил Плотин и другие неоплатоники, важную роль свет играл и в манихейской теории. Поэтому Августину не требовалось что-либо изобретать в этой области. Ему достаточно было выбрать из богатого, разнообразного материала предшествующей культурной традиции то, что больше всего подходило к его теории.
Августин различает два рода света (см.: De Gen. ad lit. imp. 5, 19-25): сотворенный и несотворенный. Последний - это божественный свет, от которого произошел весь тварный мир. Сотворенный делится, в свою очередь, на три вида: 1) видимый свет; 2) свет души, благодаря которому осуществляется чувственное восприятие материального мира, и 3) умственный, или духовный, свет разума. Видимый свет, прежде всего свет солнца и других небесных светил, способствует выявлению красоты видимого мира, доставляя человеку несказанное удовольствие. «И сам царь красок,- исповедуется Августин,- этот солнечный свет, заливающий все, что мы видим, где бы я ни был днем, всячески подкрадывается ко мне и ласкает меня, хотя я занят другим и не обращаю на него внимания. И он настолько дорог, что если он вдруг исчезнет, то его с тоской ищешь, а если его долго нет, то душа омрачается» (Conf. X, 34, 51).
Видимый свет лежит в основе зрительного восприятия, ибо лучи света, достигая глаза, способствуют возникновению зрительного образа. Более того, Августин считает, что свет лежит в основе и четырех других видов чувственного восприятия, но там он выступает не в чистом виде, но в смеси или с «чистым воздухом», или с «воздухом мрачным и туманным», или с «плотной влагой», или с «земляной массой» (De Gen. ad lit. XII, 16, 32). Однако для чувственного восприятия недостаточно только этого видимого света. Оно осуществляется только при встрече его со светом, исходящим из души воспринимающего субъекта (подробнее на этом моменте мы останавливаемся в гл. X). Этот свет постоянно находится в душе человека независимо от наличия у него тех или иных органов чувственного восприятия (зрения, слуха и т. п.). В его отсутствие наступает полная бесчувственность (insensualitas) (De Gen. ad lit. imp. 5, 24; ср. также: De Gen. ad lit. III, 5, 7; VII, 15, 21).
Третий, и самый высокий вид тварного света, присущий только людям и ангелам,- духовный свет, лежащий в основе всей духовной жизни человека. Он постоянно интересовал Августина как особый свет разума и мудрости, которым обладали все великие мудрецы, как библейские, так и греко-римские. Это высший дар Бога, которого жаждет всякий стремящийся к истине и в котором только и открывается Первопричина.
Мудрость, по определению раннего Августина, «есть некий невыразимый и непостижимый свет умственный» (Solil. I, 13, 23), и к этому свету страстно желал «воспарить» юный африканский учитель красноречия из тьмы обыденной жизни (I, 14, 24). Мысленный свет - это «свет истины», его «нельзя ни видеть чувственным зрением, ни мыслить в связи с каким-либо пространственным протяжением, но он нигде не покидает ищущих и нет ничего несомненнее и яснее его» (De vera relig. 49, 96; ср. также: 39, 73). В этом свете человек созерцает все духовные истины, им он просвещается (illuminare) и наслаждается (De mag. 12, 40). Все духовные истины, в частности законы чисел, сияют этим светом (De ord. II, 14, 41). Люди представляются Августину светильниками, в которых с большей или меньшей силой горит духовный свет (In Ioan. ev. 23, 3), а ангелы - самим духовным светом, ибо, «просвещенные светом, которым сотворены, они сделались светом и названы днем по причастности неизменному свету и дню, который есть Слово Божие» (De civ. Dei XI, 9)
[518].
Духовный свет присущ не только людям и ангелам - он составляет творческую и одновременно познавательную силу Сына Божия, его Слова, которым все было сотворено. Так, библейский акт шестидневного творения мира в одном из толкований Августина предстает единым процессом творения-познания мира первоначально сотворенным духовным светом. При этом вечер и день творения трактуются как особые этапы познания. Вечер понимается как познание светом себя самого, некоторых своих свойств и сотворенной части мира в ней самой, а день - как прославление Бога, получение от него знания новых родов творения (познание в Слове Божием), сознание их; вечер - это и познание созданной твари в ней самой, а новый день - хвала за нее Богу и т. д. в течение шести дней (De Gen. ad lit. IV, 22, 39).
Духовный свет явился жизнью для людей. «Итак, та жизнь, через которую все получило бытие, сама жизнь есть свет, и не всех живых существ, но «свет человеков», - поясняет Августин евангельскую фразу о божественном Слове: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин 1, 4). Именно этот свет, полагает Августин, видели библейские праотцы и пророки. «О Свет, который видел Товит, когда с закрытыми глазами указывал сыну дорогу жизни и шел впереди него ногами любви, никогда не оступаясь; который видел Исаак очами, отяжелевшими и сомкнутыми от старости: ему дарована была милость не благословить сыновей, узнав их, но узнать, благословив; который видел Иаков, лишенный в преклонном возрасте зрения, когда лучами света, наполнявшего его сердце, озарил в сыновьях своих предреченные племена будущего народа; когда возложил на внуков своих от Иосифа руки, таинственно перекрещенные; отец их, смотревший земными глазами, пытался поправить его, но Иаков действовал, повинуясь внутреннему зрению. Вот он, настоящий свет, единый, и едины все, кто его видит и любит. Этот же земной свет... приправляет своей соблазнительной и опасной прелестью мирскую жизнь слепым ее любителям» (Conf. X, 34, 52).
Свет этот исходит от самого Бога, который является высшим нетварным светом (Contr. Faust. XX, 7).
Божественный свет понимается Августином в смысле, близком к плотиновскому, и он сам указывает на это (De civ. Dei X, 2). Это труднопостигаемый свет, который может быть лишь изредка усмотрен внутри души в минуты высшего экстатического озарения. «Я вошел (в глубины свои. -
В. Б.), - пишет Августин в «Исповеди»,- и увидел оком души моей, как ни слабо оно было, над этим самым оком души моей, над разумом моим. Свет немеркнущий, не этот обычный, видимый каждой плоти свет и не родственный ему, лишь более сильный, разгоревшийся гораздо-гораздо ярче и все кругом заливший. Нет, это был не тот свет, а нечто совсем-совсем отличное от такого света. И он не был над разумом моим так, как масло над водой, не так, как небо над землей: был высшим, ибо создал меня, а я стоял ниже, ибо был создан Им. Кто узнал Истину, узнал и этот Свет, а кто узнал Его, узнал вечность. Любовь знает Его. О вечная Истина, Истинная Любовь, Любимая Вечность!» (Conf. VII, 10, 16). Просвещение этим светом в минуты высшего озарения и венчает, по Августину, длинный и сложный путь познания высшей Истины
[519], приобщает человека к Истине, сливает субъект познания с объектом в едином море духовного света. Истинное блаженство обретает тогда человек в единстве света, истины и бытия (lux esse-verum esse-esse)
[520].
Итак, рассмотрение ряда богословских, философских, социо-культурных аспектов теории Августина показывает, что почти все они в той или иной степени связаны у него с внеразумной, внепонятийной сферой, с иррациональным опытом и, в частности, со сферой эстетического. Главный идеал человеческой жизни в ее социальной и личностной основах, на путях обыденного бытия, религиозного служения или философского созерцания - всюду этот идеал остается одним и тем же - блаженством, т. е. высшей ступенью неутилитарного, духовного наслаждения. Семь ступеней совершенствования человека на пути достижения им высшей мудрости носят, как мы видели, калокагатийный характер - в одном случае они описываются в чисто эстетической терминологии (восхождение по ступеням прекрасного), в другом - имеют этико-религиозную окраску. Сама религия у Августина выступает не самоцелью, но путем к достижению высшего идеала. Конкретные формы достижения этого высшего идеала (духовное очищение, любовь, уподобление, просвещение, озарение, созерцание) носят ярко выраженный этико-эстетический характер. При этом их этическая часть во многом подчинена эстетической.
История культуры встречает в лице Августина, пожалуй, первого мыслителя, у которого степень эстетизации мировоззренческой системы достигла предельной высоты и была реализована с достойной удивления последовательностью. Главные закономерности универсума у Августина, по сути дела, - закономерности эстетические, ибо универсум представляется ему произведением Великого Художника (см. также гл. VII), выражающим совокупностью всех своих компонентов и законов их организации идеи Творца. Поэтому у Августина практически все эти закономерности распространяются как на универсум, так и на художественные произведения. Главное место среди онтологически-эстетических универсалий Августина занимает, пожалуй, емкая категория порядка, к более подробному рассмотрению которой мы и приступаем.
Глава IV. ПОРЯДОК
Идее порядка (ordo) Августин посвятил один из первых своих трактатов и много внимания уделял ее осмыслению на протяжении всего своего творчества. На основе изучения трудов греко-римских философов (прежде всего Плотина и Цицерона) и библейских текстов, а также личных наблюдений, Августин еще до принятия христианства пришел к выводу, что в мире нет ничего хаотичного, что все в нем
подчинено системе закономерностей, которую он обозначил термином ordo. Ясно, что у него, как религиозного мыслителя, порядком всего бытия управляет божественный Промысел (см.: De Gen. ad lit. V, 21-22), а мера порядка (ordinis modus) заключена в вечной Истине, которой является Сын Божий (De vera relig. 43, 81). Однако камнем преткновения в решении этого вопроса являются все бесполезные, с точки зрения человека, явления и предметы, все ничтожные существа, и особенно все вредное, злое, безобразное мира сего. Именно негативные факторы бытия заставляют африканского мыслителя постоянно обращаться к идее порядка, вникать в суть сложной взаимосвязи природных, социальных и художественных явлений. При этом последние часто служат наиболее доступной и очевидной парадигмой, на которой Августину удается подметить более общие закономерности организации всего универсума.
Трактат «О порядке» Августин начинает с рассуждений о том, что стремление исследовать и познавать «порядок вещей» свойственно многим, однако «постигнуть и объяснить тот общий порядок, которым держится и управляется этот мир, для людей дело весьма трудное и редко осуществимое» (De ord. Ι, 1, 1). Неудобопостигаемость всеобщего универсального порядка для людей, не отягощенных «балластом» знаний, приводит к тому, что они начинают хулить мир и даже его Творца, указывая на те или иные отрицательные, с их точки зрения, явления. Августин неодобрительно относится к этим критикам, уподобляя их тем «ценителям» искусства, которые, не в состоянии охватить взглядом всю мозаичную картину, выложенную на полу дворца, начинают оценивать художника на основе небольшого, к тому же неправильно понятого фрагмента мозаики, между тем как отдельные фрагменты складываются «в одно прекрасное целое»
[521].
При сотворении мира Бог все упорядочил в нем, так что все элементы и явления тварного бытия имеют свое вполне законное и определенное место в общей картине универсума. Отсюда одно из определений порядка: «Порядок есть то, посредством чего Бог управляет всем» (II, 1, 2), т. е. система закономерностей, управляющих бытием тварного мира во всех его проявлениях.
Бесчисленное множество элементов, предметов, вещей, представителей растительного и животного мира, человек со всем его личным и общественным бытием, несчетное число событий, явлений, процессов - все это составляет некую целостность, прекрасную и гармоничную в совокупности всех своих частей, некое единство, вне которого нельзя рассматривать и оценивать ни один элемент, ни одно даже самое незначительное явление и событие в мире. Эта универсальная космическая целостность включает в себя мир во всей полноте его времен и явлений.
Порядок у Августина выступает следствием деятельности разума (божественного и человеческого). Только там можно говорить об упорядоченности (в частности, об «упорядоченном человеке»), где «разум господствует над остальными силами» (De lib. arb. I. 8, 18). Подчинение разуму ведет к правильному занятию места в порядке (в чине), что, в свою очередь, способствует красоте данной вещи (I, 16, 35). Красота, таким образом, неразрывно связывается Августином с порядком
[522]. Упорядоченное бытие прекрасно.
Сама целостность совершеннее и прекраснее любых совершенных и прекрасных ее частей (Conf. IV, 11, 17), хотя и включает в себя наряду с ними несовершенные, безобразные и вредные элементы и явления, которые, однако, чему не устает восхищаться Августин, служат общему совершенству и большей красоте целого. И змея, и червяк, и нечестивые люди имеют свое вполне определенное место в универсуме (на низших его ступенях) и не могут быть оценены отрицательно (VII, 16, 22). Не правы те, кто осуждает эти существа. Просто они не видят их функции в общей прекрасной и целостной картине мира. «Они не обращают внимание на то, какое значение имеют эти вещи в своем месте и по своей природе, в каком прекрасном порядке располагаются и насколько каждая вносит свою долю красоты как бы в своего рода общую республику, или достаточно выгод доставляют и нам, если мы пользуемся ими соответствующим образом и со знанием дела, как, например, ядами, которые при умелом применении оказывают целительное действие» (De civ. Dei XI, 22).
Истина и красота мира выявляются только в том случае, когда он понимается как целостность, общим законам которой подчинены все его части. «Итак, по своим обязанностям и целям все подчинено (ordinantur) красоте целого (pulchritudinem universitatis), так что то, чему мы ужасаемся в частях, нравится нам по большей части рассматриваемое в целом; ибо при суждении о здании мы не должны же принимать во внимание один только угол, в прекрасном человеке - одни только волосы, в хорошем ораторе - одно только движение пальцев, в фазах луны - только тот или иной ее трехдневный облик. Все то, что представляется нам низким потому, что при несовершенных частях оно совершенно в целом, находим ли мы его прекрасным в спокойном состоянии или в движении, - все это мы должны рассматривать в целом (tota), если только хотим составить о нем правильное суждение» (De vera relig. 40, 76). И хотя плачущий человек, к примеру, лучше весело дергающегося червячка, но и этот хорош в своем роде и на своем месте в универсуме.
Идея прекрасного космического целого, в котором любая, даже самая незначительная вещь имеет свое, только ей предназначенное место, заставляет Августина всмотреться в эту вещь и увидеть ее упорядоченность и своеобразную красоту. «Без всякого преувеличения, - пишет он, - я могу с похвалой говорить о червячке, имея в виду блеск его окраски, цилиндрическую форму тела, соответствие передних частей средним, а средних - задним, в чем выражено стремление к единству, возможное для его незначительной природы, так что ни в одной его части нет ничего такого, чему не нашлось бы подобного соответствия в другой» (41, 77). Упорядоченность придает красоту невзрачным, незначительным и даже безобразным предметам. Именно глобальному порядку обязан, по мысли Августина, мир своей красотой. Здесь не место останавливаться подробнее на вопросах красоты и прекрасного. К их анализу мы еще будем иметь возможность обратиться специально. Однако понятие порядка у Августина неразрывно связано с представлениями о красоте, поэтому и умолчать о них совершенно тоже не представляется возможным. Именно идея порядка навела Августина на открытие интересной структурной закономерности красоты - закона оппозиции, аналогию которому он усмотрел в упорядоченном функционировании добра и зла в общественной жизни.
Представляя зло как нечто противоположное добру, как отсутствие добра, Августин отнюдь не всякое зло считал явлением отрицательным. Если мир устроен по законам порядка и зло допущено в нем, то, следовательно, и зло выполняет в нем свои функции, необходимые для поддержания и достижения блага всего универсума, и в частности человеческого общества.
В обществе, которое представляет собой смесь двух градов, добро и зло перемешаны в самых различных формах и соотношениях. Более того, даже в Церкви, которая по идее должна быть идеальным местом обитания добра,- даже здесь зло находит для себя достаточно простора (De fid. et oper. 2). При этом оно часто не только выступает против добра, но нередко и способствует ему. Прежде всего, зло служит в мире наказанием зла же. И хотя, скажем, нет ничего отвратительнее палача, преступного по своей натуре, тем не менее зло, творимое им, служит правосудию, необходимо в благоустроенном обществе, т. е. находится «в порядке» (De ord. II, 4, 12). Более того, само наказание обладает, по мнению Августина, определенной степенью красоты, «ибо нет ничего упорядоченного, что не было бы прекрасным» (De vera relig. 41, 77).
Далее, зло по контрасту выгодно подчеркивает и усиливает позитивные стороны добра: «Так называемое зло (malum), надлежаще упорядоченное и расположенное на своем месте, сильнее оттеняет добро для того, чтобы оно более привлекало внимание и подлежало большей похвале в результате сравнения со злом» (Enchirid. 11). Некоторые виды зла позитивны даже сами по себе, ибо выполняют в структуре целого необходимые функции. Что может быть гнуснее и позорнее, спрашивает Августин, красоты и недостойнее бесстыдства продажных женщин, сводниц и им подобных людей? Однако и они необходимы в обществе, полагает он: «Устрани распутниц из человеческих обществ, и вожделение повсюду внесет беспорядок» (De ord. II, 4, 12).
Любопытство расценивается Августином как несомненный порок, но и оно не бесполезно, ибо часто побуждает людей к поиску истины и нередко может привести к добродетели (De vera relig. 49, 94; 52, 101). Даже еретики, эти заклятые враги ортодоксальной веры, по здравому рассуждению, оказываются полезными, ибо своей полемикой, заблуждениями, постановкой острых вопросов побуждают к более энергичным поискам истины (8, 15). Конечно, это не значит, что люди должны специально культивировать пороки, злодеяния и лжеучения. Бог не создавал зла, не любит его - так же должны к нему относиться и все, стремящиеся попасть во град Божий и обрести блаженную жизнь. Однако жизнь града земного протекает по таким законам, которые не исключают и злых деяний, и с этим уж ничего не поделать: их нужно принять как неизбежность
[523].
И здесь за примерами Августин снова обращается к эстетической сфере. Из поэтики и риторики он хорошо знает о законе
контраста - применении неожиданных фигур и оборотов речи, противоречивых выводов, солецизмов, варваризмов, грубых словечек в структуре поэтического образа или художественной речи. И там они вполне уместны и способствуют большей выразительности и красоте образа (De ord. II, 4, 13). Так и Бог, полагает Августин, «любит любить добро и не любит зло; а это - принадлежность великого порядка и божественного установления. Этот порядок и установление, поскольку охраняют согласие универсума в его различии, производят то, что и самое зло становится необходимым. Так, как бы в некотором роде из антитез, что бывает приятно нам в речи, т. е. из противопоставлений (ех contrariis), образуется красота всех вместе взятых вещей» (I, 7, 18)
[524].
В «Граде Божием» Августин опять обращается к вопросу о диалектике добра и зла в структуре мира, и здесь он снова опирается на эстетику, а также на опыт библейской этики: «Бог не создал ни одного - не говорю, ангела - но человека, относительно которого не знал бы, что он будет злым, равно, как Бог знал заранее, к каким благим целям люди будут им предопределены, - и так цепь веков, словно прекраснейшую поэму, он украсил некими антитезами. Ведь то, что носит название антитез, весьма уместно как украшение речи; по-латыни они называются opposita, или, еще выразительнее, contraposita (противоположностями). Термин этот у нас не в ходу, хотя латинская речь, больше того, языки всех народов пользуются теми же самыми украшениями речи.
Этими антитезами и апостол Павел во Втором Послании Коринфянам приятно изъясняет свою мысль: «В слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем» (2 Кор 6, 7-10). Итак, подобно тому, как эти противоположности, противопоставленные [другим] противоположностям, придают красоту речи, так путем некоего красноречия, но уже не слов, а вещей, посредством противопоставления противоположностей слагается красота мира сего. И совершенно ясно сказано о том в Книге Екклесиаста: «Против злого - благо, и против смерти - жизнь, против праведника - грешник. Итак, взирай на все дела Всевышнего, беря попарно, одно против другого» (Сир 33, 14) (De civ. Dei.XI, 18)
[525].
Описывая в трактате «О порядке» петушиный бой и отмечая безобразный вид побежденного петуха, Августин дважды подчеркивает, что от этого безобразия непонятно каким образом красота боя становится совершеннее (De ord. Ι, 8, 25; Π, 4, 12).
Таким образом, наблюдая за явлениями природы, событиями социальной и личной жизни человека и прослеживая законы организации художественных произведений, Августин приходит к двум интересным выводам. Во-первых, все эти три сферы составляют единое целое - универсум тварного бытия, подчиненный некоторым общим закономерностям, и прежде всего закону порядка,- это упорядоченное целое, в котором каждая часть находится в определенной зависимости от остальных частей.
Во-вторых, при всем различии этих трех сфер у них есть нечто общее - им всем присуща определенная красота и одним из главных законов их организации выступает закон контраста, или оппозиции.
В сфере эстетики этот закон, как мы увидим далее, явился важным открытием Августина, позволив найти ему нечто общее между искусством и красотой и открыв путь к постижению законов организации художественного образа. Важна и параллель, усмотренная Августином между реальными противоречиями природной и общественной жизни - и оппозиционной структурой красоты и произведений искусства.
В сфере социологии выявление на основе реальных общественных противоречий упорядоченного функционирования единства добра и зла позволило Августину частично принять и узаконить социальное зло
[526], что объективно вело к оправданию и социальной несправедливости, чем в дальнейшем активно пользовалась католическая церковь и средневековые европейские государства. Августин освятил божественным авторитетом и субординацию власти, которая после некоторой трансформации составила основу средневековой социальной иерархии. Божественное провидение подчиняет, пишет Августин, прежде всего все себе. Затем телесную тварь - духовной, неразумную - разумной, земную - небесной, женскую - мужской, слабую - сильной, несовершенную - более совершенной (см. De Gen. ad lit. VIII, 23, 44). Нетрудно заметить, что эти идеи составили основу феодального церковно-государственного законодательства.
Окончательная формулировка порядка как важнейшего структурного принципа универсума дана Августином в «Граде Божием»: «Итак, мир (рах) тела есть упорядоченное расположение частей: мир души неразумной - упорядоченное успокоение позывов; мир души разумной - упорядоченное согласие знания и действия; мир тела и души - упорядоченная жизнь и благосостояние существа одушевленного; мир человека смертного и Бога - упорядоченное в вере под вечным законом повиновение; мир людей - упорядоченное единодушие; мир дома - упорядоченное относительно управления и повиновения согласие сожительствующих; мир града - упорядоченное относительно управления и повиновения согласие граждан; мир небесного града - самое упорядоченное и единодушное общение в наслаждении Богом и взаимно в Боге. Мир всех вещей - спокойствие порядка. Порядок есть расположение равных и неравных вещей, дающее каждой ее место». Несчастны те, кто не соблюдает порядка, но и они находятся в определенном порядке и мире, так как и само нарушение порядка составляет неотъемлемую часть порядка вещей (De civ. Dei XIX, 13).
Одним из позитивных «нарушений порядка в самом же порядке» является чудо. При этом Августин стремится показать и доказать, что евангельские чудеса в общем-то не «чудеснее», чем многие природные явления. То, что находится «в привычном порядке» универсума, представляется людям делом обычным и не удивляет их. Чудеса же - единичны и выходят за рамки привычного для людей порядка вещей. И в этом их значение. Так стоит ли удивляться превращению воды в вино на брачном пире в Кане, совершенном Христом? Более удивительным, по мнению Августина, является творение мира во всем его разнообразии, сила зерна, чудо каждого семени. Но люди привыкли к этим явлениям и не удивляются им. Поэтому Бог дает им иногда нечто необычное, чтобы пробудить их от духовной спячки и направить дух к Богу. Один умерший воскрес - это удивляет людей, а тому, что ежедневно рождается множество людей, никто не удивляется. Но если всмотреться внимательнее, то второе, конечно, более удивительно, ибо вдруг возникает тот, кого никогда не было, а в первом случае восстает лишь тот, который уже был недавно и всем хорошо знаком. Люди удивляются тому, что совершил Иисус - вочеловеченное Слово, и не удивляются тому, что создал Иисус - Бог - Слово, т. е. всему упорядоченному миру (In Ioan. ev. 8, 1). Сам Августин не устает поражаться и восхищаться чудесами этого мира во всей его полноте и многообразии. Это не означает, конечно, что он игнорирует или принижает значение библейских или других чудес, связанных так или иначе с христианством. Все чудеса подчинены, по его мнению, порядку, но чудо материального мира больше волнует его с эстетической стороны, чудеса же библейские служат ему знаками божественного откровения.
Чудеса бывают различной природы. Одни имеют чисто физическое происхождение и слывут чудесами только потому, что природа этих явлений плохо известна человеку. В качестве примера Августин приводит гашение извести, действие магнита и т. п. (De civ. Dei XXI, 4). Некоторые чудеса изобретены демонами или хитроумными людьми - специалистами в области механики. Последние нередко используют свое искусство в религиозных целях, и люди несведущие принимают их за божественные. Августин указывает, что в одном из храмов в полу и под сводами были установлены на определенном расстоянии друг от друга магниты, так что между ними в воздухе парил железный истукан, что выдавалось за действие божественной силы (XXI, 6). Настоящие же чудеса происходят от Бога, и величайшим из его чудес является сам мир и его природа. Чудеса, как правило, противоречат не природе, но нашим недостаточным представлениям о ней. «Чудо противоречит не природе, а тому, как нам известна природа» (XXI, 8).
Чудеса играют первостепенную роль в христианстве, как и в любой другой религии, ибо поддерживают веру. Без чуда нет религии, поэтому для религиозной жизни сама невероятность чуда находится в порядке вещей.
Бог сам, отмечает Августин, предрек два невероятных события - воскресение нашего тела для вечной жизни и то, что мир уверует в эту невероятную истину. Осуществил он последнюю акцию также невероятным образом, послав в мир безыскусных, неграмотных рыбарей, уловивших в свои сети души всего мира, в том числе и души многомудрых философов. «Мир потому и поверил малому числу незнатных, униженных, несведущих людей, что в [лице] таких презренных свидетелей тем удивительнее говорило о себе само божество. Ибо красноречивы были чудесные дела убеждавших, а не слова, которые они говорили» (XXII, 5). Августин приводит много чудес, в частности исцелений, которые творили христианские подвижники не только в апостольские времена, но и в его время в том же Карфагене (XXII, 8). Религиозное чудо для Августина не только важный аргумент в пользу истинности христианской веры. Главное значение чуда заключалось для него, пожалуй, в его знаково-предзнаменовательной функции.
В цитированном выше «Tractatus in Ioannis evangelium» Августин дает предзнаменовательные знаково-символические толкования всем рассматриваемым там евангельским чудесам и рассуждает опять о знаковой функции чуда. С его помощью Бог управляет миром, упорядочивает его. Чувственно воспринимаемое чудо побуждает человеческий дух познавать Бога в видимых предметах. Удивляясь видимым чудесам, дух человека обращается к их причине и поднимается к ее познанию. Подобную же эстетическую функцию на греческом Востоке позже будут выполнять в системе Псевдо-Дионисия Ареопагита образы и символы, а у иконопочитателей VIII - IX вв. - живописные изображения (иконы).
Смысл чуда, однако, доступен далеко не каждому. Оно обладает своим особым, отличным от понятийного знаково-образным языком. понимать который дело отнюдь не простое. Сам факт чуда - только внешняя форма этого языка, его «слова», под которыми скрыто глубокое содержание. Важно, что Августин склонен видеть в чуде при всей его образности больше знаковую информацию, чем образную. Он сближает его скорее с языковым текстом на незнакомом наречии, чем с живописным изображением. «Спросим,- предлагает гиппонский епископ, - однако, у самого чуда (miraculum), что оно скажет нам о Христе; ибо оно, если его понимают, имеет свой язык. А так как Христос сам является Словом Бога, то дело Слова для нас также будет словом. Итак, относительно этого чуда, о котором мы слышали, как оно велико, исследуем теперь, насколько оно глубоко; ибо мы желаем не только радоваться его факту, но и исследовать его глубину. Именно внутри содержится нечто, чему мы удивляемся, [видя] внешнее проявление». Мы видим, мы усматриваем нечто великое, нечто чудесное, и в этом - нечто божественное; мы восхваляем деятеля по его делу. «Но подобно тому, как если бы мы увидели где-то прекрасные буквы, для нас было бы недостаточно хвалить пальцы писца за то, что они вывели буквы одинаковыми, ровными и прекрасными, если бы мы не прочитали также и то, что он нам с их помощью указал, - также [недостаточно] лишь видеть это деяние (чудо. - В. Б.), наслаждаться его красотой, удивляться его мастеру, но не понимать его, не прочитать его. Одно дело, однако, смотреть картину, и другое - рассматривать буквы. Когда ты смотришь картину, единое целое заставляет смотреть и хвалить ее; когда же ты смотришь на буквы, то здесь - не одно целое, так как ты призываешься также читать. Ибо ты говоришь, когда видишь буквы и не можешь их прочитать: что же это, однако, такое, что здесь написано? Ты спрашиваешь, что это, в то время, как ты уже видишь нечто. Иное ведь покажет тебе тот, у кого ты стремишься узнать, что ты увидел. Одни глаза имеет он, другие - ты. Не одинаковым ли образом видите вы оба линии [букв]? Но не одинаково знаете вы знаки. Ты - видишь и хвалишь, тот - видит, хвалит, читает и понимает» (In Ioan. ev. 24, 2). Сам Августин полагал, что он постиг язык чудес, и посвятил много страниц в своих работах разъяснению этого языка. Данные им символико-аллегорические толкования библейских чудес стали традиционными для европейской средневековой культуры, нашли воплощение в ее изобразительном искусстве.
Являясь нарушением обыденного порядка вещей, чудо, таким образом, выступает у Августина важным элементом божественного порядка, в целом недоступного человеческому пониманию, и направлено на приближение человека к этому порядку.
В мировоззренческой системе Августина категория порядка занимает одно из главных мест, способствуя осмыслению единства и целостности всего универсума, включающего божественные деяния, природу, общество, человека и творения рук его. Вся сфера эстетического с ее проблемами выражения, красоты, искусства, наслаждения включена Августином в сферу действия закона порядка.
Глава V. РИТМ
Одной из главных и наиболее общих закономерностей, содействующих возникновению порядка, которому подчиняется все в универсуме, выступает у Августина
число, или
ритм (numerus). Рационалистический подход африканского мыслителя к миру позволяет ему, опираясь на идеи древних пифагорейцев, математиков и на плотиновское понимание числа
[527], усмотреть во всех предметах, явлениях и процессах
числовую организацию. Число представляется Августину основным подтверждением разумной организации мира и относится им, как и сама идея порядка, исключительно к интеллигибельному миру. Сущность чисел и их законы принадлежат к области вечной и неизменной истины, поэтому они могут быть восприняты только разумом (De lib. arb. II. 8, 21). Заблуждаются те, кто считает, что числа могут быть постигнуты телесными чувствами в предметах материального мира.
Все числа возникли из единицы, которую в принципе нельзя воспринять органами чувств. Ни одно тело не может быть образом истинной и чистой единицы, ибо тела не единичны, но состоят из множества частей. Следовательно, заключает Августин, единицу нельзя постигнуть с помощью телесных чувств, а вслед за ней и ни одно из чисел: «мы познаем числа только с помощью духовного видения» (II, 8, 22). Не случайно поэтому в Екклесиасте число стоит рядом с мудростью (II, 8, 24). И мудрость и число истинны и неизменны. Мудрость приближает человека к пониманию законов чисел, но обладание числом (им обладает все бытие) еще не гарантирует приобщение к мудрости. Как от пламени лампы тепло ощущается только на близком расстоянии, а свет летит далеко, так и в интеллигибельном мире тепло мудрости распространяется недалеко - только на одаренные разумом души, а свет чисел пронизывает все, даже предельно удаленные предметы (II, И, 31-32).
Числа пронизывают и высшие интеллигибельные сферы, и весь мир природы, включая жизнь человека, и все творения рук его. включая все виды искусств. И очаровательное пение соловья, и все другие соразмерные движения живых существ происходят «в силу неизменного закона чисел», руководящего ритмом жизни (De vera relig. 42, 79). Числа управляют движением космических тел, и начала жизни, заложенные в семени растений и живых существ, обязаны «весьма сильным числам», заключающим в себе потенции божественных дел (De Gen. ad lit. V, 7, 20). В числе заключен «архитектонический принцип вселенной»
[528]. Числа лежат в основе всех наук и искусств (см.: De ord. II, 14, 41-43), и знание их мистической сущности позволяет понять многие образные и таинственные выражения в тексте Св. Писания (De doctr. chr. II, 25). Числа, наконец, составляют структурную основу красоты и, соответственно (об этом подробнее речь в гл. X), эстетической способностью суждения: «Тогда ты увидишь, что все, что тебе нравится в теле, что является в нем привлекательным для чувств, - все подчинено закону числа (esse numerosum); и [если] ты спросишь, откуда это, и вернешься в себя самого и постигнешь, что все то, с чем соприкасаются телесные чувства, ты не мог бы ни одобрять, ни порицать, если бы не имел у себя определенных законов красоты, на основе которых ты судишь, что воспринимаешь извне прекрасное» (De lib. arb. II,
16, 41).
В трактате «О свободном выборе», откуда мы привели указанную цитату, Августин рельефно выразил свои мысли о неразрывной связи числа, формы, красоты, удовольствия и искусства (в современном понимании этого слова). При этом число, числовая закономерность выступают здесь общим законом, на основе которого организованы как материальный мир, так и духовный, как создания природы, так и творения рук человека. «Рассмотрим небо, землю и море, - призывает Августин,- и все, что в них и над ними светит или внизу ползает, летает или плавает: все имеет форму, ибо все пронизано числом. Отними от них это [число], и они превратятся в ничто. Итак, откуда происходят они, если не оттуда же, откуда происходит число; ибо они имеют бытие постольку, поскольку они пронизаны числом (numerosa esse). И все художники, создающие телесные образы, имеют в своем искусстве числа, в соответствии с которыми они и создают свои произведения; и до тех пор двигают они своими руками и инструментами, формируя [произведение], пока то, что создается снаружи, не будет, насколько это возможно, казаться правильным в свете сияющих внутри чисел и пока через посредство чувства оно не понравится внутреннему судье, который рассматривает высшие числа. Тогда спрашивается, кто движет члены самого художника: это числа; ибо члены движутся соразмерно числам. И если руки откажутся от ремесла, а дух - от намерения создавать что-либо и движение членов будет направлено только на достижение удовольствия [от движения], то можно будет говорить о танце. Итак, если спросить, что в танце доставляет радость, число ответит тебе: это я. Рассмотрим красоту созданного тела: [она не что иное, как] числа, заключенные в пространство. Рассмотри красоту телесного движения - это числа движутся во времени». И если подняться выше тех чисел, которые находятся в творческом духе художника, то попадешь в царство «вечных чисел», в которых заключен свет мудрости и тайна истины (II, 16, 42). Здесь отчетливо намечена полная числовая схема универсума, в которой числа красоты, искусства, творческого разума занимают срединное положение и играют роль посредника между преходящими числами природного материального мира и «вечными числами» высшей истины.
Мы, таким образом, вплотную подошли к эстетической значимости числа-ритма у Августина.
Античная, и особенно средневековая, эстетическая мысль много внимания уделяла числовой, ритмической организации искусства. Именно
ритм уже в период греческой классики одним из первых начал осознаваться как собственно эстетическая категория. Он составлял основу всех мусических искусств, к которым греки с древности относили танец, музыку, поэзию, а позже, со времен Платона
[529], и изобразительные искусства. Именно осознание ритма как одной из главных закономерностей живописи и пластики позволило грекам ввести их в состав мусических искусств и распространить на них многие принципы, разработанные общей теорией мусических искусств -
музыкой. Ученик Аристотеля Аристид Квинтиллиан писал о ритме в скульптуре (De mus. I, 13), что современный исследователь античной эстетики считает типичным для античности
[530]. Таким образом, многие проблемы ритма и числа, поднимаемые по античной традиции в связи с поэзией и музыкой, оказываются применимыми ко всем видам искусства.
Проблеме ритма Августин посвятил специальный трактат «О музыке» - по сути дела, единственный его дошедший до нас собственно эстетический трактат. В нем в связи с числом и ритмом затрагиваются и другие проблемы эстетики. Поэтому есть смысл остановиться на нем подробнее.
Трактат «О музыке» оказался этапным и в творчестве самого Августина, и в эстетической литературе того времени. Это второй из двух его трактатов (первый, как указывалось, был утерян самим автором), специально посвященных эстетической проблематике.
В IV в. в составе корпуса «свободных наук» еще не значилось дисциплины, близкой к эстетике, или науке о прекрасном, поэтому, естественно, никто и не посвящал несуществовавшей науке специальных трактатов. Тем не менее сочинение, замыкающее небольшой ряд ранних философских работ Августина, оказалось практически полностью посвященным тем вопросам, которые сейчас относятся к компетенции эстетики. Начав свою писательскую деятельность с эстетического трактата («De pulchro et apto»), Августин и первый этап этой деятельности завершил подобным же сочинением. Но если первый трактат был традиционным сочинением, во многом повторявшим идеи других греко-римских писателей, то «De musica» носит уже совсем иной характер. В нем подводится итог античной эстетической традиции и открывается новый этап в истории эстетики. Знаменательно, что именно этим трактатом Августин практически подытожил свои духовные искания, которые в миниатюре отражали многовековой путь перехода позднеантичной культуры от языческого миропонимания к христианскому.
Августин начал работу над ним в 387 г. незадолго до своего крещения и закончил где-то между 389 и 391 гг., став уже сознательным пропагандистом и теоретиком христианства
[531]. Этот важнейший шаг в его жизни наложил на трактат «О музыке» (его структуру и содержание) существенный отпечаток. Первые пять книг его написаны в традициях античной музыкально-теоретической мысли и являются как бы завершением ее исторического пути. Шестая книга, хотя и вытекает логически из первых пяти и опирается на античные традиции,- практически новая страница в истории эстетической мысли, отражающая новую философско-религиозную ориентацию автора и всей позднеантичной культуры того времени
[532].
Как полагают исследователи трактата, Августин начал писать его весной 387 г., живя на вилле одного из своих друзей в Кассициаке близ Милана, где он со своим пятнадцатилетним сыном Адеодатом и близкими друзьями готовился к принятию крещения, проводя время в беседах, в чтении Библии, античных поэтов и философов. Там Августин написал свои основные философские работы. Принятие крещения, переезд в Рим, смерть матери на пути в Африку, написание ряда других философских сочинений («О свободном выборе», в частности), наконец, возвращение в Африку - все эти события отделяют первые пять книг «De musica» от шестой, написанной уже в Африке где-то вскоре после 389 г. Книги «О музыке», как свидетельствовал позже сам Августин, были задуманы им как часть общей учебной работы о «свободных искусствах», которую ему не суждено было написать: «В то время, я был тогда в Милане и готовился к принятию крещения, пытался я также написать книги об искусствах; я обращался с вопросами к окружавшим меня людям, которым не были чужды эти дисциплины, стремясь или достигнуть каким-либо способом пути от телесного к бестелесному, или вести [их по этому пути]. Из этих работ только одна была закончена - книга «О грамматике», которую я позже потерял из нашего шкафа. «О музыке» ограничивается шестью книгами на ту часть, которая называется ритмом. Но я писал эти шесть книг, уже будучи крещенным, после того, как я вернулся из Италии в Африку; начал же я работу над этой дисциплиной еще находясь в Милане» (Retr. I, 6).
Трактат «О музыке» вышел, однако, далеко за рамки учебника по одной из «свободных наук», поставив ряд важных философско-эстетических проблем. Выводы, сделанные автором в VI кн. на материале «музыки», относились практически ко всем «наукам и искусствам» того времени. Может быть, отчасти поэтому отпала у Августина необходимость после завершения этой книги писать трактат о других «науках» и он оставил само сочинение о музыке незаконченным (ибо, как отмечал он сам, написанные им шесть книг освещают только ритмо-метрическую часть музыки, а книги о мело-гармонической части остались ненаписанными). Анализ шестой книги (см. гл. X) покажет, насколько это предположение основательно, хотя сам Августин, вспоминая о том периоде своей деятельности, считал, что только занятость церковными делами не позволила ему довести начатую работу до конца (Ер. 101, 3).
Представляется закономерным и вопрос о том, случайно ли именно в момент своего окончательного перехода с одной мировоззренческой позиции на другую Августин занимается детальной разработкой проблем мусических искусств, а не какой-либо иной дисциплиной. Думается, что задаче, больше всего волновавшей Августина в этот период - переориентации от телесного к бестелесному, - могла удовлетворить именно наука музыки, как ее понимали в античности. Опираясь на абстрактную теорию чисел, музыка апеллировала и к разуму, и к чувству, соединяя в себе теорию и практику, в отличие, например, от философии (даже плотиновской, столь любимой Августином), которая являлась чистой теорией и обращалась исключительно к разуму. Общая для раннего христианства тенденция выведения познания в эмоционально-эстетическую сферу, отнюдь не чуждая и Августину, возможно, и здесь сыграла свою роль. Психология, так часто внедрявшаяся в философию позднеантичного времени, помогает Августину превратить учебник музыки в учение о ритме вообще, о ритмах искусства, о космических ритмах и высших ритмах человеческого духа, в частности. Это и определяет особое место трактата Августина в ряду музыкально-теоретической литературы античности и Средних веков.
Под музыкой, как известно, в древности понимали прежде всего особую теоретическую дисциплину, главные положения которой распространялись не только на музыкальное искусство, в нашем смысле слова, но и на поэзию, танец, театральное действо, изобразительное искусство, риторику
[533]. Платон относил к мусическим искусствам даже философию как «высочайшее из искусств» (Phaed. 61a), ибо и мудрость понималась им как «прекраснейшее и величайшее созвучие» (или гармония, «симфония» - Leg. III, 689d)
[534]. Секст Эмпирик, подводя итог более узкому позднеантичному пониманию музыки, писал: «О музыке говорится в трех смыслах. В первом смысле [она является] некоторой наукой о мелодии, звуке, о творчестве ритма и подобных предметах... Во втором смысле [это] - эмпирическое умение, относящееся к инструментам, так что мы называем музыкантами тех, кто играет на флейте, на гуслях, или арфисток. В этом собственно значении музыка и имеется в виду у большинства. В переносном же смысле мы имеем обыкновение называть иногда тем же самым именем и удачное исполнение в области тех или других предметов. Так, например, мы говорим, что некоторое произведение отличается музыкальностью даже тогда, когда оно является видом живописи, и называем музыкальным того живописца, который в нем преуспел» (Adv. math. VI, 1-2)
[535]. Музыка в первом смысле больше всего интересовала античных теоретиков, хотя они, как правило, достаточно тесно связывали эту теорию с практической музыкой как звуковым искусством. Две главные проблемы, восходящие еще к пифагорейцам, стояли в центре их внимания. Во-первых, - проблема музыкального
этоса - направленного воздействия музыки на психику человека, создание с помощью определенных музыкальных ладов соответствующего настроения у человека»
[536]. Во-вторых,-
числовая теория музыки. Начиная с пифагорейцев, положивших в основу всего мироздания, всех наук и искусств число, т. е. усмотревших во всем числовые закономерности, музыка прочно связывается с числом. Ритмо-метрические и гармонические основы музыки видели в числовых закономерностях. Сама наука музыки в период поздней античности считалась математической наукой и в составе «семи свободных искусств» фигурировала в «квадривии» наряду с арифметикой, геометрией и астрономией.
Проблема этоса вытекала из музыкальной практики и стремления античных теоретиков ее регулировать, поставив на службу обществу. Идея числа, напротив, составляла основу чисто умозрительных теорий, все дальше и дальше уходящих от практики, так что ко времени Августина (хотя тенденция эта видна уже у Аристотеля) музыкант-практик считался фактически не имеющим никакого отношения к музыке как науке. Музыканты воздействовали лишь на чувства слушателя, а наука музыки развивала интеллект. Поэтому истинным музыкантом считался не тот, кто умел играть или сочинять музыку, а теоретик музыки.
Показательно в этом плане толкование Аристотелем одной мифологемы. «Очень остроумно и передаваемое древними предание об изобретении флейты. Рассказывают, что Афина, изобретя флейту, отбросила ее в сторону. Недурное объяснение придумано было этому, а именно: будто богиня поступила так в гневе на то, что, при игре на флейте, физиономия принимает безобразный вид. Настоящая же причина, конечно, заключается в том, что обучение игре на флейте не имеет никакого отношения к развитию интеллектуальных качеств. Афина же в нашем представлении служит олицетворением науки и искусства» (Polit. VIII, 6, 1341b)
[537]. В поздней античности неприязнь к музыкальной практике у чистых теоретиков еще более усиливается по двум причинам. Во-первых, потому, что к этому времени изменился сам характер музыки («музыка в настоящее время,- замечал Секст Эмпирик, - размягчает ум какими-то изломанными мелодиями и женственными ритмами» (Adv. math. VI, 15)
[538] - подобные характеристики были типичными для поздней античности), что мало устраивало теоретиков-традиционалистов, в чьи теории новая музыка не всегда укладывалась. Во-вторых, музыка наряду с другими мусическими искусствами понималась прежде всего как искусство подражательное
[539]. Подражание уже не являлось в этот период главной категорией теоретиков искусства, как об этом писал еще Флавий Филострат в «Жизнеописании Аполлония Тианского» (см.: Vit. Apol. VI. 19), и этот аргумент использует и Августин в своем трактате.
Августин хорошо знал античные теории музыки, и прежде всего пифагорейскую, от латинских интерпретаторов греческих учений Теренция Варрона (см.: De ord. II, 20, 53) и Теренциана Мавра. Опираясь на эти теории, как бы резюмируя их в первых пяти книгах своего трактата, Августин не без влияния Плотина и христианских учений стремится в VI книге расширить традиционные горизонты музыкальной теории. В частности, он уделяет большое внимание проблеме чувственного и даже, сказали бы мы, эстетического восприятия. И в этом плане Августин не имеет не только прямых предшественников, но и ближайших последователей. Античные авторы трактатов о музыке Аристоксен, Филодем, Плутарх, Гауденций, Клавдий, Птолемей, Никомах из Герасы даже близко не подходили к этой проблеме. Раннесредневековые авторы, писавшие о музыке - и Боэций (480-525), и Кассиодор (ок. 480 - ок. 575), и Исидор Севильский (560 - 640), - больше опирались на античные трактаты, чем на шестую книгу Августина, завершавшую его суждения о музыке. Философско-эстетические идеи Августина были восприняты уже более поздним Средневековьем, нашли отклик в эстетике Возрождения и Нового времени. Они оказались созвучными также многим идеям, поднятым в IV-VI вв. греческими Отцами Церкви.
Итак, шесть книг Августина «О музыке», как указывал и сам автор, - это сочинение о ритме в самом широком смысле слова, т. е. о числовых закономерностях искусства. Первые пять книг посвящены числам изменяющимся, шестая - неизменяющимся. В I кн. рассматриваются вопросы о сущности музыки как искусства, о движении, излагаются начала числовой эстетики. Кн. II-V посвящены анализу проблем метра, ритма, стиха. В VI кн., анализом которой мы займемся в гл. X, поднимаются вопросы чувственного восприятия и интеллектуального суждения, вечных, неизменяемых чисел, места и роли искусства и науки на путях к блаженной жизни и т. п. Но кроме этих основных проблем работу пронизывают идеи числовой структуры мира, закон единства, идеи равенства, пропорции и соразмерности как определяющих принципов всего разумного бытия, и искусства в частности.
Свое исследование Августин начинает с определения музыки. Уже в трактате «О порядке» его интересовал вопрос о происхождении, предмете и целях «свободных искусств» (или «свободных наук» - у Августина по античной традиции disciplinae liberales и artes liberales - синонимы), среди которых он рассматривал и музыку как науку, «происходящую частью от чувства, частью - от ума» (De ord. Π, 14, 41).
Августин начинает с традиционного античного определения музыки, заимствованного им, как отмечал уже Кассиодор, у Варрона (Discipl. VII). Musica est scientia bene modulandi (музыка есть наука хорошо соразмерять («модулировать») (I, 2, 2)
[540]. Августин дает подробное разъяснение каждому термину этой дефиниции, показывая, что она является «исчерпывающей» (perfecta est), и выявляя уже в процессе этого разъяснения свои эстетические взгляды.
Глагол modulor, происходящий от modus (мера), означает в латинском размерять, ритмически и гармонически организовывать, соразмерять; modulatio - соразмеривание, содержание в мере, размеренность, ритмичность, мелодическое начало. В этом смысле и применяет их Августин. В дальнейшем мы будем употреблять термины «модулировать» и «модуляция» в кавычках без перевода, следуя традиции В. П. Зубова, чтобы не смешивать указанные значения со значениями современных слов «модуляция» и «модулировать».
Трактат написан в форме диалога между учеником и учителем. Определение, данное учителем, сразу же вызывает у ученика вопрос, направляющий все рассуждение в чисто эстетическую сферу: «Но поскольку я вижу, что «модулировать» происходит от modus (мера), ибо во всем хорошо сделанном должна соблюдаться мера, а многое в пении и танце, хотя и доставляет удовольствие, бывает весьма дурно, постольку мне хотелось бы всесторонне выяснить, что же в конце концов есть «модуляция» - слово, которое уже почти одно заключает в себе определение такой большой дисциплины. Ведь здесь следует научиться не чему-нибудь такому, что знает любой певец или актер» * (1, 2, 3). «Модуляция», таким образом, сразу связывается с вопросами мусических искусств, которые доставляют удовольствие, но почему-то бывают дурными, видимо в морально-этическом смысле; предмет же «модуляции» превышает знания музыкантов-практиков. Вопрос о «модуляции» тем самым выносится в сферу чистой теории: с первых же фраз трактата намечается полный разрыв между музыкальной теорией и практикой, хотя и не отрицается, что «модуляция» лежит в основе исполняемой музыки.
Мера, на которой основана «модуляция», - как известно, важнейшая категория античной эстетики. Меру как основу космического порядка и главный регулятор социальной жизни высоко ценили как в греко-римском, так и в ближневосточном мире (ср.: Прем 11, 21). Не случайно Августин считает меру божественной (Contr. acad. Π, 3, 9), теснейшим образом связанной с разумом, мудростью, истиной, блаженством и числом (De beat. vit. 4, 32-35; De Gen. ad lit. IV, 3-5).
«Модуляция», рассуждает он далее в «De musica», относится к движению и является, по сути дела, некой «опытностью», или «знанием», (peritia) процесса движения, точнее - знанием правильно организованного движения. Но ведь ни одно дело практически не может быть осуществлено без этой опытности, без правильно организованных движений. И ремесленник совершает их, создавая вещь из дерева или серебра, и танцор в танце. Первый совершает их ради создания какой-либо вещи, второй движет «свои члены не ради чего-либо иного, а ради их красивого и подобающего движения»*. Спрашивается, какой вид движения выше: тот, когда движение совершается «ради него самого» (propter seipsam) или - когда оно осуществляется для чего-то другого, ради какой-либо утилитарной цели. Даже ученик не сомневается в том, что первый вид движения выше. Именно он-то и относится к «модуляции», которая, таким образом, определяется чисто эстетически: это некое «знание» свободного движения, совершающегося ради красоты самого движения, или, как окончательно формулирует Августин: «наука «модулировать» есть наука о хорошем движении, таком, где оно является предметом стремления само по себе, а потому само по себе радует» * (I, 2, 3).
Понимая таким образом «науку о модулировании» (scientia modulandi), Августин фактически дает определение музыки как вида искусства (ars musica). Не случайно в качестве примера «незаинтересованного движения» он приводит танец. Музыка, как по свидетельству Филодема (I в. до н. э.) считал еще Демокрит, «возникла не из нужды, не из практической потребности, но родилась она от развившейся уже роскоши» (Philod. De mus. 31), т. е. была чужда утилитарных целей с самого своего возникновения
[541]. Так что «чистое удовольствие», наслаждение, радость были издавна связаны с музыкой, как об этом свидетельствуют и взгляды Платона и Аристотеля
[542]. Однако Августина меньше всего интересует ars musica (не терминологически, но по существу Августин четко разделял ars и disciplina), и он переходит к следующему члену формулировки disciplina musica - наречию bene («хорошо» или «правильно»).
Что же значит «хорошо модулировать»? Ведь и сама «модуляция» имеет в виду «хорошо двигаться», т. е. двигаться «в соответствии с числом, соблюдая величины времен и интервалов (ведь уже это доставляет удовольствие и оттого называется не без основания «модуляцией»); однако может случиться, что такой размер и соответствие числу радует, когда не нужно; например, если поющий приятнейшим образом или если изящно танцующий хочет резвиться, тогда как, по существу, от него требуется строгость, - в этом случае... он пользуется нехорошо, или несообразно, тем движением, которое само по себе хорошо, соответствуя числу. Вот почему одно - модулировать, а другое - хорошо модулировать. Ведь нужно считать, что модуляция имеет отношение к любому певцу, лишь бы он не погрешал в продолжительности слов и звучаний, между тем хорошая модуляция имеет отношение к указанной свободной дисциплине, т. е. к музыке»* (I. 3, 4).
Весь комплекс античных учений об этосе, как отмечал один из исследователей трактата, отразился в этом bene Августина
[543]. Может быть, и не «весь комплекс», но многие стороны учения о музыкальном этосе нашли здесь свое отражение и привели Августина к некоторой противоречивости в определении науки музыки. В августиновском объяснении понятия «хорошо модулировать» отразилась та часть античного учения об этосе, которую можно было бы назвать практической или даже утилитарной; а именно - те положения Пифагора, Платона, Аристотеля и других античных мыслителей, в которых музыка понимается как инструмент воспитания, направленного воздействия на психику людей, исправления их характеров. Движение звуковой материи должно осуществляться не «ради него самого», но ради определенной социальной цели. Музыкант играет не для своего удовольствия, но «сообразно» с внешней задачей. И это требование, конечно, вступает в противоречие с августиновским эстетизмом - определением «модуляции» как неутилитарного свободного движения только «ради него самого»
[544].
«Соответствие» (congruentia) внешнему требованию, заданность больше подходит музыкантам-практикам, работающим ради денег или почета, от которых уже в следующей главе будет так рьяно отмежевываться Августин, чем «свободной дисциплине» античного аристократического толка. Чем же может быть объяснено это явное противоречие у Августина, восходящее, правда, к античным традициям? Думается, что именно переходом его с одной мировоззренческой позиции на другую. Для средневековых христианских последователей Августина именно «соответствие» музыки литургическим целям будет играть главную роль. Слова о неутилитарности, внутренней свободе музыки останутся лишь красивой фразой в академических трактатах ученых
[545]. Как мы помним, еще Амвросий Медиоланский ввел пение в местной церкви с сугубо практической целью - использовать музыку для более глубокого внедрения христианского мироощущения в сердца верующих. Августин в данном трактате еще ни одним словом не обмолвился об этой христианской музыке, но самим фактом своего существования она, видимо, уже оказала на него определенное влияние, что выявилось и в определении музыки в I кн. трактата.
Наконец (гл. 4-6), Августину остается объяснить, почему в дефиницию музыки входит слово «наука» (scientia). Для начала он показывает, что и пение соловья весной приятно, соразмерно и соответствует своему времени, но ведь нельзя же думать, что соловей опытен в «свободном искусстве» музыки. То же самое можно сказать и о тех людях, которые поют и играют по слуху, не зная теории. Любовь к пению и игре и умение петь и играть общи у человека и животных. Птицы поют, испытывая вожделение, люди - ради удовольствия, денег, почета, но ни те, ни другие ничего не ведают о музыке как науке. Что же отличает науку (scientia) от искусства (ars)? Здесь Августин вынужден ввести терминологическое различение этих понятий, хотя в дальнейшем он и не всегда его соблюдает
[546]. Он хорошо знает античную теорию: в основе искусства лежит
подражание (imitatio) (I, 4, 6). В результате длительного обсуждения выясняется, что искусство является не только механическим подражанием. Разум тоже имеет к нему некоторое отношение. С другой стороны, и наука не чужда подражанию. И все же главное различие их в том, что в искусстве, обязательно связанном в той или иной мере с материей, преобладает подражание, а в науке, как деле «одного только духа», - разум (I, 4, 7-9).
Более того, Августин, опять же в традициях античного духовного аристократизма, подкрепленного раннехристианским ригоризмом тертуллиановского толка, резко разграничивает музыкальную практику и теорию. Он настаивает на том, что игра на музыкальных инструментах - дело навыка и привычки, а не науки. «Если ею владеют все играющие на флейте, на лире и любые другие исполнители этого рода,- здесь за словами Августина во весь рост встает фигура его земляка и предшественника Тертуллиана, - то нет ничего низменнее, ничего презреннее, чем эта дисциплина» (I, 4, 7). Театральные актеры, певцы, музыканты, доставляющие наслаждение слуху простого народа, выступающие из-за денег или ради славы, не знают музыки как науки. «Вся наука заключена в разумении (intelligentia)... и музыка там же» (I, 6, 11). На чем же основываются тогда музыканты, сочиняя музыку или исполняя ее, и слушатели, скажем простой народ, когда они, не зная науки музыки, свободно отличают плохую музыку (или игру) от хорошей? «Думаю, - отвечает Августин устами своего ученика,- происходит это благодаря природе, даровавшей всем чувство слуха, посредством которого и судят об этом»* (I, 5, 10). Основываясь на чувстве слуха и памяти, флейтист, к примеру, и обучается играть. «Итак, коль скоро память следует за ощущением, а члены - за памятью, будучи вышколены и подготовлены практикой, он исполняет, когда ему захочется, тем лучше и тем приятнее, чем более обнаруживает во всем то, что, как известно из предыдущего рассуждения, является общим у нас с животными, а именно: стремление к подражанию, ощущение и память» (I, 5, 10).
В одном из поздних трактатов Августин вернется к идее врожденного чувства слуха, развивая свою мысль дальше и указывая, что чувство это способно хорошо определять музыкальную «гармонию», состоящую в согласии противоположных элементов: «Во всех вещах познаем мы господство закона соответствия, связи, созвучия и согласия противоположных элементов: греки называют это «гармонией». Чувство этого согласия, этой природной связи является у нас врожденным благодаря абсолютной воле Бога, который нас создал. Отсюда следует, что люди, даже совершенно не обладающие музыкальной наукой, тем не менее не становятся нечувствительными к музыке, слушают ли они ее или сами музицируют. Фактически приводят они с помощью «гармонии» различные благозвучия музыки в соответствие; точно так же нам режет ухо, независимо от технических знаний, которыми не обладает большинство людей, какой-либо пассаж, как только законы, господствующие в музыке, будут оставлены без внимания (нарушены)»
[547].
Что же касается трактата «De musica», ставящего своей целью познание «высшей истины искусства», то Августина в нем меньше всего интересует сама музыка, как вид искусства в современном понимании этого слова. Однако постоянная забота отграничить эту музыку от «высокой теории» и хорошее знание позднеантичного искусства побудили его разобраться и в существе ars musica и выявить в нем ряд важных, объективно присущих ему свойств.
Определив предварительно науку музыки, Августин с 7-й гл. I кн. переходит к изложению самой этой науки. Прежде всего, он останавливается на «модуляции», т. е. принципах правильной организации движений. Сразу же выясняется, что эти принципы суть числовые закономерности. Число лежит в основе любого движения, виды движений отличаются различием числовых отношений. Августин во многом опирается здесь на пифагорейское и неопифагорейское учение о числах
[548], усиливая его эстетическую направленность и закладывая тем самым основы западной средневековой эстетики чисел
[549].
Элементарные движения, из которых образуется все многообразие движений, различаются по длительности и темпу. С точки зрения взаимного соответствия, движения бывают равными по длительности, относящимися друг к другу как числа 1:1; 2:2; 4:4 и т. д., и неравными, типа 1:2, 2:3, 3:4 или 1:3, 2:6 и т. п. (I, 8, 14). Далее, они могут быть рациональными (rationabiles) - находящимися друг с другом в определенном числовом отношении, и иррациональными (irrationabiles), не имеющими таких отношений. Рациональные движения подразделяются, в свою очередь, на два вида: соизмеримые (connumeratos) - кратные определенному числу, типа отношений 2:4, 6:8, и несоизмеримые (dinumeratos) - о них нельзя сказать, во сколько раз одно больше или меньше другого, ни того, какая часть одного или другого является общей мерой (I, 9, 16). Наконец, соизмеримые движения также имеют два подвида: первый - когда общей мерой является меньшее число типа отношения 2:4, второй - когда какая-либо часть содержится в обоих числах, как в отношении 6:8, где такой частью является 2. Первый подвид, когда одно число возникает как бы путем умножения второго, Августин называет умноженными (complicati) движениями, второй - соотносящимися (sesquati) (I, 10, 17). Все названные виды движений помимо чисто структурной упорядоченности составляют и как бы ценностную иерархию. Рациональные числа стоят, конечно, выше иррациональных и распределяются по степеням возрастания внутреннего единства и соразмерности следующим образом: несоизмеримые, соотносящиеся, умноженные, равные. Уже этой упорядоченностью движений Августин показывает, что музыка и мусические искусства основываются на законах единства, равенства, пропорции, соразмерности, соответствия. На протяжении всего последующего изложения он углубляет эти эстетические идеи, получившие свое начало в античности и активно развитые в переосмысленном виде ранним Средневековьем.
Но все эти закономерности, рассуждает далее Августин в чисто пифагорейских традициях
[550], присущи движениям только благодаря их
соисчислимости (numerositas), благодаря числу, образующему их. Следовательно, в самих числах эти закономерности содержатся в более чистом виде. Поэтому Августин вынужден обратиться к анализу ряда натуральных чисел. Этот чисто спекулятивный сам по себе анализ не представлял бы для нас особого интереса, если бы он не содержал ключа к числовой эстетике Средневековья. Основанный на неопифагореизме анализ первых четырех чисел натурального ряда, с одной стороны, тесно переплетен у Августина с эстетической проблематикой, а с другой - показывает, где и как христианство могло использовать математические интуиции пифагорейцев и неопифагорейцев, внутренне связывая их со своим трансцендентным божеством. Подробнее эти мотивы разовьют западные схоласты, но и у Августина мы находим уже их истоки, особенно в связи с усиленным акцентом на совершенстве числа 3.
В своих рассуждениях о числах Августин ближе всего подходит к неопифагорейцу Никомаху из Герасы, жившему в первой половине II в. н. э. и оказавшему сильное влияние на средневековую эстетику
[551]. Главное внимание в своих исследованиях он уделял числам и музыке, полагая, что именно числа объединяют в единое целое все науки «квадривия» и никто не может заслужить доверия божественного откровения, если не чувствует себя как дома в теории музыки и в игре на музыкальных инструментах
[552].
Каждое число, рассуждает Августин, развивая неопифагорейские традиции, имеет центр, середину, по обе стороны которой находятся две равные части (начало и конец), т. е. число понимается им как некая симметричная конструкция. Четные и нечетные числа различаются своими серединами. У нечетных - неделимая середина единицы, у четных - делимая, двойка. Сама единица не имеет ни середины, ни конца. Это абсолютное начало
[553]. Двойка также не имеет ни середины, ни конца. Это тоже начало, но происходящее от первого начала (2=1 + 1). Все числа происходят от первого начала, но только через второе начало. Если объединить первое начало со вторым, то возникает 3. Три - первое совершенное число, в котором есть начало (1), середина (1) и конец (1). «Итак, если два начала чисел объединить друг с другом, они дадут полное и совершенное число» (I, 12, 22). Нет двух других, кроме 1 и 2, рядом стоящих чисел, которые дали бы в сумме следующее за ними число.
Самое прочное и глубокое объединение вещей осуществляется, когда середина находится в согласии с внешними членами и, наоборот, внешние члены созвучны со средним. Это единство в упорядоченных предметах, доставляющее удовольствие, «может быть достигнуто с помощью того единственного соотношения, которое по-гречески называется analogia, а у нас зовется пропорцией» (I, 12, 23). Первые три числа натурального ряда только с помощью четверки получают красоту пропорционального соотношения, ибо четыре обладает свойством, отсутствующим у других чисел. В натуральном ряде чисел 1, 2, 3 сумма крайних членов равна удвоенному среднему - четырем, т. е. следующему по порядку числу ряда. В этом и заключается пропорциональность, analogia внешних членов по отношению к среднему, а ряд 1, 2, 3, 4 является наиболее совершенным. В нем 1 и 2 - начала всех чисел, 3 - первое совершенное нечетное число, 4 - первое совершенное четное. Сумма ряда этих совершенных чисел равняется 10, поэтому 10 и является периодом в бесконечно длящемся ряде чисел (I, 12, 26).
Таким образом, числовая пропорция, доставляющая удовольствие и соотносимая Августином с красотой взаимного соотношения чисел, является у него критерием совершенства ряда четырех натуральных чисел и обоснованием десятичного счисления. Именно этот эстетический аспект теории чисел особенно привлекает Августина в данной работе, посвященной музыке, как науке основывающейся одновременно на разуме и чувстве. Числовая упорядоченность мира, о чем Августин писал еще в трактате «О порядке», свидетельствует о разумной основе бытия, но даже в видимом мире есть вещи, которые не соизмеряются, не соисчисляются полностью разумом человека, хотя и организованы, как полагает Августин, на основе числа. Вот здесь-то и должна помочь эстетика чисел, апеллирующая не только к разуму, но и к чувству красоты и удовольствия. Не случайно Августин, пожалуй, впервые в истории эстетической мысли сознательно сблизивший понятия красоты и искусства, в любых искусствах усматривает число.
В поздних работах Августин также нередко обращается к метафизике и мистике чисел. Здесь с неопифагорейскими мотивами уже тесно переплетаются, порой вытесняя их, библейско-христианские идеи.
Сумма первых трех чисел натурального ряда равна шести. Поэтому шесть также совершенное число. Число дней творения равно шести, ибо шесть означает здесь совершенство творения (De civ. Dei XI, 30). В другом месте Августин более подробно останавливается на числе шесть, указывая, что осознание совершенства внутренней природы чисел позволяет нам, «умственно созерцая» ее, исчислить и выразить в числах все, что подлежит нашему чувственному восприятию. Совершенство шестерки заключается в том, что это первое число, которое равно сумме своих частей (делителей - 1, 2, 3), составляющих начало натурального ряда (De Gen. ad lit. IV, 1 - 2). Любовь к числу оказывается у Августина иногда настолько сильной, что он ставит больше в зависимость от него, чем от Бога, совершенство творения. Число шесть, пишет он, совершенно не потому, что Бог создал мир в 6 дней, но Бог создал мир в 6 дней потому, что 6 - совершенное число. «Итак, хотя бы они (дела Бога по творению. - В. Б.) и не были совершенны, оно (число 6. - В. Б.) было бы совершенно; если же оно было бы несовершенным, то и они в соответствии с ним не были бы совершенными» (IV, 7).
По библейской версии Бог, завершив творение, отдыхал в седьмой день. Соответственно и в числе семь Августин усматривает большой смысл. Математическая основа значимости семерки заключается в том, что она представляет собой сумму первого совершенного нечетного числа (3) и первого совершенного равного числа (4). В Библии, указывает Августин, семь часто употребляется «для обозначения целостности (universitas) какой-либо вещи». Этим же числом обозначается Св. Дух и покой Божий, которым успокаивается и человек в Боге. «Ибо в целом (in toto), то есть в полном совершенстве, заключается покой; в части же - работа. Мы трудимся, пока познаем частично» (De civ. Dei XI, 31).
Число 11 означает, по мнению Августина, грех, так как преступает число 10, которым возвещается Закон. Число 12 - также знаменательное число, ибо получается переумножением частей числа семь (3×4) (XV, 20).
Августин стремится показать и совершенство значимого в христианстве числа 40 (см. Исх 24,18; 3 Цар 19, 8; Мф 4, 2), хотя в разных местах он объясняет это по-разному. Может быть, совершенство числа 40 состоит в том, что Закон дан в 10 заповедях, которые должны быть возвещены во всем мире, т. е. по четырем сторонам света, или в том, что Закон осуществляется с помощью четырех Евангелий (In Ioan. ev. 17, 6). В «Христианской науке» Августин, объясняя сорокадневный пост, пишет, что число 10, взятое четыре раза, выражает познание всех вещей во времени, так как числом 4 определяется течение времени - суточное и годовое. Суточное время состоит из часов утренних, дневных, вечерних и ночных; годовое - из месяцев весенних, летних, осенних и зимних. Число же 10 означает познание Творца и тварного мира, так как число 3 есть число Творца, а число 7 - число твари, состоящей из души и тела. К душе относится сердце, дух и разум, т. е. три единицы из семи, к телу же - 4, означающие четыре материальные стихии, из которых состоит тело. Таким образом число 10, взятое четыре раза, учит людей жить во времени, хотя и не для времени, т. е. чисто, воздержанно, но без пристрастия к временному, побуждая людей тем самым поститься все 40 дней, т. е. всю жизнь. Также священное в христианстве число 50 (от Пятидесятницы) происходит от сорока и т. п. (De doctr. chr. II, 16. 25).
В толковании на 150-й псалом Августин останавливается на совершенстве числа 150. Оно образуется перемножением 10 на 15. Совершенство 10 известно. 15 же означает созвучие двух Заветов - Старого и Нового. В Ветхом Завете соблюдали субботу как день покоя, в Новом - воскресенье, которое напоминает о Воскресении Господнем. Суббота - 7-й день недели, а воскресенье, так как оно следует за седьмым днем - восьмой, хотя одновременно оно является и первым днем новой недели. Но если считать от воскресенья до воскресенья, то получается - 8-й день, и в этом открывается новый союз, скрытый в Ветхом Завете. Сумма семи и восьми дает 15. Число 150 - это число 50, взятое три раза. Число 50 - также важное сакральное число, ибо оно тоже стоит на 8-м месте после семи недель (7 x 7=49 и + 1). Значение и этого числа связано с Пятидесятницей, так как именно на 50-й день после Воскресения Христова Дух Святой сошел на всех, собранных во Христе. Святой Дух, однако, чаще открывается людям в числе 7 (у Исайи и в Апокалипсисе). Число 50 сам Господь разложил на 40 и 10. На сороковой день после Воскресения он вознесся, а еще через 10 дней послал Св. Духа. Число 40 означает временное пребывание людей в этом мире. В 40 господствует 4 и четыре части имеют мир (4 стороны света) и год (4 времени года); 10 означает вечность. В 150 пятьдесят содержится три раза, т. е. помножено еще и на тайну троичности. Поэтому, видимо, и число псалмов равно 150; такое же число рыб поймали в свои сети после Воскресения Христова апостолы (Enar. in Ps. 150, 1).
Ограничимся этими примерами. Уже из них видно, насколько причудливо переплетается у Августина пифагорейская числовая метафизика с библейско-христианской мистикой чисел. Именно такое понимание числа питало средневековую числовую эстетику и символику, распространяясь практически на все виды средневекового искусства от предметов церковного обихода и мелкой пластики до архитектуры, декорирования храмов и организации культового действа. Вернемся, однако, к трактату «О музыке».
Обращаясь в конце I кн. от теории чисел к музыке, Августин показывает, что музыка не идентична теории чисел, хотя и основывается на ней. Отличие между ними он и на этот раз усматривает в эстетической сфере. В первую очередь эстетические закономерности чисел относятся к музыке, как пишет Августин, «к существу нашей дисциплины, т. е. науки хорошо модулировать, принадлежат все хорошо модулированные движения, в особенности же те, которые не соотносятся с чем-то иным, а в самих себе таят цель красоты и удовольствия» * (I, 13, 28). Таким образом, по сути дела, Августин относит здесь к предмету своей науки исключительно эстетические объекты, ибо в них-то и заключены «следы» высшей мусической истины. «Музыка, как бы выходя из сокровеннейших тайников, запечатлела свои следы в наших ощущениях или в вещах, нами ощущаемых, а потому не будет ли правильным сначала изучить эти следы, чтобы затем удобнее, без всякой ошибки, дойти до того, что я назвал тайниками (penetralia), если только это для нас возможно»* (I, 13, 28). Таким образом, дав предварительное определение музыки, Августин намечает логику дальнейшего исследования. Прежде всего он обирается изучить «следы» музыки в материальных эстетических объектах (как мы увидим из II - V кн. в основном на примере поэзии; затем, видимо, должны были следовать книги о мелосе с музыкальными примерами) и после обратиться к анализу самой сущности музыки («если только это для нас возможно»), на что и ориентирована VI кн. трактата.
Кн. II - V, отдельно взятые, представляют собой подробный учебник по метрике, в котором изложена античная метрическая теория, начиная со слога и кончая стихом
[554]. Августин показывает себя в этом вопросе человеком, знающим как теорию, так и практику излагаемого предмета. Он опирается и на хорошо известные современной науке античные метрические теории, и на не дошедшие до наших дней (теории александрийских ученых, к примеру). В качестве иллюстративного материала он использует стихи латинских авторов, а также примеры, заимствованные из работ по метрике Теренциана Мавра и Теренция Варрона. Кроме того, там, где ему не удается подобрать подходящий пример из античной классики, он сам сочиняет стихи и строфы нужного размера. В плане эстетики эти книги дают не так уж много. Как правило, Августин повторяет высказывания античных предшественников. Даже учение о ритме, собственно эстетическом элементе, не поднимается в этих книгах над уровнем технического пособия по поэтике. Книги эти важны для нас тем, что они являются неотъемлемой частью всего трактата, той его серединой, его практическим наполнением, без которого и начало (I кн.) и конец (VI кн.) во многом остались бы пустым звуком, формой без содержания. Материал II - V кн. выступает подтверждением (во многом практическим, так как основан на реальной поэзии) многих положений первой книги, и прежде всего теории чисел, но также и учения о «следах» музыки в реальном искусстве. С другой стороны, конкретные ритмо-метрические исследования составляют основу для многих важных эстетических выводов VI кн. Поэтому эти книги никак нельзя оставить без внимания. Кроме того, они добавляют иногда очень интересные штрихи к общей картине августиновской эстетики.
В начале II кн. развиваются идеи, выдвинутые еще в первой главе трактата. Приступая к анализу ритмических вопросов на поэтическом материале, Августин убеждает читателя в том, что музыка и грамматика - различные дисциплины. Показав в I кн., что соблюдение и регулирование определенной длительности звуков составляет предмет не грамматики, но музыки (I, 1, 1), Августин продолжает углублять это различие во II кн. Так, к длительности слогов грамматика и музыка подходят с разных позиций. Грамматика в своих суждениях опирается на традиционное словоупотребление и требует его соблюдения. Для музыки в первую очередь важен численно измеряемый ритм, в соответствии с которым длительность отдельных слогов может меняться. Музыка не имеет ничего против этого, грамматика же, как «охранительница традиции» (custos historiae), не может с этим мириться. Грамматические ошибки (удлинение слогов, введение варваризмов) не являются ошибками для музыки, если они способствуют организации верного ритма (II, 1, 1). В звучании стиха (ибо ритм выявляется только в звучании) слушателю доставляет удовольствие «некая размеренность чисел», нарушение которой он сразу же улавливает своим «внутренним чувством». В противоположность этому грамматик судит исключительно на основе традиции, образцов, правил (II, 2, 2).
Таким образом, приведенное разграничение лишний раз показывает, что в данном трактате Августин последовательно утверждал в качестве объекта музыки как науки эстетический предмет, имеющий своей целью прежде всего возбуждение радости, чувства удовольствия у слушателя. При организации этого предмета допускаются даже определенные (конечно ограниченные) нарушения правил грамматики, которые, в общем, не так уж и обязательны, ибо являются условностью, закрепленной традицией. Здесь в Августине еще в полный голос говорит учитель красноречия, а новообращенный христианин скромно молчит. Для христианского мышления традиция (и не только религиозная) имела, конечно, неоспоримое преимущество перед удовольствием от хорошо организованного ритма. Античные же риторы, не говоря уж о поэтах, начиная с Исократа высоко ценили прежде всего красоту ритма речи. Эти традиции еще живы в нашем теоретике мусических искусств.
Техническая сторона ритмо-метрического учения Августина вкратце сводится к следующему. В основе метрической системы лежит слог. Слоги бывают краткие и долгие. Краткий слог соответствует единице времени. Долгий равен по длительности двум кратким, т. е. двум единицам времени. Таким образом, в основе всей метрики лежат различные сочетания единицы и двойки, двух начал, о которых Августин писал в I кн. Из соединения слогов образуются стопы. Стопы бывают двухсложные, трехсложные и четырехсложные. При этом слоги (долгие и краткие) могут соединяться в них во всех возможных сочетаниях. Августин перечисляет все варианты стоп с указанием их традиционных греческих названий, принятых и латинской поэтикой (II, 8, 15). Соединяясь на основе равенства и временного согласования друг с другом, стопы образуют различные ритмы. Августин рассматривает принципы объединения различных стоп, которые сводятся к тому, что объединяться стопы могут на основе соответствия по времени и в тактах (такт - подъем и понижение стопы). Не все стопы могут образовывать ритм. Так, амфибрахий

не может образовать ритма. Лучше всего соединяются в ритмы четырехсложные стопы. Стопы, имеющие более четырех слогов, ритма образовать не могут (III, 5, 12).
Итак, ритм - это определенное соединение согласующихся стоп, бесконечно повторяющееся во времени. Ритм, имеющий ограничение, определенное временное завершение, называется метром. Отсюда каждый метр является ритмом, но не каждый ритм - метром. Термин «ритм» больше распространен в музыке, касается той ее части, где речь идет о сочетаниях временных единиц различной длительности. Метр относится к поэзии. Метр, имеющий приблизительно в середине членение (определенное разделение) и представляющий собой законченную мысль, называется стихом. Августин показывает, что названия эти достаточно условны и часто стих называют метром, метр - ритмом, и наоборот (III, 1, 1-2, 4; V, 1, 1). Ритм носит название той стопы (при соединении различных стоп), которая имеет преимущество над другими стопами. В метре должны быть определенные временные паузы (silentia) длительностью от одной до четырех единиц времени
[555].
Метр и стих имеют временные ограничения. Пространство стиха - от восьми до тридцати двух единиц времени (кратких слогов); самый краткий метр - две стопы, самый короткий стих - четыре стопы (III, 9, 20). Путем сочетания различных стоп, как показывает Августин в IV кн., можно образовать 571 вид различных метров (IV, 12, 15). Кроме того, существует определенное количество метров, возникших в результате нарушения метрических закономерностей. Они носят имена поэтов, впервые их употребивших (IV, 13, 30). Различные метры могут объединяться на основе тактового соответствия друг другу в периоды, которые у латинян называются «круговращением» (circuitus). Бывают двухчленные, трехчленные и четырехчленные периоды (IV, 17, 36). Первые превосходят остальные.
Любопытное объяснение предлагает Августин происхождению слова
стих (versus). Оно ведет свое начало не от прямого значения глагола vertere (поворачивать), как думают некоторые, считая, что стих на определенном этапе возвращается к началу ритма (это относится также и к метру). Наименование стиха, возможно, происходит от противоположного значения слова versus - т. е. «не могущий быть повернутым», ибо два члена, из которых состоит стих, не могут поменять свои места без нарушения закона чисел (V, 2, 4)
[556]. Однако, добавляет Августин, происхождение слов - дело далеко не всегда ясное и этим не стоит особо увлекаться. Главное, чтобы сам предмет был ясен.
Несмотря на бесчисленное множество метров, стих может состоять только из двух не меняющихся местами членов, которые, в свою очередь, имеют или равное число полустоп, или - неравное, но находящееся в некоторой соразмерности (V, 13, 27).
Такова техническая сторона метрической теории в изложении Августина. В ней пока еще не освещено главного, что могло бы заинтересовать историка эстетики, а именно: на основе каких принципов происходит образование ритма, метра, стиха? что является критерием оценки хорошего и плохого ритма? где тот судья, который определяет, какие стопы могут образовывать ритм, а какие нет? какие метры могут соединяться друг с другом? и т. п. Ответ на эти и подобные вопросы заключен в эстетической теории ритма, которая в ряде своих основных положений излагается Августином в VI кн., но начало ее заложено здесь, во II-V кн. Собственно говоря, весь трактат, как писал сам Августин, посвящен ритму. В I кн. были даны некоторые математические основы ритма, в последующих четырех книгах - их конкретная реализация в художественных ритмах. Эстетическая проблематика ритма, связанного с конкретным искусством, у Августина достаточно традиционна и опирается на античную классику. В целом идеи эти общи были практически всем греко-римским авторам. Августин мог найти их и у Варрона, и у его младшего товарища и друга - знаменитого Цицерона, к которому он относился с нескрываемым уважением, и у Теренциана Мавра.
Эстетическая значимость ритма в искусстве настолько очевидна для Августина и настолько, видимо, была общеизвестна в то время, что он только мельком ссылается на нее как на вещь тривиальную. Чтобы правильно оценить эти ссылки Августина, следует хотя бы вкратце напомнить античные представления об эстетике ритма
[557], скажем, по теории ритма в ораторском искусстве у Цицерона, который, опираясь на Аристотеля и Феофраста, наиболее полно осветил указанную проблематику. И хотя ритм в обыденной речи и ритм в стихах имеют каждый свою специфику, тем не менее, как подчеркивали авторы риторик, сущность ритма одна: это один и тот же
художественный ритм, основанный на тех же стопах, но в красноречии применяемый несколько иначе, чем в поэзии. А так как в ораторское искусство ритм пришел из поэзии благодаря своим чисто эстетическим свойствам, то риторы в своих теориях главное внимание уделяли именно его эстетической стороне. Поэтому в риторике, занимавшейся в эллинистический и позднеантичный период больше всего эстетической проблематикой, эстетика ритма была разработана, может быть, даже основательнее, чем в поэтике. Ясно, что и позднеантичный учитель красноречия Августин хорошо знал ее из трактатов своего кумира Цицерона и из других популярных учебников.
Специально о ритме Цицерон говорит в трактатах «Об ораторе» (III, 173-198) и «Оратор» (168-236)
[558].
Ораторы начали применять ритм в речах, чтобы сделать их «приятными для слуха. Ибо музыканты, бывшие некогда также и поэтами, придумали два приема доставлять удовольствие - стих и пение, чтобы и ритмом слов, и напевом голоса усладить и насытить слушателей» (De orat. III, 174)
[559]. Красноречие же, «где все направлено к удовольствию толпы и к услаждению слуха» (Orat. 71, 237), естественно, активно использовало этот важный эстетический прием - ритмизацию речи. Ритм понимался в античности как чисто эстетический элемент, ибо его главное назначение видели в придании красоты развивающимся во времени процессам и в возбуждении чувства удовольствия, наслаждения. «...В человеческом слухе от природы заложено чувство меры», которое получает удовлетворение, когда человек слышит ритм. Ритм существует только в прерывистых движениях, когда, скажем, звуки чередуются с промежутками (как в падении капель) и его нельзя уловить в непрерывном движении бурного потока (De orat. III, 186). Заметив эту врожденную способность слуха к измерению звуков, к мере, к ритму, проницательные люди древности создали стих и поэзию, а позже стали применять ритм для украшения речи (Orat. 53, 178).
Ритм имеет четкую числовую основу. Не случайно у греков еще со времен Аристотеля слово «ритм» (rythmos) считалось родственным по смыслу с «числом» (arythmos), а в латинском ритм и число обозначаются одним термином numerus. Тем не менее, постоянно подчеркивает Цицерон, ритм открыт был не рассудком, «а природой и чувством, а размеряющий рассудок объяснил, как это произошло» (55, 183). И если о предметах и словах судит разум, то о звуках и ритме суждение дает слух, ибо они служат только наслаждению (49, 162). Цицерон практически полностью стоит на той позиции, что собственно эстетическое воспринимается только чувством, а не разумом, с чем никак не соглашается Августин. Цицерон, в данном случае прежде всего как практик искусства, прилагавший много усилий для «услаждения слуха толпы», уверен, что между теорией и практикой искусства нет той пропасти, о которой позже, как мы помним, так последовательно и упорно писал ранний Августин. Цицерон был глубоко уверен в том, что всем людям от природы дана способность воспринимать (чувствовать) искусство, особенно же ритмические искусства. «Ведь все, как один, - писал он, - по какому-то безотчетному чутью, без всякого искусства или науки отличают верное от неверного и в искусствах, и в науках. И раз люди разбираются так и в картинах, и в статуях, и в других художественных произведениях, для понимания которых у них меньше природных данных, то тем более они способны судить о словах, ритме и произнесении потому, что для этого во всех заложено внутреннее ощущение и по воле природы никто этого чутья полностью не лишен. <...> Много ли таких, кто постиг законы ритмики и метрики? Однако при малейшем их нарушении, когда стих либо укорачивается от сокращения, либо удлиняется от растяжения слога, весь театр негодует» (De orat. III, 195 - 196).
В трактате «Оратор» он развивает ту же тему: «Целый театр поднимает крик, если в стихе окажется хоть один слог дольше или короче, чем следует, хотя толпа зрителей и не знает стоп, не владеет ритмами и не понимает, что, почему и в чем оскорбило ее слух; однако сама природа вложила в наши уши чуткость к долготам и краткостям звуков, так же как и к высоким и низким тонам» (Orat. 51, 173). Образованный музыкант и простой слушатель воспринимают и чувствуют искусство в одинаковой мере. Музыкант может только создавать искусство и судить о его достоинствах с точки зрения техники. Равенство неуча и опытного музыканта в эстетическом восприятии удивляет мудрого оратора, и он пытается объяснить его: «Удивительно, какая между мастером и неучем огромная разница в исполнении дела, и какая малая - в суждении о деле. Ведь раз всякое искусство порождается природой, то, если бы оно не действовало на нашу природу и не доставляло бы наслаждения, оно ни на что не было бы годно. А от природы нашему сознанию ничто так не сродно, как ритмы и звуки голоса, которые нас и возбуждают, и воспламеняют, и успокаивают, и расслабляют, и часто вызывают в нас и радость, и печаль» (De orat. III, 197). Итак, резюмирует Цицерон: откуда произошли ритмы в прозе? И отвечает: «из стремления к наслаждению слуха... Чему они служат? - наслаждению... Чем они порождают наслаждение? - тем же, что и стихи; как и в стихах, меру здесь находит искусство, но и без искусства ее определяет бессознательное чутье самого слуха» (Orat. 60, 203).
Таким образом, как бы подводя итог античным, достаточно единодушным суждениям о ритме, Цицерон показывает, что ритм возник и существует в искусстве, в первую очередь как носитель эстетического начала
[560]. Соответственно, хотя он и имеет строго числовую основу, судит о нем прежде всего врожденное чувство слуха. Наука уже на основе этого пытается выяснить, как следует правильно организовывать ритм в искусстве.
Августин в целом придерживается этой теории, хотя отдельные ее положения сознательно трансформирует. О происхождении ритма Августин писал еще в трактате «О порядке», когда разбирал вопрос о возникновении наук и искусств. Все они, считает он, - изобретение разума, находящегося в человеке и действующего для пользы человека. О ритме речь заходит при изобретении музыки и поэзии. Рассматривая звуки речи, разум заметил, что стопы состоят из долгих и кратких слогов, которые беспорядочно, но в равном почти количестве рассыпаны по речи. Он попробовал «соединить их в определенные ряды и, следуя при этом прежде всего самому смыслу, выделил небольшие части, которые назвал цезами и членами. А чтобы ряды стоп не продолжались до такой степени, что стали бы утомлять его внимание, он поставил им предел, от которого они бы возвращались, и от этого самого назвал их стихами. А чему не было установлено определенного конца, но что выражалось, однако, разумной последовательностью стоп, то он обозначил именем ритма, которое на латинский язык может быть переведено словом numerus» (De ord. II, 14, 40). Разум заметил, что и здесь, «как в ритмах, так и в самой мерности речи, царствуют и все делают числа». Присмотревшись более внимательно, он «нашел их божественными и вечными, прежде всего потому, что с их помощью он создавал все наиболее возвышенное» (II, 14, 41).
Далее разум перешел к сфере зрения и, осматривая землю и небо, почувствовал, что ему нравится не что иное, как красота, а в красоте - образы (figuras), а в образах - размеренность, в размеренности же - числа». И задал разум себе вопрос, а таковы ли эти линии, очертания, формы и образы, какие существуют в его понятии, т. е. в идее. И увидел, что все видимые формы никоим образом не могут сравниться с тем, что видит разум. Проведя классификацию и упорядочение этих идеальных форм, он создал науку, которую и назвал геометрией. В небе разум также усмотрел господство размеренности и чисел, что послужило началом науки астрономии.
«Итак, во всех этих науках встречал он все подчиненным числам, но так, однако, что числа эти яснее выступали в тех измерениях, которые он, размышляя и обдумывая сам про себя, усматривал истиннейшими; в этих же, которые воспринимаются чувствами, он усматривал лишь тени и следы тех. Это его сильно воодушевило и обнадежило; он отважился доказывать бессмертие души. Он исследовал все внимательно и понял вполне, что он очень многое может сделать и что может, то - [лишь] посредством чисел». Столь великая сила чисел убедила разум, что «в числе есть Тот, Кого он стремился достичь» (II, 15, 42-43), и, следовательно, все упорядоченное в числовом отношении, соизмеримое и «счислимое», и в частности науки и искусства, могут способствовать возведению ума к божественному (П. 16, 44). Ритм (= число) играет, таким образом, важнейшую роль в религиозной (= иррациональной) гносеологии. Этим вопросам Августин уделяет много внимания в VI кн. «De musica».
Во II - V кн. он занят материальными аспектами ритма. Размеренность чисел в ритме и стихе доставляет удовольствие (voluptas, delectatio) (De mus. II, 2, 2). Эта размеренность достигается, если стопы и такты в ритме соединяются друг с другом на основе равенства, соразмерности и подобия (II, 9, 16; 11, 21; 13, 24). Aequalitas, которое в одних случаях у Августина означает равенство в смысле полного тождества, а в других - соразмерность, выступает у него одним из главных эстетических принципов. Именно основанные на равенстве соединения стоп, тактов, метров доставляют удовольствие чувству слуха. Убежденный в абсолютности этого закона, Августин стремится все свести к нему и объяснить им. Так, он знает из практики, что два члена стиха могут содержать как равное, так и неравное число полустоп. С помощью хитрой «игры» с числами, основанной на восходящей еще к пифагорейцам мистике чисел, Августин стремится показать, что и неравенство в полустишиях - частный случай равенства, особой соразмерности, к которой он и стремится свести свои числовые манипуляции (V, 7).
Мы помним, что Цицерон при оценке метрических явлений отдавал предпочтение «слуху». Августин регулярно использует (как правило, поочередно) два критерия оценки. На первом месте у него стоит разум (ratio), знающий законы чисел, который тогда был для Августина выше суждений чувств и авторитетнее традиционных правил. Рассуждая о любых предметах, утверждает он, нужно полагаться не на мнения людей, даже освященные древней традицией, которые могут оказаться ложными, а на разум. Ему-то и следовали древние поэты и теоретики. «Вечная идея вещей» (aeterna rerum ratio), постигаемая нашим разумом, и должна быть главным критерием истинного суждения (V, 5, 10). Однако в вопросах ритма далеко не все, даже на основе хитрых манипуляций с числами и словами, можно объяснить с помощью разума, и Августин постоянно вынужден прибегать ко второму критерию - бессознательному суждению слуха на основе чувства удовольствия или неудовольствия. Этот критерий часто оказывается наиболее убедительным, а иногда и единственным.
Августин неоднократно отмечает, что, помимо метров, подчиняющихся видимым числовым закономерностям, многие поэты применяли и метры, нарушавшие эти закономерности. Эти метры, получив имена поэтов, впервые их применивших, вошли вопреки разуму в поэтическую практику. Чтобы не нарушать стройное здание числовой эстетики, Августину приходится отнести эти метры скорее к исторической традиции, чем к искусству (в смысле теоретической дисциплины), ибо хотя они и доставляют удовольствие в стихах, но не подчиняются разумному счислению (IV, 13, 30). Особенно часто они встречаются у лирических поэтов (V, 13, 28). По мере усложнения ритмических образований - при переходе от метра к стиху обоснование тех или иных закономерностей стиха все чаще опирается на эстетические критерии. В частности, именно на этой основе объясняет Августин двухчастное строение стиха. «Не заключена ли основа того, что [стихотворная] стопа услаждает слух, - риторически вопрошает Августин,- в том, что две ее части, из которых одна повышается, а другая понижается, гармоничны в числовом отношении (numerosa sibi concinnitate)?»
В чем же заключается эта гармоничность (concinnitas)? «Среди всех предметов, которые воспринимаются состоящими из частей, не те ли являются более прекрасными, чьи части взаимно согласованы (concordent), по сравнению с имеющими несогласованные и диссонирующие части?» Даже ученик не сомневается, что это именно так. Виновником деления на равные части является число 2. Так и в стопе, состоящей из двух частей, именно их гармоничность радует слух. Поэтому-то двухчастные метры имеют преимущество над остальными (V, 2, 2). Строгой логики в этих рассуждениях искать, конечно, не приходится. Весь их смысл сводится к тому, что не до конца объяснимые вещи типа гармонии, согласованности, равенства частей в целом возбуждают чувство удовольствия и воспринимаются как прекрасные, а следовательно, как правильные и разумные, хотя и человеческим разумом не до конца объясняемые.
В конце V кн. Августин собирается обратиться от всех этих материальных следов музыки и чисел к самому их средоточию, центру (ad ipsa cubilia), который далек от земных предметов (V, 13, 28).
Эту же мысль он развивает и в первой главе VI кн., указывая, что предыдущие пять книг были подготовкой к последней, ведущей читателя от сферы телесной к первоисточнику и господину всех вещей, который руководит «человеческим духом» без какой-либо посредствующей природы, т. е. к Богу (VI, 1, 1). Этот переход в данном трактате Августин усматривает исключительно в сфере чисел (ритмов), выстроенных поразрядно в иерархическом порядке. Важное место в этой иерархии занимают числа, связанные с психическими механизмами восприятия, и прежде всего эстетического восприятия, поэтому нам представляется целесообразным перенести анализ этой книги в гл. X и завершить там анализом высших разрядов чисел у Августина разговор о его эстетике вообще.
Подводя предварительный итог августиновской теории числа и ритма, можно отметить, что numerus играет у Августина роль важнейшего структурного закона, которому подчинено все в мире бытия. Понятие числа у Августина существенно шире современного значения этого термина. Оно включает в себя, как минимум, всевозможные структурные закономерности, как временные, так и пространственные, которые в конечном счете обусловливают эстетическую значимость универсума и произведений искусства, и прежде всего красоту мира, человека и творений рук его.
Глава VI. КРАСОТА И ПРЕКРАСНОЕ
Анализ общих философско-эстетических понятий порядка и ритма у Августина вплотную подводит нас еще к одному важному вопросу его эстетики. Красота, прекрасное волновали гиппонского епископа отнюдь не только в юношеском возрасте. Как мы уже отчасти видели, эти категории лежали в основе всей его эстетики и осмысливались им в тесной связи с такими проблемами, как порядок, ритм, число, блаженство, удовольствие, творчество. В понимании красоты и прекрасного Августин опирался прежде всего на весь известный ему опыт греко-римской эстетики, пытаясь трансформировать его в библейско-христианском духе. Особо сильное влияние оказали на него эстетические идеи Плотина, который по праву может быть назван завершителем и систематизатором практически всех античных представлений о красоте, отчасти их реформатором и зачинателем новых, положивших начало средневековой эстетике. Многие эстетические идеи представителей патристики и зрелого Средневековья, как на Востоке, так и на Западе, восходят к эстетике таких платоников, как Филон Александрийский, Климент Александрийский и Плотин
[561]. Здесь целесообразно хотя бы кратко напомнить плотиновскую теорию прекрасного
[562].
Развивая на новом культурно-историческом этапе платоновские идеи, Плотин посвятил вопросам прекрасного много места в своих «Эннеадах» и, в частности, два специальных трактата: «О прекрасном» (Эн. I, 6) и «О мысленной красоте» (Эн. V, 8)
[563], в которых с достаточной полнотой представлена его эстетическая концепция.
В первом трактате Плотин начинает разговор о прекрасном с чувственно воспринимаемой красоты, сразу же оговариваясь, что прекрасными могут быть и поступки, и занятия, и знания, и добродетели, и им подобные явления. Прежде всего он подвергает критике известное стоическое определение красоты
[564], имевшее хождение и во времена Августина, и в средневековой эстетике: «Почти все, можно сказать, утверждают, что красоту, воспринимаемую зрением, порождает соразмерность (συμμετρία) частей друг с другом и с целым, в связи с прелестью красок. И для тех, кто это утверждает, и вообще для всех остальных, быть прекрасным - значит быть симметричным и соразмерным. Для них ничто простое не будет прекрасным, а необходимым образом лишь сложное, и [лишь] целое будет для них прекрасным. Отдельные же части не будут для них прекрасны, части должны согласоваться с целым, чтобы получилось прекрасное. Между тем если целое прекрасно, то и части должны быть прекрасны, ибо [прекрасное] не может состоять из безобразных частей, но все части должны получить красоту» (Эн. I, 6, Г). Плотин, пожалуй, впервые в истории эстетики поставил вопрос о красоте простых вещей, таких, как свет солнца, звезд, зарницы, локальный цвет, отдельно взятый звук и т. п., и на этой основе показал недостаточность традиционной формулы прекрасного. Далее, он подметил, что одно и то же симметричное и соразмерное лицо в одни моменты бывает прекрасным, а в другие нет. Поэтому, заключает он, и в самой соразмерности есть не что иное, чем она сама, что придает ей красоту. Если же обратиться к прекрасным занятиям, речам, математическим знаниям, добродетелям и т.п. явлениям духовно-практической деятельности, то здесь уже, полагает Плотин, совсем неуместно говорить о симметрии и соразмерности.
Стремясь понять сущность прекрасного в видимых предметах, он вынужден обратиться к сфере восприятия. Воспринимая прекрасное, душа настраивается на один с ним лад, принимает его в себя; натолкнувшись же на безобразное, она отвращается от него, чуждается его, не принимает в себя. Душа, принадлежа по своей сущности к лучшему из всего существующего, радуется, изумляется и принимает в себя только то, что сродно ей, подобно тому, что принадлежит ей. Что же сходного у мира души и у прекрасных материальных тел? Плотин усматривает это сходство в приобщенности к идее, эйдосу, внутренней форме (τό ένδον είδος). Видимые тела «прекрасны через приобщение эйдосу (μετοχή είδους), скажем мы, ибо все бесформенное, способное по природе своей принять форму и эйдос и лишенное, однако, логоса и эйдоса, безобразно и чуждо божественному уму; и это все безобразно. Безобразно и то, что не подчинено форме и логосу, так материя не допускает полного оформления согласно эйдосу. Итак, эйдос, привходя [к материи], приводит в порядок то, что благодаря сочетанию должно сделаться единым из многих частей, и приводит в единую полноту целого, и в силу согласия делает единым. <...> Таким-то образом возникает прекрасное тело чрез приобщение логосу, исходящему от божественного [начала]» (Эн. I, 6, 2).
Плотина интересуют не формальные признаки прекрасного, но его сущностная причина, и он усматривает ее в некоторой
идее, или
эйдосе[565], находящем выражение в материи. Главной характеристикой прекрасного (и не только в мире визуальных форм) выступает у него
степень выраженности эйдоса в иерархически более низкой ступени бытия. Красота начинает проявляться в материи по мере ее упорядочивания (оформления) и преодоления духовным эйдетическим началом, которое находит пластическое воплощение в прекрасных телах и произведениях рук человеческих. Так, «внешний вид здания, если удалить камни, и есть его внутренний эйдос (τό ένδον είδος), разделенный внешнею косной материей, эйдос неделимый, хотя и проявляющийся во многих [зданиях]» (Эн. I, 6, 3). Таким образом, Плотин в русле позднеантичного платонизма нашел новое и более обобщенное решение проблемы прекрасного. Под его определение подходили как сложные, так и простые эстетические объекты, как предметы материального мира, так и явления разнообразной предметно-практической и духовно-интеллектуальной деятельности. Воплощение или выражение того или иного эйдоса платоник мог спокойно найти практически во всяком элементе и явлении любой сферы универсума. К примеру, «простая красота цвета [возникает] благодаря форме и преодолению темного начала в материи присутствием бестелесного и умного света, который является эйдосом (идеей). Поэтому и самый огонь прекрасен более остальных тел, так как по отношению к остальным элементам он занимает место эйдоса, ибо он и выше других тел по положению, и самое легкое из тел, будучи близким к бестелесному. <...> и огонь изначально имеет цвет, остальные же тела от него получают эйдос цвета. Итак, он (огонь. -
В. Б.) блестит и сверкает, будучи как бы эйдосом. Все же, что не властвует [над материей], так как обладает скудным светом, не прекрасно, как не причастное всецело эйдосу цвета» (Эн. I, 6, 3).
От чувственно воспринимаемого прекрасного Плотин переходит, «восходя вверх», к рассмотрению прекрасного «более высокого порядка», которое воспринимается душой без посредства органов чувств и недоступно чувственному восприятию. Таким образом, Плотин намечает иерархический подход к сфере прекрасного, что вполне закономерно вытекает из его эманационно-субординативной концепции универсума и хорошо соответствует духу платонизма.
Ко второму уровню прекрасного Плотин относит красоту занятий и знаний, «сияние добродетели», «прекрасный лик справедливости и умеренности», и т. п. вещи, которые своей красотой значительно превосходят красоту природных явлений. Прекрасное этого уровня доставляет наслаждение, потрясение, изумление значительно большей силы, чем красота телесная (Эн. I, 6, 4). Чтобы выявить суть «душевной» красоты, Плотин применяет прием «от противного» - выясняя сначала сущность безобразного души, которое проявляется в невоздержанности, несправедливости, обилии страстей, в трусости, любви к нездоровым плотским наслаждениям и т. п. Безобразное души состоит в загрязненности ее всяческими телесными пороками. «Итак, мы едва ли ошибемся, сказав, что душа становится безобразною в силу смешения и соединения с телом и материей и склонности к ним. Это безобразие заключается в том, что душа бывает не чистою, не несмешанною» (Эн. I, 6, 5), и, следовательно, красота души и всего этого уровня вообще заключается в очищении от всего тленного, телесного.
«Итак, душа очищенная становится эйдосом и логосом, вполне бестелесною, разумною, всецело принадлежит божеству, в котором источник прекрасного и всего подобного, что сродни ему. Итак, душа, возведенная к уму,- прекрасное во много большей степени». Плотин переходит к следующей ступени красоты - уму. При этом мысль его постепенно переключается от души человека к Душе и Уму мира, которые истекают из Единого или Бога и образуют весь мир и его красоту. «Красота,- продолжает Плотин,- свойственная душе от природы, а не заимствования, и есть ум и то, что проистекает из ума, ибо лишь тогда душа бывает поистине только душою. Поэтому-то правильно говорится, что добро и красота для души заключаются в том, чтобы уподобиться Богу, ибо оттуда прекрасное и всякий иной удел сущего» (Эн. I, 6, 6). Бог являет собой вершину эстетической иерархии. По сравнению с ним материя выглядит безобразной. В Боге неразрывно соединены высшее благо и красота, которая поступенчато эманирует в мир материального бытия: «и на первом месте следует поставить красоту, тождественную с добром, из которого проистекает непосредственно ум как прекрасное. Душа же - прекраснее благодаря уму, а все остальное прекрасное - в поступках, в занятиях - прекрасно уже благодаря душе, дающей форму. Душа, равным образом, делает уже прекрасными и те тела, которые так называются: так как душа божественна и как бы часть (μοίρα) прекрасного, то [все вещи], с которыми душа соприкасается и подчиняет их себе, она делает прекрасными, насколько они способны приобщаться красоте» (Эн. I, 6, 6).
Божество, высшее благо описывается в этом трактате в эстетической терминологии. Его видение, по сути дела, тождественно акту эстетического восприятия: «Кто еще не лицезрел его, тот стремится к нему как к благу; кто же видел, тот восхищается как прекрасным, бывает преисполнен изумления, смешанного с блаженством, испытывает безболезненное потрясение, любит истинной любовью, со страстным пылом, смеется над всякою другою любовью и презирает то, что прежде считал прекрасным». В процессе этого постижения субъект сам приобщается высшей красоте, становится прекрасным: «Итак, если кто-либо узрел то, что стоит во главе хоровода всех вещей, что дает, оставаясь в самом себе, и ничего в себя не принимает, узрел, пребывая в созерцании подобного и наслаждаясь им, в каком еще прекрасном нуждался бы он? Оно, будучи само наивысшей и первой красотой, делает любящих его прекрасными и достойными любви» (Эн. I, 6, 7).
Итак, в трактате I, 6 Плотин дает четкую иерархию красоты, или прекрасного
[566]. Причиной и источником красоты является Бог, как высшее единство добра и красоты. От него красотой наделяется Ум, который сообщает ее в виде эйдосов Душе. Душа же дает форму, или эйдосы, т. е. красоту всей духовно-практической деятельности человека и его душе, и в последнюю очередь всем телам материального мира. Человек, в свою очередь, как существо духовное, т. е. присущее эйдосу, имеет потребность в общении с красотой и в идеале - стремление приобщиться к высшей красоте, обладание которой доставляет неописуемое блаженство. Относительно высшей ступени, т. е. Бога, Плотин не может дать точной дефиниции: то ли это единство добра и высшей красоты, то ли - «добро, стоящее превыше красоты, - источник и первоначало прекрасного». Ум уже полностью принадлежит к сфере прекрасного. Он источник эйдосов, а красота - это эйдосы и «все прекрасно благодаря идеям - порождениям и сущности ума» (Эн. I, 6, 9). Эйдосы выступают главным носителем красоты в эстетической иерархии Плотина.
В трактате V, 8 Плотин дополняет свою иерархию красоты и делает ряд интересных эстетических выводов. Прежде всего, здесь вводится в иерархию красота искусства. Произведения искусства обладают особой, чувственно воспринимаемой красотой, которую придает бесформенному природному материалу художник. Форма же, или эйдос, произведения искусства сначала появляется в замысле художника и лишь затем реализуется в материале. Возникает же этот эйдос у художника потому, что он причастен искусству. «Следовательно,- заключает Плотин,- красота эта присутствовала в искусстве в более высоком виде. Именно не привходит в камень та красота, что в искусстве, но она остается [не причастной камню], а привходит от него (искусства) другая, меньшая, чем эта. Да и эта не осталась чистой в камне и не осталась такой, как хотел художник, но [такой], насколько камень поддался искусству. Если искусство творит то, что оно [есть само по себе] и чем обладает, то оно в большей и истиннейшей степени прекрасно, обладая красотою искусства, конечно, большей и прекраснейшей, чем та, которая есть во внешнем [проявлении]» (Эн. V, 8, 1).
Итак, Плотин впервые сознательно и аргументированно поставил вопрос о связи искусства (при этом он имел в виду прежде всего изобразительные искусства и архитектуру, т. е. не «свободные», но «механические» искусства!) с красотой. «В античную эпоху,- писал В. Татаркевич, - об этой связи говорили мало. Именно Плотин увидел в прекрасном первостепенную задачу, ценность и меру искусства. То был, по выражению одного исследователя, «непреходящий подвиг Плотина»
[567]. Развивая платоновские идеи, Плотин утверждает, что существует некая чисто духовная дисциплина искусства, типа, скажем, науки музыки или поэтики, в которой и обитает идеальная красота искусства. Художник, овладев этой дисциплиной, «наукой», стремится на ее основе творить собственно материальные произведения искусства, грубая и косная материя которых не позволяет до конца воплотить идеальную красоту искусства, поэтому реальные произведения содержат лишь более или менее удачные отображения этой красоты. Степень приближения к «внутренней форме» искусства зависит от таланта и технической подготовки художника.
В соответствии с таким пониманием задач искусства Плотин уточняет и значение термина подражание применительно к изобразительным искусствам. В понимании крупнейшего неоплатоника они подражают не внешнему виду природных предметов, но их «внутренней форме», их эйдосам, идеям, логосам, стремясь выявить и выразить в по-новому организованных с помощью искусства материальных формах внутреннюю красоту изображаемой вещи. «А если кто-нибудь принижает искусства, - пишет Плотин, - на том основании, что они в своих произведениях подражают природе, то прежде всего надо сказать, что и произведение природы подражает [чему-то] иному. Затем необходимо иметь в виду, что произведения искусства подражают не просто видимому, но восходят к смысловым сущностям (λόγους), из которых состоит и получается сама природа, и что, далее, они многое созидают и от себя. Именно, они прибавляют к так или иначе ущербному [свои свойства] в качестве обладающих красотой» (Эн. V, 8, 1).
Эти важные выводы античного мыслителя легли в основу не только средневековой эстетики, но вдохновляли и вдохновляют на творческие подвиги десятки поколений художников вплоть до наших современников. У многих теоретиков и практиков современного искусства мы найдем высказывания, почти дословно совпадающие с плотиновскими. И это не случайно, ибо суждения об искусстве этого, по выражению В. Татаркевича, «наиболее абстрактного и трансцендентного из античных философов»
[568] отнюдь не были плодом чистого умозрения. Напротив, они опирались на глубокое проникновение в наивысшее достижение античного художественного гения - творчество знаменитого Фидия (см.: Эн. V, 8, 1).
Подчеркнув еще раз, что внешняя красота как в природе, так и в искусстве не является главной, но люди, не понимая, что через внешнюю на них действует внутренняя красота, гонятся обычно именно за телесной красотой (Эн. V, 8, 2). Плотин опять напоминает об иерархичности красоты, дополняя иерархию новыми членами. Так же, как между произведением искусства и Душой он вводит красоту самого искусства, - так и между природными произведениями и Душой он ставит некоторую идеальную красоту природы. «Итак, и в природе существует смысл красоты, являющийся первообразом по отношению к [красоте] телесной; а по отношению к той, что в природе, существует еще более прекрасный смысл в душе, от которого возникает и тот, что в природе» (Эн. V, 8, 3). Здесь же Плотин отождествляет красоту со светом, отмечая, что красота ума передается душе, «принося ей свет от большего света, как от красоты первичной». Эти идеи впоследствии положил в основу своей эстетики анонимный автор знаменитых «Ареопагитик»
[569].
От Ума, развивает далее свою теорию Плотин, происходит не только красота Души, но и красота богов, которые совместно с Единым образуют некую божественную целостность - космос божественности. Все «боги возвышенны, прекрасны; и красота их неизъяснима» (Эн. V, 8, 3). Плотин говорит, конечно, не о внешней форме богов, хотя считает, что и таковой они обладают, но о их внутренней сущности, которая имеет бытие внутри божественного космоса в глубоком духовном единстве с Первопричиной. Единство этого высшего мысленного космоса антиномично (единство и различие одного и всех богов) и частично напоминает сложное тождество и различие ипостасей в христианской Троице, как ее позже осмыслили, видимо, не без плотиновского влияния, отцы православной догматики. Плотин так представлял себе высшего бога - источник всей красоты и божественный космос: «И он, возможно, придет (после молитвы к субъекту духовного созерцания. - В. Б.), неся свой собственный космос со всеми богами в нем, будучи одним и всеми, когда и каждый есть все боги, соединяясь в одно и различествуя заложенными в них силами, но по одной силе, свойственной многим, одним бог, будучи одним, является всеми богами.
Действительно, сам он не убывает, когда те все возникают. Они - вместе, и, в свою очередь, каждый - порознь в непротяженном покое, без всякой чувственной формы. В последнем случае один был бы в одном месте, другой же - где-нибудь в другом, и каждый был бы в самом себе не весь. Не имеет он [высший бог] и разных самостоятельных частей в других или в самом себе; каждое в отдельности целое не есть [тут] раздробленная сила и такая по величине, сколько в ней измеренных частей. Оно всё есть сила, идущая в беспредельность и до беспредельности наполненная силой. И он, высший бог, настолько велик, что и части его стали беспредельными» (Эн. V, 8, 9). Эти идеи Плотина имели большое историческое будущее, ибо намечали путь к преодолению однозначного дискурсивного описания величин, выходящих за узкие рамки формальной логики. Греческая патристика особенно охотно встала на этот путь. Предельной виртуозностью в описании нелогических закономерностей, как известно, отличался Псевдо-Дионисий Ареопагит
[570]. Латинское христианство было менее восприимчиво к антиномическому мышлению. Августину потребовалось написать целый большой трактат (один из главных в его творчестве), чтобы, используя все свои знания, всю свою «диалектику» и риторику, попытаться
логически доказать возможность и истинность бытия
нелогичного божественного Триединства. По сути дела, разъяснению и обоснованию только что приведенной мысли Плотина, которая, видимо, была известна Августину, но применительно уже к христианским ипостасям, и посвящен его трактат «О Троице».
Возвращаясь непосредственно к эстетике, отметим, что именно этот антиномический и максимально прекрасный мысленный космос Плотин наделяет истинным бытием. У Плотина, как и вообще в греко-римской античности, красота онтологична (собственно κόσμος по-гречески и есть красота, украшение, и не случайно здесь именно этот термин применяет Плотин). Но у автора «Эннеад» красота является не просто свойством бытийствующей субстанции, как во всей античной традиции до него, но относится к самой сущности бытия. Степень причастности бытию у него пропорциональна красоте субстанции: чем она прекраснее, тем - бытийственнее, ближе к истинному и вечному бытию, и обратно. «Тамошняя же потенция,- пишет Плотин,- имеет только бытие, и только бытие в качестве прекрасного. Да и где сущность была бы лишена бытия в качестве прекрасного? С убылью прекрасного она терпит ущерб и по сущности. Потому-то бытие и вожделенно, что оно тождественно с прекрасным, и потому-то прекрасное и любимо, что оно есть бытие. Зачем разыскивать, что для чего является тут причиной, если тут существует одна природа? Эта вот [чувственная] ложная сущность, конечно, нуждается в прекрасном лжеобразе, приходящем извне, чтобы и оказаться прекрасной и чтобы вообще быть. И она постольку существует, поскольку участвует в красоте, соответственной эйдосу, будучи совершеннее в меру этого приятия. Ибо более принимает форму (эйдос.- В. Б.) та сущность, которая есть собственно прекрасная» (Эн. V, 8, 9). В другом месте Плотин прибегает к образному выражению единства и неразрывности бытия и красоты и роли прекрасного в качестве показателя благополучия бытия: «Прекрасное ведь и есть не что иное, как цветущее на бытии», «цветущая на бытии окраска есть красота» (Эн. V, 8, 10).
В конце трактата V, 8 Плотин выдвигает бога, как отца всего прекрасного, выше всей иерархии, а «первично прекрасным» обозначает его сына, т. е. Ум. Душа же мира, как получившая красоту от него, отождествляется здесь с Афродитой (Эн. V, 8, 13). В целом иерархическая система красоты (или прекрасного) у Плотина может быть схематически представлена в следующем виде:
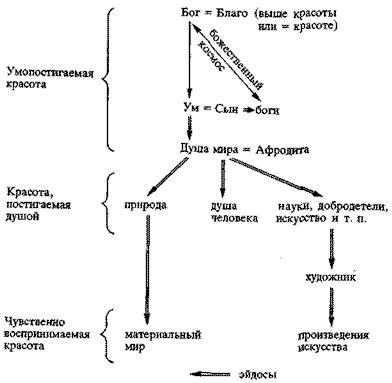
Таким образом, у Плотина вырисовывается стройная иерархия красоты, состоящая из трех ступеней. Первая, и высшая, ступень - это умопостигаемая красота. Источником ее является Бог (=высшему благу), а главными носителями последовательно выступают Ум и Душа мира, которая, в свою очередь, дает начало следующей ступени красоты - постигаемой душой (человека). На этой ступени находится идеальная красота природы, красота души человека и красота добродетелей, наук, искусства. Нижнюю ступень иерархии занимает чувственно воспринимаемая красота, к которой Плотин относит реальную красоту мира и красоту произведений искусства. Передача красоты с высших ступеней иерархии на низшие производится с помощью эйдосов, исходящих от Ума, и имеет общую тенденцию к увеличению степени материализации красоты, ее огрублению. На эту иерархию, так или иначе ее переосмысливая, во многом ориентировалась средневековая эстетика и художественная культура.
Другой, не менее значимой проблемой для средневековой эстетики, и для августиновской прежде всего, была плотиновская концепция восприятия прекрасного. Не останавливаясь на ней подробно, мы отметим лишь следующие моменты.
Путь постижения красоты представлялся Плотину восхождением по иерархической лестнице. Первый шаг на этом пути заключается в «бегстве» от чувственно-воспринимаемой красоты «в родное отечество» - на более высокие ступени духовной красоты. На это, полагает Плотин, намекал в «темных выражениях» еще Одиссей, который бежал от Цирцеи и Калипсо, даривших ему усладу для глаз и чувственные наслаждения. Необходимо, как бы закрыв глаза, пробудить в себе внутреннее духовное зрение, «которое имеется во всех, а пользуются им немногие», и с его помощью приступить к созерцанию более высоких ступеней прекрасного (Эн. I, 6, 8). Внутреннее зрение, пробудившись, сразу не в состоянии смотреть на «блестящие предметы», т. е. на высшие ступени прекрасного. Поэтому сначала душа должна научиться видеть прекрасные занятия и прекрасные дела, которые совершаются хорошими людьми. После этого следует «взирать на души тех, кто совершает прекрасные дела. Итак, каким же образом узрел бы ты красоту хорошей души? Обратись к самому себе и посмотри» (Эн. I, 6, 9). Этот призыв обратиться внутрь себя, к созерцанию глубин своего внутреннего мира - важное достижение позднего платонизма (начала его мы находим еще у Филона Александрийского) и раннего христианства, которое было подхвачено и активно развито патристической мыслью и средневековой мистикой и философией. Оно оказало существенное влияние и на развитие эстетической мысли, ибо привлекло особое внимание к глубинным движениям в человеческой душе, к процессу эстетического восприятия, эстетического суждения и т. п. В последней главе мы увидим, как много удалось сделать в этом направлении Августину, развившему многие плотиновские идеи.
Понятно, что, погрузившись в созерцание своих глубин, далеко не всегда найдешь там красоту, - слишком уж удобное место там для сокрытия всего недостойного, порочного, безобразного, что отнюдь не чуждо человеку. Поэтому, подчеркивает Плотин, если не найдешь внутри себя красоты, начинай ее формировать в себе, наподобие скульптора, стремящегося изваять прекрасную статую: «одно он отсекает, другое полирует, одно сглаживает, другое подчищает, пока не выявит лицо статуи прекрасным. Так и ты: удали лишнее; выпрями то, что криво; очистив темное, сделай его сияющим; и не прекращай обрабатывать свою статую, пока не заблистает перед тобою богоподобная сияющая красота добродетели, пока не узришь мудрость восседающую в священном чистом [величии]» (Эн. I, 6, 9).
Достигнув этой ступени, созерцающий субъект сам становится «истинным светом», «самим зрением», способным к восприятию высшей красоты, ибо, полагает Плотин, акт восприятия возможен только в том случае, если воспринимающий становится «родственным и подобным» объекту восприятия. Никогда глаз наш не увидел бы солнце, если бы не был солнцеподобным, и душа не в состоянии узреть прекрасное, не сделавшись прекрасной. Поэтому всякий, кто желает видеть прекрасное, должен сам прежде стать прекрасным (Эн. I, 6, 9), т. е. подготовить свой внутренний мир для восприятия прекрасного. Только после этого возможно окончательное и полное восприятие красоты. Здесь Плотин приходит к тонким психологическим наблюдениям. Он показывает, что процесс восприятия красоты - процесс предельной психической активности субъекта восприятия, когда он, охваченный любовью к объекту, сам приобщается к его красоте, как бы внутренне сливается с ней и созерцает ее внутри себя - «тот, кто созерцает его проницательно, в самом себе имеет созерцаемое» (Эн. V, 8, 10).
Плотин хорошо ощущал, что в процессе восприятия прекрасного в душе возникает некий аналог объекта, некий образ, близкий, почти тождественный объекту, который и возбуждает духовное наслаждение. Кроме того, Плотин знал и о другом виде восприятия, нередко предшествующем только что описанному, когда душа переносит на объект восприятия свой собственный образ и созерцает его как принадлежащий объекту. Такое восприятие представлялось Плотину неистинным, но находящимся на пути к истинному (Эн. V, 8, 11). Восприятие прекрасного у Плотина во многом отождествлялось с постижением Первопричины, которое также осуществляется на сверхразумных путях, в том числе и эстетических, в акте экстатического озарения. Мудрость богов «высказывается не в суждениях, а в прекрасных образах»
[571], а их сущность не подлежит дискурсивному описанию. Поэтому, вероятно, не так уж парадоксален, как это казалось В. Татаркевичу, тот факт, «что этот наиболее абстрактный и трансцендентный из античных философов уделял так много внимания эстетике и сыграл такую важную роль в ее истории»
[572].
С особым интересом относился Плотин к зрительным образам и изобразительным искусствам. А. Грабар
[573], а вслед за ним и В. Татаркевич показали, что разработанная Плотином теория изобразительных искусств была реализована не позднеримским, но раннехристианским искусством, т.е. послужила определенным теоретическим фундаментом для европейского средневекового искусства и особенно - византийского. Мы приведем здесь резюме этой теории, данное В. Татаркевичем. Живопись по природе своей не имеет дела с «тем» миром, хотя и может его иметь, если, подобно музыке, сосредоточит свои усилия на ритме и гармонии
[574]. Кроме того, она должна придерживаться следующих принципов. Необходимо избегать тех изменений, которые являются, по мнению Плотина, следствиями несовершенства зрения: уменьшения величины и потускнения цветов предметов, находящихся вдали; перспективных деформаций, изменения облика вещей вследствие различия освещения. Следует изображать вещи так, как мы видим их вблизи при всестороннем освещении, изображать их все на первом плане, во всех подробностях и локальными красками. Далее, так как материя отождествляется с массой и темнотой, а все духовное есть свет, то живопись для того, чтобы прорвать материальную оболочку и достичь души, должна избегать изображения пространственной глубины и теней. Изображенная поверхность вещи должна излучать сияние, которое и является блеском внутренней формы вещи, т. е. ее красотой
[575]. Искусство, отвечавшее этим требованиям, возникло в христианском мире еще до Плотина. Неизвестно, знал ли он о его существовании. Во всяком случае, он лучше и глубже, чем его христианские современники, изложил основы этого искусства и обосновал их теоретически, исходя из своей эстетической концепции.
Завершая краткий очерк плотиновской теории красоты, подведем некоторые итоги. Плотин в русле своей философии, опираясь на античные традиции и остро ощущая духовную атмосферу своего времени, создал практически новую теорию прекрасного, оказавшую существенное влияние на средневековую эстетику. Наиболее значимые для последующего развития эстетики положения этой теории могут быть сведены к следующим.
1. Плотин дал определение красоты как наиболее совершенного и полного выражения в материале внутренней формы, эйдоса, идеи вещи или явления.
2. Автор «Эннеад» построил развернутую иерархическую систему прекрасного, нижнюю ступень в которой заняла красота материально го мира и произведений искусства.
3. Красота у Плотина неразрывно связана с сущностью и является показателем бытийности ее носителя.
4. Красота впервые в истории эстетической мысли была сознатель но связана с искусством. Важнейшую цель искусства Плотин усмотрел в выражении внутренней красоты изображаемой вещи, ее «внутренней формы», идеи, эйдоса.
5. Плотин разработал интересную теорию восприятия красоты, уделив главное внимание специфическим процессам психики субъекта восприятия.
6. В «Эннеадах» намечена новая теория изобразительного искусства, которая нашла свое отражение в раннехристианском искусстве, а полное воплощение в искусстве Византии.
Анализ взглядов Августина на проблему красоты показывает, что он хорошо знал плотиновскую теорию
[576], многое из нее воспринял и развил дальше, но некоторые идеи Плотина оказались ему непонятными или чуждыми и он вернулся в отдельных вопросах к тем традиционным античным взглядам, от которых Плотин отказался. Где-то Августин более предметен и материалистичен, чем Плотин, более оптимистичен в отношении красоты материального мира, а где-то и более ригористичен. В целом его понимание красоты, как отвечает В. Перпет, «теплее... холодного мудрствования языческой античности»
[577]. В любом случае на пути от античности к Средним векам в понимании прекрасного Плотин и Августин - две последовательные ступени, и только в этом ключе могут быть правильно осмыслены эстетические взгляды гиппонского епископа.
В предшествующих главах мы время от времени касались тех или иных аспектов проблемы прекрасного у Августина, ибо в его системе любая философская, религиозная, этическая и, уж само собой разумеется, эстетическая проблематика тесно связана с красотой. Поэтому здесь при выявлении общей концепции прекрасного у гиппонского епископа мы вынуждены будем иногда возвращаться к его уже упомянутым суждениям.
Красота у Августина, как и у его античных предшественников, объективна
[578]. «Августин живо (живей, чем древние) интересовался отношением человека к красоте, любовью, которую человек проявлял к ней, однако он был уверен, что эта любовь доказывает существование красоты вне человека, что человек есть зритель красоты, а не ее творец»
[579]. Для античности этот вопрос был очевиден, но ко времени Августина открылись такие глубины человеческой души, такие сложные процессы духовной жизни, что очевидность эта стала вызывать сомнения. У самого Августина возникает знаменитый вопрос, который продолжает обсуждаться в эстетике до сегодняшнего дня: прекрасны ли предметы потому, что нравятся нам, или они нравятся потому, что прекрасны? Августин отвечает однозначно: delectare quia pulchra sunt («нравятся потому, что прекрасны») (De vera relig. 32, 59), но знаменательна и сама постановка вопроса. Она показывает, как много сомнений возникало у Августина в связи с проблемой прекрасного. Почти во всех работах, так или иначе обращаясь к ней, он чувствовал, как справедливо отмечал один из исследователей его эстетики, что нет ответа, который мог бы исчерпать онтологическое богатство красоты
[580].
Августину близка концепция иерархичности прекрасного. Она уже достаточно отчетливо звучала и у раннехристианских писателей, и у «великих каппадокийцев», но Августин воспринял ее от Плотина, о чем ясно свидетельствует его указание в «Граде Божием». «Платоник Плотин» (Еп. III, 2, 13), пишет он, говорит, что от высочайшего Бога, красота которого непостижима и невыразима, она распространяется до всех земных и низких предметов. Так что красота самых маленьких цветов и листьев обязана своим совершенством высшей, непостижимой, все в себе содержащей форме (De civ. Dei X, 14). Вслед за Плотином и сам Августин рассуждает о передаче красоты, как вида или формы, от высших ступеней к низшим: «По естественному порядку вид (species), полученный от высшей красоты, слабейшим передают сильнейшие. И слабейшие потому существуют, поскольку существуют, что им передается вид сильнейшими» (De immort. anim. 18, 25). Плотиновская идея зависимости бытийности от красоты, хотя и звучит здесь у Августина, тем не менее уже не имеет такого значения, как у столь почитаемого им классика неоплатонизма. В «Исповеди» он вообще откажется от нее, заявив, что «для тела «быть» отнюдь не значит «быть прекрасным» (Conf. XIII, 2, 3)
[581].
Мысль о распространении красоты от высшего к низшему Августин повторяет и в другом трактате (см.: De vera relig. 45, 84).
Высшую ступень в иерархии Августина, как и у Плотина, занимает абсолютная красота. Она практически неописуема, трудно постижима и поэтому априорно принимается за некий бесконечно высокий идеал прекрасного. Августин достаточно часто обращается к ней, в отличие от раннехристианских писателей, но так же, как и Плотин, не в состоянии сказать о ней ничего конкретного. Чаще всего он просто обозначает тот идеал и первопричину всякой красоты, к которой необходимо стремиться человеку
[582]. Эту абсолютную красоту Августин, пожалуй впервые в истории эстетики, последовательно сливает с христианским Богом
[583] и, начиная с первых трактатов и до главных своих философско-религиозных трудов, ставит понятие красоты на один уровень с понятием сущности
[584].
Бог представляется Августину «единственной и истинной красотой» (Solil. I, 7, 14)
[585], «от подражания которой все прекрасно, а по сравнению с которой - безобразно» (De ord. II, 19, 51). Это вечная, неизменная, «всегда себе равная» красота, которая «пространством не разделяется, во времени не изменяется, но сохраняет единство и тождество во всех частях, в бытие которой люди не верят, хотя она является истинной и высшей» (De vera relig. 3, 3). Бог - «красота всех красот» (pulchritudo pulchrorum omnium) (Conf. III, 10, 6), «красота, из которой происходит все прекрасное» (De div. quaest. 83, 30; Enar. in Ps. 32, 7; Conf. X, 34, 53 и др.). Созерцание Бога есть созерцание высшей красоты. «Это созерцание Бога есть созерцание такой красоты и достойно такой любви, что человека, одаренного в изобилии всевозможными благами, но этого блага лишенного, Плотин без колебания называет самым несчастным» (Еп. I, 6, 7) (De civ. Dei X, 16). Само «высшее блаженство» состоит не в чем ином, как в полном узрении евыразимой красоты (Enchirid. 5). В «Исповеди» Августин неоднократно дает описания Бога в эстетической терминологии, как некоего идеального эстетического объекта. Приведем одно из них: «Поздно полюбил я Тебя, красота, такая древняя и такая юная, поздно полюбил я Тебя! Вот Ты был во мне, а я - был во внешнем и там искал Тебя, в этот благообразный мир, Тобой созданный, вламывался я безобразный! Со мной был Ты, с Тобой я не был. Вдали от Тебя держал меня мир, которого бы не было, не будь он в Тебе. Ты позвал, крикнул и прорвал глухоту мою; Ты сверкнул, засиял и прогнал слепоту мою; Ты разлил благоухание свое, я вдохнул и задыхаюсь без Тебя. Я отведал Тебя и Тебя алчу и жажду; Ты коснулся меня, и я загорелся о мире Твоем» (Conf. X, 27, 38).
Вера в этот духовно сияющий, сверкающий, звучащий и благоухающий идеал высшей красоты, глубокая любовь к нему подвигли и самого Августина на создание прекрасных художественных образов, которыми особенно богата «Исповедь». В своем понимании Бога как абсолютной красоты
[586] Августин сконцентрировал совокупность высших эстетических принципов, доведя их до предельной идеализации. В конечном счете - это абсолютная простота и единство (потому и сказать-то о ней практически нечего), от которых происходит все бесчисленное множество прекрасных идей, дел, занятий, миров, тел и т. п. - все бескрайнее, многообразное море красоты.
Следующей (при движении вниз) ступенью красоты, более доступной человеку и поэтому более определенной, у Августина выступает духовная, или интеллигибельная, красота. Она соответствует плотиновской ступени красоты, постигаемой душой. Любовь к красоте духовной (amor intelligibilis pulchritudinis) Августин считал большим благом (De civ. Dei V, 13). Приведенная в гл. 3 августиновская аллегория философии и филокалии (см.: Contr. acad. II, 3, 7) в свете общей духовной ориентации Августина должна быть понята не как противопоставление любви к мудрости и любви к красоте, но как предпочтение красоты духовной красоте телесной, материальной, о чем он неоднократно писал и в более поздних работах
[587]. Духовная красота связывается Августином прежде всего со сферой внутреннего мира человека, далее - с его деятельностью, занятиями, нравственным обликом, т. е. во многом является оценочным критерием духовной и нравственной жизни человека.
Несравненной красотой сияет мудрость, поэтому она и воспламеняет к себе любовью многие сердца (Solil. I, 13, 22). Красота разума pulchritudo rationis) просвечивает во всем упорядоченном и оформленном мире явлений. Именно она влечет к себе всех истинных ценителей прекрасного (De ord. I, 8, 25).
Особое внимание уделяет Августин красоте души человека, которая составляется из комплекса «праведных» мыслей, достойных в нравственном отношении поступков и добродетелей, т. е. эстетическое здесь тесно сливается у Августина с этическим
[588]. Добродетели, неоднократно утверждает Августин, делают душу прекрасной, а пороки безобразят ее (De Gen. ad lit. VII, 6, 9). Душевная красота (decus animi), а точнее, «как бы семена красоты» присущи всякой, даже самой порочной душе. Они силятся прорасти в истинную красоту и пускают свои причудливо извивающиеся ростки и побеги шероховатостями пороков и ложных убеждений. Даже в самой закоренелой душе, если внимательно присмотреться, можно заметить эти ростки (Contr. acad. II, 2, 4).
Праведность, или справедливость (justitia)
[589], служит главным украшением души (Serm. 9, 10, 16; Enar. in Ps. 41, 7); она «есть высшая и истинная красота» (Enar. in Ps. 44, 3). «Праведность является в некотором роде красотой души, благодаря которой человек становится прекрасным, часто даже имеющий горбатое и уродливое тело» (De Trin. VIII, 6, 9;
ср.: Enar. in Ps. 64, 8; In Ioan. ev. 3, 21). Если у меня есть двое слуг,- приводит пример Августин,- один прекрасный телом, но не верный, а другой - верен мне, но уродлив лицом и телом, то, конечно же, второго я люблю и ценю больше, несмотря на его физическое (телесное) уродство (Serm. 159, 3, 3).
Поэтому не случайно уже приводившиеся нами семь ступеней совершенства души (из De quant. anim. 35, 79) Августин понимает и как семь ступеней прекрасного (см. гл. III)
[590].
Прекрасна вся сфера духовной деятельности человека. Августин неоднократно отмечал не только пользу, но и красоту наук, которая служит не последним стимулом для занятий ими
[591]. Самой же прекрасной из наук и искусств является философия (см.: Contr. acad. Π, 2, 4). Герою одного августиновского диалога она представляется значительно более прекрасной, чем все поэтические образы и герои, «чем сама Венера и Купидон, чем все страстные чувства» (De ord. I, 8, 21). Речь идет, конечно, о религиозной философии, ведущей к «истинной мудрости» и постижению Первопричины, т. е. абсолютной красоты.
В главе, посвященной порядку, мы видели, что Августин особое внимание уделял красоте целого во всех проявлениях, красоте космического и социального универсумов. Наличие бесчисленного множества прекрасных вещей и явлений в окружающем нас мире и в структуре человеческого духа, с одной стороны, и идея абсолютной, простой красоты - виновницы всего моря прекрасных вещей и духовных сущностей, - с другой, привели Августина к сознанию глубокой упорядоченности всех вещей и явлений, как внутри себя, так и в некой универсальной и всеобъемлющей целостности бытия. Целостность (totus, in toto) и единство (unitas) становятся главной гарантией красоты
[592]. Поэтому-то в сотворенном мире прекрасно все то, что образует органическую целостность. Высшей красотой наделена сама вселенная, которая не случайно названа универсумом от unus (один), т. е. от единства (De ord. Ι, 2, 3). Августин, опираясь на реальные наблюдения за красотой природных, социальных и художественных явлений, делает интересные выводы. Вслед за Плотином, утверждавшим, что «если целое прекрасно, то и части должны быть прекрасны, ибо прекрасное не может состоять из безобразных частей, но все части должны получить красоту» (Эн. I, 6, 1), Августин заявляет, что «в том истинно интеллигибельном мире всякая часть, как и целое, прекрасна и совершенна» (De ord. Π, 19, 51). Но это - идеальное состояние, цель, к которой следует стремиться. В материальном же мире все обстоит, как мы уже отчасти видели в главе о порядке, значительно сложнее.
Грехопадение первого человека привело к появлению дурных, злых и безобразных вещей и явлений в мире, к порче изначально прекрасных частей универсума. Тем не менее это не повлияло на красоту целого. Универсум остался неизменным, но его красота составляется теперь на основе гармонии прекрасных, нейтральных или незначительных в отношении красоты и даже безобразных предметов и явлений. Августин с удивлением констатирует, что после грехопадения, утратив свою изначальную красоту, «род человеческий сделался великой красотой и украшением земли и управляется божественным промыслом так прекрасно, что неизреченное искусство врачевания обращает само безобразие пороков в неведомо какую своего рода красоту» (De vera relig. 28, 51), «так что, если что-либо в отдельности и становится безобразным (deformia), универсум по-прежнему и с ним остается прекрасным» De Gen. ad lit. III, 24). В этом плане и побежденный в петушином бою петух представляется Августину в определенном смысле прекрасным: «знаком же побежденного служили выщипанные с шеи перья, в голосе и движениях все безобразное, но тем самым, не знаю как, с законами природы согласное и [потому] красивое» (De ord. Ι, 8, 25).
Внимательно всматриваясь в отрицательные и безобразные стороны мира, Августин начинает замечать особую закономерность организации прекрасного целого, которая состоит как бы в соединении и чередовании совершенных и несовершенных (безобразных) элементов (De Gen. ad lit. I, 17. 34), т. е. приходит к закону контраста, или оппозиции, о котором уже шла речь в гл. IV, как к одной из закономерностей организации красоты целого (см.: De ord. I, 7, 18; De civ. Dei XI, 18).
Безобразные или некрасивые элементы прекрасного целого могут быть, по мнению Августина, таковыми объективно, вследствие порчи или недостатка красоты, и субъективно, т. е. только в восприятии человека. Как христианин, свято веривший в творение мира Богом, Августин стремился во всех частях и незначительных элементах творения усмотреть присущую им особую красоту, ибо Бог не мог, конечно, сотворить ничего безобразного (в гл. IV мы видели уже. как он восхищается красотой червя). Однако люди, не умея осмыслить красоту многих неприятных растений, насекомых или животных в структуре целого универсума, незаслуженно считают их безобразными. «Красота (decus) этого порядка, - пишет Августин,- потому не радует нас, что мы, составляя, вследствие нашего смертного состояния, ее часть, не можем воспринять всей совокупности его, которой вполне подходят и соответствуют частицы, которые нам не нравятся» (De civ. Dei XII, 4). Тем не менее, всем, даже насекомым, питающимся трупами, или паразитам, присуща «некоторая своего рода естественная красота», возбуждающая большое удивление в созерцающем их человеке (De Gen. ad lit. III, 14).
Красота целого, возникающего на основе соединения прекрасных, нейтральных и безобразных частей, значительно превосходит не только красоту «незначительных» членов и элементов, но и красоту любых, входящих в его состав, даже самых прекрасных частей. В отдельности все прекрасно, как сотворенное Богом, а в целом - прекрасно как упорядоченное им (см.: De Gen. ad lit. imp. 5, 25)
[593]. Упорядочение же - особый закон, приводящий все как бы в новое качество - более прекрасное. Так что целостность и единство, как результат действия закона упорядочения, приводят элементы к качественно новой красоте целого. Так, например, прекрасны все члены человеческого тела: и глаза, и нос, и голова, и руки, и ноги. Однако тело, целиком состоящее из этих прекрасных членов, значительно прекраснее каждого из них в отдельности. Из прекрасных частей складывается красота целого. «Такова сила и могущество (potentia) совокупности (integritatis) и единства, что даже очень хорошие элементы тогда нравятся, когда сходятся и соединяются в некий универсум. Универсум же и получил наименование от единства (ad unitate)» (De Gen. contr. Man. I, 21, 32). Вывод этот касается, естественно, не только человеческого тела, но всех элементов материального мира вообще, о чем Августин писал в своей «Исповеди»: «Тело, состоящее из красивых членов, гораздо красивее, чем каждый из этих членов в отдельности, потому что хотя каждый из них сам по себе и красив, но только их стройное сочетание создает прекрасное целое» (Conf. XIII, 28, 43).
Августин не ограничивается этой констатацией, он стремится глубже всмотреться как в красоту целого, так и во взаимосвязи общей красоты и красоты отдельных ее элементов. В одном из трактатов он прямо пишет об этом: «И члены тела, хотя они и в отдельности прекрасны, однако в целом составе тела гораздо прекраснее. Если бы. к примеру, мы увидели прекрасный и достойный похвалы глаз отделенным от тела, то, конечно, не нашли бы его уже таким красивым, каким находим его в совокупности с другими членами на своем месте в универсуме тела» (De Gen. ad lit. III, 24, 37). Целостность, таким образом, определяет не только совокупную красоту целого, но и каждого отдельного его члена, ибо их красота существенно меняется (возрастает), когда они занимают свое место в целостной структуре. Темный цвет, сам по себе некрасивый, в структуре целой картины приобретает особую красоту (De vera relig. 40, 76). Августин подмечает здесь важную взаимозависимость красоты сложных объектов и красоты составляющих их членов.
Интерес к подобным вопросам сохранился у Августина с юности, когда он в первом своем трактате пытался различить и даже противопоставить два вида прекрасного - pulchrum и aptum
[594]. Pulchrum - это собственно прекрасное, «нечто прекрасное само по себе», прекрасное в себе, красота целого. Aptum же - нечто, соответствующее чему-то, пригодное для чего-то иного, т. е. красота части целого, «относительно», или «условно», прекрасное в терминологии А. Викмана;
[595] типа соответствия членов тела целому организму или предмета его назначению, как, например, башмака ноге (Conf. IV, 13, 20). В одном из писем Августин дает такую дефиницию этих видов красоты: «Прекрасное (pulchrum) рассматривается и восхваляется ради него самого, его противоположностью является уродливое и безобразное. Соответствующее (aptum) же, чьей противоположностью будет непригодное (ineptum), означает, напротив, как бы некую привязанность и оценивается не из него самого, но из того, с чем оно соединяется» (Ер. 138, 6). Aptum всегда содержит моменты пользы и целесообразности, которые отсутствуют в собственно прекрасном. Поэтому, как отмечает В. Татаркевич, aptum отличается у Августина от прекрасного и «тем, что оно относительно, ибо один и тот же предмет может соответствовать одной цели и не соответствовать другой»
[596]. Отсюда относительность красоты многих элементов мира, что приводит нередко к их негативной оценке как безобразных. Для объективной оценки таких вещей необходимо знать, с чем они согласуются и в состав какого целого входят (ср.: De civ. Dei XVI, 8). Ведь и языки адского пламени покажутся прекрасными, если знать, какую функцию выполняет оно в универсуме (XII, 4; De nat. bon. 38). Однако человек не в состоянии почувствовать и воспринять красоту мироздания в целом. Он охватывает только отдельные части этой красоты (Ер. 166, 5, 13; Contr. ер. Man. 41, 47), но и они важны и значимы для него, так как в них запечатлены отблески абсолютной красоты. К доступным человеческому восприятию элементам красоты универсума Августин относит все обозримые части природного мира, красоту человека и красоту произведений искусства, т. е. чувственно воспринимаемую красоту во всех видах.
Августин отмечает три типа отношения человека к материальному миру. Первый - когда весь сотворенный мир принимают, как манихеи, за зло и порицают его, второй - когда людей привлекает красота мира сама по себе и он является предметом любви сам по себе, и третий, самый высший,- когда в красоте мира видят его Творца и свою любовь направляют к нему (Conf. XIII, 31, 46). Христианская идея творения мира Богом из ничего определила специфику отношения самого Августина к материальному миру и его красоте. Он уже далек от неоплатонического пренебрежения или, тем более, манихейского отрицания красоты мира, но ему отнюдь не импонирует и идея абсолютизации этой красоты. Она обладает своим совершенно определенным местом в универсуме и своей определенной ценностью. По сравнению с абсолютной красотой она «ничтожна» (nulla), ибо и создана-то из ничего, «рассматриваемая же сама по себе, она удивительна и прекрасна» (De quant. anim. 33, 76), ибо является творением божественного разума и отражением божественной красоты. Красота мира, как уже указывалось, служила в глазах христиан важным аргументом в доказательстве бытия Бога, и поэтому Августин постоянно опирается на нее, чтобы указать на ее вечный и неизменный архетип.
Августин умел глубоко чувствовать красоту окружающего мира. Его от природы обостренное эстетическое чувство не уставало восхищаться и радоваться красоте и блеску неба, свету солнца, луны и звезд, удивительной голубизне моря, красоте и разнообразию пейзажа, бесчисленному многообразию форм растительного и животного мира, включая самых мелких насекомых, червей и еле приметных в траве невзрачных цветов; он с радостным восхищением писал о красоте утренних и вечерних зорь и ночных зарниц, о красоте движения небесных тел и мелодичном журчании ручья. Какими словами, восклицает он, может быть передана многообразная «красота неба, земли и моря, такого обилия столь удивительной красоты света, красоты солнца, луны и звезд, тенистых лесов, окраски и благоухания цветов, разнообразия и множества щебечущих, блистающих роскошью оперения птиц!» (De civ. Dei XXII, 24; ср.: Enar. in Ps. 148, 15). «За что любят их (вещи этого мира. - В. Б.), если не за то, что они прекрасны?» (Enar. in Ps. 79, 14).
Оправдание красоты природы и материального мира, к которому пришло христианство еще до Августина (он в данном случае только развивал уже наметившуюся тенденцию), отнюдь не было повторением одного из мотивов античной классической эстетики, который Августин отметил в качестве второго типа отношения к миру. Теперь все усложнилось. Если Плотин просто бежал от материальной красоты к интеллигибельной, то Августин стремится оправдать ее указанием на ее божественную Первопричину. В период господства утонченной позднеантичной духовности стало просто дурным тоном хвалить красоту материального мира, но христианство пришло к тому, что ее нельзя и игнорировать. Ее надо было оправдать введением в этот мир духовности. На это и была ориентирована, в частности, эстетика Августина. Земная красота как творение верховного Художника осмысливается теперь как образ божественной красоты и как знак, указывающий на нее. Конечно, здесь очевидны и мотивы эстетики платонизма, но акцент в них существенно переместился. Если платоники презирали земную красоту на том основании, что она лишь слабое отражение и бледная тень духовной красоты, то христиане именно потому возлюбили материальную красоту, что она - образ (отражение и тень) и знак красоты божественной, отображает ее хотя бы частично и постоянно указывает на нее. Чувственная красота у Августина, отмечает современный историк эстетики, «в значительной мере утратила свою непосредственную ценность, но нашла опосредованную, религиозную. Она стала скорее средством, чем целью»
[597].
Красота и стройность мира свидетельствуют о том, что он сотворен неописуемо прекрасным Богом (De civ. Dei XI, 4). «Прекрасно все созданное Тобой, и несказанно прекрасен Ты, создатель всего» (Conf. XIII, 20, 28).
Обосновав, таким образом, прежде всего для себя самого, значимость материальной красоты, Августин со спокойной совестью приступает к ее рассмотрению. Он различает два основных вида красоты - статическую (красота цвета и форм, видимых глазом) и динамическую (красота движений, воспринимаемых слухом или зрением)
[598]. Известно, что первый вид красоты восходит к древнегреческой эстетике, а второй был больше присущ эстетическому сознанию ближневосточных народов
[599]. Раннехристианская эстетика знала оба вида красоты, но динамическую красоту, как более духовную, ценила выше. Этой же точки зрения придерживался и Августин. Живое ощущение потока времени и истории, в котором странствует град Божий, побуждало Августина быть очень чутким именно к красоте движения, временного ритма
[600]. Красота мира проявляется в постоянном движении, развитии и смене его компонентов: «в результате ухода и появления вещей сплетается красота веков» (De Gen. ad lit. I, 8, 14). Статическая красота вещей числится в эстетической иерархии Августина «последней красотой» (extrema pulchritudo), ибо она не может вместить в себя красоту универсума. Только
процесс появления и смены прекрасных форм дает картину единой красоты универсума (De vera relig. 31, 41). Ритмически, т. е. по законам чисел, организованные движения лежат в основе музыки, поэзии, танца, образуя основу их красоты. Динамическая красота присуща и самой человеческой жизни, ибо удовольствие, счастье, радость - все это процессы, протекающие во времени. Само эстетическое суждение, которым поверяется наслаждение, как мы увидим ниже (см. гл. X), также ритмически организованный процесс, протекающий в нашей душе. Не случайно Августин главное внимание в своей эстетике уделял числу и ритму. Именно в них |он видел структурно-динамическую основу красоты. Однако и статическая красота визуально воспринимаемых предметов не была оставлена им без внимания. Осуждая стремление людей к телесной красоте, увлеченность ею, он тем не менее сам постоянно восхищался ею и потратил немало душевных сил на ее исследование. Телесная красота занимает свое, хотя и достаточно низкое, место в общем порядке мироздания и получает у Августина соответствующую оценку, которая в целом оказывается, может быть, даже более высокой, чем того желал сам Августин.
Красота материальных тел определяется их видом, или образом (species), и формой (forma). При этом Августин различает даже «прекраснейшее по виду» (speciosissimum) и «прекраснейшее по форме» (formosissimum) (De vera relig. 18, 35). Вид и форма определяют бытие вещи. То же, «из чего Бог создал все, не имеет никакого вида и никакой формы,- есть не что иное, как ничто (nihil)». Обладание хотя бы малейшей долей формы или вида уже наделяет вещь бытием (18, 35). Следовательно, акт творения сводится к наделению вещей видом и формой. Перефразируя плотиновскую мысль о связи бытийственности вещи с ее красотой, Августин писал: «...тело же тем больше есть (magis est), чем оно благовиднее (speciosius) и прекраснее; и тем не менее есть (minus est), чем оно безобразнее и бесформеннее (deformius)» (De inmort anim. 8, 13). Вид и форма наделяют вещь не только бытием, но бытием в качестве прекрасной в своем роде вещи. Всякая сотворенная вещь, пишет Августин, «прекраснее в своем роде, ибо она облечена формой и видом (forma et speie continetur)» (De vera relig. 20, 40). Даже элементарные геометрические формы типа окружности, треугольника, квадрата обладают своей красотой, не говоря уже о формах растительного и животного мира.
Особое внимание Августина привлекает красота человека, которая по общей для всей поздней античности традиции делится им на красоту души и красоту тела. Ясно, что красота души ценится им выше, ибо она состоит в родстве с интеллигибельной красотой
[601]. Не случайно, что и совершенствуется она, как мы видели, поднимаясь по семи ступеням прекрасного (De quant. anim. 35, 79). Душа прекраснее тела в идеале, т. е. абсолютно прекрасная душа на высшей ступени своего совершенства обладает более высокой красотой, чем абсолютно прекрасное тело. Однако в действительности душа человека далеко не всегда находится в этом состоянии. Человеку необходимо много работать по упорядочению, очищению и формированию своей души, прежде чем она засияет своей первозданной красотой, свидетельствующей о способности души к узрению и восприятию абсолютной красоты (ср.: De ord. II, 19, 5). Душа при этом оказывается более податливой в части исправления своих недостатков, чем тело.
Постоянно помня, однако, о том, что человек был создан в единстве души и тела, Августин пытается преодолеть преграду, возведенную между душой и телом позднеантичными философами платоновской ориентации и восточными дуалистами и спиритуалистами. Плохо, по его мнению, не то, что в человеке душа соединена с телом (это как раз благо), но дурна сама устремленность души к телесным благам и вожделениям плоти, т. е. направленность (intentio) души на телесное, а не на духовное. «Душа человека,- писал он,- не оскверняется телом. Не всегда душа оскверняется телом, когда оживляет тело и управляет им, но лишь тогда, когда вожделеет к смертным благам, относящимся к телу» (De fid. et symb. 4). Душа нередко бывает безобразнее тела, когда поощряет ложь и пороки, и, напротив, тело своей красотой может способствовать возвышению души из ее падшего состояния. Тело, писал Августин, «имеет красоту своего рода и тем самым значительно возвышает достоинство души, где и скорбь и болезнь заслуживают чести какой-то красы. Стало быть, неудивительно, если душа, действующая в смертном теле, испытывает воздействия от тел. И не следует думать, что, так как она лучше тела, все, что в ней происходит, лучше, чем то, что происходит в теле» (De mus. VI, 4, 7)*.
Эта диалектика красоты души и тела существенно отличает августиновскую концепцию от плотиновской. Автор «Эннеад», как мы помним, фактически не признавал красоты человеческого тела, а если и признавал, то считал ее столь незначительной, что не выделял особо из красоты материальных предметов, т. е. красоты, занимавшей в его иерархии низшую ступень. Он был глубоко убежден в том, что «для человеческой души тело - оковы и гробница, а сам космос для нее - мрачная пещера» (En. IV, 8, 3). В противовес этой широко распространенной в поздней античности (в частности, и у стоиков) тенденции принижения красоты человеческого тела, многие теоретики раннего христианства (на латинской почве можно указать хотя бы на Лактанция) занялись ее апологией. Однако уже у каппадокийцев на Востоке проявилась ставшая характерной для патристики в целом двойственность в отношении телесной красоты человека. Августин поддерживает именно эту тенденцию, отдавая нередко дань и Лактанциевой увлеченности телесной красотой. Последнее вполне понятно: пылкий и страстный африканец, долгие годы не находивший в себе сил отказаться от плотской красоты и любви женщины ради красоты духовной, уже давно осознавая последнюю как красоту более высокую, несовместимую с плотской.
Августин считал в порядке вещей, что прекрасная женщина (как и красота мудрости) отдает себя лишь тому, кто бескорыстно и безраздельно любит только ее одну (Solil. I, 13, 22). Однако увлеченность красотой женского тела разжигает вожделение и ведет к греху, поэтому женская красота опасна. Формы женского тела прекрасны, но они приобретут более прекрасный вид по воскресении из мертвых, и тогда уже будут служить не плотскому наслаждению или продолжению рода, но исключительно новой, неутилитарной красоте. Тела всех людей вообще по воскресении будут выполнять исключительно эстетическую функцию, так как все телесные и утилитарные функции утратят свою актуальность в вечной жизни (De civ. Dei XXII, 17; 19). Отсюда особое внимание христиан к красоте тела. Августин постоянно напоминает читателям, что красота человеческого тела от Бога, высшей и абсолютной красоты (De vera relig. 11, 21), и что видимые ее формы преходящи (см.: De lib. arb. I, 15, 31). Красота тела «уничтожается или телесными болезнями, или, что более желательно, старостью; несовместимы два желания - оставаться красивым и дожить до старости; с наступлением преклонного возраста красота улетает; не могут жить вместе блеск красоты и стоны старости» (In Ioan. ev. 32, 9). Болезни до неузнаваемости искажают человеческое тело, лишая его всякой красоты (De civ. Dei XIX 4). Все это, конечно, обесценивает в глазах Августина, устремленного к вечным и неизменным идеалам, красоту человеческого тела. И тем не менее он убежден, что человеческий род, не в последнюю очередь именно благодаря телесной красоте, является «величайшим украшением земли» (XIX, 13). Не случайно, замечает он, и в Писании «прекрасных телом (speciosos corpore) обычно называют добрыми (bonus)» (XV 23).
Совершенная и разумная организация, конечно, необходима телу человека и отдельным его членам и органам для выполнения определенных утилитарных функций. И тем не менее Августин вслед за Лактанцием (см.: De opif. Dei 8-10) подчеркивает, что многое в человеке создано исключительно для красоты. «Но даже если,- пишет он,- не брать в расчет утилитарной необходимости, соответствие всех частей [тела] так размеренно и пропорциональность (parilitas) их так прекрасна, что не знаешь, что больше имело место при сотворении его (тела. -
В. Б.): идея пользы или идея красоты (ratio decoris). По крайней мере, мы не видим в теле ничего сотворенного ради пользы, что в то же время не имело бы и красоты». Все это для нас было бы еще более ясным, если бы мы знали точные законы (числовую меру - numeros mensuramm), по которым члены и органы тела (не только внешние, но и внутренние) соединены между собой и функционируют в структуре целого тела; тогда мы постигли бы самую «красоту смысла» тела во всей ее полноте и глубине. Однако ни анатомы, ни медики не берутся за выявление этой внутренней гармонии тела, оставляя нам пока лишь восхищаться внешней красотой. Во внешнем же облике человека есть такие части и органы, которые созданы исключительно для красоты (decus), а не для пользы. Так, сосцы на груди мужчины или его борода имеют сугубо декоративное назначение
[602]. На основании всего этого Августин приходит (в который уже раз!) к чисто эстетскому выводу, отдавая приоритет незаинтересованной красоте по сравнению с преходящей пользой (utilitas). Если нет ни одного члена в человеческом теле, резюмирует он, который помимо своей утилитарной функции не обладал бы еще и красотой, но есть члены, «служащие лишь красоте, но не пользе; отсюда, думаю, легко понять, что при сотворении тела его достоинство (dignitas) ставилось выше практической потребности. Ибо утилитарная потребность (necessitas) минует и настанет время, когда мы будем взаимно наслаждаться одной только красотой без всякого вожделения» (De civ. Dei XXII. 24).
Здесь, как отмечал один из первых исследователей эстетики Августина, и содержится ответ на вопрос, почему при творении человеческого тела красоте было уделено больше внимания, чем пользе, - «именно потому, что по воскресении большинство членов тела будет служить не практическим, но исключительно эстетическим целям»
[603]. Красота человеческого тела, таким образом, отнюдь не презренна и ничтожна, но играет и будет играть в будущем важную роль в структуре вселенского бытия. В этом плане раннехристианская эстетика сделала шаг вперед по сравнению с античностью.
Особое значение в патриотической эстетике имела полемика о красоте Христа. С одной стороны, высказывалось мнение, что он блистал не только внутренней - духовной и душевной красотой, но и красотой тела, одухотворенного его божественностью. С другой - и это было особенно распространено в раннехристианский период,- считалось, что Христос специально принял тело невзрачное, и даже безобразное, чтобы таким образом возвысить самую презренную плоть до божественного величия, воссоединить все низменное с возвышенным; также и для того, чтобы испытать и претерпеть сполна все, что приходится на долю самого униженного и забитого человека, чтобы быть внешне «достойным» оплевания, поругания, позорной смерти, для претерпения которых он прибыл в мир; также, наконец, и для того, чтобы красотой своего внешнего вида не отвлекать людей от тех истин, которые он им принес,- от красоты духовной.
Августин придерживался второй точки зрения, которая опиралась на прямые евангельские указания: «Он не имел ни вида, ни красоты, когда били его кулаками, когда увенчивали терновым венцом, когда осмеивали висящего на кресте» (De cons. evang. I, 31, 48). Уродство Иисуса, однако, подобно уродству корня, из которого вырастает прекрасное дерево (Serm. 138, 6). Знал Августин и о красоте Христа, «который возлюбил [всех] оскверненных, чтобы сделать их прекрасными», и поэтому пришел на землю и стал видимым (In Ioan. ev. 10, 13). Он должен был объединить в себе прекрасное и безобразное мира сего, чтобы снять их противоборство и привести к внешней и единой красоте. Сложную внутреннюю взаимосвязь прекрасного и безобразного в образе Христа Августин стремится поэтому осознать как отражение присущей тварному миру диалектики добра и зла, вечного и временного. Он приходит здесь к ощущению закономерности антиномического (уже негармонического) единства прекрасного и безобразного, когда безобразное должно не выражать, но обозначать по контрасту (и благодаря этому контрасту) свою противоположность. Более осознанно к решению этого важного для эстетики вопроса подойдет несколько позднее на Востоке Псевдо-Дионисий Ареопагит. Августин, опираясь на новозаветный и раннехристианский (вспомним Тертуллиана) антиномизм, только нащупывал его решение.
Поводом для размышлений о внешнем виде Богочеловека послужили слова 44-го псалма: «Ты прекраснее сынов человеческих», которые христианская традиция относила к Христу. Но Августин хорошо знает и другое ветхозаветное высказывание, также отнесенное к воплотившемуся Логосу: «Видели мы его, и не было в нем ни вида, ни красоты (non habebat speciem neque decorem)» (Is. 53, 2). Как совместить эти суждения и как понимать каждое из них? Августин уверен, что второе высказывание относится к внешнему облику Христа, и принимает его как должное. Мы любим Христа, но значит ли это, что мы должны любить и безобразное в нем? К тому же предметом любви, как вслед за Плотином учил сам Августин, может быть только красота. Как же разрешить это противоречие? «Безобразное любят для того,- отвечает себе во всем сомневающийся Августин,- чтобы оно перестало быть безобразным
[604]. Собственно, любят не безобразное, ибо безобразное не может быть предметом любви; он (Христос. -
В. Б.) полюбил его, ибо должен сберечь его: он опрокинет безобразное и сформирует [из него] красоту». Как же после этого не любить нам его даже в его неприглядном виде? «Вот он нашел [в нас] много безобразного и полюбил нас; [неужели же] мы, найдя в нем нечто безобразное, не полюбим его?» Чтобы увидеть под этим внешним безобразием красоту, необходимо понять все безграничное милосердие божественного акта воплощения и всех последующих событий.
Иудеи не увидели этого по своему неразумию. «Для понимающих же великая красота заключена в словах: И Слово стало плотью (Ин 1, 14). А я не желаю хвалиться,- говорит один из друзей жениха
[605], - разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа (Гал 6, 14). Этого мало, только не стыдиться его, если ты еще не будешь прославлять его. Почему он не имел ни вида, ни красоты? Потому что распятый Христос для евреев - скандал, а для язычников - глупость
[606]. Почему же он и на кресте был прекрасен? Потому что глупое Божие мудрее человеков; и немощное Божие сильнее человеков (1 Кор 1, 25). Нам же, верующим, жених везде предстает прекрасным. Прекрасен Бог, Слово у Бога; прекрасен он во чреве Девы, где он не утратил божественности и обрел человечность; прекрасно Слово в облике новорожденного младенца; ибо, когда он был еще младенцем и сосал грудь [матери], сидя [у нее] на руках, заговорили небеса, воспели хвалебную песнь ангелы, звезда направила [стопы] волхвов и они поклонились [лежащему] в яслях, [пришедшему стать] пищей для кротких. Итак, прекрасен он на небе, прекрасен на земле; прекрасен во чреве [матери], прекрасен на руках родителей, прекрасен в чудесах, прекрасен бичуемый; прекрасен как призвавший живущих к жизни, прекрасен не сетующий на смерть; прекрасен как отдающий душу и прекрасен как опять [ее] воспринимающий; прекрасен на древе [креста], прекрасен во гробе, прекрасен на небе. С пониманием слушайте песнь (стих псалма. -
В. Б.),
и пусть немощь тела не отвратит глаз ваших от блеска красоты его. Высшей и истинной красотой является праведность: прекрасен тот, кто праведен» (Enar. in Ps. 44, 3).
Невзрачный внешний облик Христа, таким образом, вполне соответствует, по Августину, его высокой духовно-душевной красоте. Эти представления легли в Средние века на Западе в основу живописного образа Христа. На многих средневековых изображениях, особенно у немецких мастеров, тело и лицо Христа доведены часто до весьма неприглядного вида, прежде всего в изображениях страстей (особенно образы Schmerzensmann) и Распятия
[607]. Подчеркнутая экспрессивность формы и цвета в целом сочетаются здесь с предельно натуралистическим изображением деталей (раны и язвы на теле, капли крови, уродливо вывернутые посиневшие и позеленевшие пальцы рук и ног и т. п.). что, с одной стороны, может оттолкнуть зрителя, а с другой - должно чисто живописными средствами выразить весь ужас и трагизм ситуации, в которой по собственной воле оказался Сын Божий, взвалив на себя весь груз человеческих грехов и пороков, все безобразие непутевой жизни человечества.
Элементы невзрачного, неприглядного и даже безобразного с раннехристианских времен стали активно внедряться в западном изобразительном искусстве и прочно утвердились в нем до конца Средневековья. Ряд причин привел к возникновению этого феномена. И не последнюю роль здесь сыграло определенное оправдание безобразного в эстетике Отцов Церкви, и прежде всего Блаженным Августином.
Конечно, как мы уже убедились, неверно было бы говорить об эстетике безобразного и у гиппонского епископа, и в патристике вообще. Для христианства непреложной оставалась аксиома: Бог не создал ничего безобразного. Возникшее в результате отпадения человечества и части ангелов от Бога безобразное понимается в христианстве как недостаток красоты, частичное отсутствие ее, как следствие порчи в материальном мире изначально данного ему (в дни творения) вида и формы. Безобразное - это мера недостаточности прекрасного
[608]. Оно не может быть абсолютным, ибо полное отсутствие красоты, т. е. виды и формы, тождественно отсутствию бытия, т. е. абсолютно безобразное есть ничто (nihil). Поэтому любая, даже самая отвратительная, вещь или безобразное явление имеют хотя и незначительную, но своего рода долю красоты
[609].
Эти представления, совершенно новые по сравнению с античными, прочно укоренились в художественном сознании Средневековья и нашли отражение в средневековой живописи, особенно у итальянских мастеров. Стремясь, с одной стороны, под влиянием христианской идеологии забыть о материальной красоте и сосредоточиться на духовной, помня о невзрачном виде Христа и достоинстве любого самого неприглядного создания природы, они изображают некрасивые предметы и невзрачных людей, часто нарочито деформируя их тела и черты лица, сознательно нарушая вроде бы все «законы красоты» (об их понимании Августином см. ниже). С другой стороны, реминисценции античного пластического и живописного понимания красоты, жившие всегда в глубинах художественного сознания итальянцев, несмотря на то, что материальные памятники этой красоты в большинстве своем были в буквальном смысле погребены под грудами пепла, под руинами античных храмов и под новым культурным пластом христианской эпохи, - именно эти реминисценции, а также христианское представление о том, что ничто безобразное не лишено своей доли красоты, что безобразное любят для того, чтобы оно перестало быть таковым, и что под невзрачным видом часто скрывается высокая духовная красота, - все это привело лучших живописцев итальянского Средневековья (хотя подобные примеры можно найти и в живописи северной готики) к интересному художественному решению. Виртуозно владея изобразительными средствами - цветом, линией, формой, системой цветовых отношений и моделировки форм, они умели наделять свои изображения внешне невзрачных, деформированных, вроде бы совершенно некрасивых фигур удивительно тонкой и глубокой красотой, которая как бы излучается изнутри этих далеких от античных канонов красоты, часто достаточно условно изображенных фигур и лиц
[610]. Чисто
живописными средствами они научились выражать красоту безобразного, чем существенно расширили горизонты изобразительного искусства.
Но вернемся к теории. Одной из немаловажных эстетических причин внедрения неприглядного в искусство явилось глубокое осознание Августином закона контраста в двух его аспектах. Во-первых, безобразное по контрасту служит более глубокому ощущению красоты. Незнание безобразного, его отсутствие не позволит во всей полноте ощутить прелесть настоящей красоты. Красота дневного света выступает отчетливее при сравнении с ночной тьмою, белое выглядит прекраснее рядом с черным (Ер. 29, 11). Во-вторых, Августин показал, опираясь на античную, в основном риторскую, традицию, что в основе красоты целого лежит закон оппозиции, т. е. единства противоположных элементов, и прежде всего, прекрасных и безобразных в структуре целого. Контраст прекрасного и безобразного образует гармонию целого.
И наконец, безобразная форма начинает наделяться (у Августина - только начало этого процесса) некоторым знаково-символическим значением в качестве носителя высокой духовной красоты.
Пожалуй, никто в истории эстетической мысли до Августина не уделял столько внимания проблеме безобразного, может быть, потому, что никто до него так остро не ощущал прелесть и очарование чувственной красоты и, одновременно, не видел столь ясно глубин сатанинских, в которые влечет она человека.
Еще к одному виду красоты постоянно обращается внимание Августина - к красоте искусства. Подробнее об этом мы будем говорить в гл. VIII. Здесь только следует подчеркнуть, что Августин усмотрел вслед за Плотином в основе всех искусств красоту и их главной задачей считал выражение красоты. Основные структурные закономерности искусства, как мы увидим ниже, у него совпадают с законами красоты. Целью музыки является красивая организация звуковой материи (De mus. I, 13, 28). Красоте служит и поэзия, хотя философии доступна более высокая и истинная красота (Contr. acad. II 3, 7). Скульптор и живописец трудятся над созданием прекрасных форм, и даже зрелища обладают своей достаточно привлекательной красотой. Августин, однако, осторожен в отношении этой красоты. Он не слишком отличает ее от красоты природных форм и считает, что красота в искусстве лишь тень и отблеск абсолютной красоты, поэтому не стоит увлекаться ею и, тем более, останавливаться только на ней (ср.: De vera relig. 22, 43). В быту же людей, сетует Августин, красота искусства занимает чрезмерно большое место. «Создание разных искусств и ремесел - одежда, обувь, посуда и всяческая утварь, картины и другие изображения - все это ушло далеко за пределы умеренных потребностей и в домашнем быту, и в церковном обиходе. (...) Искусные руки узнают у души о красивом, а его источник та Красота, которая превыше души и о которой душа моя воздыхает днем и ночью. Мастера и любители красивых вещей от нее взяли мерило для оценки вещей, но не взяли мерила для пользования ими» (Conf. X, 34, 53). К соблюдению «меры пользования» искусством и к ясному осознанию места его красоты в универсуме Августин призывает постоянно, может быть в силу того, что сам увлекается этой красотой, причем в большей мере, чем это пристало, по его мнению, христианскому пастырю.
Рассмотрев основные аспекты красоты у Августина, подведем некоторые предварительные итоги его пониманию этой важнейшей эстетической категории.
1. Красота предстает в системе Августина объективным свойством мира как в его духовной, так и в материальной частях.
2. Бог является высшей и абсолютной красотой, источником, причиной и творцом всего прекрасного в мире.
3. Красота выступает показателем бытийственности вещи. Обладание абсолютной красотой тождественно обладанию вечным и абсолютным бытием, полное отсутствие красоты соответствует переходу вещи в небытие.
4. Красота бывает статичной и динамичной.
5. Августин различает прекрасное в себе и для себя, т. е. собственно прекрасное (pulchrum) и прекрасное как соответствующее чему-то (aptum, decorum).
6. Красота иерархична. Иерархия Августина хотя и опирается на плотиновскую, но во многом отличается от нее. Схематически она может быть представлена в следующем виде:
Источником красоты и здесь является Бог, а высшим носителем ее - Разум (=Логос=Христос). От него происходит красота универсума и духовная красота. Универсум, в свою очередь, состоит из небесных чинов, человека, его души и тела и всего многообразия материального мира, красота которого так сильно волновала душу Августина. Духовная красота лежит в основе красоты нравственной, красоты искусства, науки и конкретных произведений искусства.
7. Красота материального мира, и в частности красота человеческого тела, занимает здесь также низшую ступень, но оценивается Августином значительно выше, чем в неоплатонической системе.
8. Красота доставляет удовольствие, которое может привести к блаженству.
9. Красота является предметом любви.
10. Красота выше пользы и всего утилитарного; утилитарное - путь к красоте.
11. Красота целого возникает на основе гармонического единства противоположных частей, в частности прекрасных и безобразных элементов.
12 Красота человека состоит в единстве его душевной и телесной красоты. Тело человека прекрасно во всех своих частях и в целом. Однако отсутствие телесной красоты не мешает человеку быть причастным ко всем другим, более высоким ступеням красоты, включая и высшую.
13. Идеальной чувственно воспринимаемой красотой тело будет обла дать по воскресении из мертвых.
14. Безобразное есть показатель недостатка красоты; составная часть красоты; знак красоты.
15. Августин, по существу, не различает красоту и прекрасное, хотя в одном месте специально отмечает, что красота выше прекрасного. Так же как истина является причиной истинного, благочестие - благочестивого, целомудрие - целомудренного, так и красота (pulchritudo) является причиной прекрасного (pulchrum). Без красоты нет и прекрасного, хотя красота может существовать и без прекрасного, и поэтому она выше его (In Ioan. ev. 39, 7).
16. Главной целью всех искусств является создание красоты.
Уделяя много внимания вопросам прекрасного, Августин стремился определить основные признаки и структурные закономерности красоты. Почему красота доставляет удовольствие? что нам нравится в ней? за что любим мы прекрасные вещи? что привлекает к ним нашу душу? - эти и подобные вопросы постоянно интересовали гиппонского мыслителя. Стремясь найти ответы на них, Августин подводил итог многим изысканиям античной эстетической мысли.
Общими универсальными признаками чувственно воспринимаемой красоты у него выступают
форма и
число. Без них красота просто не может существовать. В трактате «О порядке», как мы помним, Августин показал, что в красоте нравятся формы, а в формах - размеренность, а в размеренности - числа (De ord. II, 15, 42). Но форма и число - это самые общие признаки. Наряду с ними Августин, опираясь на античность, выделяет и ряд более конкретных признаков и закономерностей, такие,
как равенство, симметрия, соразмерность, пропорция, согласие, соответствие, подобие, равновесие, гармония, оппозиция, или
контраст, и как главенствующая над всеми ними закономерность -
единство[611].
Важнейшим законом прекрасного выступает у Августина lex aequalitas - закон равенства, или соразмерности. Он господствует и в природе, и в искусствах. Из геометрических фигур совершеннее и прекраснее те, в которых выше степень равенства. Так, равносторонний треугольник красивее (pulchrior) любого другого (De quant. anim. 8, 13), а квадрат прекраснее этого треугольника, так как у треугольника против сторон - углы (9, 15). Но и квадрат имеет несовершенства: углы у него не равны сторонам и линии от центра до вершин углов не равны отрезкам прямых, проведенным из центра к сторонам. Более совершенной фигурой, с точки зрения равенства, будет круг, а предел совершенства заключен в точке (10, 16; 11. 18).
В музыке и поэзии lex aequalitatis играет первостепенную роль
[612]. При соединении стоп друг с другом необходимо помнить, что «равенство и подобие имеют преимущество перед неравенством и неподобием» (De mus. II, 9, 16), поэтому лучше всего, когда стопы одного вида следуют одна за другой. Далее можно соединять разные по названию, но равные по длительности стопы и т. д. (II, 11, 21; 13, 24). «Что доставляет нам удовольствие в чувственных, организованных по законам чисел образованиях? - спрашивает Августин. - Не иное ли что, как некое равенство и пропорциональность соразмерных интервалов? Чем другим радует нас тот пиррихий, спондей, анапест, дактиль, процелевматик и диспондей, как не тем, что каждый из них соотносит одни части с другими в соразмерном членении? Отчего же обладают красотой ямб, трохей, трибрахий, если не от того, что в них равномерно распределены меньшие и большие части?» Рассматривая далее, чем же стопы доставляют нам удовольствие, он приходит к выводу, что «во всех стопах нет ни одной самой малой, отличной от других части, которая не воспринималась бы в определенном возможном соответствии (aequalitas) с другими» (VI, 10, 26).
В различных соединениях стоп и в таких образованиях с неограниченной длительностью, как ритмы, и в таких, с определенным концом, как метры, и, наконец, в таких, разделенных на две части, которые, в свою очередь, определенным образом друг другу соответствуют, как стихи - везде не что иное как равенство (соразмерность - aequalitas) организует стопы в некое целостное единство. Соответствующее чередование звуков и пауз, соединение ритмов и метров - все без исключения основано на «законе равенства» (lex aequalitatis). Закон этот может осуществляться только при наличии в произведении как минимум двух членов, т. е. он пригоден только для сложных объектов. Он универсален, но по-разному проявляется в различных случаях, например, по-одному при организации ритма и по-другому - при организации стиха (VI, 10, 27). В предметах пространственных равенство осмысливается как сходство (similitudo), которое бывает полным в вещах равнозначных, «когда мы говорим, что это так же похоже на то, как и то на это, как, например, если речь идет о близнецах», и тогда мы имеем фактически равенство (или тождество), - и неполным, когда вещи худшие бывают похожи на лучшие, например при отражении предмета в зеркале. Сходство визуально воспринимаемых предметов создается или природой, или руками человека в произведениях искусства (Solil. II, 6, 11). Подробнее на проблеме подобия мы остановимся в следующей главе, рассматривая понятие образа у Августина.
Относительно элементов прекрасного целого подобие, или сходство (similitudo), понимается в смысле соответствия частей друг другу. Отдельные предметы, пишет Августин, могут существовать не только совместно с другими [предметами] такого же рода, но и в своей собственной единичности, если только они имеют сходные между собой части. И тело тем красивее, чем более сходные между собой части входят в его состав». Вся Вселенная состоит из «соответствующих друг другу вещей», ибо она создана «чрез высшее, неизменное и нетленное подобие того, кто все создал так, чтобы было прекрасным вследствие соответствия частей друг другу» (De Gen. ad lit. imp. 16, 59).
Подобие, или соответствие, членов друг другу образует их согласие (convenientia) в едином целом, что и возбуждает чувство удовольствия у всякого, созерцающего красивую вещь (De vera relig. 39, 72).
Примером прекрасной вещи, состоящей из сходных и соответствующих друг другу членов, выступает человеческое тело, красота которого постоянно приводит в восторг Августина. «Кажется, почти ничего не отнимается у тела, если остричь одну бровь, а между тем как много отнимается у красоты, которая состоит не в массе, но в равенстве (parilitas) и в соразмерности (dimensio) членов!» (De civ. Dei XI, 22).
Относительно визуально воспринимаемой красоты Августин, как уже отмечалось, широко опирается на достижения античной эстетики, видевшей красоту в соразмерности (или соответствии) частей и приятности цвета. «Что есть красота тела?» - спрашивает он и отвечает: «Соответствие частей вместе с некоторой приятностью цвета» (Ер. III, 4). Интересно, что именно эту античную формулу красоты Августин соединяет с христианской идеей воскресения тел. При всеобщем воскресении люди восстанут в своих телах, однако без тех дефектов и ущербностей, которые они имели при жизни, т. е. в своих прекрасных телах, какими они были в замысле Творца. Поэтому Бог исправит все тела по воскресении их примерно так же, как исправляет неудачную статую скульптор.
«Красота всякого тела, - пишет в связи с этим Августин, - состоит в соразмерности (или согласии - congruentia) частей вместе с некоторой приятностью цвета. Где нет такого согласия частей, [нас] оскорбляет что-либо или потому, что оно криво, или потому, что мало, или потому, что слишком велико» (De civ. Dei XXII, 19). Поэтому по воскресении каждый член нашего реального тела и все оно в целом будут исправлены в соответствии с «мерой полноты» тела, с мерой человеческой природы (ad humanae naturae figuram) или с его идеальной прекрасной моделью, находящейся в разуме Творца. Процедуру эту Августин мыслит себе в следующем виде: «В воскресении плоти для вечной жизни величина тел будет иметь ту меру, которая принадлежала ей в соответствии с идеей юношеского возраста каждого тела, не достигнутого еще или уже пройденного с сохранением соответствующей красоты в размерах всех членов. Для того, чтобы сохранить красоту, если [у тела] что-либо будет отнято вроде неприличной величины каких-либо его членов, все это будет размещено по всему [телу] так, что и само [излишнее] не исчезнет и сохранится соответствие (congruentia) частей; нет ничего невероятного в том, что в результате может даже прибавиться и сам рост тела, когда для сохранения красоты по всем членам распределится то, что было чрезмерным и неприличным в [какой-либо] одной части» (De civ. Dei XXII, 20). Тела получат и соответствующую «приятность цвета» (coloris suavitas), которой не имели в настоящей жизни и которая состоит в большой светоносности, ясности (claritas). Именно так сияло тело воскресшего Христа. Только вот на телах мучеников, во славу их, Августин хотел бы и в раю видеть следы нанесенных им ран (XXII, 19).
Здесь фактически дано руководство художнику по изображению идеализированного человеческого тела. В чистом и буквальном виде оно будет реализовано лишь живописцами итальянского Возрождения. Однако отзвуки его можно найти и в средневековом, прежде всего восточнохристианском искусстве. Помноженное на христианскую духовность и несколько переосмысленное, это руководство легло в основу художественной практики византийских мозаичистов и иконописцев, особенно при изображении человеческих лиц, точнее - идеальных, одухотворенных ликов.
Интересные суждения об общих законах искусства и прекрасного Августин высказал в своем сочинении «Об истинной религии», где он стремился подняться от конкретных закономерностей видимой красоты к их идеальным основаниям. «Но так как во всех искусствах,- пишет он,- нам нравится гармония (convenientia), благодаря только которой все бывает целостным (salva) и прекрасным, сама же гармония требует равенства и единства, состоящего или в сходстве равных частей, или в пропорциональности (gradatio) неравных; то кто же найдет в [действительных] телах высшее равенство или подобие и решится сказать, при внимательном рассмотрении, что какое-нибудь тело действительно и безусловно едино; тогда как все изменяется, переходя или из вида в вид, или с места на место, и состоит из частей, занимающих определенные места, по которым все оно распределяется по различным пространствам? Далее, самое истинное равенство и подобие, а также самое истинное и первое единство созерцаются не телесными глазами и не каким-либо из телесных чувств, а только мыслящим умом» (De vera relig. 30, 55). Высказывание это показательно для эстетики Августина в целом. Здесь особо наглядно видно, как органично и незаметно из комплекса античных представлений у него возникает собственная концепция, вполне приемлемая для новой культуры. Мы видим, как под сформулированные стоиками определения материальной красоты подводятся платоновские основания, т. е. за феноменами соразмерности, равенства, подобия, гармонии усматриваются их идеальные архетипы - идеи соразмерности, равенства, подобия и т. п. И далее эти традиционные основания красоты как нечто само собой разумеющееся переносятся на искусство. Здесь, конечно, не забыты и эстетические взгляды Плотина, но они несколько деинтеллектуализированы и конкретизированы. У Августина речь идет не об эйдосах вообще, но о конкретных закономерностях типа соразмерности, сходства, гармонии и т. п. В этом особенность не только августиновской, но и всей патристической эстетики. Многие «заумные» и утонченные витийства неоплатоников она опустила на землю - изложила более простым языком, соотнеся с конкретными вещами, доступными пониманию более широких, чем братство любомудров, читательских кругов.
Выяснив, что в основе чувственно воспринимаемых прекрасных вещей и произведений искусства лежат идеи равенства, соразмерности, подобия, единства, Августин переходит к вопросу о критерии и пределах суждения об этих закономерностях. Ясно, что этот критерий принадлежит интеллигибельной сфере, находящейся за пределами пространственно-временного континиума. «И в то время, как все чувственно прекрасное, произведенное природой ли или созданное искусствами, прекрасно в пространстве и во времени, как, например, тело и движение тела; то это, одним только умом познаваемое равенство и единство, в соответствии с которым при посредстве чувства складывается суждение о телесной красоте, ни в пространстве не расширяется, ни во времени не изменяется». Законы равенства, подобия и единства объективны и находятся не в уме человека, но выше него. Человеческий же ум в своих суждениях о красоте и искусстве руководствуется этими законами. Ум человека подвержен различным изменениям и заблуждениям, «закон же всех искусств» (lex omnium artium) совершенно неизменен (De vera relig. 30, 56). Он абсолютно истинен и возводится Августином к божественной мудрости. «Эта-то мудрость и есть та неизменная истина, которая справедливо называется законом всех искусств и искусством всемогущего художника».
Здесь Августин и усматривает предел суждений об эстетических закономерностях. Закон «высшего равенства» находится в сферах, значительно превышающих ум человека. Поэтому ему дано познать лишь факт существования этого закона, но не его сущность. Нам ясно, замечает Августин, что именно благодаря подобию, соразмерности, равенству элементов и членов тела и произведения искусства нравятся нам, но мы не можем сказать, почему собственно равенство, подобие, соразмерность доставляют нам удовольствие (31, 57-58; ср.: 43, 80). Августин поставил здесь, пожалуй, самый главный и до сих пор актуальный вопрос эстетической теории, мужественно признавшись, что человеческий разум его времени не в состоянии дать ответ на него. Спустя пятнадцать столетий после смерти гиппонского мыслителя возникшая для решения этого вопроса специальная наука должна с сожалением констатировать, что ответ на его вопрос до сих пор не найден; тем не менее, в отличие от своего именитого праотца, она с оптимизмом продолжает поиск.
Ощущение реальных границ интеллектуального познания позволяло Августину трезво судить о вещах доступных, по его мнению, познанию. В сфере эстетики дело сводилось, как правило, к постановке проблем, что, как известно, имеет немаловажное значение для любой науки.
В трактате «О музыке» (см. гл. V) Августин уделил много внимания пропорции, как одной из числовых закономерностей красоты, суть которой состоит в определенном соотношении среднего и крайних членов. В соответствии с этим пропорциональность (или симметрия), в архитектуре например, заключается в том, что по обе стороны двери должно находиться равное количество равных по величине окон. Размеры же окон, расположенных одно над другим, должны быть выдержаны в отношении «золотого сечения»: верхнее относится к среднему так, как среднее - к нижнему (54-55). В этом и заключалась, по Августину, гармония и соразмерность архитектурных элементов внутри целого.
Именно к гармонии как к одной из главных структурных закономерностей красоты было привлечено его особое внимание. Гармония наряду с другими закономерностями, подчеркивает Августин, объективна, она целиком и полностью связана с соответствующей вещью: «Затем, если в теле существует какая-либо гармония (harmonia), она необходимо существует в данном теле и неотделима от него; и ничего в этой гармонии не предполагается такого, что с одинаковой необходимостью не существовало бы в данном теле, с которым не менее нераздельна и сама гармония» (De immort. anim. 2, 2). На гармоничном согласии частей и элементов основывается и красота природных тел, и музыкальная мелодия, и стихотворная строка. Именно гармония (congruentia = согласие) частей радует нас в любом предмете больше всего (Conf. II, 5, 10). Стихотворная стопа услаждает наш слух потому, что обе ее части, повышающаяся и понижающаяся, «гармоничны в числовом отношении» (numerosa sibi concinnitate). Ведь среди «всех предметов, которые воспринимаются состоящими из частей, не те ли являются более прекрасными, чьи части равно согласованы, чем имеющие несогласованные и диссонирующие части?» Так, и в стопе, разделенной на две части, именно их гармония радует слух. На этом же принципе основаны и сами стихи (De mus. V, 2, 2).
Сущность гармонии Августин, опираясь на традиции античной эстетики, усматривал в единстве и согласии противоположностей. «Во всех вещах, - писал он, - познаем мы господство закона соответствия, связи, созвучия и согласия противоположных элементов: греки называют это гармонией. Чувство этого согласия, этой природной связи является у нас врожденным
[613]. Именно это понятие гармонии позволило Августину поставить проблему контраста, или оппозиции, в широком эстетическом плане, увидеть в единстве противоположных начал основу всякой красоты - и в природе, и в искусстве. Мы уже отмечали (см. гл. IV), что красота мира, по глубокому убеждению Августина, складывается из противоположностей: «Так как бы в некотором роде из антитез, что бывает приятно нам в речи, т. е. из противопоставлений образуется красота всех вместе взятых вещей» (De ord. I, 7, 18; ср.: De civ. Dei XI, 18; De ord. I, 8, 5). Закон этот, как неоднократно указывал и сам Августин, он нашел в риторике и поэтике (De ord. Π, 4, 12) и оттуда распространил практически на всю сферу эстетического, т. е. на все искусства и на прекрасное.
Именно наличие оппозиций, как в различных искусствах, так и в прекрасных предметах, позволило Августину теснее объединить эти, бытовавшие обособленно друг от друга в античной эстетике, сферы. Более того, наблюдения за «музыкальной гармонией» (harmoia musica), состоявшей в «разумном и соразмерном сочетании различных (противоположных - diversorum) звуков путем согласия разнородностей (concordi varietate)», дало ему возможность усмотреть фактически этот же закон и в хорошо организованном государстве (De civ. Dei XVII, 14; см. также гл. IV). В августиновской идее контраста, оппозиции Вл. Татаркевич справедливо усматривает возрождение «гераклитовского мотива» в понимании прекрасного
[614]. К этому следует только добавить, что «гераклитовский мотив» был существенно развит гиппонским мыслителем и лег в основу художественной практики Средневековья.
Оппозиции, как основа прекрасного, доставляют удовольствие лишь в том случае, если они объединены в некое органическое целое. Это относится и ко всем другим формальным закономерностям красоты и искусства. Поэтому понятие единства (unitas) является у Августина, пожалуй, главным в ряду формальных эстетических признаков. Он постоянно напоминает, что и равенство, и подобие, и соразмерность, и симметрия, и пропорция, и опозиция, и гармония доставляют удовольствие, т. е. ведут к возникновению красоты только при условии единства объекта, в формировании которого они участвуют. В качестве примера приведем одно из рассуждений Августина на эту тему, подытоживающее в какой-то мере его формальную эстетику и намечающее дальнейшие ее перспективы.
Многие люди, сетует Августин, ограничиваются только удовольствием, получаемым от красоты и искусства, и не желают, да и не в состоянии, пожалуй, понять: что же доставляет им это удовольствие. Если, к примеру, спросить у архитектора, зачем он строит две симметричные арки у здания, он, надо думать, ответит, «что это требуется для того, чтобы равным частям здания соответствовали равные. Если, далее, я спрошу, почему же он предпочитает именно такое [устройство], он ответит, что это прилично, это красиво и что это доставляет удовольствие зрителям, больше он ничего не скажет». Если же обратиться с этими вопросами к человеку, обладающему внутренним зрением, то он согласится с тем, что подобные предметы доставляют удовольствие потому, что они прекрасны, а прекрасны они благодаря тому, что «части их взаимно соотнесены (similes sibi - подобны друг другу) и посредством некоего сочетания приведены в стройное единство» (De vera relig. 32, 59).
Далее, можно спросить этого человека, вполне ли это конкретное предметное единство выражает то единство, к которому оно стремится, или, напротив, оно лишь отчасти представляет его. «Если же это так (потому что кто же из спрашиваемых не знает, что нет ни одной формы, нет ни одного тела, которые не имели бы тех или иных следов единства; и что, [с другой стороны,] как бы тело ни было прекрасно, оно не может достигнуть того единства, к которому стремится, потому что в других местах пространства оно неизбежно бывает и не таким), - поэтому если это так, то я потребую, чтобы он ответил, где же или в чем он сам видит это единство; если же он его не видит, то откуда знает, [во-первых,] то, чему должен подражать внешний вид тел, [и во-вторых,] то, чего он выразить (implere) не может?» Действительно, если он уверен, что тела не существовали бы, если бы не были подчинены закону единства, но также знает, что если бы они были самим единством, то уже не были бы телами, то его резонно спросить, откуда он знает это единство. Ясно, что он его видел, ибо справедливо судит, что материальные предметы не вполне выражают его. Ясно и то, что видел он его не телесными глазами, потому что тогда бы он не мог заметить отступлений в телесных предметах от него. Следовательно, он видел его «глазами ума» и оно, (единство. - В. Б.), «будучи везде, присуще тому, кто судит, никогда не существует пространственно, но всегда силою» (32, 60).
Таким образом, более высокое единство, на основе которого выносится эстетическое суждение по поводу конкретного материального объекта, находится внутри нас, в нашей душе, т. е. Августин утверждает, что в основе эстетического восприятия лежит закон подобия объекта восприятия некоторым глубинным сущностям души субъекта восприятия. Это важный в истории эстетики вывод. И он не случаен у Августина. В трактате «О свободном выборе» он писал: «Тогда ты увидишь, что все, что тебе нравится в теле и что в телах привлекает чувство,- все подчинено закону числа (esse numerosum); и ты спросишь, откуда это, и вернешься в себя самого, и постигнешь, что все то, с чем соприкасаются телесные чувства, ты не мог бы ни одобрять, ни порицать, если бы не имел в себе определенных законов красоты, на основе которых ты судишь, что воспринимаешь извне прекрасное» (De lib. arb. II, 16, 41). В данном случае под «законами красоты» Августин имеет в виду особые числа души, о которых подробнее речь будет идти в гл. X.
В трактате «О Троице» Августин также говорит о внутренней норме красоты (De Trin. Χ, 1, 1).
Итак, законы красоты, среди которых главное место занимают числа и единство, находятся внутри души и с их помощью производится эстетическое суждение. Сами же они являются произведением высшего Художника, в котором и мыслится идеал истинного единства. Именно
выражением этого высшего единства считает Августин в приведенном рассуждении (из «De vera religione») единство и другие формальные закономерности тварной красоты. Абсолютное же единство есть в христианстве одновременно и абсолютная истина, и высшее благо. Таким образом, все формальные закономерности чувственно воспринимаемой красоты у Августина оказываются
содержательными[615], ибо они в конечном счете значимы для него не сами по себе (и он регулярно подчеркивает это), но лишь как средство
выражения высшей и абсолютной истины, высшего блага
[616]. В этом существенное отличие августиновской эстетики от античной (стоической прежде всего). Поэтому если с формальной точки зрения Августин не может дать ответ, почему нам доставляют удовольствие соразмерность, подобие, гармония, единство, то с содержательной - у него этот ответ есть. Формальные закономерности красоты нравятся нам не сами по себе, но как
выражение высших законов бытия, высшей истины, приобщающее нас к ней. Причастность же к абсолютной истине связана с радостью, наслаждением, блаженством. Таким образом, эстетика Августина в самом сложном своем вопросе опирается на гносеологию, а гносеология, как мы уже видели (гл. III), в этом же пункте стремится найти опору в эстетике. Круг замыкается, лишая ищущий разум выхода как в гносеологии, так и в эстетике. Сам Августин, как и все христианство, видел его лишь в чисто религиозной сфере, в помощи божественной благодати.
Красота, как мы помним, определяет у Августина (как и у Плотина) степень бытийственности вещи, следовательно, формальные признаки красоты становятся здесь показателем онтологического статуса вещи, ее ценности в иерархии бытия. Чем прекраснее вещь, чем гармоничнее, чем выше степень ее единства, тем более высокое место занимает она в бытии, тем сильнее истина просвечивает в ее форме, тем истиннее она.
Высоко ценя неутилитарность эстетического наслаждения, Августин имел в виду независимость его от потребностей обыденной жизни. Однако он не признавал бесполезной красоты. Такой для него просто не существовало. Любая красота и в мире, и в искусстве представлялась ему выражением высших истин, возводящим к ним душу и сердце человека, зовущим его в мир истинного бытия. В этом и видел Августин высокую пользу красоты и искусства.
Таким образом, стремясь выявить сущность красоты, Августин использовал многие достижения античной эстетики, но усмотрел во всех формальных закономерностях прекрасного содержательную сторону, сделав в этом плане существенный шаг вперед в развитии эстетической теории.
Глава VII. ТВОРЧЕСТВО
Где, однако, гарантия того, что красота чувственно воспринимаемых предметов отражает высшую истину? Такую гарантию Августин, как и все христианские теоретики, усматривает в
идее творения мира Богом из ничего. Эта идея занимает видное место в мировоззренческой системе гиппонского мыслителя и является одним из главных опорных пунктов его философии. Именно она определила сущностное отличие философии Августина от плотиновской. Она в корне исключала основную идею неоплатонизма - концепцию эманации, поступенчатой передачи эйдосов
[617]. Отсюда и особое внимание Августина к этой проблеме, и ряд противоречий в его системе.
Собственно, весь путь духовного становления африканского мыслителя в той или иной форме был связан с осознанием именно этой идеи. В юности его, устремившегося на всех парусах к высотам духовности, которая открылась ему в философии, оттолкнула от Библии своим примитивизмом, в частности, и идея творения, очень похожая на сказку для детей. Позже под влиянием неоплатонизма и аллегорической экзегезы Амвросия Медиоланского он увидел в Библии, и прежде всего в начальных главах Книги Бытия, духовные глубины, скрытые под буквальным уровнем текста. Это не только подняло в его глазах авторитет Писания, но и убедило в истинности христианского мировоззрения. И уже в Гиппоне, став духовным пастырем большого прихода, а позже и фактически главой африканской церкви, он пришел к сознательному принятию буквального смысла библейской идеи творения мира. При этом он не отказался и от ее аллегорического многозначного истолкования. Однако на первое место в зрелый период своего творчества он выдвигает буквальный смысл текста Книги Бытия.
Конечно, нелегко было поклоннику Плотина, постигшему тонкости отвлеченной игры ума и познавшему вкус изящного плетения словес, поверить в безыскусный рассказ о шести днях творения. Но путь от высот античной культуры к христианскому мировоззрению у большинства Отцов Церкви в то время был именно таким: от сложной и утонченной интеллектуальной духовности к простым и безыскусным, даже примитивным радостям новой веры. Здесь действовала особая логика культурного развития, когда сама человеческая природа начинала не выдерживать слишком уж изощрившуюся
в духовных изысках культуру и требовала опрощения: спуститься с духовных высот на грешную землю с ее грязью, слезами, грубостью, чтобы набраться сил для нового духовного взлета, что и составляло специфическую черту христианства.
В работах Августина, особенно раннего периода, можно нередко встретить реминисценции неоплатонической теории эманации (так же, как, впрочем, и стоическую идею первоначальной материи), несовместимые с идеей творения. Однако их нельзя считать определяющими в его системе. Это не более чем воспоминания о пройденных этапах его сложного пути духовного становления, отголоски которых порой неосознанно, как словесные клише, продолжают звучать и в его поздних текстах. Не случайно сам Августин неоднократно убеждает своих читателей не увлекаться словами, но всегда уметь видеть выражаемую ими идею.
Одной из главных идей философии Августина была идея творения мира из ничего
[618]. Она наложила свой отпечаток и на его эстетическую систему. Августиновская концепция творения отнюдь не лишена противоречий, но нас в данном случае интересует ее суть, оказавшая влияние и на его эстетику, и на художественное мышление Средних веков.
До творения мира вечное бытие имел только Бог в единстве своих трех ипостасей, как некое абсолютное море сущности. Кроме этого «моря», не было абсолютно ничего, что и обозначено в патристике как «ничто» (nihil). Идея творения, как и вообще совокупность всех идей, постоянно пребывала в Боге. Момент творения не фиксирован во времени, так как времени еще не существовало. Оно само - результат творения. Бог творил через посредство своего Сына, своей ипостаси - Слова, высшей формы и средоточия всех форм, ибо оно предшествовало всему, «как форма всего, вполне заключая [в себе] то Единое, от которого имеет бытие, так что все, имеющее бытие, поскольку оно подобно единому, произошло через эту форму» (De vera relig. 43, 81). Пластичность как специфическая принадлежность античного мышления, живущая в Августине, неизбежно требует, чтобы оформлено было нечто бесформенное, но имеющее уже что-то, что может принять форму. Ничто, по античным представлениям, не может быть оформлено, ибо как же оформлять то, чего нет? Здесь Августин попадает в клубок сложных противоречий, который он так и не смог распутать. Он принимает библейскую идею творения из ничего. Но творение, как мы отчасти видели и подробнее увидим далее, он понимает как придание вида и формы. В то же время античная, и прежде всего стоическая, традиция, весьма распространенная в поздней античности, убеждает его в том, что форму надо придавать чему-то. Он как бы забывает здесь плотиновскую мысль о том, что придание формы есть уже приобщение к бытию, хотя и повторяет ее достаточно часто в своих работах. Он пытается найти компромиссное решение, опираясь на библейские, стоические и неоплатонические представления, что приводит его к явным противоречиям, которые он не снимает, но оставляет в качестве антиномий.
Августин предлагает одно из толкований (подчеркивая, что могут быть и другие) первого стиха Книги Бытия («В начале сотворил Бог небо и землю»), считая, что под «небом» следует понимать мир духовный, а под «землей» - «бесформенную материю» (Conf. XII, 2, 2-3,3). В подходе к этому вопросу Августин отдает дань своим юношеским увлечениям дуалистическими концепциями
[619]. Из ничего Бог создал лишь диаду - духовный мир и бесформенную материю. А дальше, пишет Августин, буквально повторяя стоиков, - творил из этой материи. Первосозданная материя, хотя и была «невидимая и неустроенная», уже отличалась от небытия: «И все-таки это не было полное «ничто»: было нечто бесформенное, лишенное всякого вида» (XII, 3, 3). Вот здесь-то и встают главные трудности перед разумом, привыкшим только к формально-логическому мышлению. При определении первичной материи возникает противоречие в результате совмещения противоположных представлений. Необходимо или признать его ложным, или принять противоречие в качестве нормы бытия и мышления. Последнее мучительно трудно для ревностного почитателя античной диалектики, и тем не менее, хотя и с оговорками, он допускает его.
Стремясь избежать одной «алогичности», совершенно неприемлемой для античного пластического мышления (создание материального мира из ничего с помощью слова), он вынужден принять другую: первоначальная материя не имеет формы, но обладает каким-то бытием, хотя лишь форма определяет бытие вещи. На примере Августина хорошо видно, как в поисках оптимального решения важнейших проблем бытия мучительно билась философская мысль поздней античности, отягощенная грузом противоречивых традиций - стоической, неоплатонической, гностической, манихейской, раннехристианской. В чем же тогда «первичность» этой материи? В каком смысле надо понимать ее «первозданность»? Для ответа на этот вопрос Августин рассматривает четыре вида первенства: «по вечности, по времени, по I выбору и по происхождению», показывая, что материя так же «первична» по отношению к форме, как звук - по отношению к пению, т. е. не по времени («потому что время появляется, когда все уже облечено в форму»), но «по происхождению» (XII, 29, 40). Этим «по происхождению» Августин пытается показать не временное, но логическое первенство материи
[620].
Но что же такое эта первосозданная материя,- пытается прояснить свою собственную мысль Августин: «Она не есть интеллигибельная форма, как жизнь или справедливость, ибо это телесная материя; но она и чувственно не воспринимается, потому что в «невидимом и неустроенном» ничего нельзя увидеть и воспринять». Когда так говорит себе человеческая мысль, то суть мышления сводится к тому, чтобы или знать, не зная, или не знать, зная» (XII, 5, 5). Раньше, поясняет Августин, под влиянием манихеев, он представлял себе эту материю не бесформенной, но в виде ужасных и отвратительных образов. «Бесформенной» он называл ее не потому, что она была лишена всякой формы, но из-за ее отталкивающего, безобразного вида. «То, что я мысленно себе представлял, было бесформенным не по отсутствию всякой формы, но по сравнению с формами более красивыми». Очень трудно, признается Августин, было представить себе «нечто между формой и «ничто»: нечто не имеющее формы, но и не «ничто». Внимательное всматривание в вещи направило его внутренний взгляд на саму изменяемость вещей, на сущность перехода от одной формы к другой, который совершается через нечто бесформенное, но не через «ничто».
Все эти колебания на пути к осмыслению бесформенности материи происходят у Августина под влиянием плотиновских представлений о материи: «отбросив всякую форму, назовем материей то, что никакой формы не имеет» (Эн. I, 8, 9); «То, что рождается и переходит из одного состояния в другое, нуждается в материи» (Эн. II, 4, 2) и др. Но неоплатонизм нелегко, хотя и последовательно, усваивается Августином, чтобы затем укрепить и его христианские представления. «Итак,- повторяет он уроки неоплатонизма в христианский период,- изменчивое в силу самой изменчивости своей способно принимать все формы, через которые, меняясь, проходит изменчивое. Что это такое? Душа? Тело? Некий вид души или тела? Если бы можно было о ней (материи. -
В. Б.) сказать: «ничто, которое есть нечто» и «есть то, чего нет», - я так и сказал бы. И все же она как-то была, дабы могло возникнуть видимое и устроенное» (Conf. XII, 6, 6)
[621]. Материя предстает у Августина потенциальным носителем всех возможных форм. Это нечто фактически бесформенное, но уже расположенное к любой форме (informis formabilisque - De fid. et symb. 2)
[622].
Итак, из ничего (de nihilo) Бог создал две крайности мира бытия - «небо небес» (coelum coeli), «некое духовное творение, мир духовных существ», и бесформенную первичную материю, балансирующую на грани бытия и небытия: «Был Ты и «ничто», из которого Ты и создал небо и землю - некую двойню; одно близкое Тебе, другое близкое к «ничто»; одно, над которым пребываешь Ты; другое, под которым ничего нет» (Conf. XII, 7, 7). Из этой бесформенной материи, которой почти нет, Бог и сотворил весь чудесный, многообразный мир, величию и красоте которого разум человека не устает изумляться.
Процесс творения мира из материи, или божественного творчества, осуществлялся путем придания формы этой материи, т. е. оформления и упорядочения того, что почти не имеет бытия, и, следовательно, наделения материи более высоким уровнем бытия (ср.: De immort. anim. 8, 13; De vera relig. 18, 35 - 36). Сама форма является творением Бога, созданным одновременно с материей. Материя, опять подчеркивает Августин, предшествовала форме не во времени, но по происхождению (De Gen. ad lít. I, 15, 29). С другой стороны, Августин (дань пластичности античного мышления или реминисценции аристотелизма) считает, что и сам Творец обладает некоторой «формой, вечно и неизменно присущей (inhaerentem)» ему, в подражание которой оформлялся и весь мир (I, 4, 9). Соответственно обладает своей формой и непосредственный творец мира - Слово-Сын (I, 5, 10).
Придание формы и вида материи осуществлялось, по сути дела, по тем законам красоты и искусства, которые были рассмотрены в предыдущей главе, а сам Верховный Творец регулярно называется Августином Художником (artifex) и уподобляется во многом земному художнику. Закон единства и здесь выступает главным законом формообразования, ибо, утверждает Августин, «получить форму значит то же, что быть приведенным в нечто единое, потому что высшее единство является началом всякой формы» (De Gen ad lit. imp. 10, 32). Единство же основывается на гармонии всех входящих в целое форм. И не только форм, но даже и отсутствий форм, промежутков между формами.
Оформлению и упорядочению подлежит в процессе творчества не только материя тел, но и само «ничто», пустота, находящаяся между ними, ибо от ее количества и места, где она внедряется между материальными формами, существенно зависит целое. «Бог сотворил только формы (species), - пишет Августин, - но не отсутствия [их], которые относятся к тому «ничто», из которого создано все художником Богом; однако если говорится: «И разделил Бог между светом и тьмою», - разве не должны мы думать, что и отсутствия [форм] упорядочены им и что они обладают своим порядком, ибо Бог над всем господствует и всем управляет. Так, паузы в пении, чередующиеся через известные размеренные интервалы, хотя и представляют собой отсутствие звуков, однако искусными певцами хорошо упорядочены и придают всей песне особое очарование. Также и тени в живописи выделяют некие особо важные детали и доставляют удовольствие не своим видом, а расположением. (...) Итак, формы и самую природу [Бог] и творит, и упорядочивает; отсутствия же форм и недостатки природы он не творит, но только упорядочивает их» (5, 25).
Августин, таким образом, фактически не видит принципиальной разницы (хотя, как мы увидим далее, он все же различает их) между божественным и художественным творчеством, что позволяет ему более фундаментально (опираясь на практику земных художников) говорить о божественном творчестве, а современному исследователю - с полным основанием отнести к эстетике августиновскую теорию этого творчества. Далее, важным шагом в развитии эстетической мысли явилась идея Августина об упорядочении пауз, отсутствий форм, промежутков между ними, т. е. концепция значимости пустоты в искусстве. Гиппонский мыслитель в контексте своей всеобъемлющей теории порядка пришел к выводу, что эстетическая значимость произведения искусства зависит не только от организации чувственно воспринимаемых изобразительно-выразительных элементов, но и от упорядоченности промежутков, «пустот» между ними, т. е. эти «пустоты» имеют важное значение для эстетического облика всего произведения. Понятно, что художественная практика постоянно опиралась на эту идею, не выводя ее на уровень осознанного принципа. Тем не менее и осознание ее имело не только теоретическое, но и конкретно-практическое значение, ибо заставляло художника строже и внимательнее относиться не только к создаваемым им формам, но и к окружающей их пустоте, пространственному и временному фону.
В соответствии с известным библейским изречением (Прем 11, 21)
[623]Августин видит сущность творчества в придании материи
меры, числа и
веса (равновесия), которые в своем идеале, в идее (ratio) существуют в самом Творце. Именно вследствие того, «что мера (mensura) определяет модус (modum) всякой вещи, число придает ей вид, а вес - покой и устойчивость, они в своей первоначальной, истинной и единственной [основе] суть Тот, который придает всему определенность, форму и порядок» (De Gen. ad lit. IV, 3). Поэтому сам Творец обозначается Августином как «мера без меры», «число без числа», «вес без веса», содержащий в себе идеи всякой меры, всякого числа и всякого веса и организующий в соответствии с ними мир тварного бытия (IV, 3; ср.: De civ. Dei V, 11). В разуме Творца, в его «мудрости» содержатся, по мнению Августина, вообще идеи всех возможных конкретных творческих форм: «Ибо существуют идеи, некоторые первоначальные формы или разумные основания (rationes) вещей, постоянные и неподвижные, сами не являющиеся формами и поэтому вечные и всегда одинаковые, они содержатся в божественном разуме. И между тем, как сами они не рождаются и не погибают, однако все, что может рождаться и умирать и что действительно рождается и умирает,- формируется сообразно с ними» (De div. quaest. 83, 44; ср.: De Gen. ad lit. V, 13, 29; 15, 33).
Трактуя библейскую фразу: «Дух Божий носился над водою» (Быт 1, 2), Августин опять обращается к сфере художественного творчества, понимая под «водой» материю, а под «духом» - творческий дух: формируя мир из материи, дух Божий «носился» над ней, «подобно тому как носится воля художника над деревом, или над любым другим материалом, подлежащим обработке, или даже над самими членами его тела, которыми он совершает работу» (De Gen ad lit. imp. 4, 16). Введение в творческий процесс воли художника (voluntas artificis) - также важное достижение теоретической мысли Августина. Именно воля способствует, по его мнению, воплощению творческих потенций, приводя в согласованное движение идеи художника и члены его тела, реализующие эти идеи в материи. Именно воля художника определяет конкретную форму реализации той или иной идеи. Августин подчеркивает, что одна и та же идея может быть воплощена в различных формах. Их выбор зависит от воли художника.
Так, первый человек Адам был создан в соответствии с изначально присущей Богу идеей человека, или «первичными причинами», которые носили такой общий характер, что им мог соответствовать не только тот конкретный вид человека, в котором мы сейчас существуем, но и многие другие. В настоящем своем виде человек «создан не вопреки тому, как он содержался в первичном состоянии причин, ибо в них заключалась [для него] возможность быть созданным и в
таком виде, хотя и не было там [причины] необходимо явиться именно в
этом виде; последнее явилось уже не [столько следствием] идеи творения, [сколько результатом конкретного] решения Творца, воля которого необходимое условие для [созидаемых] вещей» (De Gen. ad lit. VI, 15, 26). Эти идеи Августина своеобразно воплотились в средневековом изобразительном искусстве, предоставив художнику возможность по-своему интерпретировать тот или иной традиционный сюжет, но в рамках общего иконографического канона, хранящего «идею» данного сюжета
[624]. В более общем - эстетическом плане мы видим здесь конкретные рассуждения о замысле произведения и возможности различных его реализаций в материале.
Не все ясно для людей, полагает Августин, в творчестве божественного Художника (De Gen. ad lit. imp. 1, Г), но ведь много неясного и непонятного для профанов и в деятельности земного художника и за это никто не осуждает его. Если мы не понимаем, к примеру, для чего кузнец выполняет ту или иную операцию, то мы же не считаем ее бессмысленной, но уверены, что кузнец знает, для чего она нужна, и вполне доверяем его искусству. Тем более следует доверять верховному Творцу и восхищаться целесообразностью его творчества (Enar. in Ps. 148, 12).
Процесс творения мира мыслится Августином состоящим как бы из трех моментов: 1. Бытие у Бога идеи, замысла (ratio) творения; 2. Реализация этой идеи в сфере высших духовных сущностей, т. е. небесных чинов, и 3. Возникновение самого творения (De Gen. ad lit. II, 8, 19). Эти три момента осуществляются как бы одновременно, так как времени до сотворения мира не было. Так же вне времени происходил и «шестидневный» процесс творения мира. Все, отмечает Августин, было создано разом, хотя и в шесть дней. Усвоить это трудно, но это так. Шестидневный порядок творения следует понимать скорее в причинном, чем во временнóм смысле (IV, 33, 52-34, 54; V, 3, 6; V, 5, 12). В этом Августин видит существенное отличие божественного творения от художественного творчества. Другое отличие состоит в том, что божественный Творец создал все своим Словом; о нем идет речь в Евангелии от Иоанна. Это Слово и есть вечный разум, «в котором ничто не начинается и не перестает быть» (Conf. XI, 8, 10). Через это Слово, ибо оно является и Премудростью Божией, и в нем создан весь этот прекрасный мир (от возвышенного ангела до ничтожного червя), которым мы не устаем восхищаться (In Ioan. ev. I, 8 - 9; 13). Божественное Слово создало мир целиком в единый момент творения и, одновременно, продолжает его создавать постоянно, руководя процессом изменения и смены материальных форм. «И поэтому Словом, совечным Тебе, Ты одновременно и вечно говоришь все, что говоришь; и возникает все, чему Ты говоришь, чтобы возникло; Ты творишь не иначе, как говоря, и, однако, не одновременно и не навсегда возникает все, что Ты создаешь Словом» (Conf. XI, 7, 9). Это Слово наделило и человека творческими способностями, даровав ему уразумение тайн искусства, умение создавать в душе представление о том, что он должен создать, а также чувственным восприятием, с помощью которого душа может оценить, хорошо ли выполнено произведение (XI, 5, 7). Все изложенное показывает, что Августин достаточно ясно представлял себе основные этапы творческого процесса: возникновение замысла (идеи произведения); конкретную реализацию его в материале (глине, камне, дереве, золоте и т. п.); оценку созданного произведения.
Замысел необходимо существует, как у божественного, так и у земного художника, до начала творения. Бог творил, заранее зная, что он создает; так же и человек не может ничего создать, не зная, что он собирается сделать (De civ. Dei XI, 10). Отличие же божественного Творца от земного художника в том, что у первого творение полностью соответствует замыслу, а у второго - реальным и истинным является то произведение, полагает Августин в духе неоплатонизма, которое находится в замысле (или, как он еще обозначает, «в искусстве») художника. «Вот плотник делает ларец. Сначала он имеет ларец в [своем] искусстве, ибо если бы он не имел его в своем искусстве, как мог бы он создать его? Но ларец содержится в [его] искусстве так, что это не сам ларец, видимый глазами. В искусстве содержится он невидимым образом, в самом же произведении он видим. Вот он стал произведением; перестал ли он быть в искусстве? Как этот обрел бытие в произведении, так и тот остался в искусстве; материальный ларец может и сгнить, но всегда можно изготовить другой на основе того, который находится в искусстве. Итак, следует различать ларец в искусстве и ларец в произведении. Ларец в произведении не является жизнью, ларец в искусстве есть жизнь; так как живет душа художника, в которой все это содержится прежде, чем производится» (In Ioan. ev. 1, 17). Подобным же образом рассуждает Августин в другом месте по поводу сооружения дома, его идеи «в искусстве» и конкретной реализации (37, 8).
Верховный Творец превосходит художника тем, что на основе внутренне действующих причин он творит из небытия не только природные формы тел, но и души живых существ (De civ. Dei XII, 26). Различны и способы творчества этих художников. Если создатель ларца находится вне своего произведения и творит его своими руками, то божественный творец создает мир только своим Словом и находится внутри создаваемого им мира, пронизывает и наполняет его собой (In Ioan. ev. 2, 10).
Еще одно важное различие между божественным и земным художниками состоит в том, что первый сотворил такое произведение, которым он должен постоянно управлять. Результат труда художника не требует этого. «Ибо могущество и сила всемогущего и всесодержащего Творца являются причиной существования всей твари; если бы эта сила перестала когда-нибудь управлять тем, что сотворено, вместе с тем перестали бы существовать и его виды, и вся природа погибла бы. Когда архитектор, закончив сооружение здания, оставляет его, созданная им постройка продолжает существовать и без него; не то с миром: он не мог бы просуществовать и мгновения ока, если бы Бог лишил его своего управления» (De Gen. ad lit. IV. 12, 22). Августин, невольно конечно, показывает здесь, что произведение искусства совершеннее божественного творения, ибо произведение художника способно существовать автономно. Мир же, по мнению Августина, лишен этой способности.
Бог, создав единожды мир во дни творения, посеял семена всех намеченных к существованию тварей и продолжает постоянно творить, развивая заложенные в семенах потенции. Ни одно семя, полагает Августин, в том числе и человеческое, не развивается без божественного участия. Непонятным для человека образом соединяя бестелесную и телесную природы, верховный Творец создает удивительный по красоте мир, как в целом, так и в каждой его части, вплоть до неприметной букашки (De civ. Dei XXII, 24).
Красота выступает главной целью как божественного, так и художественного творчества. Бог замыслил весь мир прекрасным и таковым его и создал, но в результате частичного отпадения отдельных элементов мира от бытия он утратил свою изначальную красоту. Это относится прежде всего к человеку. Порча божественного произведения должна быть ликвидирована. Бог, послав свое Слово на землю, воплотив его в человеческое тело, прилагает максимум усилий к исправлению человека, воздействуя на его чувства и разум. Грядущее воскресение обещает исправившимся, т. е. праведным, вечное блаженство в гармонии истинного бытия. Воскресение вселяет в людей надежду на восстановление человеческой сущности во всей ее полноте, т. е. в единстве души и тела и в абсолютной духовной и телесной красоте (XXII, 19 - 20). Бог и на этот раз, по мнению Августина, поступит в этот важный момент как земной художник, как скульптор, который расплавляет неудавшуюся статую и из того же материала создает новую, более соответствующую замыслу, ее изначальной прекрасной идее (Enchirid. 87-91).
Бог создал мир ради его красоты, и Августин не устает восхищаться и красотой мира, и красотой самого Творца, предполагая, что последняя значительно превосходит видимую красоту (см.: Enar. in Ps. 148, 15; De vera relig. 23, 44; 39, 72).
Своими многочисленными рассуждениями о божественном Творце Августин, по сути дела, вводит в эстетику важную проблему идеала художественного творчества или идеального художника. Суть ее сводится к следующему. Художник имеет в своем уме беспредельную совокупность творческих идей, или замыслов, которые он и реализует в конкретных произведениях. Творит этот идеальный художник своим словом (которое=разуму, ибо оно - логос) с помощью волевого импульса, т. е. усилием воли он заставляет свой разум материализовать ту или иную идею в конкретном виде. Целью творчества являются красота и благо (ср.: De civ. Dei XI, 21; 23). Произведение прекрасно, но в меньшей степени, чем его создатель. Идеальный художник представляется Августину средоточием и пределом красоты, ибо любое творение ниже его (ср.: Conf. VII, 5, 7).
Этот идеал возник у Августина на основе наблюдений за реальным творческим процессом земного художника. Не случайно, что он постоянно проводит параллели между реальным и идеальным творчеством, подчеркивая сходство и различие в действиях земного художника и идеального творца. В частности, одно из главных отличий состоит в том, что идеальный художник творит только ради красоты, а земной - еще и для пользы. В целом три главных условия определяют творческий процесс художника: натура (natura), искусство (doctrina) и польза (usus). Натура понимается Августином как природное дарование, способность к творчеству, талант (ingenium); искусство (здесь не ars, а doctrina - наука!) заключается в знании и владении соответствующими навыками, техникой того или иного вида творчества, а польза означает плод (fructus) творческой деятельности. Отмечая, что польза и плод ведут к различным действиям - пользоваться (utor) и наслаждаться (fruor), он указывает на двойную цель творчества - утилитарную и собственно эстетическую, что и составляет его реальную основу (De civ. Dei XI, 25).
Вдохновителем и руководителем созидательного труда человека является, конечно, верховный Творец. Поэтому все истинное, что есть в произведениях рук человеческих, Августин склонен возводить к нему, недостатки же и ошибки - к реальному мастеру - человеку. Так. по поводу собственного творчества Августин пишет: «...все, что в этом сочинении можно найти ошибочного, должно быть отнесено на мой счет, все же истинное и подобающим образом изложенное должно быть приписано единому подателю всех даров - Богу» (De vera relig. 9, 17). Здесь, как и в древних ближневосточных культурах, постулируется принципиальная анонимность творчества (ибо все истинное в нем - от Бога), столь чуждая греко-римскому сознанию, но получившая широкое распространение в художественной практике Средневековья.
Еще одним важным вопросом августиновской, как и вообще христианской, теории творчества является принцип творения «по образу и подобию», относимый христианской традицией в соответствии с известным библейским выражением (Быт 1, 26) только к созданию человека. Вопрос этот стоял в центре внимания всех Отцов Церкви и решался ими далеко не одинаково. Как же понимал его Августин?
Следует отметить, что библейская фраза: «сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему» (Быт 1, 26), - породила большую проблему в святоотеческой литературе. Она побудила практически любого христианского мыслителя специально задуматься над вопросом: что есть образ и подобие? Не менее девяти столетий шла активная полемика по этому вопросу в христианском мире, внесшая существенный вклад в разработку теории образа. Спор в основном вращался вокруг двух вопросов - о сущности образа и степени, или мере, соотнесенности его с архетипом, или о пределах соответствия образа архетипу. В орбиту внимания Отцов Церкви попадала и проблема образа в целом, и вопрос ее конкретной реализации в культовом изобразительном искусстве. Нелегким был путь осмысления этого важнейшего философского и эстетического понятия в патристике. Ощущая, что образ есть некий способ непонятийного выражения, применяемый, как правило, там, где формально-логические связи оказываются недостаточными, ведущие представители патристики, следуя лучшим традициям греко-римского философствования, стремились на концептуальном уровне определить сущность этого понятия и скрывающегося под ним феномена. Насколько труден был этот процесс для философского сознания того времени, наглядно показывают и усилия Августина.
Следуя античной и апостольской традициям, Августин усматривает «образ и подобие» человека Богу в его духовности - разуме, способности мыслить (Conf. XIII, 32, 47). Он пишет, что «образ Божий, по которому сотворен человек, заключен в том, что человек превосходит неразумных животных. А это называется самим разумом (ratio), или умом (mens), или познавательной способностью (intelligentia), или каким-либо иным подходящим термином». Ссылаясь на ряд мест из Павловых посланий (Еф 4, 23; Кол 3, 10), Августин разъясняет, что апостол видел образ Божий «не в телесных чертах, а в некоторой форме интеллектуально просвещенного ума» (De Gen. ad lit. III, 20, 30).
Чисто духовное понимание образа сложилось у Августина в процессе его борьбы с манихейским буквализмом в понимании Писания и под влиянием амвросианского аллегоризма и плотиновского спиритуализма. Еще в 389 г., полемизируя с манихеями, Августин писал, что сказанное о человеке «по образу Бога» надо относить к «внутреннему человеку», т. е. к его разуму и интеллекту, а не к его видимому облику (De Gen. contr. Man I, 17, 28). Однако кое-что и в теле человека отражает его принадлежность к божественному образу. Это, прежде всего, вертикальное положение его тела, а также красота и целостность этого тела. Последнее, однако, - общая черта у человека со всем творением и относится уже не к «образу», но к «подобию». А подобие (similitudo) выступает неотъемлемой чертой «образа» (imago), что приводит Августина к определенным затруднениям в осмыслении указанного библейского тезиса.
«Всякий образ,- рассуждает он,- подобен тому, чьим образом он является; хотя не все то, что подобно чему-то, есть и его образ; так, образы в зеркале и живописи являются еще и подобными; однако если один не рожден от другого, то ни один из них не может быть назван образом другого. Ибо образ возникает тогда, когда он из чего-либо воспроизводится» (cum de aliquo exprimitur) (De Gen. ad lit. imp. 16, 57). Образ в понимании Августина обязательно является производной архетипа, его порождением и одновременно его выражением, на что указывает глагол exprimor; это некое порождение, выражающее своего производителя. Образ генетически связан- с архетипом, что существенно отличает его от знака (см. гл. IX). Знак выбирается произвольно и наделяется значением. Образ производится самим архетипом и воспроизводит его. Вся шкала образного производства расположена между двумя крайностями. С одной стороны, архетип чисто механически отражается в чем-либо (образы в зеркале). С другой - он сам вполне сознательно творит из чего-то свой образ, как поступил Бог. создавая человека, т. е. архетип творит «автопортрет».
Однако архетип не всегда так активен, чтобы самому творить свои образы, и не всегда перед ним оказывается зеркало. Поэтому в общем случае требуется посредник, который помог бы воспроизвести черты архетипа в чем-то, т. е. создать образ. В мире таким посредником выступает только человек, творящий образы - от простых оттисков перстня на воске до сложных скульптурных и живописных изображений. Что же связывает образ с архетипом? По мнению Августина, эта связь держится на «подобии». Почему же тогда, резонно спрашивает Августин, в Книге Бытия сказано «по образу и по подобию», «как будто образ может быть неподобным»? Или подобное не является следствием подобия, как чистое - чистоты, а крепкое - крепости? Подобием в полном смысле слова можно назвать, по его мнению, только Сына, т. е. то подобие, «которое подобно не по причастию к какому-либо подобию, но само есть первое подобие, по причастию к которому подобно все, что чрез него было создано Богом» (16, 57). Сын не содержит в себе ничего «неподобного», он - полное и совершенное подобие Отца, и тем не менее он является не самим Отцом, но лишь его подобием (16, 60).
Августин как бы забывает здесь, что «по образу» и «по подобию» сказано о человеке, и рассуждает довольно непоследовательно об идеальном подобии - Сыне. «Образ» при этом выражает у него генетическую связь с архетипом, а «подобие» прямую причастность (participatio) к нему. Если бы Бог имел в виду только подобие, то было бы неясно, что это подобие рождено от него, а если бы Он говорил только об образе, то, хотя Он и дал бы понять, что этот образ от него рожден, но было бы непонятно, подобный ли это образ или это само подобие, полно и совершенно выражающее его природу (16, 58). В какой мере это подобие, через которое все было создано, отражается на внешнем виде (species) предметов, человеку понять достаточно трудно. Сам Августин склонен видеть это подобие в том, «что вся природа, как чувствующих, так и разумных тварей, сохраняет образ единства в соответствующих друг другу (similibus inter se) частях» (16, 59), т. е. в том, что Августин, как мы видели в предыдущей главе, считал
прекрасным. Здесь у него почти сливаются два смысла термина «подобный». С одной стороны, он говорит о подобии как о сущностной характеристике образа, означающей причастность образа архетипу; с другой - усматривает отражение этого подобия в сходстве (или соответствии) частей друг другу в структуре целого материального объекта. Но такое «сходство» имеет место почти во всех природных объектах, в том числе и в неодушевленных, поэтому библейское «по подобию» Августин относит только к «разумной субстанции» человека, к его уму, душе, т.е. к тому, чем человек отличается от животного и что делает его причастным к первому подобию - Логосу. Душа человека подобна не только Сыну, через которого была создана, но и всей Троице, и подобие это совершенно, так как между душой и Богом нет никакой промежуточной природы. Совершенство же подобия свидетельствует о том, что душа является и «образом», «ибо если образ не совершенно подобен, то он без сомнения и не есть образ» (16, 62)
[625].
Августину, таким образом, все-таки не удается достаточно убедительно наделить особыми значениями оба термина, употребленные автором книги Бытия. Но его экзегетические импровизации выявляют собственно августиновские представления об этих понятиях. Подобие (или сходство), по его мнению, имеет более широкую шкалу значений, чем образ. Все в тварном мире в той или иной степени подобно Богу, однако далеко не все можно назвать его образом, но «только то, по ту сторону (superior) чего лишь Он один имеет бытие. Образ ведь потому выражает Его в полном смысле, что между ним и самим [архетипом] нет никакой промежуточной природы» (De Trin. XI, 5, 8). Итак, образ происходит непосредственно от архетипа, выражает его на основе подобия и иерархически непосредственно следует за архетипом без каких-либо промежуточных инстанций. Созданием именно такого образа было увенчано все многотрудное дело небесного Художника. Человек представляется Августину пределом земного совершенства, венцом всего творения: «Вся тварь реализована в человеке, ибо он и мыслит духом, и чувствует и движется телом в пространстве» (De div. quaest. 17).
Для более полного представления об августиновском понимании этой важной категории рассмотрим еще некоторые аспекты, в которых она видится африканскому мыслителю.
В трактате «О Троице» Августин прилагает немало усилий для поиска образов Троицы в человеке и усматривает их в различных «триединых» компонентах и функциях человеческого духа, в основном связанных с процессом познания
[626]. Так, сам дух, его любовь к себе и его знание себя - едины и различны, и в этом Августин видит образ божественного триединства (De Trin. IX, 4, 4 - 7; 5, 8; 12, 18); или в самом духе память, понимание и воля также являются образом Троицы. «Нераздельно разделенное» единство в человеке бытия, познавательной способности и воли представляет еще один образ триипостасного божества (Conf. XIII, 11, 12).
В процессе духовной деятельности образ, по мнению Августина, играет важную роль, ибо наш дух оперирует не самими предметами, но лишь их образами, поступающими или от органов чувственного восприятия, или из глубин памяти. Образы всего воспринятого нами хранятся в нашей памяти и предстают перед внутренним взором, когда воля вызывает их (см.: Conf. X, 15 - 16; De quant. anim. 5, 8). Августин приводит целый ряд случаев возникновения образов в «духовной природе» человека. Образы эти носят картинно-визуальный или «мысленный» характер. Августин различает двенадцать видов таких образов: 1. образы, возникающие в результате непосредственного чувственного восприятия реального предмета; 2. мысленное представление об отсутствующем, но известном нам предмете; 3. представление о предметах, которые мы не знаем, но в существовании которых не сомневаемся; 4. представление о предметах, о существовании которых у нас нет точных данных; 5. самопроизвольно возникающие в духе «разнообразные формы телесных подобий», т.е. игра фантазии; 6. мысленные образы предстоящих действий; 7. мысленные представления о предстоящих движениях и намерениях в процессе действия; 8. образы сновидений; 9. бредовые образы при болезни; 10. яркие и рельефные образы реальных предметов, возникающие при некоторых видах болезни или скорби; 11. мир отчасти фантастических, отчасти реальных образов, созданных душой; 12. образы, связанные с полным погружением в духовное зрение (De Gen. ad lit. XII, 23, 49).
Большое значение, как мы уже видели (см. гл. III), придавал Августин «образу» и «подобию» в своей гносеологии, полагая, что процесс познания в чем-то тождествен с процессом уподобления и субъект познания в процессе познания приобретает некоторое «подобие» с объектом (De Trin. IX, 11, 16).
Наконец, многие события Священной истории Августин склонен рассматривать с позиций аллегорически-символического подхода к тексту Писания, т.е. в качестве особых «образов», имеющих ярко выраженный религиозно-символический характер. Так, становление христианской церкви Августин осмысливает в образах сотворения мира (Conf. XIII, 12, 13); основные события жизни Христа представляются ему «образами» христианской жизни вообще (Enchirid. 52-53); все события ветхозаветной истории являются для него прообразами пришествия и жизни Христа и становления христианской церкви (De cat. rud. 27, 9-28, 10); Св. Дух действует в мире в образе голубя (см. объяснения; In Ioan ev. 6, 1); Ноев ковчег выступает образом Церкви и Христа, спасшего древом своего креста грешное человечество (De civ. Dei XV, 26). Сарра благодаря своей красоте представляется христианам образом (figura) горнего Иерусалима, т. е. Града Божия, а Исаак - прообразом Христа, несшего свой крест (XVI, 31 - 32), и т. п.
Многомерность понятия образа показывает, что Августин уделял этой категории большое внимание и в своей онтологии, и в гносеологии, и в антропологии. В связи с его теорией творчества образ наполняется и собственно эстетическим смыслом. В качестве главного результата творческой деятельности идеального художника он занимает одно из важных мест в эстетике Августина. Создание произведения «по образу и по подобию» архетипа, т. е. некоторого идеального прообраза, составляет со времен ранней патристики идеальную основу творческого метода христианского художника. Реально земному художнику удавалось, по мнению Августина, осуществлять только вторую часть этого принципа - творить по закону «подобия», который лежал в основе красоты.
Несмотря на ряд неясных и противоречивых положений, теория творчества Блаженного Августина внесла существенный вклад в развитие эстетического сознания своего времени и послужила важным обоснованием творческой деятельности средневековых художников, вдохновлявшихся примером божественного Творца.
Глава VIII. ИСКУССТВО
От художника и творческого акта внимание Августина регулярно переключается и на результаты творческой деятельности - произведения искусства, сами искусства.
Следует вспомнить, что античность, а вслед за ней и Средние века наделяли термин «искусство» (τέχνη, ars) существенно иным значением, чем то, в котором он употребляется в наше время. Практически все отрасли духовной и предметно-практической деятельности человека назывались в позднеантичный период artes. В античности наметилось и деление искусств на свободные (artes liberales) и служебные (artes vulgares). К последним относились искусства, требующие физических усилий, к первым - сугубо духовные. Во II в. Гален считал высокими искусствами риторику, диалектику, геометрию, арифметику, астрономию, грамматику и музыку как теоретическую дисциплину математического цикла. К служебным искусствам относились все ремесла. Живопись, скульптура и архитектура автоматически попадали в низший разряд, хотя уже Гален полагал, что изобразительные искусства могут быть отнесены и к свободным искусствам
[627]. Служебные искусства рассматривались как имеющие утилитарное назначение, а свободные - служащими для удовольствия. В V в. в энциклопедическом трактате уроженца Карфагена Марциана Капеллы «О браке Филологии и Меркурия» приводится система семи свободных искусств, которая, будучи усовершенствованной Боэцием и Кассиодором, Стала традиционной для Средних веков
[628]. Свободные искусства подразделялись на «тривий», включавший грамматику, риторику, диалектику, и «квадривий», состоявший из музыки, арифметики, геометрии и астрономии. К служебным, или «механическим», искусствам (artes mechaniсае) относили в этот период музыку, как исполнительское искусство, живопись, скульптуру, архитектуру, различные ремесла. Таким образом, «свободные» искусства состояли в основном из научных, с современной точки зрения, дисциплин, а «механические» включали в свой состав ремесла и те искусства, которые Новое время отнесло к разряду «изящных». Поэтому, как справедливо отмечает современный автор, средневековая философия искусства представляла собой или «эпистемологию», или «технологию»
[629].
Августин в этом вопросе стоял где-то между античностью и Средними веками. В понимании свободных искусств он опирался на Цицерона и Варрона, т. е. занимал традиционную для поздней античности позицию. Однако его мало волновала классификация искусств как таковая. Для идеолога новой духовной культуры искусство представляло интерес только с точки зрения его отношения к человеку, его пользы или вреда для жителя нового града, как в утилитарно-бытовом, так и в духовно-нравственном планах
[630]. Античному академизму Августин противопоставлял христианский «утилитаризм», что не помешало ему сделать ряд интересных наблюдений и выводов и в этой области, использованных затем средневековой эстетикой. Он не акцентирует внимание на различении свободных искусств и механических, хотя первые, естественно, ценит выше. В рассуждениях по тем или иным вопросам он вовлекает в орбиту своего рассмотрения нередко в одном ряду самые различные науки, искусства и ремесла для подтверждения того или иного вывода.
Общие вопросы искусства активно интересовали Августина главным образом на раннем этапе его творчества, когда еще свежи были впечатления от юношеского увлечения ими и когда требовалось обосновать свое новое отношение к ним. Все основные тенденции позднеантичных теорий искусства нашли отражение во взглядах Августина. Для обозначения искусств и наук он употреблял практически как равнозначные термины ars и disciplina; «свободные искусства» у него соответственно называются artes liberales или disciplinae liberales (ср.: De immort. anim. 4, 6; Solil. II, 20, 34). Для обозначения «механических искусств» он использует только термин ars.
Все искусства ведут свое происхождение от разума, который составляет лучшую часть божественного творения, и соответственно несут в себе в той или иной форме черты разумности. В «рациональности» (rationabilis) искусств усматривает Августин их главную ценность. Последовательность возникновения «дисциплин» и их характеристики сложились у Августина под влиянием Варрона и неоплатонизма. В трактате «О порядке» (De ord. II, 12,35-15,43) он рисует красочную картину создания искусств разумом. Разум человека, наблюдая следы божественного разума (т. е. определенные закономерности) в чувственно воспринимаемом мире, постепенно пришел к необходимости их изучения (discere) и закрепления постигнутого в соответствующих «дисциплинах». Сначала разум изобрел слова, письменность, правила соединения букв, слогов, слов. Таким образом возникла
грамматика, с помощью которой записывались для памяти все знания. Римляне назвали ее
литературой (litteratura), и она включала в себя все письменные рассказы, в том числе и
историю (historia), науку «бесконечную и многосложную, доставляющую больше хлопот, чем удовольствия или истины» (II, 12, 37). Далее разум решил отыскать и изучить ту «силу, которая породила искусство (ars)» и которую он усмотрел в «науке наук» (disciplina disciplinarum) -
диалектике. «Она обучает учить, она же обучает учиться; в ней разум обнаруживает себя и показывает, каков он есть, что он желает и что может. Она знает знание (scit scire); она одна не только желает, но и может делать знающими» (II, 13, 38). Но среди людей много глупцов, которые неспособны прямо воспринимать истину, и необходимо прежде сильно возбудить их душу, поэтому разум наполнил одну из частей диалектики забавами и игрушками, предназначенными «для разбрасывания их народу», и назвал ее
риторикой. Далее разум пожелал устремиться к созерцанию самих божественных вещей, но, чтобы иметь опору при подъеме к столь головокружительным высотам, он проложил себе путь (вверх) через свои же владения (т. е. в сфере умопостигаемого) в определенной последовательности. Он стремился к умопостигаемой красоте, но ему мешали чувства, отвлекая своей «докучливой трескотней» от истинного пути. Разуму предстояло выдержать борьбу с ними, показав, что все истинное, что они приписывают себе, происходит от него и покоится на разумных основаниях. Он начал со слуха, приписавшего себе слова, и сразу усмотрел различие между звуком и тем, знаком чего он является. Он показал, что «суждению слуха» подлежат только звуки, которые, в соответствии с позднеантичной традицией
[631], он разделил на три группы:
[632] звуки голоса, духовых инструментов и ударные. К первой группе относится пение, включая
трагедию и
комедию: ко вто-рой - звучание флейт и им подобных инструментов; к третьей - звуки кифар, лир, цимбал, т. е. струнных инструментов.
Сам по себе звуковой материал представлялся разуму недостойным внимания до тех пор, пока он не был упорядочен во времени. Здесь I разум подметил, что звуки (как музыкальные, так и словесные) организуются в нечто упорядоченное на основе одних и тех же законов долготы и кратности. В словесном материале эти элементы называются слогами и стопами, из которых можно складывать стихи и ритмы
[633]. Таким образом разум создал
поэзию и поэтов. Он усмотрел большую пользу поэзии не только в ее звуковом характере, но и в ее языке и содержании. Он предоставил в распоряжение поэтов бескрайнюю область «разумных вымыслов» (rationabilium mendaciorum), удостоил их высочайшим почетом, но судьями над ними поставил грамматиков, так как поэзия ведет свое происхождение от их дисциплины. Всматриваясь в поэзию и музыку (звучащую), разум заметил, что основу их и силу составляют числа (или ритмы), но звуковая и словесная материя затемняют их божественный блеск и ясность. Звуки, как предметы чувственно воспринимаемые, не вечны: они возникают и исчезают, сохраняясь только в памяти. Поэтому не без помощи поэтов было придумано, что покровительствующие этой науке музы - дочери Юпитера и Мемории (памяти), а сама наука, берущая начало как от ума, так и от чувства, получила название
музыки.
Далее разум перешел к сфере зрительного восприятия. Он стал осматривать небо и землю и «почувствовал, что ему нравится не что иное, как красота, а в красоте - формы, в формах - размеренность, а в размеренности - числа» (II, 15, 42). Он начал сравнивать линии, окружности, формы реальных предметов с их идеальными прообразами, усматриваемыми умом, и увидел, что визуально воспринимаемые формы значительно хуже идеальных. Упорядочив последние, он образовал науку геометрию.
Большое впечатление произвело на него движение небесных тел и побудило к глубокому исследованию. И здесь нашел он господство размеренности и чисел и создал науку астрономию.
Таким образом, Августин рассмотрел практически все свободные искусства за исключением арифметики, но и она, естественно, имелась в виду, так как в основе всех наук Августин видел числа. Но не академический интерес руководил им в его изысканиях. Он стремился осмыслить значение и роль свободных искусств на путях поиска истины. Последовательность создания разумом наук соответствует у Августина пути их освоения, который ведет к философии, изучающей высшую истину непосредственно. Ее предмет, по Августину,- познание души и Бога, который лучше всего «познается незнанием». Однако понимает это только тот, кто уразумел числа простые и умом постигаемые. К познанию же чисел ведут свободные искусства (II, 16, 44). Их главную задачу Августин видел в подъеме человека от чисел телесных к числам духовным и вечным (Retr. I, 11, 1), от «следов чисел» к их средоточию, центру (cubilia) (De mus. V, 28; VI, 2). В ранних трактатах (где-то до 390 г.) Августин, как мы уже указывали, считал, что без знания «свободных наук» и философии человек вообще не может прийти к познанию Первопричины. Отсюда его особое внимание к искусствам. Не случайно он намеревался написать книги о всех свободных искусствах и частично осуществил этот замысел. К сожалению, кроме трактата «О музыке», работы его на эту тему до нас не дошли.
Ранний Августин настоятельно рекомендует всем любителям истины тщательно овладевать свободными искусствами, ибо они облегчают путь к блаженной жизни (De ord. Ι, 8, 24)
[634].
Из приведенного выше описания свободных искусств мы видим, что грамматика, или litteratura, у Августина включает в себя практически все словесные искусства, в том числе и ту литературу, которая может интересовать современную эстетику с точки зрения ее художественности. Риторика, или искусство красноречия, по сути дела, чисто эстетическая дисциплина. Disciplina musica лежит в основе целого ряда искусств, относимых теперь к разряду «изящных», - инструментальной, хоровой и вокальной музыки, театра, поэзии. Из законов геометрии вырастает архитектура, а живопись и скульптура немыслимы, по мнению Августина, без знания арифметических закономерностей и, в частности, правил пропорции. Сущность всех «изящных», а для поздней античности «механических», искусств Августин видел в искусствах свободных, обретших конкретную материальную и бытовую, или социальную, утилитарность. Многочисленные примеры из области живописи, скульптуры, архитектуры, поэзии он привлекает там, где речь заходит о закономерностях, входящих в компетенцию одной или нескольких «свободных наук».
В соответствии с платоновско-плотиновским идеализмом Августин склонен считать духовный мир более реальным, чем материальный. Поэтому свободные искусства, находящиеся в душе человека (художника), для него более истинны, чем реальные произведения, основанные на них. Если бы тело, к примеру, не имело формы и вида (forma et specie), то оно не было бы и телом, но если бы имело их истинными, то было бы уже душой, а не телом. Под «истинными» Августин имеет в виду геометрические основания формы, ибо он убежден, что только чистые геометрические фигуры содержат истину. «Телесные же фигуры, - пишет он, - хотя и представляются как бы стремящимися к ним, являются лишь некоторым подражанием истине, а потому - ложными» (Solil. II, 18, 32). Истинность свободных искусств коренится в их рациональности, в их тождественности разуму. Само искусство (ars) мыслится Августином реально существующим лишь в душе художника в качестве некоторой потенциальной способности к творчеству. Конкретные произведения содержат только его отблеск. «Кто станет утверждать,- риторически вопрошает Августин,- что основания чисел изменчивы; или что какое-либо искусство обязано своим существованием не разуму; или что искусство не существует в художнике, даже если он и не применяет его на деле; или что оно может существовать вне [его] души, или там, где нет жизни; или что неизменное может когда-нибудь не быть; или что одно есть искусство, а нечто иное разум? Ибо хотя и говорится, что искусство есть как бы некий единый свод многих разумных положений, однако мы имеем полное право понимать и называть искусство единым разумом» (De immort. anim. 4, 5). Свободные искусства представляются Августину сводом разумных закономерностей универсума, вечных и неизменных. Они постоянно существуют в душе (хотя и не всегда ясно осознаются человеком), и этим Августин, в частности, обосновывает бессмертие души.
Основу всех «механических» искусств, таких, как живопись, пластика, архитектура, звучащая музыка, также составляет разум (см.: De mus. Ι, 4, 6). Здесь «рациональность» (rationabile) проявляется во всех тех закономерностях, которые лежат в основе красоты, - в равенстве, пропорциональности, ритмичности, соразмерности, стройности и т. п. По мнению Августина, они хуже и менее истинны, чем их идеальные прообразы, но тем не менее, как сохраняющие следы разума и доставляющие нам удовольствие, обладают своей определенной ценностью. «Так, в этом самом здании,- рассуждает Августин об архитектурном сооружении, - хорошенько всматриваясь в частности, мы не можем не быть неприятно поражены, если видим одну из дверей поставленной сбоку, а другую почти посредине и, однако, не в самой середине. Нет сомнения, в любых сооружениях неодинаковость размеров частей, если она не вынуждена никакою необходимостью, кажется как бы наносящей оскорбление самому взгляду. А какое удовольствие доставляют нам при внимательном рассмотрении и какими восхитительными кажутся нам внутри эти три окна, одно - посредине и два - с боков, сквозь которые на равных промежутках друг от друга льется солнечный свет, - очевидно само собой и не требует многих слов для разъяснения вам. Вот почему сами архитекторы называют это на своем языке ratio, и о частях, расположенных нестройно, говорят, что в них нет ratio.
Сказанное имеет широкое применение и распространяется почти на все человеческие искусства и дела» (De ord. Π, 11, 34)
[635].
Эту же тему Августин развивает и в трактате «Об истинной религии». О наличии равенства, соответствия, пропорциональности членов в том или ином теле чувство человека судит само, опираясь на идеальные эстетические закономерности, хранящиеся в душе. Художники, или творцы «общепринятого искусства», обладают навыками воплощать в материале эти закономерности с большей или меньшей полнотой. Но как раз это-то и не ценилось высоко ни античностью, ни Августином. Умение правильно судить о законах искусства и красоты значило в поздней античности гораздо больше, чем способность к практической деятельности художника. «Таким образом, оказывается, что общепризнанное искусство (ars vulgara) есть не что иное, как сохранение в памяти испробованного и одобренного, с присоединением сюда определенных телодвижений и операций. Но если даже ты и не будешь владеть ими, ты сумеешь судить о произведениях, а это гораздо лучше, чем если бы ты и не умел сам сделать художественные вещи» (De vera relig. 30, 54)
[636]. Создаются эти произведения по законам равенства, гармонии, соответствия, единства, т. е. по законам красоты (см. гл. VI), представление о которых находится в «уме» художника. Именно здесь Августин наиболее осознанно сближает красоту и искусство, усматривая в их основе одни и те же формальные признаки. Но если красота служит только удовольствию, то произведения «механических», или «вульгарных» в терминологии Августина, искусств - также и пользе. Все утилитарное в них преходяще, относится к уровню человеческого существования и не определяет их сущности. Красота же произведений искусства, создаваемая руками искусного художника по предначертаниям его духа, происходит от высшей красоты, отображает ее, напоминает о ней и заставляет зрителя возлюбить ее (Conf. X, 34, 54). В этом истинное назначение произведений «обыденного» искусства
[637], но далеко не все они ему соответствуют.
Красота и ее структурные закономерности выступают у Августина основой всех «механических» искусств, что позволяет ему поставить в один ряд все виды музыкального искусства, поэзию, архитектуру и изобразительные искусства. Пожалуй, впервые в истории духовной культуры Августин усмотрел в этих разных искусствах нечто общее - именно их эстетическую сущность -
выражение красоты и возбуждение на этой основе
чувства удовольствия у зрителя. Большой недостаток всех этих повсеместно распространенных и общепризнанных искусств (и это также объединяет их) состоит, по мнению христианского платоника, в том, что они все основываются на «подражании» (imitatio). Это - их главная специфическая черта (см.: De mus. I, 4, 6 - 9), определяющая их невысокое место в универсуме. Изобразительные искусства подражают видимым формам предметов и их идеальным прообразам одновременно, т. е. стремятся к воспроизведению идеальной красоты форм;
[638] музыка, поэзия, архитектура «подражают» законам единства, равенства, гармонии и т. п. духовным истинам. Но ведь
подражание истине в общем-то является не чем иным, как созданием своего рода «неистинного» (falsum) (Solil. Π, 16, 30). Однако это ложное лежит в основе «механических» искусств и в какой-то мере является истинным. Августину приходится всерьез заняться этой сложной дилеммой и задуматься над проблемой истинного и ложного в искусстве. «Неистинное» в искусстве понимается им в двух смыслах. Во-первых, он усматривает его в самом способе «подражания» (imitatio) или «отражения» (relucentia) и, во-вторых,- в использовании вымысла в искусстве.
Опираясь на платоновско-неоплатоническую философию, Августин и произведения искусства, и предметы материального мира считает ложными, т. е. не содержащими духовных абсолютных истин, но лишь «отражающими» их. Однако он стремится отграничить эту их «ложность» от преднамеренной «обманчивости». Так, к примеру, один из главных эстетических принципов -
единство предстает в телах «обманчиво». Но в чем состоит эта обманчивость: в том ли, что в теле имеется единство, или в том, что оно не достигается? Августин рассуждает здесь следующим образом. Если бы тела достигали единства, то «они полностью выражали (impleo) бы то, подражанием чему являются. А если бы они вполне выражали его, то были бы совершенно подобны ему, то между той и этой природой не было бы никаких различий. А если бы это было так, то они уже не обманывали бы относительно него (единства. -
В. Б.), потому что были бы тем же, что и оно», т. е. были бы совершенно тождественны оригиналу. «Обманчивость» тел и произведений искусства, следовательно, состоит в том, что они не содержат того, за что их принимают, или в том, что их принимают за то, чем они не являются. Но ведь предметы сами по себе не стремятся и не могут стремиться к сознательному обману: «то же, что невольно считается иным, чем оно есть, не обманчиво, но только ложно» (De vera relig. 33, 61). Следовательно, в основе своей тела не обманывают нас, и если бы мы не принимали их за то, чем они не являются, они не были бы и ложными. «Ложность» материального мира - и здесь Августин отходит от платонизма - во многом обусловлена субъективизмом реципиента, принимающего тело за то, чем оно не является на самом деле. Искусство же использует этот прием сознательно, и в этом его принципиальное отличие от мира природных объектов
[639].
С одной стороны, искусство представляет собой тот вид «ложного», когда нечто, не имеющее онтологического бытия, стремится быть (esse tendit et non est). Речь здесь идет прежде всего об изобразительном искусстве и таких зрительных образах, как отражение в зеркале, сны, бред сумасшедшего. «А всякое живописное произведение или любое другое изображение, - вопрошает Августин, - и весь этот род художественных произведений (opificum), - разве не стремятся они быть тем, по подобию чего каждое из них сделано?» (Solil. II, 9, 17). К этому пониманию искусства Августина приводит одна из главных и популярных тенденций эллинистического искусства - стремление к предельному иллюзионизму. Не случайно в этой связи Августин вспоминает знаменитых медных телок Мирона (II, 10, 18), которые в период эллинизма с восхищением воспринимались «как живые». Однако уже ранние христиане (апологеты, Климент Александрийский) самым решительным образом выступили против иллюзионизма в искусстве, усматривая в нем источник идолопоклонства, ибо в народе принимали образы искусства за сами прообразы и поклонялись им
[640].
Соответственно и Августин, опираясь уже на раннехристианскую традицию, последовательно развивает мысль о том, что образы искусства не являются самой действительностью (и в этом смысле они ложны), но лишь отображают ее. Более того, именно эта их «ложность» и делает их «истинными» образами искусства. «Истинным трагиком» актер становится лишь потому, что он выступает «ложным» Приамом: «подражал Приаму, но самим Приамом не был». Отсюда вытекает «нечто удивительное», а именно: «...не оттого ли все это (имеется в виду искусство. - В. Б.) в одном отношении истинно, от чего в другом отношении ложно, и к истинности его в данном отношении не служит ли то, что в другом отношении оно ложно? Поэтому оно никоим образом не достигнет того, чем желает или должно быть, если избегает быть ложным» (II, 10, 18). Актер не является самим Гектором или Андромахой, а живописное изображение лошади - самой лошадью, да и Дедал никогда не летал, хотя в баснях и утверждается обратное, и тем не менее именно это и делает актера «истинным актером», изображение - «истинной живописью», а басню - «истинной басней». Истинное в искусстве не следует смешивать с истинным в действительности или в теории познания, ибо здесь оно должно быть понято по-своему. Таким образом, Августин стремится показать, что образы искусства не тождественны изображаемым явлениям и именно в этой нетождественности заключена истинность искусства. В конечном счете «истинное» в искусстве, равное «ложному» в другом отношении, несет в себе особое, но не буквальное знание. Учитель в школе, вспоминает Августин, никогда не настаивал на том, чтобы ученики верили в то, что Дедал летал, но он всегда говорил, что если они басню не выучат, то едва ли будут что-либо знать.
Здесь в поле внимания Августина попадает второй аспект «неистинного» в искусстве - проблема
вымысла, которая приобрела особую актуальность в период эллинизма и поздней античности. Ведь многовековая художественная практика того времени развивалась в направлении отхода от буквального копирования реальной действительности. Особенно далеко в этом отношении пошли словесные искусства. В огромной литературной продукции Римской империи практически во всех жанрах (от историографии и философии до поэзии и романа) важное место занимали чудеса, фантастические истории, парадоксальные и удивительные события. Расцветает новый жанр литературы - парадоксография, появляется роман - особый вид литературы, сознательно основывающийся на вымысле и получивший широкое распространение во II -III вв.
[641]. Вымысел (fictum) становится важным принципом художественного мышления, «фантасия» - важной эстетической категорией, вытесняющей «подражание». Назревает и теоретическое осмысление этого художественного процесса. Еще Плиний Младший (ок. 61 г. - ок. 113 г.) в одном из писем, рассказывая о дружбе мальчика с дельфином, писал: «Я наткнулся на правдивую тему, но очень похожую на выдумку (fictae)... Рассказчику можно вполне верить. - Хотя... что поэту до достоверности (quid poetae cum fide)» (Ep. IX, 33, 1)
[642].
Флавий Филострат, автор известного «Жизнеописания Аполлония Тианского», противопоставляет «фантасию» «мимесису». В беседе Аполлония с эфиопским гимнософистом Феспесионом заходит речь об изображении богов в Греции и Египте. Отстаивая преимущество греческих антропоморфных изображений, Аполлоний на вопрос Феспесиона о том, на чем же основываются греческие художники, ибо они не могут воспользоваться главным принципом искусства - подражанием, так как нельзя же предположить, что они бывали на небе и видели богов, вынужден был ответить следующим образом, указывая на преимущества «фантасии» перед подражанием: «Фантасия совершила это, более мудрый художник, чем мимесис; ибо подражание формирует только то, что оно видит, фантасия же и то, чего она не видит» (Vit. Apol. VI, 19). Здесь уже намечается важная тенденция к отходу от миметического (в узком смысле этого слова) принципа изобразительного искусства
[643], которая будет характерна для зрелого христианского художественного мышления и эстетики.
Другой Филострат, автор известных «Картин», считал, что «обман» в искусстве «приносит всем удовольствие и меньше всего заслуживает упрека» (Imag., praef. 4).
Таким образом, всем ходом развития позднеантичного художественного мышления и эстетической мысли Августин был ориентирован на принятие вымысла, как важного принципа искусства. О том, что искусство доставляет удовольствие, он хорошо знал и по собственному опыту, и от своего античного учителя философии Цицерона, писавшего, что если в истории все направлено на сообщение истины, то в поэзии - на то, «чтобы доставить удовольствие» (De leg. l, 5), что ритмы в стихах используются «для услаждения слуха» (Orat. 60, 203), и т. п. Эти идеи своих позднеантичных предшественников и имел в виду Августин, рассуждая об искусстве.
Далеко не всякий стремится к обману, когда говорит неправду (qui mentitur), считает Августин, «ибо и мимы, и комедия, и многие поэмы наполнены неправдивым более с целью доставить удовольствие, чем обмануть, да и все почти, кто шутит, говорит неправду» (Solil. II, 19, 16). Поэтический вымысел в искусстве воспринимается Августином как нечто вполне закономерное, направленное на возбуждение чувства удовольствия и придающее произведению своеобразную красоту
[644].
В целом принцип подражания в искусстве приобретает у Августина широкий диапазон значений. Гиппонский мыслитель как бы подводит итог многовековым античным дискуссиям о мимесисе. Подражание воспринимается им отнюдь не как иллюзионистическая копия действительности. Искусство не должно обманывать зрителя, как оно и не в состоянии подменять собой действительность. Подражание в искусстве не может быть механическим: оно всегда соединено с разумом и осуществляется по его законам. Вымысел является неотъемлемой частью такого подражания. Поэты для Августина - профессиональные обманщики (Contr. Faust. XX, 9). Под «действительностью» он имеет в виду, как правило, не чувственно воспринимаемый мир, но духовную реальность, абсолютные истины духа, которые для художника предстают в виде законов единства, порядка, равенства, гармонии, пропорции, оппозиции, размеренности, ритма и т. п. принципов. Даже в изобразительных искусствах эти закономерности выдвигаются Августином на первое место. Идеальные законы красоты находят свое отражение (relucentia), хотя и достаточно тусклое, в искусстве.
Сущность искусства, его главное содержание Августин усматривал в выражении абсолютных истин духа (прежде всего абсолютной красоты) путем подражания им самой структурой произведения искусства или системой изобразительно-выразительных средств и приемов. А главную задачу всех искусств, как свободных, так и механических, он видел в возведении ума человеческого к высшим истинам. Свободные искусства осуществляют этот процесс на более высоком в глазах раннего Августина дискурсивном уровне. Они ведут человека к философии, которая и занимается сознательным поиском истины (De ord. Π, 5 ,14). «Механические», или «популярные», искусства возводят ум к духовным истинам посредством удовольствия, возникающего на основе подражания и уподобления. Усмотрение красоты, единства, подобия, гармонии, ритма и других доставляющих удовольствие закономерностей в произведении искусства дает нам толчок к созерцанию их идеальных оснований, ибо, «обратившись от произведений искусства к закону искусств, мы будем умом постигать тот вид (speciem), по сравнению с которым предстанет безобразным то, что прекрасно по милости [Божией]» (De vera relig. 52, 101). В последние десятилетия своей жизни Августин занял позицию более жесткого религиозного функционализма в отношении искусств, причисляя многие из них, как мы увидим ниже, к «излишествам» человеческой деятельности. Однако, прежде чем перейти к рассмотрению собственно христианских тенденций в августиновской теории искусств, остановимся несколько подробнее на его отношении к отдельным видам искусства, отразившем общую ситуацию в раннехристианской культуре.
С юных лет Августин полюбил зрелищные искусства, а в более зрелом возрасте, отринув их и осудив, он пытался трезво разобраться в их сущности и значении для человека. Прежде всего он неоднократно подчеркивал «неистинность» происходящего на сцене, выдвигал игру в качестве основы зрелищного искусства. Хорошая игра актеров вызывала у юного африканского провинциала бурю чувств - от безграничной радости до глубокой печали и слез сострадания. Именно это эмоциональное воздействие театра на зрителя впоследствии было осуждено гиппонским епископом как неразумное и даже вредное. Чувства, возникающие у зрителя, представлялись ему неистинными, как имеющие своим источником не истинное событие, а игру актеров.
Более того, изображение трагических событий на сцене вызывает у зрителя печаль, доставляющую ему наслаждение, в чем теоретик христианства видит совершенное безумие. «Меня увлекали театральные зрелища, - писал Августин в «Исповеди», - они были полны изображениями моих несчастий и разжигали огонь моих страстей. Почему человек хочет печалиться при виде горестных и трагических событий, испытать которые он сам отнюдь не желает? И тем не менее он, как зритель, желает испытать печаль, и сама эта печаль для него наслаждение. Удивительное безумие! Человек тем больше волнуется в театре, чем меньше он сам застрахован от подобных переживаний, но, когда он мучится сам за себя, это называется обычно страданием; когда мучится вместе с другими - состраданием. Но как можно сострадать вымыслам на сцене? Слушателя ведь не зовут на помощь; его приглашают только печалиться, и он тем благосклоннее к автору этих вымыслов, чем больше печалится. И если старинные или вымышленные бедствия представлены так, что зритель не испытывает печали, то он уходит, зевая и бранясь; если же его заставили печалиться, то он сидит, поглощенный зрелищем, и радуется» (Conf. III, 2, 2). Августин знает все это на основе собственного эмоционального опыта, о котором он вспоминает с раскаянием и сожалением: «...тогда в театре я радовался вместе с влюбленными, когда они наслаждались в позоре, хотя все это было только вымыслом и театральной игрой. Когда же они теряли друг друга, я огорчался вместе с ними, как бы сострадая им, и в обоих случаях наслаждался, однако. <...> Но я тогда, несчастный, любил печалиться и искал поводов для печали: игра актера, изображавшего на подмостках чужое, вымышленное горе, больше мне нравилась и сильнее меня захватывала, если вызывала слезы» (III, 2, 3 - 4).
Мы видим, что юный Августин, как и большая часть древней зрительской аудитории, воспринимал театральное искусство с живой непосредственностью и повышенной эмоциональностью. Осмысляя в «Исповеди» свои театральные впечатления, он видит существенное различие в восприятии реального трагического события и того, что разыгрывается на театральной сцене. Печаль и слезы, вызванные игрой актеров, доставляют зрителю радость и наслаждение, т. е. то, чего никогда не бывает в реальной трагической ситуации и что поэтому представляется теоретику христианства малопонятным. Августин стремится осмыслить этот странный феномен восприятия, но он никак не укладывается в узкие рамки логического понимания. Почему слезы и печаль, вызванные страданиями актеров на сцене, доставляют нам радость? Ведь никто же не стремится сам испытать страдания, но сострадать несчастьям ближнего готов фактически любой. Не само ли сострадание приятно? Отчасти это так, но нормальный человек не может испытывать радость, видя горе другого. В чем же сущность и значение наслаждения театральным зрелищем? Ответить удовлетворительно на этот вопрос Августину не удается, и он относит театр к предметам, вредным для человеческой души, возбуждающим ненужные и беспричинные страсти.
Вообще к искусству Августин долгое время подходил с позиций строгого римского практицизма, помноженного на христианский ригоризм ранней патристики. Хорошо сознавая подражательный, игровой, «неистинный» характер искусства, он никак не мог признать его ценности. Позиция осознанного рационализма, на которой стоял гиппонский мыслитель, неизменно ориентировала его на признание только умопостигаемых истин и того, что непосредственно ведет к их познанию. Все остальное не представляло для него реальной ценности. Установив принципиальную «неистинность» искусства, Августин может частично оправдать его лишь тем, что эта сознательная «неистинность» указывает на нечто истинное. Так, искусство фокусника состоит в ловком обмане, о котором зрители знают заведомо, но стремятся понять, как же он осуществляется. Это стремление зрителей к истине и представляется Августину главной целью искусства иллюзиониста. Зрители внимательно следят за его действиями, сознавая, что он «занимается не чем иным, как обманом; и если поддаются этому обману, то потому, что сами не могут [сделать этого], что забавляются искусством того, кто их обманывает. Ведь если бы сам фокусник не знал, как обмануть зрителя, или если бы другие считали, что он не знает этого, то обманщику никто и не рукоплескал бы. И если кто-либо из толпы уличит его, то считает себя заслуживающим большей похвалы, чем он, и ни за что иное, как за то, что не дал себя обмануть. А если уличат его многие, то не его уже хвалят, а смеются над остальными, которые не смогли разгадать его фокусов. Итак, победа достанется знанию, искусству и постижению истины» (De vera relig. 49, 94).
Так же и искусство
комедии забавляет и смешит нас до тех пор, «пока мы знаем, подражание какой истине в нем осмеивается». Однако сама истина забывается, «ложные призраки» искусства заслоняют ее, выдавая себя за истину и превращаясь в крепкие путы для человеческого разума, стремящегося к истине (49, 95). Нет спасения тогда душе человеческой, ибо увлекается она идолами искусства «в поток кипящей смолы, в свирепый водоворот черных страстей» (Conf. III, 2, 3). В «Исповеди» Августин красочно описывает, как цирковые игры, а затем и гладиаторские бои увлекли в этот водоворот его друга и ученика, будущего епископа Тагасты Алипия. Вначале Алипий с неприязнью и отвращением относился к зрелищам амфитеатра. Но однажды римские друзья силой повели его туда. Алипий решил не смотреть зрелище и крепко сомкнул глаза. «При каком-то случае боя, потрясенный неистовым воплем всего народа и побежденный любопытством, он открыл глаза, готовый как будто пренебречь любым зрелищем, какое бы ему ни представилось. И душа его была поражена раной более тяжкой, чем тело гладиатора, на которого он захотел посмотреть; он упал несчастливее, чем тот, чье падение вызвало крик, ворвавшийся в его уши и заставивший открыть глаза: теперь можно было поразить и низвергнуть эту душу, скорее дерзкую, чем сильную, и тем более немощную, что она полагалась на себя там, где должна была положиться на Тебя. Как только увидел он эту кровь, он упился свирепостью; он не отвернулся, а глядел не отводя глаз; он неистовствовал, не замечая того; наслаждался преступной борьбой, пьянел кровавым восторгом. Он был уже не тем человеком, который пришел, а одним из толпы, к которой пришел, настоящим товарищем тех, кто его привел. Чего больше? Он смотрел, кричал, горел и унес с собой безумное желание, гнавшее его обратно. Теперь он не только ходил с теми, кто первоначально увлек его за собой: он опережал их и влек за собой других» (VI, 8, 13)
[645].
Антигуманность и жестокость амфитеатра, подчеркнутая откровенность и грубость позднеантичных комических и мимических представлений, как и повальное увлечение зрелищами в последние века Империи, заставляли уже первых христианских апологетов выступить с резкой критикой подобных искусств
[646]. Августин только продолжил традицию ранних греческих и латинских Отцов Церкви, выявляя отдельные специфические закономерности зрелищных искусств при общем негативном (особенно в поздний период) отношении к ним.
Больше всего возмущают его человеконенавистнические, животные страсти, разгорающиеся у зрителей жестоких зрелищ. «Люди, увлекающиеся зрелищами,- вторит Августин раннехристианским писателям
[647], - становятся похожи на демонов: своими криками они стравливают людей: пусть, злобно состязаясь, убивают друг друга. Если бойцы, желая угодить обезумевшему народу, все-таки не задевают друг друга и люди заподозревают их в сговоре, то они преисполняются к ним ненависти, гонят их, кричат, чтобы их избили палками, как обманщиков, и заставляют совершить эту несправедливость даже судью, наказывающего за несправедливости. Если же толпа видит, что те охвачены страшной взаимной ненавистью - будь то так называемые синты, актеры, певцы, возницы или охотники... - если она почувствует, что они обезумели в лютой вражде, она восхищается ими, любит их, поощряет стравленных и, поощряя, стравливает. Зрители болеют один за одного, другой за другого, неистовствуя сами против себя же, они безумны больше тех, чье безумие вызывают, и на кого, обезумев, хотят смотреть. Может ли душа, питая себя враждой и соревнованием, остаться здоровой и мирной? Какова пища, таково и здоровье» (De cat. rud. 22, 9-10).
Борьба за душевное здоровье, духовный покой и нравственную чистоту человека представлялась крупнейшим мыслителям поздней античности самой главной и актуальнейшей задачей. Душа и тело жителей града Божия должны сиять незапятнанной чистотой, а этому мало способствовали зрелищные искусства позднего Рима. Даже многие культовые действа, посвященные тем или иным богам, обставлялись в Риме безнравственными, с точки зрения христиан, театрализованными представлениями эротического содержания. Рассказывая о «бесстыдных» сценах в культе Целесты, Августин приходит к выводу, что эротические представления, особенно освященные божественным авторитетом, отвечали подавленным сексуальным потребностям людей. В этом он усматривал причину «нездорового» интереса к эротическим представлениям вообще. Вот одно из его описаний реакции зрителей на подобные действа: «Некоторые, более стыдливые, отводили взгляд от непристойных движений актеров и изучали искусство бесстыдства украдкой. Стесняясь людей, они не осмеливались прямо смотреть на бесстыдные жесты [актеров]; но, тем не менее, не решались и осуждать чистым сердцем культ той, которую почитали. В храме открыто преподавалось то, что дома готовилось, по крайней мере, тайно; чувство стыдливости смертных, если такое существует, было приведено в крайнее недоумение тем, что людям не было дано свободно совершать бесстыдные [дела] человеческие, которым они даже с благоговением учились у богов» (De civ. Dei II, 26).
В своем порицании театра за его безнравственность Августин, как и ранние апологеты, следует не столько даже христианской традиции, сколько общим положениям римских моралистов, уходящим своими корнями в глубокую древность. В «Граде Божием» он неоднократно с похвалой цитирует резкие высказывания в адрес театра и актеров Сципиона Африканского по цицероновскому трактату «О государстве». Если древние греки с почетом и уважением относились к актерам и назначали их на высокие государственные должности, то римляне с древности занимали иную позицию. По словам Сципиона, «так как они считали сценическое искусство и театр вообще позорящим человека, то они постановили, чтобы такие люди не только были лишены почета, подобающего другим гражданам, но даже подлежали исключению из трибы на основании порицания цензора» (Cic. Rep. IV, 10). Августин со своей стороны добавляет: «Благоразумие замечательное и [вполне заслуживающее] быть причисленным к римским достоинствам» (De civ. Dei II, 13). В наше же время, с сожалением констатирует он, хотя актеры и не пользуются уважением, но театральные представления идут с большим успехом. Где же логика и ваш трезвый разум, римляне? - вопрошает он. Вы лишаете всякой чести актеров, а в честь богов совершаете непристойные театральные представления. Да и на каком основании презирать актера, разыгрывающего «театральную мерзость», если бог, чьим именем она творится, всячески почитается? Единственно правильное решение здесь может быть выведено на основе силлогизма: «Греки заявляют: «Если почитают таких богов, то следует уважать и таких людей». Римляне дают вторую посылку: «Но людей подобного рода уважать не следует». Христиане заключают: «Следовательно, не должно почитать и богов такого рода» (II, 13). Неприязнь Августина к театральным искусствам основывается в первую очередь на его новой нравственно-религиозной установке. Отрицая религию и «безнравственность» античного мира, он вынужден был негативно оценить и зрелищные искусства, тесно связанные с языческими культами, что не помешало ему, однако, сделать интересные наблюдения и в этой области.
Не намного выше, чем зрелищные искусства, оценивает Августин
живопись и
скульптуру. Они также лишь слабо отражают истину, или реальность, на основе большего или меньшего подобия ей и поэтому - «ложны». Лежащие в их основании формальные закономерности типа равенства, единства, подобия, гармонии, пропорции и т. п. значительно «истиннее» конкретных изображений. Считая божественного Творца идеалом художника, Августин, как и вся патриотическая эстетика, ценил природные объекты значительно выше произведений земного живописца или ваятеля (ср.: De vera relig. 2, 2). Использование же античным миром изображений в культовых целях, превращение их в идолы никак не способствовало высокой оценке их со стороны христианских идеологов. Августин следует здесь уже сложившейся христианской традиции отрицания изобразительных искусств, как одной из главных причин идолопоклонства (De civ. Dei VIII, 23, 24). Изобразительные искусства Августин считал неотъемлемой частью античной языческой культуры, что определило и его в целом негативное отношение к христианским религиозным изображениям (Serm. 197, 1)
[648], которые были ему еще плохо известны, так как в этот период наибольшее распространение они имели в Риме
[649] и почти не проникали в Северную Африку. Возможно, что в последние годы жизни отношение Августина к христианскому изобразительному искусству изменилось, как предполагает К. Свобода на основе одного августиновского высказывания 425 г. (Serm. 316, 5)
[650].
Относительно словесных искусств и музыки у Августина заметны постоянные колебания. Что-то он принимает в них, многое - отрицает. Можно заметить определенную эволюцию в его отношении как к искусству слова, так и к исполняемой музыке. В общем она сводится к следующему. По мере углубления Августина в сущность христианства в его глазах «свободные искусства», столь почитаемые философствующей и интеллигентствующей античностью, все более обесцениваются, зато повышаются роль и значение «искусств механических», но уже не античных, а новых, христианских, поставленных на службу Церкви и новому культу. Эволюция вполне закономерная и исторически обоснованная. Церковь, претендовавшая на роль единственного духовного наставника человечества, став важным звеном в государственной системе, стремилась максимально использовать в своих целях весь арсенал средств воздействия на внутренний мир человека. Ясно, что «служебные искусства» легче было повернуть и направить в нужную сторону, чем «свободные», и Августин достаточно быстро понял это, конечно, не без влияния предшествующей патриотической традиции.
Мы уже видели, что ранний Августин хорошо знал поэзию как в ее формальных основаниях (вспомним его II-V кн. трактата «О музыке», полностью посвященные ритмо-метрической стороне поэзии), так и ее содержательную сторону. Поэтический вымысел (poeticum figmentum) выступал у него основой истинности поэзии как вида искусства
[651], что отнюдь не означало полного отсутствия элементов реального в ней. Отдельные моменты гомеровского эпоса Августин склонен принимать за достоверные сведения (см.: De quant. anim. 26, 50). Кроме того, сами образы поэзии выражают и олицетворяют определенные истины (см.: Contr. acad. III, 6, 13). Вымыслы постов Августин считал более полезными, чем «истины» заблуждающихся манихеев. «Насколько басни грамматиков и поэтов лучше, чем эти западни. Поэма в стихах о летящей Медее принесет, конечно, больше пользы, чем рассказ о пяти элементах, по-разному раскрашенных в виду пяти «пещер мрака», которые вообще не существуют... Стихи и поэмы я отношу к настоящей пище. Если я декламировал стихи о летящей Медее, то я никого не уверял в истинности самого события» (Conf. III, 6, 11).
Однако уже на раннем этапе Августину представляется недостаточной образность поэзии сама по себе. Как начинающий идеолог христианства, он требует от искусства прямого назидания и морализаторского тона. Отправляя своего друга и ученика Лиценция дописывать поэму о трагической любви Тисбы и Пирама, он рекомендует ему дать после трагической гибели героев назидательный конец: «Обрушься с проклятием на это мерзкое вожделение и ядовитое пламя, из-за которых случаются подобные несчастья; затем обратись весь в похвалу любви чистой и непорочной, которой души, обогащенные науками и добродетелью, прекрасным образом соединяются с разумом посредством философии, и не только избегают смерти, но и поистине наслаждаются блаженнейшею жизнью» (De ord. Ι, 8, 24). Уже здесь у Августина намечается тенденция к воздействию на художественное творчество, ставшая впоследствии неотъемлемой частью церковной политики в области искусства.
Августин ранних трактатов достаточно высоко ценил поэзию, полагая, как мы уже видели выше, что в ней значимы и содержательная и звуковая стороны. Поэзия активно воздействует на души людей, изгоняя своим обаянием страх смерти и уничтожая душевное оцепенение и холод (Solil. II, 14, 26).
Сами стихи являют собой вид динамической, существующей во времени красоты. Последняя отражает красоту искусства стихосложения, которое существует вне времени и не зависит от него. И хотя даже двух слогов нельзя выговорить одновременно и все они один за другим исчезают при произнесении следующего, «само искусство творить стихи не настолько подчинено времени, чтобы красота его уменьшилась последовательностью мор; 5 (Мора (тога) - единица просодического времени (краткий слог обычно имеет 1 мору, долги» - 2). напротив, оно сразу имеет все, из чего составляется стих, тогда как стих не сразу имеет все, но последующим [в нем] устраняется предыдущее; прекрасен же он по той причине, что выявляет последние следы той красоты, которую постоянно и неизменно сохраняет само искусство» (De vera relig. 22, 42).
В зрелом возрасте Августин будет порицать античную поэзию как раз за вымыслы и ложные красоты, за то, что она отвлекает души людей от истины, от подлинных знаний (Conf. I, 13, 22).
Не высоко ценит ранний Августин и красноречие, преподаванием которого он в юности зарабатывал на хлеб. Красноречие, по его глубокому убеждению, обычно служит для прикрытия лжи и затуманивания истины. Писатели же божественных текстов употребляли низкий и простой слог, чтобы истина говорила сама за себя без всяких словесных выкрутасов (XII 27, 37).
С углублением Августина в христианское миропонимание его отношение к отдельным видам искусств, к их роли и значению существенно меняется. На место античному пафосу свободных от всякого утилитаризма занятий науками и философией очень скоро приходит глубоко осознанный практицизм, правда, уже не римского, а христианского толка. Высший идеал продолжает оставаться сугубо духовным и надутилитарным, но все земное понимается теперь как путь к этому идеалу, причем позитивно оценивается только то, что способствует продвижению по этому пути. Греческий духовный аристократизм и римский, так сказать, государственно-бытовой практицизм превращаются в христианстве на основе библейского религиозного практицизма в некий духовный утилитаризм, ставший основой всей средневековой культуры. О новом христианском отношении к наукам и искусствам Августин подробно пишет в «De doctrina christiana» (II, 25, 38-39, 58). Эти рассуждения стали нормой для средневековой теории и практики, поэтому имеет смысл остановиться на них подробнее.
Весь род произведений живописи, ваяния и других изобразительных искусств, несмотря на то, что в них сразу видно, чему они подобны и что ими выражается, «должен быть зачислен в разряд излишних человеческих изобретений за исключением тех [случаев], когда имеет особое значение, по какой причине, где, когда и по чьей инициативе они появились». Эта мысль Августина представляет особый интерес. Вполне вероятно, что он делает исключение для христианских религиозных изображений, хотя и не указывает на них прямо, ибо сомнения его относительно этих изображений еще очень велики. Если это предположение верно, то оно лишь подкрепляет указанную выше гипотезу К. Свободы.
К «совершенно бесполезным» изобретениям человеческого разума относит теперь Августин «тысячи пустых басен и вымыслов, ложью которых [издавна] услаждаются люди». И вообще, скептически резюмирует он, «ни одна из вещей человеческих, изобретенных самими людьми, не ценится более тех, которые исполнены лжи и обмана» (II, 25, 39). Здесь следует указать, что Августин этого периода различает три типа наук и искусств по их происхождению: одни даны от Бога, другие сохранились от прежних времен и третьи - изобретены самими людьми (II, 25, 41). Эти последние и считаются им теперь наиболее удаленными от истины. Былые восторги в адрес «свободных искусств», изобретенных разумом и столь необходимых на пути к истине, заметно поутихли в душе умудренного новым опытом африканского епископа.
Полезными и необходимыми в обществе из человеческих «изобретений» Августин считает теперь прикладные искусства, причастные к изготовлению различных типов одежды как для женщин, так и для мужчин, для людей разного звания и положения, а также чеканку монет и вообще «бесчисленные виды знаков, без которых человеческое общество или вовсе не могло бы существовать, или было бы менее совершенным» (II, 25, 39). Утилитаризм Августина, таким образом, отнюдь не примитивен. Он признает полезными и нужными все науки и искусства, имеющие знаковую природу, а к таковым, как мы увидим в следующей главе, он относит почти все достижения человеческой культуры. Его утилитаризм имеет ярко выраженную семиотическую окраску. Если в кассициакский период он рассматривал все науки и искусства в их данности, то теперь они интересуют его лишь с точки зрения их знаковой функции, т. е. как указания на духовные реальности более высокого уровня.
Из установлений человеческих, пишет Августин, нужно признавать и изучать все, что полезно в жизни. Достойны порицания только искусства, связывающие человека с бесами, типа всяких волхвований, гаданий и т. п., а также искусства «излишние», т. е. бесполезные. Особо важными считает он искусства, «которыми люди соединяются с людьми»; среди них на первом месте стоит письменность. Полезно для нас все то, резюмирует Августин, что ведет «к достижению высших предметов, чему все это (искусства и науки. - В. Б.) и должно служить».
Из наук, «не самим человеком изобретенных», Августин высоко ценит историю, но не всякую, а только способствующую правильному пониманию священных книг. Вне отношения к церкви она представляется ему «детской наукой». Знание хронологии олимпиад и имен консулов позволяет, к примеру, точнее определить историю жизни Иисуса Христа, как и последовательность других библейских событий. Августин постоянно призывает сопоставлять хронологию библейских и греко-римских исторических событий (П. 28, 42). Амвросий Медиоланский, подчеркивает он, полемизируя с теми, кто склонен был считать учение Христа заимствованным у Платона, опирался на историю. С ее помощью он показал, что не христиане учились у Платона, но он сам, посещая Египет, учился там еврейской мудрости у Иеремии (II, 28, 43).
Кроме собственно истории (т. е. описания минувших событий) Августин говорит еще и о «естественной истории», изучающей различные страны, повадки животных, свойства деревьев, трав, камней и т. п. Знание всех этих вещей способствует правильному пониманию иносказательных мест в Писании и, следовательно, полезно. Из этих же соображений не нужно пренебрегать и астрономическими сведениями, которые позволяют правильно счислять время. Однако не следует и чрезмерно увлекаться астрономией и выводить из нее то, что в ней не содержится (Августин имеет здесь в виду составление астрологических гороскопов и т. п.) (II, 28, 45-46). Знание других наук и ремесел (медицины, земледелия, строительного или гончарного искусства, искусства управления государством) также полезно христианину, и не столько для личной пользы, сколько для уразумения иносказательного смысла тех мест Писания, где эти искусства упоминаются.
Для понимания трудных мест Писания полезны также и науки «умственные», и прежде всего диалектика и арифметика. В диалектике, однако, не следует увлекаться софизмами, ибо они могут ввести в заблуждение даже людей, изощренных в этой науке. К софистике Августин относит не только те случаи, когда на основе верных посылок делаются ложные, но правдоподобные выводы, но и те речи, красота и изысканность которых не соответствуют их предмету (II, 28, 48). Правильному соединению мыслей (т. е. логике) можно научиться в мирских школах, но содержание этих мыслей, их истина может быть почерпнута только из Св. Писания (II, 28, 49).
Все более частые ссылки на библейский авторитет не мешают, однако, Августину и в этот период делать интересные наблюдения в сфере «свободных искусств». Правда, если в «De musica» он был уверен, что диалектика, как и остальные науки, изобретена разумом, то в трактате «О христианской науке» он уже считает, что «истина соединения [мыслей] не изобретена людьми; но только была подмечена и воспринята ими для того, чтобы с ее помощью можно было учить и учиться; сама же она заложена в вечной идее вещей и установлена Богом» (II, 28, 50), т. е. законы логического мышления, по мысли Августина, отражают объективные закономерности природного бытия. Логика (диалектика), так же как история или «естественная история», содержит в себе объективную истину и передает ее людям. Однако и с помощью логики можно делать ложные с точки зрения содержания заключения. Поэтому следует отличать правила соединения мыслей от истинности самих мыслей, ибо это различные вещи. Истинное с точки зрения логики суждение может быть ложным по содержанию (II, 28, 51 - 52).
Также истинны сами по себе и законы красноречия, хотя и красноречие чаще используется для убеждения людей в чем-то ложном. Поэтому предосудительно не само красноречие, но злоупотребление им (II, 28,54). Красноречие - наука владения словом, и обращено оно больше к сердцу, в то время как диалектика воздействует на способность мышления. Но не следует думать, что, овладев красноречием и логикой, ты уже овладеваешь и самой истиной. Правила риторики и диалектики направлены на то, чтобы помочь человеку постигнуть истину. Сами же они достаточно трудны и сложны, поэтому часто бывает так, что люди скорее постигают сами предметы, чем правила, предназначенные для их постижения. Вообще говоря, резюмирует Августин, риторика и диалектика чаще доставляют нам удовольствие игрой слов и мыслей, образностью выражений, неожиданными поворотами мысли и т. п. вещами, чем ведут к истине. В их пользу, пожалуй, можно сказать еще и то, что они тренируют и обостряют ум, если, конечно, не делают его лицемерным и зловредным (II, 28,55). Объективные законы составляют и содержание науки о числах (II, 28, 56). Знания всех этих наук важны только в том случае, если они направлены на постижение верховного Творца. Того же, кто тщеславно кичится своими знаниями, но не направляет их к этой цели, если и можно назвать ученым человеком, то уж никак не мудрецом (II, 28, 57). Развивая дальше филологически-философский подход к библейским текстам, сложившийся еще у александрийских аллегористов, Августин тесно связывает с ним знание почти всех свободных искусств
[652].
Подводя в трактате «О христианской науке» итог своим рассуждениям об искусствах и науках, Августин заключает, что не следует заниматься теми из них, которые как-либо связаны с языческими культами или служат только для одного удовольствия. Сама жизнь человека в обществе с необходимостью требует знание законов, ее регулирующих. Все остальные «языческие» дисциплины бесполезны христианину за исключением истории, диалектики и арифметики, а также некоторых других, полезных для тела. Да и в изучении и применении этих искусств следует всегда держаться правила: ничего чрезмерного! (nequid nimis) (II, 39, 58).
В свете нового, уже чисто христианского, отношения к наукам и искусствам Августин пересматривает в зрелом возрасте и многие свои юношеские суждения о них, закладывая тем самым основы средневековой теории искусства. Особо показательно в этом плане новое отношение Августина к исполняемой музыке (т. е. к искусству музыки в собственном смысле слова, а не к научной дисциплине) и к искусству слова.
Последнее интересует Августина в двух главных аспектах. Во-первых - с точки зрения знаково-символической функции слова и словесного образа; прежде всего в связи с библейскими текстами, на основе чего вырастает целая знаково-символическая теория, о которой мы будем говорить подробнее в следующей главе. Во-вторых, - в плане нового осмысления красноречия. Будучи профессиональным ритором, но отказавшись перед принятием христианства от своего мирского занятия, Августин-епископ, однако, очень скоро понял, что его «языческая» специальность при умелом использовании может пригодиться ему и на новом посту.
Значение красноречия для христианства Августин смог оценить, слушая проповеди Амвросия. Незадолго до этого, порицая Фавстаманихея, Августин считал, что красноречие не является залогом истины. Оно - сосуд, в котором одинаково хорошо чувствуют себя и истина и ложь, но чаще его используют для прикрытия лжи (Conf. V, 6, 10). Слушая же речи Амвросия, он вдруг понял, что умело направленная и хорошо организованная речь сама собой заставляет принять и содержащуюся в ней истину, т. е. способствует ее активному усвоению. «Хотя я и не старался изучить то, о чем он говорил,- писал Августин в «Исповеди», - а хотел только послушать, как он говорит (эта пустая забота о словах осталась у меня и тогда, когда я отчаялся, что человеку может быть открыта дорога к Тебе), но в душу мою разом со словами, которые я принимал радушно, входили и мысли, к которым я был равнодушен. Я не мог отделить одни от других. И когда я открывал сердце свое тому, что было сказано красно, то тут же входило в него и то, что было сказано истинного, - входило, правда, постепенно» (V, 14, 24). Еще больше в необходимости и пользе красноречия для христианства Августин убедился, заняв епископскую кафедру. Публичное преподавание основ христианского учения очень скоро потребовало от него использования его риторских навыков в новых целях. Августин становится одним из первых в патристике теоретиков ораторского искусства, закладывая основы христианской риторики. Соответственно меняется и его отношение к риторской эстетике. В своих суждениях он опирается на весь огромный опыт античной риторики, и прежде всего на теорию и богатую ораторскую практику кумира его юности Цицерона. Для нас здесь важно, что из античного наследия и как стремился приспособить к задачам новой культуры один из первых теоретиков христианского красноречия.
Ораторское искусство представляется позднему Августину почти необходимым инструментом христианского учителя (=проповедника). Без умения преподнести истину его педагогические цели вряд ли могут быть достигнуты. Проблемам красноречия и педагогики Августин посвящает четвертую книгу большого труда «О христианской науке» и многие страницы в трактате «Об обучении оглашаемых».
В «De doctrina christiana» он обращается к ораторскому искусству, когда речь заходит об умении донести до слушателей библейские истины. Вообще говоря, рассуждает теперь Августин, правила риторики нужны и полезны, «ибо если с помощью искусства риторики можно убеждать людей и в истинном, и в ложном, то кто отважится утверждать, что истина в руках ее защитников должна оставаться безоружной против лжи?» (De doctr. chr. IV, 2, 3). Просто неразумно оставлять такое сильное оружие в руках защитников лжи, чтобы они с его помощью вводили в заблуждение массы неискушенных людей, в то время как поборник истины не имел бы ничего, чтобы защитить ее. Конечно же, столь сильное оружие должно быть поставлено на защиту истины.
Изучать риторику надо с самого раннего возраста. Человеку зрелых лет уже не стоит тратить на это силы и время. Учиться красноречию лучше не по риторикам. запоминая те или иные правила, но - практически, читая и слушая ораторов. Библейская и особенно церковная литература богата образцами красноречия. Читая вслух, переписывая их под диктовку, можно и самому очень скоро научиться говорить подобным образом. Изучая содержание этой литературы, человек незаметно проникается и ее слогом, ее способом выражения (IV, 3, 4). Правила красноречия сложны и трудны для усвоения. Нужен особый талант, чтобы легко и свободно применять их на практике. Ведь ни один оратор не способен красноречиво говорить и одновременно думать о тех правилах и приемах, которые необходимо в данный момент применять. В противном случае, ему «следует остерегаться, чтобы не исчезло из души то, о чем надо говорить, пока он будет размышлять над тем, как бы ему [все] сказать по науке. И тем не менее в речах и словах красноречивых людей оказываются выполненными [все] правила красноречия, о которых они не думали - ни когда собирались говорить, ни когда уже говорили красноречиво, независимо от того, учились ли они им или никогда не прикасались к ним. Выполняются [эти правила], разумеется, только теми, которые суть [настоящие] ораторы, а не теми, кто ставит своей целью быть красноречивым» (IV, 3, 4).
На примере ораторского искусства Августин поднимает здесь две важнейшие эстетические проблемы. Во-первых, он утверждает, Что талант в искусстве имеет большее значение, чем знание теории
[653]. Ему лично, утверждает он, были известны многие мужи, совершенно не знавшие правил риторики, но говорившие красноречивее тех, кто долго изучал эту дисциплину. Во-вторых, Августин по-новому ставит вопрос эстетического воспитания. Учиться красноречию надо не теоретически, штудируя риторику, но практически - читая и слушая ораторов. Ведь и грамматику детям не пришлось бы изучать, если бы они воспитывались в среде, где говорили бы на совершенно правильном языке. Естественный навык вполне может заменить науку (IV, 5). Поздний Августин, в отличие от многих античных авторов, считает более эффективным не теоретическое обучение искусствам, но практическое - путем эмоционально-интуитивного восприятия высоких образцов искусства и подражания им, ибо художник (оратор) в своей непосредственной деятельности больше руководствуется интуицией, внутренним опытом, чем теоретическими правилами. Он творит интуитивно, однако в соответствии с правилами, ибо они составлены на основе изучения самой художественной практики, конкретных произведений ораторского искусства.
Христианский учитель, по мнению Августина (и он здесь продолжает лучшие традиции античности), должен, с одной стороны, учить добру, а с другой - отвращать своих учеников от злых дел. Способ преподавания добра зависит от конкретной аудитории. Здесь Августин делает новый шаг по сравнению с античностью. Он призывает учителя ориентироваться в своей деятельности на конкретных учеников. Если слушателей необходимо чему-то научить, то лучше всего применить повествовательный тип речи, прибегая в неясных местах к прямым доказательствам. Если же нужно взволновать, растрогать учеников, чтобы они не ослабели в тех знаниях истины, которые у них уже есть, то следует использовать проникновенный тип речи, в котором уместны мольба, обличения, побуждения, запреты и другие способы активного возбуждения душ (IV, 6).
Настоящий учитель должен быть, по мнению Августина, прежде всего мудрым, а затем уж и красноречивым. Полезнее проповедник мудрый, но безыскусный в речи, чем краснобай, не знающий истины. Искусная речь нравится слушателям и заставляет их верить всему, о чем в ней говорится. Поэтому, отмечает Августин, еще великие учители красноречия (имеется в виду Цицерон) признавали, что если мудрость без красноречия несет мало пользы государству, то красноречие без мудрости часто причиняет большой вред и никогда не приносит пользы. Мудрость же христианскому учителю дает изучение Св. Писания (IV, 5, 7).
Библейские тексты лучше всего заучивать наизусть, стремясь понять то, о чем в них говорится. Тогда, даже если учитель и не обладает достаточным красноречием, он может восполнить его недостаток цитатами из Писания, приведенными к месту (IV, 5,8). Именно этот прием повсеместно использовали авторы бесчисленных христианских гомилий, как на Востоке, так и на Западе, хотя среди них встречались и люди с действительно высоким ораторским даром.
Идеал учителя состоит в том, чтобы говорить мудро и красноречиво. Мудрость спасительна для человека, а красноречие приятно. Для исцеления мы часто употребляем полезные, но горькие лекарства. «А что может быть лучше целительной сладости или сладостной целительности? Ведь здесь чем сильнее влечет сладость, тем легче происходит исцеление». У нас есть много церковных писателей, которые писали и мудро и красноречиво, да не хватает времени, сетует Августин, перечитать их писания (IV, 5, 8).
В противоположность своему юношескому неприятию библейских текстов из-за их безыскусного стиля Августин усматривает теперь и в них особое красноречие. Как различным возрастным группам присущи свои типы красноречия
[654], так и тексты Писания обладают своим особым красноречием, в котором твердость и основательность занимают видное место (IV, 9). Однако составители библейских книг не чурались и обычных для греко-римского мира приемов красноречия, хотя и не выставляли их напоказ, а применяли скромно и уместно. Приемы красноречия в Писании органично вытекают из самого предмета, о котором идет речь (IV, 10); форма следует за содержанием. Августин приводит целый ряд новозаветных текстов, прежде всего Павловы послания, и разбирает имеющиеся в них риторические фигуры (IV, 11-20). Таким образом, он предпринимает первую в истории культуры попытку анализа новозаветных текстов с точки зрения их
художественности, которую он видит неразрывно связанной с их содержанием. Отрывок 2 Cor. 11, 16 - 30 пленяет Августина своей музыкальностью, он подробно анализирует его структуру с точки зрения художественной выразительности. О его последних стихах он, например, пишет: «Почти невозможно высказать, сколько красоты, сколько приятности заключено в том, что после такой стремительности [речи] он (Павел. -
В. Б.), вводя небольшое повествование, отдыхает некоторым образом и позволяет отдохнуть слушателю» (IV, 7, 13).
Далее Августин приводит текст из пророка Амоса (6, 1 - 6), разбирая его художественные особенности. Рассматривая, в частности, стихи 3 и 4
[655], он показывает, что они состоят из шести членов (membra), образующих попарно три периода:
Qui separati estis in diem malum,
et adpropinquatis solio iniquitatis.
Qui dormitis in lectis eburneis,
et lascivitis in stratis vestris:
qui comeditis agnum de grege,
et vitulos de medio armenti.[Вы], которые считаете день
бедствия далеким
И приближаете торжество насилия.
Которые возлежите на ложах из
слоновой кости
И нежитесь на постелях ваших,
Которые поедаете агнцев из стада
И тельцов из среды пасущихся.
Августин отмечает, что было бы прекрасно, если бы и каждый из шести членов начинался местоимением «которые» (qui), но в данном тексте больше красоты, так как к одному местоимению отнесено по два члена, образующих в совокупности три смысловые группы. Первая группа - пророчество о пленении, вторая - инвективы против роскоши, третья - против чревоугодия. Если первый, третий и пятый члены произносить с расстановкой, а второй соединить с первым, четвертый с третьим, шестой с пятым, то получится три «весьма красивых» периода (IV, 7, 18).
В следующем стихе Августин подмечает «удивительно красивый оборот речи» (mirabili decore dicendi), когда пророк переходит от второго лица (обращения к злоупотребляющим музыкой) к третьему:
qui canitis ad vocem psalterii sicut David
pulaverunt se habere vasa cantici[Вы], которые поете под голос
псалтири, подобно Давиду,
[они] полагали иметь сосуды песен.
Эта риторическая фигура имеет, по мнению Августина, глубокое смысловое значение. Обличая злоупотребляющих слуховыми удовольствиями, пророк знает, что люди мудрые могут заниматься музыкой благоразумно. Поэтому во втором члене, переходя от второго лица к третьему, он как бы сбивает темп обличения, давая этим понять, что кроме чрезмерного и неискусного употребления музыки возможно и мудрое ее использование (IV, 7, 19). Конечно, с точки зрения научной филологии, такое толкование представляется слишком вольным. Однако для историка эстетики оно важно самим своим фактом. Здесь Августин пытается выявить собственно художественные (эстетические даже, ибо он оценивает их постоянно как «прекрасные») элементы библейского текста и понять их художественное значение. Гиппонский епископ выступает, пожалуй, первым на латинском Западе сознательным художественным критиком Библии, рассматривая это грандиозное произведение не только как собрание религиозных текстов, но и как
художественное, построенное по законам
красоты произведение
[656].
Здесь не место приводить все примеры августиновского анализа художественных особенностей библейских текстов, следует лишь подчеркнуть, что главным критерием их оценки в IV кн. трактата «О христианской науке» выступает красота. И воспринимается она, по мнению Августина, только эмоционально, а не рассудочно. Типичным для этой книги является замечание: «Впрочем, о том, как он (троп. -В. Б.) прекрасен и каким образом воздействует на читающих и понимающих, не дело говорить тому, кто сам не чувствует (поп sentit) [этого]» (IV, 7, 20). Подтверждением истинной красноречивости библейских текстов для Августина служит их «боговдохновенность» (IV, 21).
Библейские тексты содержат много темных мест, но христианский учитель не должен излагать их также «темно». Его задача - понять смысл Писания и донести его до слушателя в ясных и точных выражениях (IV, 22-23). Ясность (evidentia) представляется Августину важнейшим свойством речи, даже если она вступает в противоречие с некоторыми риторическими приемами. В. целом же ясность никогда не ведет к обезображиванию речи, и умный оратор хорошо знает это (IV, 24). Оратор никогда не должен забывать, что главная его цель - быть правильно понятым слушателями, поэтому в своей речи он должен всегда ориентироваться на аудиторию. А так как слушатели христианских ораторов, особенно в провинциях, в массе своей были далеки вообще от какого-либо образования, то Августин призывает к демократизации красноречия. Какой смысл в изощренных фигурах речи или правильности языка, если они не воспринимаются слушателями? Лучше употребить слова и обороты не совсем правильные, народные, но понятные слушателям, излагающие суть дела (IV, 24).
Особенно важно следить за реакцией слушателей (понимают ли они смысл речи или нет), если выступаешь перед большой аудиторией, когда не принято переспрашивать наставника. Если слушатели не понимают сущности излагаемого, необходимо представить предмет речи с иных точек зрения, применить иные приемы подачи материала и варьировать их до тех пор, пока предмет не будет понят аудиторией (IV, 10, 25). Здесь, как и в трактате «Об обучении оглашаемых», Августин по-новому подходит к проблеме преподавания, настаивая на его ориентации на конкретную аудиторию, на достижении полного взаимопонимания между наставником и слушателями. Античность не знала такой глубокой постановки подобной проблемы на теоретическом уровне
[657].
Главную задачу красноречия Августин видел не в том, чтобы сделать «жесткое и корявое» приятным, а скучное занимательным, но в том, «чтобы выявить скрытое». С другой стороны, предупреждает он. не следует забывать, что если неясное выражено ясно, но непривлекательно, то оно становится достоянием лишь немногих ревностных искателей истины. Большинство же людей любят, чтобы даже самая непритязательная пища была приправлена специями. Ради них красноречие и должно прийти на помощь ясности, но не в ущерб ей (IV, 11, 26). Поэтому христианскому учителю полезно использовать опыт Цицерона, считавшего, что речь должна «учить, услаждать и увлекать» (Orat. 21) (IV, 12, 27). И далее Августин развивает известные риторские идеи Туллия, любимого автора своей юности. Первое (ut doceat) относится к сущности предмета, второе и третье (ut delectet, ut flectat) - к способу изложения, т. е. к вспомогательным средствам обучения. Удовольствие не может быть целью красноречия. Следует избегать тех сочинений, которые написаны только для одного удовольствия и не содержат истины (IV, 14, 30).
Под истиной, как мы помним, Августин имел в виду в первую очередь главные положения христианской религии. Поэтому его теория красноречия приобретает характер духовно-религиозного утилитаризма. Эстетическая сторона речи должна быть поставлена, по его глубокому убеждению, на службу христианской духовности. Цель оратора - нести людям любыми способами истинное, святое и доброе. Наставником же его в этом благородном деле является сам Бог, поэтому, прежде чем открыть уста свои, оратор должен вознести к нему в молитве свою душу (IV, 32). В момент произнесения речи не следует уже думать ни о том, что сказать, ни - как сказать; здесь необходимо руководствоваться словами Господа: «...не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать; ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас» (Мф 10, 19-20) (IV, 32). Здесь Августин на свой лад использует евангельскую цитату, наделяя ее эстетическим смыслом, которого нет в оригинале. Отнеся приведенную фразу к ораторам, он, по сути дела, формулирует свое понимание творческого метода христианского художника: он творит не по собственному усмотрению, но его духом и членами руководит божественный Художник. Такое понимание творчества имело свои истоки не в греко-римской, но в древнееврейской культуре и впоследствии легло в основу практически всей средневековой эстетики.
Со ссылкой на теорию стилей Цицерона (ср.: Orat. 21-29) Августин утверждает, что три стиля - простой, умеренный и высокий - соответствуют трем указанным выше функциям речи - учить, услаждать, увлекать, и трем предметам - простым, средним и важным (De doctr. chr. IV, 34).
Христианский проповедник всегда говорит о вещах важных, но использовать он может любой из трех стилей в зависимости от конкретной ситуации, а именно: «он должен употреблять простой слог там, где учит чему-нибудь в важном предмете; умеренный, или средний, - там, где что-либо хвалит или порицает; а там, где нужно побуждать к действию, где приходится беседовать с людьми, которые должны действовать, но не хотят, - там предметы важные необходимо требуют высокого слога, соразмерного потребности - убедить упорные умы». Поэтому нередко один и тот же важный предмет излагают по-разному: просто - когда ему учат; умеренным (т. е. красивым) слогом - когда оценивают его свойства, и высоким слогом - когда стремятся привлечь к нему уклонившееся в сторону чувство слушателя (IV, 38). На примере Павловых посланий Августин демонстрирует применение всех трех стилей в христианской литературе.
Отмечая (со ссылкой на Иеронима) музыкальность и ритмичность отдельных текстов Писания, Августин в целом считает, что излишняя мелодичность может снизить их духовность. Ему самому нравится в своих речах применять к месту ритмически организованный текст, но в библейских книгах музыкальное начало не доставляет ему удовольствия (IV, 41).
Высокий стиль (слог), по мнению Августина, отличается от умеренного тем, что он стремится не столько к красоте, сколько к возбуждению глубоких чувств, сильных душевных аффектов. Он может использовать весь арсенал слога умеренного, но не гоняется специально за красотой выражений. Главная его задача - возбудить, взбудоражить, увлечь за собой душу слушателей (IV, 42). Августин приводит примеры возвышенного стиля из Павловых посланий и образцы всех стилей - из латинских Отцов Церкви Киприана и Амвросия.
Большим искусством является чередование стилей в одной речи, ибо один слог быстро утомляет слушателя. Особенно краткими должны быть части речи в высоком стиле. Их необходимо перемежать простым изложением или умеренным слогом (IV, 41). По контрасту с простым стилем высокий слог представляется еще более возвышенным. В речи умеренного стиля простой слог применяется там, где приходится разрешать какие-либо вопросы, где требуется особая проницательность и тонкость и т. п. (IV, 52). О положительном результате воздействия высокого слога на слушателей можно судить по их сочувственным вздохам и слезам, а не по крикам одобрения оратору (IV, 53).
Простой и высокий стили обладают самостоятельным воздействием на слушателя: простой - дает ему знание каких-то предметов, высокий - побуждает его к определенному действию. Умеренный же стиль имеет целью нравиться своей красотой. Поэтому его не следует применять самостоятельно, но только в дополнение к простому или высокому стилям (IV, 25, 54 - 55). Августин руководствуется здесь все тем же церковным утилитаризмом, который будет господствовать во всей средневековой эстетике. «Посредством низкого слога он (оратор. - В. Б.) убеждает [нас] в истинности того, что он говорит; с помощью высокого слога он побуждает действовать тех, которые знают, что надо действовать, но не действуют; посредством умеренного слога он убеждает нас, что говорит изящно и красиво; но что пользы нам в этом убеждении?» Оставим эту пустую цель языческим риторам. Христианские наставники должны заменить ее другой, более существенной. Им необходимо пользоваться умеренным (средним) слогом для тех же целей, что и высоким: поставить красоту слова на пользу доброму делу (IV, 25, 55).
Какой бы слог ни использовал оратор, он должен говорить понятно, приятно и убедительно. Почему простой слог часто вызывает рукоплескания слушателей? «Потому что здесь нравится сама истина, изложенная просто, но верно, защищенная и представленная непобедимою» (IV, 26, 56). Для среднего стиля главной целью является приятность и удовольствие, но и он должен быть понятен и убедителен (IV, 26, 57). То же касается и высокого слога. Можно ли растрогать слушателя, если он не понимает, о чем идет речь, или если поучение ему не нравится? Нельзя. Поэтому и высокий слог, имеющий своей целью «с помощью величественной речи склонить черствое сердце к послушанию, не может быть убедительным, если он в то же время не будет понятным и приятным» (IV, 26, 58).
Проповедник истины и добродетели, по глубокой убежденности Августина, должен своей жизнью подтверждать то, к чему призывает других. Проповедовать необходимо не только словом, но и своим образом жизни (IV, 59-61). Таков для позднего Августина идеал оратора и проповедника христианской духовной культуры. Он во многом списан с античного оратора, но с новыми и исторически значимыми коррективами. Трактат «Об обучении оглашаемых» дополняет этот идеал еще некоторыми чертами
[658].
В своем понимании красноречия Августин возвращается как бы ко временам возникновения этого искусства, когда оно должно было служить в первую очередь усвоению тех или иных идей слушателями. В позднеантичный период содержательная сторона речи отошла на второй план; повсеместно торжествовал эстетский подход к ораторскому искусству. Риторы превратились в актеров, часто бродячих, которые гнались только за славой, забыв вообще об истине. Августин стремится восстановить утраченный союз красноречия с истиной, но уже с новой - христианской. Оратор превращается у него в учителя истины, который и словом и делом должен нести ее своим слушателям. Учительный тон имеют и многие поздние произведения самого Августина. В этом смысле особенно интересен трактат «Об обучении оглашаемых», в котором речь идет о методике обучения новичков, людей, только подошедших к христианству, т. е. о начальной ступени преподавания. Главное внимание здесь уделяется установлению психологического контакта, взаимопонимания между учителем и учениками. Более того, Августин, пожалуй впервые в истории педагогики, затрагивает в нем вопрос о неразрывной связи обучения с нравственным воспитанием.
Педагог, прежде всего, должен любить свое дело, не быть равнодушным к предмету своих лекций. Любовь к делу отражается и на речи учителя, призванной вдохновить слушателей. «В действительности же нас слушают гораздо охотнее, когда мы сами увлекаемся делом обучения; наша радость окрашивает всю словесную ткань нашей речи: нам легче говорить, нас лучше воспринимают» (De cat. rud. 2, 12). Речь учителя должна быть разнообразной, легкой, тщательно отделанной и законченной. Важно, чтобы учитель сам получал удовольствие от процесса преподавания, тогда и ученики легко и быстро усвоят предлагаемые им знания.
Начинать обучение надо с событий главных и наиболее удивительных и особыми приемами речи привлекать внимание к ним. «Показывать их нужно сначала как бы в обертке и не убирать сразу же прочь, но задержаться подольше, словно разворачивая вынутое из завязанного кулька; предлагать душам слушателей то, что требует всматривания и вызывает удивление; остальное можно присоединить в беглом обзоре» (3, 2). Необходимо вести речь так, чтобы слушатели узнали главное, не успев устать и перегрузить память.
Основной заповедью христианства и главным его достижением, по убеждению Августина, является заповедь любви. Она должна стать центральным предметом преподавания, основой самого учебного процесса. Августин формулирует важнейшее христианское правило: «В чем бы ни выражалась наша деятельность среди людей, она должна быть проникнута состраданием и самой искренней любовью» (17, 1). Рассуждая с катехуменом о любой проблеме христианского учения, наставник должен «свести весь рассказ к главной цели - к любви, от нее нельзя отводить глаз, что бы ты ни делал, что бы ни говорил». Любовь лежит в основе всех позитивных действий и явлений, происходящих в мире, и ею должна определяться всякая речь христианского учителя (7,1). «Поставь себе целью говорить об этой любви; пусть все твои слова возвращают к ней; что ни рассказываешь, рассказывай так, чтобы тот, к кому ты обращаешься, слушая, верил; веря, надеялся; надеясь, любил» (5, 11).
Учитель должен так строить свою речь, чтобы она не только повествовала о любви, но и возбуждала в сердцах слушателей эту любовь. А это возможно только в том случае, когда он сам искренне и горячо любит своих учеников. Это также новый мотив в педагогике, неизвестный античному миру. Вся деятельность учителя должна быть согрета глубокой любовью к ученикам. Именно любовь открывает ему путь к душам слушателей, позволяет быстро улавливать их реакцию и строить свое изложение в соответствии с ней. Учитель нового склада обязан постоянно чувствовать все внутренние движения своих учеников и строить речь, ориентируясь на них. Августин подмечает важный для педагогики психологический момент: не только учитель воздействует на души учеников, но и они (каждая конкретная аудитория) оказывают свое воздействие на внутренний мир наставника. Аудитория своим присутствием и своей реакцией всегда по-разному действует на учителя. Августин указывает, что он и сам испытывал различные чувства в зависимости от того, перед кем ему приходилось говорить (20, 4; ср.: 20, 3). Хорошая аудитория обычно вдохновляет чуткого учителя, и он перестает испытывать скуку, вполне объяснимую при многократном повторении одного и того же. Августин на собственном опыте знает, что «можно освежиться свежестью их восприятия настолько, что наше обычное холодное изложение согреется от их необычного внимания» (14, 4).
Гиппонский мыслитель отмечает еще одну интересную психологическую закономерность - особый род «вчувствования» учителя во внутренний мир ученика, позволяющего ему как бы глазами ученика увидеть то, о чем он говорит, и пережить его эмоциональную реакцию. «Если нам опротивело все время повторять слова привычные, приноровленные к детскому пониманию, то приноровимся сами к этим детям, полюбив их братской, отцовской, материнской любовью; соединим сердца наши, и эти слова даже нам покажутся новыми. Такова сила сочувствующей души: когда их трогают наши слова, мы, пока они учатся, вселяемся в них, а они в нас; слушатели словно говорят в нас, и сами мы как-то учимся тому, чему учим. Разве обычно не случается так: часто видя в городе и в деревне места обширные и прекрасные, мы проходим мимо, не испытывая уже никакого удовольствия; когда же мы показываем их тем, кто их раньше не видел, то от их восхищения новым не оживает ли и наше восхищение? Чем ближе нам эти люди, тем это чувство сильнее; поскольку, любя их, мы в них живем, постольку и для нас старое становится новым» (14, 1-2).
Августин великолепно изобразил здесь высшую ступень педагогической чуткости и учительского совершенства. Достигнувший ее учитель полностью овладевает душами слушателей. Однако он не должен упиваться этой своей властью, и если он желает сохранить ее, он обязан быть предельно чуток и внимателен к ученику. Если обучаемый устал (в данном случае речь идет об индивидуальном обучении), надо дать отдых его душе: приправить речь веселой шуткой, рассказать о чем-нибудь удивительном или потрясающем, печальном или горестном, а лучше всего поговорить о самом слушателе, «чтобы он встрепенулся, смущенный заботой лично о нем; при этом нельзя задевать его самолюбия какой-нибудь резкостью, а надо расположить к себе дружеским обхождением и помочь, принеся скамью» 6 (16, 2). (6. По заведенному обычаю катехумены слушали наставника стоя, что представляется Августину неразумным).
Соответственно и речь христианского наставника должна быть полностью ориентирована на слушателя - без излишних красот, но привлекательная: «...пусть истинный указанный нами смысл окажется как бы той золотой нитью, которая соединяет в один ряд драгоценные камни, но ничем лишним не нарушает стройный лад украшения» (7, 2). Чтобы речь не навевала скуку излишней назидательностью, ее необходимо оснащать загадками и аллегориями, которые возбуждают духовную активность слушателей, «заставляют искать истину именно потому, что они ее прячут: какой-то ясный рассказ не произвел на них никакого впечатления и вдруг: распутывается аллегория и извлекается некий тайный смысл (10, 3). Окончательный вывод Августина относительно красноречия состоит в том, что оно должно служить смыслу речи и способствовать внедрению его в души слушателей: «как душу предпочитают телу, так и словам надо предпочитать мысли» (10, 4).
Стремясь определить роль красноречия в новой духовной культуре, Августин выявляет, как мы видим, ряд новых интересных эстетических и психологических закономерностей, значимых для общей эстетической теории и для практики эстетического воспитания. Ораторское искусство у него тесно связывается с педагогикой, а последняя дополняется требованиями организации обучения на принципах любви и уважения к ученикам и необходимости нравственного воспитания обучающихся.
Словесные искусства интересовали Августина главным образом в двух аспектах. Во-первых, он стремился понять знаково-символическую природу слова и словесных образов для правильного осмысления библейских текстов (см. подробнее гл. IX) и, во-вторых, использовать искусство красноречия, чтобы донести смысл нового духовного учения во всей его глубине до сердца каждого, даже самого неискушенного человека, т. е. красноречие рассматривается теперь как важное вспомогательное средство христианского учителя и проповедника. Именно в этой утилитарно-религиозной функции оно и получило широкое распространение начиная с IV в. во всей средневековой культуре, как на греческом Востоке, так и на латинском Западе.
В ином плане открылось Августину позднего периода назначение
музыки в христианской культуре. Тонкое музыкальное чутье гиппонского мыслителя позволило ему сделать выводы, находившие постоянный отклик в музыкальной эстетике последующих времен вплоть до XX в.
[659].
Новое обращение (после трактата «De musica») августиновской мысли к музыке было инспирировано самой практикой церковного пения, которое в IV в. повсеместно внедрялось в христианский культ и с которым Августин впервые познакомился в Медиолане. Инициатором введения нового церковного пения в христианских храмах были в IV в. на Востоке Василий Великий (в Неокесареи) и Иоанн Златоуст (в Константинополе), а на Западе папа Дамас I (в Риме) и Амвросий Медиоланский
[660]. Как пишет Августин, Амвросий ввел пение в трудное для медиоланских христиан время, когда сам пастырь их подвергался преследованиям со стороны арианствующей Юстины, матери малолетнего императора Валентиниана. Верующие вместе с епископом день и ночь молились в храме, ожидая гонений. «Тогда и постановлено было петь гимны и псалмы по обычаю Восточной Церкви, чтобы народ совсем не извелся в тоске и печали; с тех пор и поныне обычай этот соблюдается, и его усвоили многие, да почти все стада Твои и в остальном мире» (Conf. IX, 7, 15).
Церковная музыка оказывала сильное эмоциональное воздействие на верующих, что и явилось главной причиной введения ее в состав культа. Она способствовала усвоению словесного содержания гимнов и псалмов. Сам Августин был очень восприимчив к этой музыке. Он неоднократно упоминает о слезах умиления, возбуждаемых пением, и о «дивной сладости», наполнявшей в эти моменты его душу. «Сколько плакал я над Твоими гимнами и песнопениями, горячо взволнованный голосами, сладостно звучавшими в Твоей Церкви. Звуки эти вливались в уши мои, истина отцеживалась в сердце мое, я был охвачен благоговением; слезы бежали, и хорошо мне было с ними» (IX, 6, 14). Августин ясно сознает, что мелодия в гимнах и псалмах не только содействует более глубокому усвоению текста, но и обладает самостоятельным воздействием на душу слушателя. «Иногда мне кажется, я уделяю им (духовным песнопениям. - В. Б.) больше почета, чем следует: я чувствую, что сами святые слова зажигают наши души благочестием более жарким, если они хорошо спеты; плохое пение такого действия не оказывает. Каждому из наших душевных движений присущи и только ему одному свойственны определенные модуляции в голосе говорящего и поющего и они, в силу какого-то тайного сродства, эти чувства вызывают. И плотское мое удовольствие, которому нельзя позволить расслабить душу, меня часто обманывает: чувство, сопровождая разум, не идет смирно сзади, хотя только благодаря разуму заслужило и это место, но пытается забежать вперед и стать руководителем» (X, 33, 49).
Здесь у Августина отчетливо слышны отголоски античной теории музыкального этоса. Он убежден, что музыкальные модуляции соответствуют определенным движениям души и возбуждают у слушателя подобные же чувства. Эстетический эффект музыки настолько силен, что часто заслоняет собой ее рациональные основания, в частности, тот текст, который она должна донести до слушателя. Этот момент иногда сильно беспокоит христианского поборника чистого ratio. Эстетическое и рациональное не только дополняют в его душе друг друга, но часто и конфликтуют. Душа и сердце гиппонского мыслителя с детства были широко открыты навстречу любым эстетическим феноменам, а его разум постоянно стремился найти рациональную сущность эстетического и показать его полную зависимость и подчиненность ratio. Однако он сам не раз с горечью признавал, что это далеко не всегда ему удавалось. Тем не менее, как мы уже не раз убеждались, теоретические изыскания Августина во многом обогатили историю эстетической мысли.
Музыка как временное искусство привлекает особое внимание Августина тем, что ее быстротечность, постоянное перетекание из будущего в прошлое напоминают ему поток земной жизни. Самой формой своего бытия музыка отражает главную закономерность жизни - постоянное движение во времени (XI, 28, 38). Музыка становится в глазах Августина и всего Средневековья символом времени, а время - символом жизни
[661].
Временной характер музыки вызывает у Августина размышления о соотношении и взаимодействии звуковой материи и музыкальной формы. Звук, как и бесформенная материя, имеет, по его мнению, приоритет только в отношении «происхождения» (в логическом смысле). Во всех остальных отношениях музыкальная форма преобладает над звуком. «Когда поют и мы слышим звук, то он не звучит сначала бесформенно, а затем уже в пении получает форму. И как бы он ни прозвучал, но он исчез, а ты ничего тут не найдешь, что можно было бы вернуть и превратить в стройное пение. Пение все в звуках: звуки - это его материя, которой придают форму, чтобы она стала пением. Поэтому, как я и говорил, звук, т. е. материал, имеет первенство над пением, звуком уже оформленным, но первенство не по способности «делать». Звук не создает пения; издаваемый телесным органом, он подчиняется душе певца, дабы стать песней. Нет у него первенства и во времени: звук и пение одновременны. Нет и по выбору: звук не лучше пения, поскольку пение есть не только звук, но еще и красивый звук. Он первенствующий происхождением: не пение приобретает форму, чтобы стать звуком, но звук приобретает форму, чтобы стать пением» (XII, 29, 40).
Теоретический анализ отдельных проблем музыки, и прежде всего психологии ее восприятия (см. подробнее в гл. X), выявление многих ее рациональных (числовых) закономерностей не заглушают в Августине чувства непосредственного эмоционального восприятия музыки. Правда, иногда под влиянием требований церковного утилитаризма он склоняется к тому, чтобы по примеру Афанасия Александрийского перейти на декламацию псалмов в церкви, но сразу же вспоминает о своем собственном опыте и отказывается от излишнего ригоризма: «...я вспоминаю слезы, которые проливал под звуки церковного пения, когда только что обрел веру мою; и хотя теперь меня трогает не пение, а то, о чем поется, но вот - это поется чистыми голосами, в напевах вполне подходящих, и я вновь признаю великую пользу этого установившегося обычая. Так и колеблюсь я - и наслаждение опасно, и спасительное влияние пения доказано опытом. Склоняясь к тому, чтобы не произносить бесповоротного суждения, я все-таки скорее одобряю обычай петь в церкви: пусть душа слабая, упиваясь звуками, воспрянет, исполняясь благочестия» (X, 33, 50).
Несколько позже, осмысляя содержание Псалтири и соотнося его с опытом церковного пения, Августин делает еще один важный шаг в понимании эстетической сущности музыки. Он приходит к осознанию
юбиляции (jubilatio) в качестве важнейшей и наиболее высокой формы музыкального искусства. Под
юбиляцией Августин имеет в виду ликующий напев без слов, направленный на восхваление Бога
[662].
Юбиляция, или, на Востоке, аллилуйя (αλληλούια от древнееврейского
халлелуйя - хвалите Бога) - это восторженно-ликующего характера голосовые импровизации, украшенные мелизматическим распеванием гласных, чаще всего на слово «аллилуйя», особенно на его последний слог. В христианство
аллилуйя пришла из культовой практики семитских народов и с IV в. получила широкое распространение в церковном культе
[663]. На Западе пение
аллилуйи ввел Амвросий Медиоланский, и оно, постепенно развиваясь, процветало в западной музыке вплоть до Генделя, Баха, Моцарта, а в церковном православном пении - до П. И. Чайковского (в его «Всенощной», «Литургии»). Именно аллилуйя произвела сильное впечатление на Августина в амвросианской церкви, и он попытался осмыслить сущность этого чисто музыкального явления и понять его роль и место в порядке человеческого бытия. Августин, как показал еще Г. Аберт, глубже других почувствовал сущность юбиляции, «он дал Церкви научное обоснование так сильно отклоняющегося от ее основных принципов способа пения»
[664].
Здесь Августину, пожалуй, впервые в его теоретических штудиях об искусствах, приходится признать, что юбиляция - это та музыкальная форма, которая проистекает непосредственно из эмоциональных глубин души. Ratio как некая разумно-рассудочная деятельность не участвует в этом процессе. «Юбиляция ведь, то есть невыразимая [словами] хвала, исходит только от души» (Enar. in Ps. 150, 8); «тот, кто поет в юбиляции (qui jubilat), не произносит слов, но лишь одними звуками без слов выражает ликование; голос же есть ликование всеведущего духа, выражающее, насколько возможно, аффект, не постигаемый чувством» (99, 4). Августин уже и в своей гносеологии, как мы видели (см. гл. III), не раз приходил к выводу об ограниченности словесного выражения даже при передаче мыслей
[665]. Теперь он хорошо сознает, что многие движения души не могут быть выражены словами. Только музыка способна воплотить их в своем звуковом материале. «Что значит воспеть в юбиляции (jubilare)? - начинает Августин комментарий на первые слова 94-го псалма. - Радость нельзя передать словами, и, однако, голосом можно показать то, что содержится у нас внутри, но не может быть выражено словами. Это и значит воспеть [хвалу] в юбиляции (jubilare). Если внимательно наблюдать за теми, кто, как бы соревнуясь в мирской радости, восхваляет в песнях ваших Харит, то можно заметить, как среди пения слова вдруг как бы вытесняются безграничным ликованием, для выражения которого язык слов оказывается недостаточным; тогда воспевают они в юбиляции так. что их голоса выражают их душевное состояние (animi affectus); словами же нельзя передать то, что волнует сердце. Если же так можно ликовать (jubilare) о земных радостях, то не должны ли мы воспевать в юбиляции радости небесные, ибо не можем по достоинству воспеть их словами?» (94, 3).
Юбиляция - новая в целом для греко-римского региона форма музыкального исполнительства, предоставлявшая в рамках культового пения большие возможности музыканту (певцу) для художественного творчества. Часто повторяющийся в псалмах призыв: «Воспойте Господу песнь новую!» (Ps. 32; 95; 97) - Августин относит к юбиляции - хвалебно-ликующей песни души нового человека, заключившего с Богом новый союз (завет) и славящего его новой прекрасной песнью»
[666]. А петь прекрасно у Августина позднего периода и значит «петь в юбиляции». «Каждый пусть спросит себя, как он должен петь Богу. Пусть поет Ему, но остерегается петь плохо. Он не желает, чтобы оскорбляли его слух <...> Петь в юбиляции - это и значит правильно петь Богу, т. е. воспевать Его в юбиляции. Но что означает это «петь в юбиляции»? Это значит сознавать, что слово не может выразить того, о чем поет сердце <...> И кому так подходят звуки юбиляции, как не неизрекаемому Богу? Ибо неизрекаемым является Тот, кого ты не можешь высказать. А если ты не можешь Его высказать и, однако, не можешь и молчать, что остается тебе, как не твоя юбиляция, как не бессловесная радость сердца, когда безмерная полнота радости преодолевает оковы слогов?» (Enar. in Ps. 32, 1, 8). Музыка, и прежде всего юбиляция, становится у Августина фактически единственным непосредственным способом общения души с Богом
[667]. Она одна из всех искусств свободно устремляется от земли к небу и господствует во граде Божием, ибо единственным занятием блаженных будет вечное и немолчное восхваление Бога (ср.: 148).
Выведение музыки уже в новом христианском понимании на космический уровень приводит Августина к широким символическим обобщениям. Музыка, как «песнь новая», связывается им с истиной, красотой и мудростью. Она наделяется демиургическим значением, ибо призвана восстановить разрушенную в результате грехопадения гармонию мира. На руинах разрушенного храма должен быть сооружен храм новый - новый дом Бога, вселенская Церковь, которая с помощью любви восстановит гармонию на земле и во всем универсуме. Констатируя факт столь высокого значения музыки у Августина, К. Перл удивляется его парадоксальности: музыка, как самое преходящее из всех искусств и безвозвратно исчезающее во времени, является единственным видом искусства, которое имеет доступ в потустороннее и остается в вечности
[668]. Для Августина в этом нет ничего удивительного, ибо «новая песнь» выражает глубинные основы новой жизни, которые нельзя передать словами.
В толковании на 95-й псалом он осмысливает пение как процесс созидания нового мира. «Если вся земля,- пишет Августин,- поет новую песню, тогда сооружение (нового храма. - В. Б.) заключается не в чем ином, как в пении: само пение есть сооружение, если только петь не по-старому. Старую песнь поет вожделение плоти, новую - любовь к Богу». Ты можешь петь все что угодно, но если ты будешь петь как чувственный человек, т. е. бездуховно, то это будет старая песнь. Лучше уж молчать по-новому, чем петь по-старому. Люди не смогут слышать тебя в этом случае, но новая песня будет звучать в твоем сердце, и она достигнет слуха Того, кто сделал тебя новым человеком. «Ты можешь [также] любить и молчать; любовь сама есть голос к Богу; сама любовь есть новая песнь. Слушай, что есть новая песнь: Господь говорит: «Новую заповедь даю я вам, чтобы вы любили друг друга» (In. 13,34). Итак, вся земля поет новую песнь, на всей земле строится дом. Вся земля есть дом Бога. Если вся земля - дом Бога, тогда всякий, кто не объединяется со всей землей, не является домом, но грудой развалин, старых руин, прообразом чего был старый храм. Но вот разрушился старый храм, чтобы можно было построить храм новый» (Enar. in Ps. 95, 2). Любовь и песнь объединяют людей для построения нового храма - нового мира.
Новая музыка, новое пение представляются Августину символом новой жизни, а вся жизнь человеческая должна стать песней, музыкой, хвалой Творцу. Важным жанром нового песенно-поэтического искусства становятся в христианстве псалмы Давида
[669]. В первые века нашей эры они были практически единственной формой музыкального славословия; с IV в. появляются и собственно христианские гимны и песнопения
[670]. Исполнение псалмов нередко сопровождалось игрой на псалтериуме. А так как игра на псалтериуме представляет собой определенную деятельность человека, то Августин призывает и любую другую его деятельность соразмерять с этой, т. е. с мелодическим восхвалением Творца. «Не только голосом своим воздавай хвалу Богу, но и дела свои согласуй со своим голосом. Если ты воспеваешь голосом и однажды ты замолчишь, то жизнью [своей] пой так, чтобы ты никогда не молчал». Пусть в сплошное псалмопение превратится жизнь человека, ибо всякое благое дело звучит музыкой в ушах Бога (ср.: De op. monach. 20). Когда ты ешь и пьешь, призывает Августин своих единоверцев, воспевай псалмы не сладкими звуками застольных песен, но скромностью и умеренностью в еде и питье. Также воспевай псалмы и в постели, соблюдая закон и порядок в общении с женой своей и во всех остальных деяниях, т. е. соблюдение моральных норм и законов человеческого общежития представляется Августину высшим песнопением Богу (Enar. in Ps. 146, 2). И даже если голос человека молчит, но сердце и дела его не отклоняются от добродетели, то и тогда Бог услышит его хвалебную песнь (148, 2). Даже мир бессловесных и неразумных вещей воспевает хвалу Творцу своей красотой (148, 15).
Упоминание в псалмах музыкальных инструментов, сопровождающих славословия Богу, побуждает Августина к символическому истолкованию игры на этих инструментах, и прежде всего на псалтире и кифаре
[671]. На слова 90-го псалма, призывающего славить Господа на десятиструнном псалтире и петь ему на кифаре, Августин дает такой комментарий: десятиструнный псалтирь «означает десять заповедей закона. На псалтире нужно петь, а не только носить его с собой. Иудеи ведь тоже имеют закон, но они только носят его и не играют (psallunt). Каковы те, которые играют? Это те, кто делает добро. Но этого еще мало, ибо кто делает добро с печалью [в сердце], тот не играет. Каковы те, которые играют? Это те, которые делают добро с радостью». Если ты делаешь добро с печалью, то не ты делаешь его, а оно само совершается через тебя (91, 5). Августин поднимает здесь важную этико-эстетическую проблему. Истинное свершение добра должно быть глубоко искренним и органичным для человека, должно быть естественной потребностью его души, песнью радости, ликующей музыкой души. Выражение «с песнью на кифаре» Августин предлагает понимать в смысле единства слова и дела в добрых делах. Песнь есть слово, игра на кифаре - дело. «Объедини с добрым словом доброе дело, если ты желаешь сопровождать пение игрой на кифаре» (91, 5).
Псалтирь и кифара отличаются по характеру звучания и строению. Это дает повод Августину по-разному классифицировать и их символическое значение. У псалтиря часть, издающая звуки, находится вверху, а у кифары - внизу. Музыка псалтиря представляется Августину более духовной, бесстрестной, подобной ангельской. Звучание кифары, страстное, чувственное, сладостное, больше соответствует человеческой природе (42, 5). Даже двойную природу Христа Августин усматривает в символике этих инструментов. «Что есть псалтирь, что есть кифара? Через свое тело осуществлял Господь двойное действие: [творил] чудеса и [претерпел] страдания; чудеса происходили сверху, страдания - снизу. Ведь сила, которая творила чудеса, была божественной, а страдания тела происходили от плоти. Божественно действующее тело есть псалтирь; по-человечески страдающее тело есть кифара. Звучит псалтирь - слепые прозревают, глухие обретают слух, расслабленные укрепляются, калеки начинают ходить, больные исцеляются, мертвые воскресают - таково звучание псалтиря. А вот звучит кифара: Он (Иисус. - В. Б.) голодает, томится жаждой, спит, его хватают, бичуют, издеваются над ним, распинают его, погребают. Так видишь ты это, когда звучит: то сверху, то снизу; то - воскресает плоть, то - воскрес Он во плоти; [в обоих случаях] узнаем мы в одном и том же теле как псалтирь, так и кифару» (56, 16).
Подводя итог новому августиновскому отношению к музыке и к искусствам вообще, можно сделать следующие выводы.
В исполняемой музыке Августин увидел высшее из искусств
[672]в современном понимании этого слова, и поэтому музыка выступает у него как бы идеалом всех искусств. Главное ее назначение состоит в выражении глубинных движений души человека, которые не могут быть переданы словами. Прежде всего это касается религиозных переживаний лаудационного характера. Музыка призвана выражать неописуемую радость души. Печальные мотивы, по мнению Августина, не соответствуют чистой духовности, они - следствие порчи и дисгармонии мира, греховности человека.
Далее, музыка, сопровождающая словесный (как правило, поэтический) текст, способствует своим эмоциональным воздействием более глубокому усвоению его духовного содержания.
Наконец, музыка и музыкальные инструменты приобретают у Августина особое знаково-символическое значение, вытекающее из общей духовной проблематики христианства.
Эти главные аспекты августиновского понимания музыки составили не только основу музыкальной эстетики Средневековья и Возрождения, но и во многом - основу понимания сущности искусства как художественного феномена вообще.
В целом у Августина начинает складываться фактически новое, уже характерное для Средних веков понимание места и роли искусств в новой религиозной культуре - как вспомогательного средства для приобщения к высшим истинам духа, к христианской доктрине во всех ее формах и проявлениях.
Глава IX. ЗНАК
Одной из главных проблем, принадлежащих в мировоззренческой системе Августина одновременно и гносеологии и эстетике, связующей их между собой, является проблема знака, имени, слова. Она интересовала африканского мыслителя на протяжении всего творческого пути, и на разных этапах своего духовного развития решал он ее по-разному.
Ранние представления Августина о знаке наиболее полно изложены в трактате «Об учителе» (389 г.). Они были уточнены и развиты в первых книгах сочинения «О христианской науке» (относящихся к 397 г., закончен трактат был в 426 г.), отдельные положения переосмыслены в последних книгах «Исповеди» и в ряде других поздних, особенно экзегетических работ. В своих семантических исследованиях Августин как бы подводил итог исканиям античной и раннехристианской мысли в этой области. В теории знака Августина просматривается знакомство с учениями Платона и Аристотеля об именах, с суждениями Филодема и Секста Эмпирика о знаках, с полемикой стоиков и эпикурейцев на эту тему. Встречаются у него мысли и даже почти дословные формулировки Филона, Плотина и Оригена, наконец, отчетливо слышится эхо борьбы между Евномием и каппадокийцами по поводу сущности имен. Подводя внутренний итог античной знаковой теории и делая выводы, близкие к платоновским или раннехристианским (Ориген, каппадокийцы), Августин, однако, идет своим путем. Он не ищет в знаке сущности предмета (традиция, идущая с Ближнего Востока), а стремится выяснить возможность передачи знания с его помощью.
К исследованию проблемы знака Августин пришел от двух гносеологических вопросов: возможно ли и как возможно знание и возможна ли и как возможна передача знания (т. е. проблема обучения). Оба вопроса упираются в теорию знака, и Августин стремится подробно разработать ее.
Знаком (signum), по его мнению, может быть названа, очевидно, «такая вещь (res), которая употребляется для обозначения другого» (De doctr. chr. I, 2; De mag. 2, 2), т. е. такая вещь, которая интересна не сама по себе, но указывает на что-то другое. Это определение традиционно. Из латинских авторов у Цицерона, авторитет которого в вопросах философии и риторики непререкаем для Августина, можно найти такое высказывание: «Знаком является то, что кем-то непосредственно ощущается, и означает нечто, что из [него] самого, конечно, видится» (De inv. I, 30). Из христианских писателей Ориген, чье влияние сильно ощутимо в семантических исследованиях Августина, писал: «Знаком же считается, когда посредством того, что мы видим, выражается нечто другое» (Сот. in ер. ad Rom. IV, 2)
[673]. Августин в своем определении настаивает на предметной стороне знака. Знак - это прежде всего некая вещь (res)
[674], имеющая самостоятельное бытие независимо от того, включена она или не включена в знаковую ситуацию. Им может быть камень, ягненок, конкретный человек, т. е. любое существо, предмет или слово. Всякий знак обязательно является вещью, но далеко не всякая вещь есть знак. Знак, воздействуя своей формой на психику человека, возбуждает в ней мысль о чем-то ином, чем сама эта форма: «Знаком же является вещь, которая, помимо того, что дает чувствам [свою] форму, привносит в мышление, производя из себя, нечто иное» (De doctr. chr. II, 1, 1). Этой формулировке суждено было стать классической для всего Средневековья. Позже, уточняя смысловое значение словесного знака - имени (nomen), Августин писал, что оно служит для отграничения одного предмета от другого: «Действительно, всякое слово служит для различения [предметов]. Оттого оно и называется именем (nomen), что обозначает (noto) предмет, именует [его], является как бы значком (notamen). Обозначает же - то же, что различает и, говоря по-ученому, способствует разграничению» (De Gen. ad lit. imp. 6, 26).
Все знаки Августин делит на два вида - естественные (signa naturalia) и «данные» (signa data) (De doctr. chr. Π, 2), или условные, «условленные» (placita. - De mus. VI, 13, 41). Естественными знаками являются такие, «которые без чьего бы то ни было желания и побуждения что-либо обозначить дают нам возможность познать из них, помимо их самих, нечто другое». Примерами таких знаков являются дым - знак огня; следы животных; непроизвольные жесты и выражения лица человека, указывающие на состояние его духа и т. п. (De doctr. chr. II, 2, 2). Последняя группа знаков - жесты, выражения лица, глаз, интонация голоса, отражающие душевное состояние человека, желание-нежелание и т. п., составляют «естественный, общий всем народам язык», который усваивается детьми еще до того, как они научатся говорить (Conf. I, 8, 13).
Ко второму виду относятся знаки, с помощью которых живые существа сообщают друг другу свои мысли и чувства (De doctr. chr. II, 3). Они делятся на предметные и вербальные. Наиболее выразительные из них связаны со сферами зрительного и слухового восприятия. Главный и самый обширный класс этих знаков составляют лингвистические знаки - слова, «то есть обозначающие нечто звуки». Слова были изобретены разумом для передачи мыслей и чувств от человека к человеку (De ord. II, 12, 35). Слова могут заменять все другие знаки, обратное - невозможно; они - знаки в наиболее точном смысле, так как изобретены и используются исключительно для «обозначения» чего-то; значение их вне знаковой ситуации невелико (De doctr. chr. I, 2, 2). Слово своей формой практически не отвлекает внимание реципиента (употребим здесь современный термин, как поступил бы и сам Августин, придававший больше значения сущности дела, чем словам) от своего значения
[675]. Знаковое отношение в случае со словами необратимо, в отличие от ситуации с предметными знаками: и знак и обозначаемое не находятся здесь в причинно-следственных отношениях, как это наблюдается в случае с «естественными» знаками. Значение такому знаку дает знакопроизводитель, т. е. разум
[676].
Вербальным знакам посвящен ранний трактат Августина «Об учителе»
[677]. Знаки, пишет здесь автор, имеют различную природу, и одно и то же может быть обозначено знаками разного рода. К примеру, то, что означает слово «из» (ех), можно, видимо, передать и каким-либо жестом (De mag. 3, 6). Знаки указывают или на другие знаки, или на что-либо не являющееся знаком, например, на камень. Предметы, «которые могут обозначаться знаками, но сами знаками не являются», Августин предлагает называть «обозначаемыми» (significabilia) (4, 8). «Знаками вообще (signa universaliter), - формулирует он,- мы называем все, что означает что-либо, среди них могут быть и слова. <...> Итак, всякое слово есть знак, но не всякий знак - слово» (4, 9). Как правило, знаки означают нечто иное, чем они сами, но есть знаки, означающие и самих себя. К ним относятся, например, слова «знак», «слово» (4, 10). Различные знаки могут иметь различные по характеру значения - более общие и частные («слово» и «имя», «животное» и «лошадь»). Бывают знаки «взаимообозначающие» (signa mutua), т.е. обозначающие друг друга, как «слово» и «имя» (в грамматическом смысле). Имя является словом и слово - именем (существительным). Более того, именем могут называться все части речи, ибо они все что-либо обозначают (significari), а если обозначают, то и называют (appellari), а если называют, то и именуют (nominari), а если именуют, то обязательно «именем». Следовательно, все слова могут быть названы именами (5, 15).
Среди взаимообозначающих знаков не все обладают «равносильным» (tantumdem) значением. «Знак», например, охватывает больший диапазон значений, чем «слово». «Имя» же и «слово» - взаимообозначающие знаки, равносильные, но не тождественные по значению. Они отличаются друг от друга лишь звучанием. К ним Августин относит слова nomen и όνομα (7, 20), означающие «имя», соответственно по-латыни и по-гречески.
Переходя далее к тому главному случаю, когда знаки относятся не к знакам же, но к «обозначаемому», Августин показывает, что словесный знак (а его интересует прежде всего именно этот знак)
[678] может быть воспринят двояко: и как знак (слово), и одновременно - как предмет, им обозначаемый. По естественному закону, подчеркивает он, внимание наше тотчас переносится со слова на обозначаемое. Когда мы слышим слово «человек», мы сразу же представляем себе человека, а не думаем о том, что было произнесено слово, имя существительное, означающее «животное разумное и смертное», т. е. человека. С точки зрения теории познания, по мнению Августина, в знаковой ситуации больший вес имеют обозначаемые предметы, чем их знаки (9, 25)
[679]. Ибо слова, как неоднократно подчеркивал он в трактате «О музыке», условны и относительны, так как они продукт того или иного времени и определенного народа, а обозначаемая ими сущность или явление практически неизменны. Не случайно для некоторых явлений в латинском языке нет соответствующих слов и их приходится заимствовать из греческого (типа analogia, phantasia, phantasma и др.).
Употребляя какой-либо термин, не совсем точный или не очень ясный, Августин не рекомендует особо заботиться о словах, ибо только вещь стоит твердо, а слова достаточно условны. Происхождением конкретных слов не следует слишком увлекаться. «Если сам предмет, который данным именем обозначен, достаточно ясен, то не стоит трудиться над изысканием происхождения слова» (De mus. V, 3, 4). Часто бывает легче дать представление о самой вещи, чем об имени, ее обозначающем, ибо знания о вещах заложены в нас от природы, а имена даны случайно и основаны на вкусах людей, традициях, привычках (III, 2, 3). Это скептическое отношение к словам, знакам, традиции (auctoritas) - позиция раннего Августина, основанная еще на сильном влиянии платонизма и скептицизма. Позже, полностью осознав себя христианином, Августин существенно изменит ее, хотя основной тезис, что обозначаемое важнее знака, останется неколебимым.
Однако, пытается «поймать» себя на противоречии Августин, как быть тогда с негативными явлениями и предметами типа грязи, порока и т. п.? Неужели и они предпочтительнее слов, их означающих? И здесь, как и всегда в затруднительной теоретической ситуации, он обращается к сфере эстетического. Развивая традиционную для античной эстетики аристотелевскую мысль о том, что изображение в искусстве неприятного и отвратительного может доставить удовольствие (Poet. 4, 1448b), Августин стремится показать, что знак отрицательного явления в поэзии может служить созданию особой красоты. Так, слово «порок» в стихе Персея «но он изумился пороку» не только не вносит в стихотворение ничего порочного, но, напротив, придает ему особое украшение. Сам же предмет, обозначенный этим словом, делает порочным того, в ком находится. Этот эстетический пример позволяет Августину сделать дополнительный вывод о том, что в случае с отрицательным объектом обозначения знак имеет преимущество над обозначаемым (De mag. 9, 28). Августин, таким образом, вплотную подходит к мысли о том, что в искусстве знак, слово могут иметь некое особое значение, но эта проблема со всей остротой встанет перед ним позже.
Слова, по мнению Августина, могут употребляться в строгом и нестрогом смыслах. Так, в трактате «О музыке» он, опираясь на античную традицию, дает определения ритма, метра, стиха, но замечает, что в соответствующей ситуации вполне допустимо метр называть стихом, ритм - метром, ибо эти слова при их внешнем различии близки по смыслу. Здесь Августин усматривает два разных способа употребления слов: одно дело - использовать слово в нестрогом, свободном смысле для обозначения одного из родственных предметов и совсем иное - назвать вещь своим собственным именем. При всем своем скептическом отношении к словам Августин выступает сторонником второго, более точного способа, ибо древние писатели, давшие обозначения вещам, по его мнению, обладали достаточно тонким чувством их природы (De mus. V, 1, 1). В этом двойственность позиции раннего Августина, которая выявится рельефнее при рассмотрении его понимания гносеологической функции знака, слова.
Однако вернемся к августиновской классификации знаков. Условные, или «данные», знаки, в свою очередь, делятся на две группы: знаки в собственном смысле, буквальные (signa propria) и «знаки переносные» (signa translata) (De doctr. chr. II, 15)
[680]. Буквальные знаки служат для обозначения тех предметов и явлений, для которых они и были изобретены. Например, слово «теленок» означает определенное животное. Знаки переносные - когда само обозначаемое является знаком. Так, сам теленок (телец) в христианской культуре служит знаком евангелиста. Переносные знаки практически относятся уже не к просто вербальным знакам, но скорее - к художественным, ибо представляют собой фактически тропы, определенные фигуры речи. Если «собственные» знаки познаются изучением языка, то «переносные» - изучением наук и искусств
[681]. Эти знаки будут особенно интересовать Августина в более поздний период его экзегетической деятельности.
Уже в трактате «Об учителе», подробно рассуждая о вербальных знаках, Августин стремится осмыслить их функцию в человеческой жизни. Конечно, она связана с познанием. Однако где же познается истина - в знаках или в самих предметах? - задается традиционным для античности, но так и не решенным к его времени, вопросом Августин. «Познание предметов, обозначаемых знаками,- отвечает он себе,- если и не лучше познания знаков, то лучше, по крайней мере, самих знаков» (De mag. 9, 28). Знаки необходимы лишь для познания предметов, ибо ничему нельзя научиться без знаков, в данном случае без слов (10, 30).
Обозначив этот тезис, Августин приступает к его проверке. На примерах таких «родов искусств», как птицеловство, театр, зрелища, он показывает, что есть вещи, которым можно научиться «без [словесных] знаков - самим делом». Явления природы также познаются непосредственным созерцанием, без знаков. Да и вообще, заключает Августин в лучших традициях античного скептицизма,
с помощью знаков нельзя ничего узнать, ибо прежде необходимо знать, что тот или иной знак означает. «Итак, скорее узнается знак по познанному предмету, чем сам предмет, данный в знаке» (10, 33). Ранний Августин полностью солидарен со скептиками, которые считали, что если слово «обозначает что-нибудь по установлению (т. е. является условным знаком. -
В. Б.), то ясно, что люди, заранее знающие вещи, с которыми соотнесены слова, воспримут эти вещи, не научаясь из них тому, чего они не знают, но лишь вспоминая то, что уже они знали раньше, причем те, кто еще нуждается в изучении неизвестного, не достигнут и этого» (Sext. Emp. Adv. math. I, 38)
[682]. Развивая эту скептическую традицию, Августин также полагает, что с помощью слов ничему нельзя научиться
[683], ибо знание заключено не в словах, а в душе человека от природы, а точнее, от Бога. Знание «вещей вообще присуще [от природы] всем духовным [существам]; имена же установлены так, как кому нравилось, их сила (= значение) основывается большей частью на традиции и на привычке; поэтому в языках могут быть различия, в вещах же, основывающихся на самой истине, конечно, не могут» (De mus. III, 2, 3). Критерием истинности любой речи, любого трактата и даже понимания Моисеевых Книг Бытия служит эта живущая внутри каждого человека истина: «Как бы то ни было, но живущая внутри меня, в центре мышления истина, не еврейская, не греческая, не латинская и не варварская, [но абсолютная], сказала бы мне без уст и органа речи, без звучания слогов, что он (Моисей. -
В. Б.) говорит истину» (Conf. XI, 3, 5).
Слова лишь побуждают душу к внутреннему обучению, к всматриванию в эти от природы заложенные в ней, но далеко не всегда осознаваемые знания вещей. «О всем, постижимом для нас,- писал Августин уже в раннем трактате,- мы спрашиваем не у того говорящего, который внешним образом произносит звуки, а у самой внутренне присущей нашему уму истины, словами, пожалуй, побуждаемые к тому, чтобы спросить. Тот, у кого мы спрашиваем и кто нас учит, есть обитающий во внутреннем человеке Христос, т. е. неизменная сила Божия и вечная Премудрость» (De mag. 11, 36).
Упоминаемые здесь «внутреннее знание», «внутренний человек» подводят Августина к развернутой в более поздних трактатах теории о «слове внешнем» и «слове внутреннем». В свое время этот вопрос активно обсуждали стоики. Августин, видимо, слышал об их суждениях, хотя прямого заимствования у него нет, да и идет он в своих выводах дальше стоиков. Внешнее слово - это произнесенное слово, звук голоса. Оно является знаком «внутреннего слова» (verbum quod intus lucet - «слова, которое внутри светит»). Внешнее слово различно у разных народов, то же, что им обозначается, часто бывает одним и тем же. Внешнее слово условно и произвольно. Предмет, и это нередко подчеркивает Августин, может быть назван каким угодно словом (De Gen. ad lit. imp. 6, 26). Поэтому внутреннее слово является в большей мере словом, чем произнесенное, однако особым словом - Августин не говорит о нем как о знаке. Звук же называется словом только потому, что является
знаком внутреннего слова. Точнее было бы его назвать «голосом слова» (vox verbi) (De Trin. XV, 19). От самого реально звучавшего слова Августин отличает образ этого звука, сохраненный памятью и воспроизводимый воображением, когда мы можем петь или произносить слова про себя. Образ звука, хотя и находится в душе, относится не к внутреннему, а к внешнему слову
[684].
Внутреннее слово - это «слово ума» (verbum mentis), в отличие от произносимого - verbum vocis, т. е. некая особая «мысль», существующая еще до оформления в словах. Не всякое внутреннее представление является внутренним словом, «но только то,- разъясняет И. В. Попов мысль Августина в De Trin. XV, 19,- которое находится в центре сознания и, в данный момент занимая мышление, может быть высказано в произносимом слове. Память содержит много знаний, но не все они предмет мышления. Мышление, получившее определенную форму от того, что мы знаем, но не всегда мыслим, и есть внутреннее слово. <...> Внутренним словом называется мысль в ее актуальном состоянии потому, что только такую мысль мы можем выразить во внешнем слове»
[685].
Процесс словесной коммуникации у Августина выглядит следующим образом: от внутреннего слова говорящего к его внешнему слову, от него - к ушам слушающего, от них - к его душе, где возбуждается его внутреннее слово. При этом передачи мысли не происходит. Души собеседников замкнуты в себе, хотя в душе слушателя под действием слов и возбуждаются мысли, близкие к мыслям говорящего: «Когда же мы говорим с кем-либо, мы призываем на службу внутреннему слову голос или какой-нибудь иной телесный знак, чтобы посредством его и в душе слушающего возникло бы до некоторой степени такое чувственное воспоминание, которое не уклоняется от мысли, заключенной в душе говорящего» (IX, 12). Таким образом, собственно семантическая сторона знака отступает у Августина на второй план, а на первый выходит особая психологически-гносеологическая функция - коммеморативно-побудительная
[686]. Парадокс знаковой теории будущего гиппонского епископа заключается в том, что последовательно, на основе античных учений, построив развернутую теорию знака, он, в отличие от александрийцев и каппадокийцев, практически не нашел ей места в своей теории познания. Вернее, роль лингвистико-семиотической теории оказалась у него очень ограниченной, что вполне объясняется общим кризисом формально-логических теорий в период поздней античности. Однако, сосредоточивая особое внимание на
побудительной функции знака, Августин тем самым невольно сблизил свою знаковую теорию с эстетикой. Его знак, по сути дела, является не лингвистическим знаком (хотя и описан как таковой), по своей функции он - скорее
знак художественный, близкий к тому, что позже на Востоке автор «Ареопагитик» назовет
символом и
образом, подчеркивая их возбудительно-психологическую функцию
[687].
Таким образом, мы видим, что обсуждавшиеся еще у Секста Эмпирика два типа знаков: «индикативные» и «напоминательные» (Adv. math. VIII, 151 и др.) нашли свое отражение в
индикативной и
напоминательной (точнее, коммеморативно-побудительной) функциях языка у Августина
[688]. Первая заключается в том, что знак указывает реципиенту на обозначаемое. Это собственно знаковая функция языка, которую так подробно разработал Августин в «De magistro» и в «De doctrina christiana». При этом он, как отмечает Р. Маркус, пожалуй, первым пришел к пониманию триадической природы знакового отношения:
обозначаемый предмет -
знак - реципиент[689]. Этот фактически системный подход вообще присущ мышлению Августина. В трактате «О музыке» он с тех же позиций подходит к искусству, рассматривая систему:
художник - произведение искусства - реципиент. Интересно, что обозначаемый предмет там у него фактически отсутствует, хотя он и декларирует постоянно миметический характер искусства.
Гносеологическое значение индикативной функции языка у раннего Августина, как мы видим, очень ограничено. Только на более позднем этапе своей деятельности он глубже свяжет эту функцию с гносеологией, выделяя три способа, какими знак может указывать на объект обозначения. Первый - непосредственное указание, когда знак прямо указывает на объект, второй - указание на неизвестный нам предмет путем сравнения его с известным и третий - «по контрасту» (ех contrariis) с тем, что мы уже знаем, если это - понятия отрицательные» (De Gen. ad lit. VIII, 16, 35). С помощью последнего способа мы познаем, что такое зло, ничто, безобразное и т. п. Разъясняя этот последний способ указания, Августин пишет, что «по большей части неизвестное понимается из противоположного ему известного; даже названия вещей, которые не существуют, раз они включаются в речь, не остаются темными для слушателя. Ибо то, чего совсем нет (non est), никак не называется; а между тем эти два слога понимает всякий, кто знает латынь. Откуда же, как не из вглядывания в то, что есть, и из его отрицания наши чувства узнают то. чего нет?.. И каким бы другим именем и на каком бы языке мы это самое ни называли, уму нашему в голосе говорящего дается знак, в звучании которого он познает то, что мыслит помимо знака» (VIII, 16, 34).
Коммеморативно-побудительная функция языка связана с возбуждением глубин памяти, где хранится «истинное знание вещей, которым мы обладаем, так сказать, в форме слова, задуманного внутренним произнесением» (De Trin. IX, 7, 12). Объективно, как мы уже сказали, эта функция стоит ближе к эстетической, чем к строго гносеологической. Косвенным, но достаточно веским подтверждением этого являются и мысли Августина о процессе знаковой (вербальной) коммуникации, высказанные им в «De musica». Там Августин показал, что процесс воздействия одной души на другую осуществляется с помощью слов так же, как происходит и художественная коммуникация. Душа производит внешнее слово с помощью тех же творческих чисел (progressores), которые управляют и деятельностью художника. Восприятие слов осуществляется также по аналогии с восприятием произведения искусства. Здесь участвуют «воспринимающие числа» (occursores), числа памяти (recordabiles) и числа чувственной способности суждения (sensuales), которые одновременно «являются и чувственно воспринимаемыми знаками (sensibilia signa), показывающими, как одни души воздействуют на другие» (De mus. VI, 13, 42)
[690].
Здесь следует особо подчеркнуть, что восприятие «условных знаков» Августин ограничивает именно эстетической ступенью, ибо числа sensuales судят только на основе чувства удовольствия или неудовольствия. Следующая же, и высшая, ступень его системы восприятия - судящие числа разума (judiciales) - в процессе восприятия в данном случае не участвуют. Конечно, это не парадокс и не результат гениальной рассеянности одного из виднейших Отцов Церкви. Ревностный поклонник разума, Августин никогда не забывал, что слова созданы разумом и значение их понятно прежде всего разуму. Однако именно в трактате, практически целиком посвященном эстетической проблематике, он стремится показать, с одной стороны, ограниченность и условность вербальных знаков (на что мы уже указывали), а с другой - подчеркнуть, что механизм вербальной коммуникации в принципе идентичен механизму художественной коммуникации. При этом акцент сделан Августином на том, что именно знаковая коммуникация подобна художественной и воздействие знака оценивается прежде всего на уровне чувственного суждения, а не в сфере разума.
Это важный и значимый для истории эстетической мысли факт. Применительно к самому Августину он дает возможность рассматривать его семантическую теорию в эстетическом ключе. Тогда становятся отчасти понятными и пристальное внимание Августина к напоминательно-побудительной функции языка, и его скепсис относительно формально-логического познания, и, наконец, его подход к толкованию текста Библии часто с сугубо эстетических позиций. Не следует также забывать, что Августин по образованию был ритором и до принятия христианства обучал красноречию, т. е. дисциплине, которая на первое место ставила эстетическую, а не смысловую сторону речи. Правда, ко времени написания своих первых трактатов он уже, как мы помним, скептически относился к этой «пустой» науке именно за то, что в ней эстетическое преобладало над рациональным, и тем не менее именно красноречие помогло ему глубоко почувствовать многогранность, многозначность и чувственную красоту слова, что так рельефно выделяет его произведения в безбрежном море патристики, а его «Исповедь» ставит в ряд выдающихся памятников мировой литературы.
Полное осознание себя христианином, внутреннее приятие христианского учения во всей его полноте, как единственно истинного, заставляло Августина в новом свете посмотреть и на проблему знака, слова. Христианская идеология все больше и больше переключает его внимание в гносеологии от «дел человеческих» к «делам божественным». И процесс этот, как мы знаем из «Исповеди», проходил в душе Августина очень болезненно и растянулся на долгие годы. Что должно стать главным инструментом богопознания? Неужели условные, произвольно данные и во всех языках различные слова? Но ведь они не несут даже знаний о «делах человеческих», как показал Августин еще в «De magistro». А что уж говорить о «делах божественных».
Три главных постулата христианства оказывают теперь влияние на направление его семантически-лингвистических исследований. Первый, поддерживающий его гносеологический скептицизм, гласит, что Бог, первопричина и создатель мира,- невыразим в слове (De doctr. chr. I, 6; Enar. in Ps. 35, 4; 99, 6). При его описании «и красноречие немотствует» (Conf. I, 4, 4), т. е. риторика, которой он обучался с детства и которую сам преподавал, оказывается здесь бессильной. Однако два других постулата позволяют противопоставить этому тезису антитезис и этим вселяют оптимизм в душу стремящегося к высшему познанию христианина. Первый заключен в начальных словах Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин 1, 1-3). Своим творящим Словом Бог создал и мир, и человека, и в нем - тварное слово нашего языка. Но в чем состояло это Слово? Оно явно не было похоже на слово нашей речи. Это было «вечное в безмолвии Слово» Божие, в котором обитал сам Бог. «И потому посредством Слова твоего, которое тебе совечно, что ты ни изрекаешь в один и вечный момент, все приемлет бытие, что вызываешь ты этим Словом из небытия в бытие» (Conf. XI, 7, 9).
Слово стоит в начале всего, и, значит, не так уж бесполезны и человеческие слова. Еще больше укрепляет Августина в этой мысли другой постулат христианства - о вочеловечивании, воплощении Слова. Догмат о воплощении, во-первых, позволял описывать обретшее плоть Слово - богочеловека Иисуса, прожившего среди людей 33 года. «Все другие вещи,- писал Августин,- можно выразить каким-либо образом; Он единственный является невыразимым, кто сказал - и были сотворены все предметы. Он сказал - и мы были сотворены; но мы не можем говорить о Нем. Его Словом, которым мы были высказаны, является Его Сын. Он был сделан слабым, так что Он может быть выражен нами, несмотря на нашу слабость» (Enar. in Ps. 99, 6). Это-то Слово «и благовествует нам в Евангелиях» и стало доступно внешним чувствам человека (Conf. XI, 8. 10).
Во-вторых,
воплощение Логоса в «Исповеди» настойчиво сопоставляется Августином с выражением мысли в слове
[691]. Как божественное Слово получило тело в Христе, так и мысль обретает плоть в звучащем или написанном слове. Столь высокая для христианского мира аналогия, конечно, необходима была Августину, чтобы реабилитировать, прежде всего в его собственных глазах, написанное слово. Слово опять наполняется для него смыслом, притом смыслом новым, высвеченным новым мировоззрением и часто далеким от своего буквального значения. Относится все это, конечно, прежде всего к библейскому слову, т. е. к текстам, восходящим, по Преданию, в той или иной мере к самому Богу и повествующим о его деяниях.
Как божественный Логос стал в Христе посредником между Богом и людьми, так и человеческое слово воспринимается теперь Августином в качестве посредника истины. Ибо сам Бог, оказывается, придает слову как средству коммуникации большое значение. «Закон» Моисею был дан Богом в форме написанного слова «скрижалей завета», поэтому «телесные знаки Писания» выступают одним из главных способов (наряду со звуками и эстетическими образами) общения Бога с людьми (De Gen. ad lit. VIII, 25, 47). Само воплощение явилось результатом стремления Бога к установлению контактов с людьми, в том числе и в словесной форме - в Христе Бог говорил с людьми на их языке (ср.: Conf. IV, 12, 19). Отсюда происходит и надежда христиан на возможность словесной коммуникации с Богом, которая доступна всем людям в формах молитвы и славословия. «До того, как ты постиг Бога,- пишет Августин,- ты полагал, что мысль может выразить Бога. Теперь ты начинаешь постигать Его и видишь, что ты не можешь выразить [словами] то, что ты постигаешь. Но, обнаружив, что ты не можешь выразить то, что ты постигаешь, будешь ли ты молчать, не будешь ли ты восхвалять Бога?» (Enar. in Ps. 99, 6).
Таким образом, речь у Августина идет о словесной, но не формально-логической, а скорее об эстетической коммуникации, ибо славословие, восхваление Бога еще по ветхозаветной традиции осуществлялось в гимнах, псалмах и других специальных поэтических или музыкально-поэтических формах. Именно их и противопоставляет теперь Августин античной поэзии, как «суете, недостойной внимания» (Conf. I, 13, 22 - 17, 27). Молитвы, с которыми христианин обращается к Богу и которые мы встречаем и в «Исповеди» Августина, так же организовывались с первых веков христианства и на протяжении всего Средневековья по особым ритмическим законам и составляли особый жанр средневековой поэзии.
Бог сотворил мир своим Словом, поэтому и человеческое слово, полагает Августин, может привести человека к Богу; христианское красноречие, как мы видели в гл. VIII, становится носителем божественного Слова, зеркалом, отражающим Его, посредником между Богом и человеком
[692]. Слово человеческое может и должно служить познанию высшей истины, Первопричины всего, непостигаемого Бога. Интересна парадоксальная закономерность позднеантичного мышления. Культ разума и философии на раннем этапе привел Августина к агностицизму в области вербального познания, что отражало реальную кризисную ситуацию позднеантичной философии, пришедшей на главных своих направлениях к скепсису в области рационального мышления. Переход же юного африканца на религиозный путь укрепил его в уверенности познания с помощью слова. Однако речь уже идет не о буквальном значении слов и словесных конструкций, а о переносном. Signum translatum выходит теперь в гносеологии Августина на первое место. К этому пониманию, как писал сам Августин, он пришел под влиянием Амвросия Медиоланского: «Я с удовольствием слушал, как Амвросий часто повторял в своих проповедях к народу, усердно рекомендуя, в качестве правила: «буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3, 6). Когда, снимая таинственный покров, он объяснял в духовном смысле те места, которые, будучи поняты буквально, казались мне проповедью извращенности, то в его словах ничто не оскорбляло меня, хотя мне еще было неизвестно, справедливы ли эти слова» (Conf. VI, 4, 6).
Особую авторитетность Писания Августин видел теперь в том, что оно «всем было открыто и в то же время хранило достоинство своей тайны для ума более глубокого; по своему общедоступному словарю и совсем простому языку оно было книгой для всех и заставляло напряженно думать тех, кто не легкомыслен сердцем; оно раскрывало объятия всем и через узкие ходы препровождало к Тебе немногих» (VI, 5, 8). Теперь Августин твердо знает, что Бог и его деяния постигаются не из буквального значения библейских текстов, а в особых словесных образах - «через отражение в загадке» (рег speculum in aenigmate) (X, 5, 7; Enar. in Ps. 99, 6; Enchirid. 63). Здесь он опирается на известную мысль ап. Павла, во многом определившую направление эстетической и художественной мысли Средневековья, которая дословно звучит так: «Теперь видим мы через отражение (зеркало) в загадке (иносказании), потом же - лицом к лицу» (1 Сог. 19, 12)
[693]. Средневековая экзегетика, эстетика и культовое искусство положили эту мысль в основу своих методологий. Зеркало, загадки, иносказание заняли теперь важное место в культуре.
В западную эстетику эти понятия, пожалуй, впервые и наиболее полно, ввел именно Августин. Однако думал он, конечно, не об эстетике. В «энигме» апостола Павла (лучше оставить этот греческий термин без перевода, как это сделал и сам Августин, ибо и «загадка» и «иносказание» не покрывают в отдельности поле его значений) он нашел выход из тупиков дискурсивной гносеологии. Только в многозначных неясных энигмах может быть «выражено невыразимое»
[694]. Вслед за Цицероном, определявшим энигму как особую фигуру речи
[695], Августин также полагал, что она является тропом, входящим в класс аллегорий (De Trin. XV, 9, 15 - 16). Он описывает ее как особый род неясного и трудного для понимания сравнения. Но именно с помощью таких «загадок» только и могут быть выражены труднопонимаемые реальности, особенно бесконечная невыразимость Бога. Неясность и многозначность энигмы лишь усиливают ее выразительность и, соответственно, воздействие на человеческий дух. В Библии энигма - специальный прием передачи особого знания. Как видим, по способу своей организации (сравнение, метафора, аллегория) и по механизму воздействия на психику человека она оказывается близкой к носителю художественного значения. Выявляя некоторые ее особенности в русле своей экзегетической теории Августин, по сути дела, вскрывал ряд закономерностей организации художественного текста, хотя (подчеркнем еще раз) сам он, естественно, не считал Библию ни художественным, ни мифологическим памятником, но чтил «богооткровенным Священным Писанием».
Писание, однако, полагал он, хотя и является результатом откровения, записано людьми, большим числом «писателей», среди которых первым и ближе всех стоящим к Богу почитается Моисей. Августин искренне верит каждому библейскому слову, не уставая восхищаться глубиной Писания. «Дивная глубина словес Твоих! - восклицает он. - Мы останавливаемся на поверхности их, как младенцы; но глубина их, Боже мой, глубина дивная!» (Conf. XII, 14, 17). Много таинственного (arcana valde) в словах Писания, и Августин сомневается, правильно ли он понимает их. С другой стороны, он не лишен и уверенности в том, что при восприятии текстов Книги Бытия сама истина могущественным словом своим внушает знания его внутреннему слуху (XII, 15, 18), и это приводит его к выводу о возможности различного понимания слов Моисея.
Все читатели Книги Бытия, пишет Августин, стремятся постигнуть тот смысл, какой имел в виду их писатель, т. е. Моисей. А так как все считают его любящим истину человеком, то никто не допускает мысли, что он имел намерение ввести в заблуждение читателя. Однако «понимают» (важно, что Августин везде использует здесь глагол sentire - чувствовать, ощущать, т. е. скорее не интеллектуальное, но эстетическое восприятие) все текст Книги Бытия по-разному. И в этом нет ничего плохого, если такое понимание, хотя оно и отличается от того, что имел в виду писатель, не противоречит истине (XII, 18, 27). Августин хорошо почувствовал полисемию сакрального текста и считал вполне закономерным многозначное понимание его.
Критерий истинности восприятия текстов Писания он усматривал во внутреннем знании, заложенном в каждом человеке «самим источником света истины», которое, как полагал Августин, у всех людей различно. Поэтому одна и та же истина и писателями выражается по-разному, и читателями воспринимается по-своему. Многозначность словесного текста определяется, с одной стороны, различиями в духовном мире людей, с другой - сущностью знака и объективными возможностями передачи идей в знаках, о которых так много рассуждал Августин в трактатах «Об учителе» и «О христианской науке».
К знаковому сообщению (Августин имеет здесь в виду словесные тексты) можно подойти с двух разных сторон: «Я полагаю, что два различных стремления (dissensio) могут возникнуть, когда что-нибудь передается в знаках вестниками, несущими истину: одно, когда [стремятся выяснить] истину о предметах, другое, когда [желают знать] мысли самого писателя». Так, одно дело искать истину в рассказе Моисея о самом творении, а другое - выяснять, что он сам думал о нем и что хотел передать в своем рассказе читателям и слушателям. И то и другое, по мнению Августина, заслуживает внимания, но это разные вещи и при анализе текста необходимо ясно сознавать, какую цель, из указанных, ставит перед собой исследователь (XII, 23, 32). Глубокий фидеистический оптимизм убеждает его в том, что в тексте легче постичь саму истину, ибо к пониманию ее «ведет озарение божественным светом», чем то, что думал о ней писатель. Мысли читателя и писателя могут не совпадать и быть тем не менее верными, если и тот и другой правильно понимают предмет, отраженный в словесном тексте (XII, 24, 33). Поэтому Августин порицает толкователей, заявляющих: «Моисей не то разумел, что ты говоришь, а то, что мы говорим». Они, полагает Августин, больше любят себя, чем истину. «Иначе они одинаково уважали бы мнения и других, если эти мнения не противоречат истине, точно так же, как и я уважаю, что они говорят, когда говорят истину, не потому, что это они говорят, а потому, что говорят истину; а раз это истина, то она не составляет уже исключительной их собственности» (XII, 25, 34). Если же мы не хотим выступать против самой истины, «то зачем нам спорить о мыслях ближнего нашего, которые для нас более сокрыты и менее доступны, чем сама неизменная истина?» (XII, 25, 35).
Августин не знает, что имел в виду Моисей, когда писал Книгу Бытия, но он уверен, что «разность мнений не есть еще противоречие истине и разные мнения могут быть истинны, за исключением нелепостей» (XII, 30, 41). Если один читатель настаивает на том, что Моисей имел в виду то, что он имеет в виду, а другой - другое, то им резонно сказать: «А почему же не то и другое вместе, если и то и другое истинно?» Это относится ко всем возможным вариантам понимания текста, ибо текст этот организован таким образом, чтобы единая истина понималась в нем всеми, но по-разному - в соответствии с воспринимающими способностями каждого. Бог, по Августину, наделил своего писателя даром иметь в виду все, что мы вычитываем в его словах, и даже то, что еще не вычитали, но что не противоречит истине (XII, 31, 42).
Человек, находящийся на стадии духовного детства, понимает в словесном тексте все буквально, «пока у птенца не окрепнут крылья» для духовного полета. Ученые же эрудиты под покровом словесных истин (листьев) находят плоды и собирают их (XII, 28, 38). Августин развивает здесь идеи, возникшие еще у Филона Александрийского, неоплатоников, христиан-александрийцев в связи с толкованием и пониманием мифологических и сакральных текстов, вкладывая в них много своего. Главной заслугой его в этом направлении является последовательное и глубоко осмысленное утверждение принципиальной многозначности сакрально-мифологического текста. Причину этой многозначности Августин в духе и традициях мировоззрения поздней античности усматривает в сфере религиозной гносеологии. «Темнота божественной речи, - писал он, - полезна в том отношении, что она приводит к весьма многим истинным суждениям и вводит в свет знания, когда один понимает ее так, другой иначе. (Но нужно, чтобы смысл, заключенный в темном месте, подтверждался или очевидностью вещей, или другими местами, менее сомнительными; или, если речь идет о многом, чтобы приходили к тому, что имел в виду (quod sensit) сам писатель; а если это сокрыто, то чтобы в процессе глубинного толкования темного места были бы выяснены некоторые другие истины.)» (De civ. Dei XI, 19).
В соответствии с предметом богословской теории знания Августин стремится выработать принципы подхода к анализу библейских текстов. Еще в 389 г. он наметил четыре способа их понимания: буквальный, исторический, профетический (толкования о будущем) и иносказательный - «образный и энигматический» (De Gen. contr. Man. II, 2, 3). Несколько позже, около 393 г., он указывал со ссылкой на других толкователей еще четыре способа, отчасти перекрывающие предыдущие, «названия которых могут быть даны по-гречески, а определены и разъяснены они на латыни: исторический, аллегорический, аналогический и этиологический
[696]. Исторический - когда припоминают какое-либо божественное или человеческое деяние; аллегорический - когда высказывания понимаются образно (figurate); аналогический - когда указывается согласие Ветхого и Нового Заветов; этиологический - когда излагаются причины высказываний и действий» (De Gen. ad lit. imp. 2, 5). Историческое содержание Писания, как правило, тесно связано с другими смыслами, и прежде всего с аллегорическим. Нередко оно выступает носителем иносказательного значения, но часто имеет только буквальный смысл (De civ. Dei XVI, 2; XX, 21).
В трактате «О христианской науке» Августин, как подчеркивает А. Шёпф, развивает историко-филологический подход к библейским текстам
[697]. Августин уверен, что для глубокого и правильного понимания неясных мест Писания важно, во-первых, знать его первоначальные языки - еврейский и греческий, так как латинский перевод может отличаться по смыслу от оригинала (De doctr. chr. II, 11, 16). Во-вторых, исследователю необходимо знание исторической ситуации, в которой тот или иной текст возник, даже если эта история выходит за рамки церковных дисциплин: «В понимании священных книг нам больше всего помогает наука, которая изучает порядок прошедших времен и называется историей, даже если она изучается вне церкви в рамках школьного обучения детей» (II, 28, 42). Наконец, в-третьих, для уяснения смысла темных мест необходимо привлекать примеры из ясных мест (II, 9, 14), т. е. Августин выступает поборником сравнительного и всестороннего анализа литературного текста.
Много внимания, например, он уделяет проблеме перевода, особенно актуальной для латинского христианства того времени, пользовавшегося, как правило, латинскими переводами не еврейского Ветхого Завета, но греческой Септуагинты. Особую сложность для перевода представляют двусмысленные слова, различные устаревшие выражения, идиомы и т. п. «Из-за двусмысленности слов языка оригинала переводчик часто заблуждается; не поняв точно смысл, он придает [слову] в переводе такое значение, которое было чуждо истинному намерению писателя» (II, 12, 18). Для точного понимания таких мест необходимо хорошее знание языка оригинала, а также очень полезно сличение разных переводов. Особенно ценны в этом плане переводы буквальные, а не художественные. Они, правда, часто оскорбляют слух своими корявыми оборотами, но зато точно передают мысль оригинала (II, 12, 21). Кроме того, отмечает Августин, предвосхищая современных кодикологов, необходимо иметь в виду, что в отдельных кодексах могут встречаться ошибки переписчиков или переводчиков, поэтому необходимо тщательное сличение их друг с другом (II, 12. 21). Из латинских переводов Библии Августин отдает предпочтение «италийскому», т. е. переводу Иеронима Стридонского, а из греческих - Септуагинте, ставшей на Востоке каноническим текстом (II, 12, 22). Кроме языка для правильного понимания текста необходимо знать и многие конкретные вещи типа животных, птиц, насекомых, трав и т. п.. о которых идет речь в том или ином повествовании (II, 12, 23-26).
Большое значение для понимания смысла текста имеет правильная пунктуация, ибо в древних текстах ее не было и слова в строках писались слитно. Поэтому различное разделение текста на слова и фразы приводит к разным смыслам (III, 2, 2-5). Это же касается ударения, произношения, правильного толкования падежей, различие в которых также может породить двусмысленности или неясности в понимании текста (III, 3, 6-4, 8). Все это относится к тексту в его буквальном значении, или, если можно так выразиться, к его материальному уровню. Только после полного уяснения и правильного прочтения буквального смысла текста можно говорить о переносном значении тех или иных мест в нем.
Иносказательное значение Августин ценит, естественно, выше буквального и порицает буквалистов, считая их. как и Григорий Нисский, «рабами знака». Неумение видеть под знаком обозначаемой вещи Августин называет «рабством души». В «плотском рабстве» пребывает тот, кто принимает знак за обозначаемую им вещь. Не сам знак достоин почитания, но то, что им обозначается: «ибо раболепствует перед знаком тот, кто чтит некую выступающую знаком вещь или служит ей, не понимая ее значения; но кто служит действительно полезному, установленному Богом знаку, или чтит его, понимая его значение и силу, тот чтит не внешнее и преходящее, но то, что передается им» (III, 9, 13).
Одним из главных критериев оценки текстов Писания, с точки зрения их знаковости, для Августина выступает нравственность. Все. что в Писании может показаться безнравственным, следует воспринимать в переносном смысле (III, 10, 14 - 15). Августин, как и ранние Отцы Церкви, выступает поборником строгой нравственности, а так как Ветхий Завет содержит описание многих безнравственных, с точки зрения христианства, поступков уважаемых религиозной традицией лиц, то он вынужден прилагать много усилий для оправдания «неблаговидных» деяний почтенных праотцов. Семиотика активно помогает здесь христианским идеологам поддерживать «высоконравственный» авторитет Писания и тем самым укреплять свою теорию нравственности.
Обращаясь к конкретным случаям полисемии отдельных слов и фраз в тексте, Августин показывает, что одно и то же слово (например, закваска, лев, змей, хлеб и др.) может иметь или различные (diversa), или противоположные (contraria) значения в зависимости от контекста (III, 25, 36; ср. также: De civ. Deí XIV, 7-8). В целом тексте слова подчинены его общим законам не только в грамматическом, но и в семантическом плане. Значение каждого слова определяется его связью с другими словами. «Так, - пишет Августин, - и другие предметы, не отдельно, но в связи с другими, могут иметь не только два, но иногда и много различных значений в зависимости от их положения в тексте» (III, 25, 37). Если значение отдельного слова или места остается неясным, то для его понимания необходимо привлечь другие, более понятные места текста и имеющие общий контекст с данным отрывком (III, 26, 37-27, 38).
Анализируя псалмы, Августин приходит к выводу, что каждый из них представляет собой нечто целостное в смысловом плане. Поэтому нельзя для понимания их смысла вырывать из них отдельные строки и толковать их вне общего контекста, в отрыве от всего псалма. Так поступают составители центонов, которые вырывают для своей цели отдельные стихи из большого произведения и используют их в совсем иных целях, чем те, для которых они были написаны изначально (De civ. Dei XVII, 15). Подобный произвол не одобряется теоретиком «христианской науки», хотя на практике и он нередко впадает в этот грех «свободной герменевтики».
Многозначность текста определяется, по мнению Августина, наличием в нем тропов, т. е. специальных художественных приемов небуквального использования слов. Эти приемы подробно изучаются грамматикой и риторикой, поэтому Августин отсылает своих читателей к этим наукам и лишь указывает на некоторые тропы. В библейских текстах, по его наблюдениям, регулярно встречаются такие виды тропов, как аллегория, загадка, притча, метаформа, катахреза, ирония, антифразис и т. п. (III, 29, 40-41). Августин приводит примеры и показывает, что «значение тропов необходимо для разрешения двусмысленностей, встречающихся в Писании» (III, 29, 41). В тех случаях, когда буквальный смысл текста кажется непонятным, следует поискать здесь тот или иной троп.
Обилие типов образного выражения смысла почти безгранично - в этом сложность анализа словесного текста. Тропы бывают ясные и привычные, но встречаются и сложные и труднопостигаемые. К простым Августин относит, например, случаи, когда «через содержание обозначается содержимое». Когда мы говорим: «театры рукоплещут» или «луга ревут», то имеем в виду, что в театрах рукоплещут зрители, а в лугах ревут коровы. Также часто бывает, что «через производящего действие обозначается само действие»; так, к примеру, письмо называют «радостным», когда хотят показать, что оно возбуждает радость у читающих его (XI, 8). Более сложным, хотя и достаточно ясным, является такой троп, как гипербола - особый прием речи, когда то, о чем говорится, представляется в нарочито преувеличенном или преуменьшенном виде. Гиперболы нередко встречаются в псалмах и других библейских текстах (см.: In Ioan. ev. 124, 8; De civ. Dei XVI, 21).
Реальные тексты, однако, не ограничиваются тропами, изложенными в грамматике и риторике, но используют много образов, вообще не имеющих названий и не попавших в научные классификации. Наша речь, пишет Августин, значительно шире и разнообразнее любых правил науки. «Ведь повсюду, где говорится одно, а подразумевается другое, имеет место язык тропов, хотя в науке говорить, может быть, нет даже и названия того или иного тропа. Если они (тропы. - В. Б.) употребляются так, как их обычно принято употреблять, то ум наш без труда следует за ними; но если они отступают от обычного употребления, то мы затрудняемся их понимать - одни более, другие - менее» (De doctr. chr. III, 37, 56). Все это необходимо иметь в виду при анализе библейских текстов. Экзегетическая задача заставила Августина, усмотревшего множество художественных элементов в этих текстах, поднять и целый ряд вопросов художественной критики. В латинской литературе Августин бесспорно является наиболее последовательным зачинателем литературной критики, точно подметившим многие ее фундаментальные проблемы.
В трактате «Об истинной религии», отмечая аллегорически-иносказательный характер библейских текстов, Августин поднимает в связи с этим столько вопросов, что уже одно их перечисление показывает, насколько глубоко он чувствовал проблему литературной критики. «Каким способом нужно интерпретировать аллегорию?» Достаточно ли от видимого древнего явления переносить ее смысл на видимое же явление более близкого времени, или же ее следует относить к природе и движению души или - к вечной истине? А может быть, есть такие аллегории, которые означают все это сразу? «Какое различие между аллегорией исторической (historiae), аллегорией фактической (facti), аллегорией речи (sermonis) и аллегорией таинства (sacramenti)?» Как следует понимать текст в связи с особенностями и идиомами каждого конкретного языка? Что означают столь «недостойные» суждения о Боге, как о гневающемся, печалящемся, помнящем, забывающем, раскаивающемся, ревнующем и т. п.? Как следует понимать руки, ноги и другие органы, о которых говорится в Писании применительно к Богу, и т. д. и т. п. (De vera relig. 50, 99).
Интересно отметить эволюцию августиновского подхода к библейским текстам. В свой дохристианский период он понимал их буквально и не принимал из-за их наивности, сказочности и грубости. Амвросий открыл ему аллегорический подход к этим текстам, и Августин увлекся им и стал рассматривать Библию в качестве авторитетного религиозного текста. Тогда, по его собственным словам, он «еще не понимал его в буквальном смысле и считал, что оно все иносказательно. Потом и сам начал постигать буквальный смысл Писания» (De Gen. ad lit. VIII, 2, 5). На позднем этапе он считал, что почти все библейские тексты имеют и буквальный и аллегорический смыслы, и лишь некоторые только буквальный или только иносказательный.
Стремясь разработать принципы толкования библейского текста, Августин поднимает важную проблему внутренней смысловой соединенности текста - контекста (contextio), близкого к нашему пониманию этого термина, помогающего ему на основе смысла всего сочинения или отдельных законченных частей понять значение неясной мысли.
Любое мнение относительно той или иной мысли текста подвергается прежде всего проверке на «истинность». Эта проверка проводится с помощью того внутреннего знания, которое присуще душе человека. Если же разум покажет, что мнение это истинно, то еще неизвестно, хотел ли писатель (scriptor) в данных словах высказать именно это мнение, а не какое-либо иное, не менее верное. Для дальнейшего выявления мысли писателя надо обратиться к контексту, в котором эта мысль употреблена. «Если остальной контекст (caetera contextio) речи не подтвердит, что он хотел [сказать] именно это, от того еще не будет ложным другое, что он сам хотел осмыслить, но будет истинным и полезным для познания. Если же контекст Писания не отвергнет того, что писатель имел в виду именно это, то остается еще спросить, не мог ли он иметь в виду что-либо другое? И если мы найдем, что он мог иметь в виду и другое, то будет неизвестно, какое именно из них он хотел [высказать]; можно, [далее], предположить, что он имел в виду оба эти мнения, если только известные обстоятельства благоприятствуют им обоим» (De Gen. ad lit. I, 19, 38; ср.: De doctr. chr. III, 27, 38). Ясно сознавая, таким образом, всю сложность и многозначность сакрального текста, Августин тем не менее стремится показать, какими путями можно попытаться выявить мысль автора или круг его возможных мыслей. Большую роль в этом играет контекст, т. е. значение того или иного отрезка текста определяется не только из него самого, но и на основе той целостной смысловой структуры, в которую он включен. Это важный и значимый в историко-эстетическом плане вывод, постоянно следовать которому не удавалось ни средневековым последователям Августина, ни ему самому.
Окончательный вывод его относительно критериев понимания библейских текстов, «заключающих в себе такое множество истинных значений», сводится к следующим трем положениям. Прежде всего, желательно выявить то, что представляется несомненной мыслью самого писателя. Если она остается неизвестной, то выбирают то, что не противоречит контексту (circumstantia) Писания, если же и в этом трудно разобраться, то необходимо принять то суждение, которое находится в согласии с правой верой (De Gen. ad lit. I, 21, 41). Таким образом, Августин предоставляет толкователю и исследователю словесного текста очень широкий диапазон возможностей, и прежде всего в плане аллегорического или иносказательного понимания текста.
Интересно отметить определенные изменения во взглядах позднего Августина на происхождение и сущность знака. Если в молодости он считал, что знаки изобретены для коммуникации между людьми, то теперь эта их функция отходит на второй план. Главное же назначение слов, голоса и других «телесных знаков» Августин усматривает в представлении мира духовного под покровом чувственных форм, в «облечении невидимого в видимое», т. е. в передаче высших, идущих от Бога знаний людям. И знания эти могут быть восприняты людьми только в форме материальных знаков, так как дух человека скован покровом его тела (Conf. XIII, 23, 34). Под знаками Августин имеет здесь в виду уже не просто слова, но
словесные образы, которые могут быть поняты как в буквальном, так и в иносказательном смысле. При этом Августин отмечает интересную особенность передачи информации в таких знаках-образах. «Я знаю,- пишет он,- [ситуации], когда многоразлично обозначается в телесных образах то, что понимается умом [просто], в одном смысле; и наоборот, - когда многоразлично понимается умом то, что обозначается одним способом в телесных образах» (XIII, 24, 36), т. е. одна и та же мысль может быть передана различными знаковыми образами, и обратно, одна и та же словесная фигура может возбуждать различные мысли у читателя
[698]. И то и другое непосредственно относится к функциям художественного образа.
Что может быть проще, поясняет он свою мысль примером, библейской заповеди о любви к Богу и ближнему своему (Мф 22, 37-39; Втор 6, 5; Лев 19, 18), но как многообразно выражается она на различных словесных, иносказательных, символических и аллегорических образах. И напротив, как многообразно различными людьми понимается простая фраза: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт 1, 1)
[699]. Чтобы придать максимальную весомость своим идеям о многозначности словесных образов и многообразии форм выражения одной и той же мысли, Августин прибегает к божественному авторитету. Слова Бога, обращенные в Книге Бытия к первым людям (Августин полагал, что они обращены к человеку, рыбам и птицам - Conf. XIII, 24, 35 и др.): «плодитесь и размножайтесь» (Быт 1, 28), - автор «Исповеди» считает возможным понимать не только буквально, но и иносказательно, именно относящимися к множественности смыслов и образов в сфере обозначения: «Но как плодиться и размножаться, чтобы одна и та же вещь могла быть выражена многообразно (multis modis) и одно выражение могло быть понимаемо многоразлично, - этого мы [нигде] не находим, кроме как в знаках, чувственно выражаемых, и в предметах, умственно постигаемых... На это благословение я смотрю как на дарованную нам Тобою возможность и способность и многообразно выражать то, что мы понимаем разумом в одном смысле, и многоразлично понимать то, что мы неясно вычитываем в одном выражении. Так наполняются воды моря [наших мыслей], которые приходят в движение не иначе как от различных значений; и также наполняется плодами человеческими земля, чья суша погружена в желания, а господствует над ней разум» (XIII, 24, 37). Этот отрывок интересен также и как образец весьма свободного, философско-поэтического, сказали бы мы, понимания библейского текста, что лишний раз подчеркивает неосознанно эстетическую устремленность всего творчества Августина.
Еще одна важная знаковая проблема поднимается Августином в XII кн. «De Genesi ad litteram». Она связана с механизмом зрительно-слухового восприятия мира и ставится им при обсуждении вопроса о пророчествах, видениях, знамениях, которые он относит к особой группе знаков. В своих рассуждениях Августин стремится истолковать и развить одно интересное апостольское высказывание (1 Кор 14), где Павел призывает коринфян особенно ратовать о даре пророчества, который он отличает от не менее высокого дара глоссолалии - «говорить языком» (λαλών γλώσση, loquitur lingua). Под глоссолалией он имеет в виду особый сакральный язык, который доступен пониманию лишь избранных людей. Он должен быть еще истолкован и выражен обычными словами - это и будет пророчество. «Говорить языком» - польза только для того, кто обладает этим даром, а пророчествовать - для всей церковной общины. Первое существует только в духе человека, второе - в его уме.
Опираясь на это различие духа и ума в человеческой психике, Августин выделяет три рода зрения. Первый - физическое зрение (corporalis) - когда мы непосредственно смотрим на предмет. Ко второму роду относится зрение духовное (spiritualis) - когда созерцаются образы того, что известно по опыту или по представлению. Третий вид - усмотрение с помощью ума (mens), который, полагает Августин, надо было бы назвать «умственным» (mentalis), но в связи с «новизной» этого термина он отклоняет его и останавливается на привычном intellectualis (De Gen. ad lit. XII, 6, 15-7, 16). В 14-й гл. Послания к Коринфянам апостол Павел, по мнению Августина, имеет в виду такой «язык, которым обозначаются образы и подобия вещей, постигаемые только зрением ума». До того, как они будут поняты, они находятся в духе. Когда же соединится с ними «разумение, составляющее уже принадлежность ума, тогда и является откровение, или познание, или пророчество, или поучение» (XII, 8, 19).
Итак, знаки-образы сначала постигаются в сфере духа, а затем понимаются умом и выражаются в форме словесных конструкций. «Духом,- определяет Августин,- является низшая по сравнению с умом сила души, в которой воспроизводятся подобия телесных предметов» (XII, 9, 20). Пророком поэтому в большей мере является тот, кто может понять и истолковать образы чужого духа, чем тот, кто их только видит, но не понимает. Но большим пророком является тот, кто «и видит в духе значимые подобия телесных предметов, и живо понимает их умом», как это мог делать пророк Даниил, узнавший, какой сон видел царь Навуходоносор, и сумевший его понять и объяснить царю (Дан 2, 27 - 45). Для полного понимания знакового образа необходимо, «чтобы и знаки предметов отображались в духе, и понимание их сияло (refulgeo) в уме» (De Gen. ad lit. XII, 9, 20). Сам процесс восприятия знака-образа (на примере визуальных знаков) представляется Августину в следующем виде: «Когда мы видим что-нибудь глазами, то образ его тотчас же отпечатывается в духе, но не распознается [нами] до тех пор, пока мы, оторвав взгляд от того, что видим глазами, не найдем образ его в духе. И если это - дух неразумный, как у скота, то образ видимого так и останется в нем; если же - разумная душа, то он передается разуму, который управляет и духом; так что то, что видели глаза и передали духу, чтобы в нем составился образ виденного, представляет собой знак какой-либо вещи, тотчас ли его значение понимается или же только отыскивается, ибо оно может быть понято и найдено только при помощи деятельности ума» (XII, 11, 22).
Отрывок этот интересен в нескольких аспектах. Во-первых, тем, что сложные визуальные образы, типа знамений, видений, сновидений,- обозначаются Августином как знаки (signa), и, следовательно, он распространяет на них все положения своей знаковой теории. Во-вторых, эти «знаки» близки по своему характеру к иносказательным «энигмам» словесного текста, речь о которых шла выше. Наконец, в-третьих, описанный процесс восприятия знако-образов имеет много общего с эстетическим восприятием, когда объект сначала переживается непосредственно в своей конкретно-чувственной данности и лишь затем может быть понят разумом.
В этот поздний период своего творчества Августин снова обращается к разуму, который помогает ему оптимистически, уже на христианском материале, осмыслить функции знаков - сложных, неясных, но все-таки в принципе постигаемых разумом. Именно разум (intellectus) в конечном счете приходит на помощь физическому и духовному зрению, чтобы
понять, что же «означают эти знаки или чему полезному они учат» (quid illa significent vel utile doceant) (De Gen. ad lit. XII, 14, 29). Таков диалектический вывод, к которому пришел Августин в своей знаковой теории. Поставив, как мы помним, еще в «De magistro» «в качестве тезиса мысль классической античности о том, что
все познается только с помощью знаков, он, опираясь на скептицизм и свое раннее понимание христианства, там же противопоставил ему антитезис:
ничто не познается с помощью знаков и они ничему не учат. Углубленное осмысление христианства и постоянный, вольный или невольный, интерес к эстетической сфере, энигматической и полисемантичной, в отличие от одномерной причинно-следственной, привели его в зрелый период к принятию поставленных ранее тезиса и антитезиса в качестве гносеологической
антиномии, частичное снятие которой он нашел в тезисе, наполненном новым содержанием, усиливающим, с точки зрения новоевропейского человека, парадоксальность вывода. Речь теперь идет о познании не «вещей человеческих», но «предметов божественных», и не с помощью знаков-слов, но в знаках-образах. Выход из противоречий формально-логического мышления Августин усматривает в эстетике, поднимая при этом важные проблемы как в области семантики, так и в эстетической сфере, что и определяет объективную значимость для истории эстетики его теория знака, которая более десяти веков была актуальной в западноевропейской культуре
[700].
Кратко классификация знаков у Августина может быть представлена в следующем виде (см. рис. на стр. 506).
Знаки делятся на естественные и условные. Условные, в свою очередь, подразделяются на знаки предметные, визуальные и вербальные. Последние две группы имеют в своем составе каждая знаки буквальные и переносные. К буквальным визуальным знакам можно отнести все миметические изображения, а к переносным - аллегорические изображения, различные мистические видения, визуально воспринимаемые чудеса и знамения. К буквальным вербальным знакам принадлежит язык, а переносные вербальные знаки могут быть подразделены на религиозные (пророчества, знамения) и на художественные (загадки, притчи, аллегории, разнообразные тропы).
Знак у позднего Августина становится важной всеобъемлющей категорией, позволяющей понять и осмыслить весь мир материальных и преходящих духовных предметов и явлений в качестве пути к предметам вечным, доставляющим истинное непреходящее наслаждение. Современный исследователь выразил эту августиновскую идею в наглядной пропорции:
| res frui res aeternae |
------- = -------- = -------------------- [701] |
signum uti res temporales |
Все искусства, как мы уже видели в предыдущей главе, и свободные и механические, оказываются вписанными в нижний ряд этой пропорции, как «предметы временные» и «полезные» для достижения «вещей вечных». На первое место выступает их знаковая функция в двух своих аспектах. Во-первых, искусства ведут человека от внешних форм вещей и слов к содержащимся в их глубинах духовным истинам
[702], и, во-вторых, они создают произведения - знаки этих истин. Даже удовольствие, доставляемое произведениями искусства, понимается теперь Августином и последующей средневековой традицией как знак высшего духовного наслаждения (блаженства), достижение которого ставило своей конечной целью христианство. Знаково-символический характер искусства станет отныне главной доминантой художественного мышления Средних веков.
Глава X. ВОСПРИЯТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО
Любая эстетическая проблема так или иначе связана с проблемой восприятия, и Августин был одним из первых мыслителей, глубоко осознавших эту связь. Наиболее интересные и оригинальные страницы августиновской эстетики посвящены именно осмыслению психологии эстетического восприятия. Специально эта проблема была освещена Августином в VI кн. «De musica», однако вопросы чувственного восприятия, лежащего в основе эстетического, интересовали Августина на протяжении всего его творчества, составляя важную часть его гносеологии. Поэтому, прежде чем перейти к собственно эстетической теории, остановимся кратко на августиновском понимании чувственного восприятия.
Если теория эстетического восприятия является оригинальной находкой самого Августина, то в вопросе чувственного восприятия он в основном зависит от Плотина703. Проблему восприятия Августин, как правило, рассматривает на примере зрительного восприятия, как наиболее совершенного и наиболее духовного в человеке (De Trin. XI, 1, 1), хотя нередко обращается и к слуховому восприятию.
Вслед за Плотином704 Августин различает три рода зрения, или видения: зрение телесное, когда мы глазами видим обычные предметы (visio corporalis), зрение духовное (visio spiritualis), когда мы внутри себя видим образы того, что знаем или по опыту, или по представлению, и зрение умственное, или интеллектуальное (visio intellectualis), когда мы в своем уме созерцаем абстрактные, не имеющие зрительного образа представления (De Gen. ad lit. XII, 6, 15-9, 16)705. Высшим является, естественно, умственное зрение, низшим - телесное. Телесного зрения не может быть без духовного, а духовного - без умственного (XII, 24, 51), т. е. эти три рода зрения служат одновременно и тремя ступенями восприятия материального мира. Предмет воспринимается телесным зрением, в результате чего в духе запечатлевается его образ. Если перед нами дух неразумный, как у животных, то этот образ так и остается в нем; если же речь идет о разумном существе, то образ духа в нем осмысляется разумом и происходит познание предмета - или «интеллектуальное видение» его (XII, 11, 22). Первые две ступени чреваты различными ошибками, и только разумное зрение избегает их.
Для нас особый интерес представляют как раз первые две ступени восприятия, ибо здесь, при переходе от первой ко второй, возникают духовные образы видимых предметов, а также - образы воображения, когда не действует первая ступень восприятия. В раннем трактате «О свободном выборе» (391) Августин называет вторую ступень восприятия «внутренним чувством» (interior sensus), находящимся в душе человека (De lib. arb. II, 3, 8 - 9). Никакой акт чувственного восприятия невозможен без участия «внутреннего чувства», но и над ним господствует разум.
Рассматривая процесс восприятия, Августин различает три состояния: бытие объекта (цвета), видение его и ощущение, или восприятие, его, когда его даже нет перед глазами. Только сам объект мы видим глазами, два остальных состояния могут быть усмотрены лишь разумом (II, 3, 9).
Человек обладает своими собственными телесными чувствами, внутренним чувством и разумом, и тем не менее, несмотря на различие этих чувств у каждого, одни и те же объекты мы видим одинаково. Августин считает чувственное восприятие объективным, мало зависящим от субъекта восприятия: «Как бы ни отличалось мое чувство от твоего, но то, на что мы оба смотрим, не может представляться мне одним, а тебе иным; но оно является нам обоим одним и тем же и мы видим его одновременно» (II, 7, 16).
В трактате «О Троице» Августин останавливается на трех моментах зрительного восприятия: 1) объект зрения (ipsa res quam videmus), 2) процесс зрения (visio) и 3) внимание души (animi intentio), которое удерживает чувство зрения на рассматриваемом предмете, т. е. определенный акт воли (De Trin. XI, 2, 2).
Введение волевого момента в процесс чувственного познания является оригинальной находкой Августина; его нет в плотиновской теории восприятия706.
Внимание, или направленность, души, «интенция души» (intentio animi) организует процесс зрительного восприятия, объединяя предмет зрения и сам процесс зрения. В момент рассматривания предмета «в чувстве» зрителя возникает образ предмета, настолько подобный формам самого предмета, что зрителю бывает трудно различить их. Этот образ существует только в процессе зрения и исчезает почти сразу же по его прекращении. Он, подобно отпечатку перстня на воде (XI, 2, 3), хотя и исчезает не мгновенно, но достаточно быстро (XI, 2, 4).
Воля играет важную роль на всех этапах чувственного познания. В процессе непосредственного смотрения она сосредоточивает зрение на рассматриваемом предмете. По окончании этого процесса образ предмета из «чувства» передается памяти, где он и хранится долгое время. Память содержит образы всего увиденного, и при желании человек всегда может увидеть их своим «внутренним зрением» (In Ioan. ev. 23, 11). Вызывает образ из памяти в сферу «внутреннего чувства» опять же воля. Происходит процесс, аналогичный внешнему смотрению, только теперь воля направляет душу не на внешний предмет, а внутрь себя, на образы памяти. Августин склонен различать образы, хранящиеся в памяти, и возникшие в представлении, на основе вызванных из памяти, хотя они и подобны друг другу (De Trin. XI, 3, 6). Иногда образы представления бывают настолько яркими, что их принимают за реальные предметы. Обычно яркие образы представления возникают во сне, у сумасшедших, у пророков и предсказателей (XI, 4, 7). Процесс видения зависит не только от того, что находится перед глазами человека, но прежде всего от того, на что направлено внимание его души. Интенция души при этом далеко не всегда подчиняется разуму.
В процессе обычного зрительного восприятия Августин усматривает, по крайней мере, три этапа, на каждом из которых формируется свой зрительный образ: «В том членении, которое мы начинаем образом (формой - species) тела и доходим до образа, возникающего в понимании познающего (in contuitu cogitantis), открываются четыре образа, как бы поступенчато возникающие один из другого: второй от первого, третий от второго, четвертый от третьего. От образа тела, который мы видим, возникает образ в чувстве (in sensu) смотрящего; а от него появляется образ в памяти, и от этого - тот, который получается в уме (in acie) познающего. Таким образом, воля как бы трижды объединяет родителя с порождением: во-первых, образ тела с тем, который возникает в телесном чувстве, во-вторых, этот - с тем, который возникает из него в памяти, и этот последний, в-третьих,- с тем, который рождается от него в созерцании воспринимающего» (in cogitantis intuitu) (XI, 9, 16). Процесс зрительного восприятия представляется Августину (на основе плотиновских изысканий в этом направлении) весьма сложным, включающим в себя как органы чувств, так и все основные компоненты психики. Теория Августина предвосхищает некоторые современные научные открытия в области психологии зрительного восприятия707.
Изложенная здесь кратко августиновская теория зрительного восприятия во многом была перенесена ее автором и на восприятие произведений искусства, в частности поэзии и музыки. Но специфика объекта и результата восприятия заставила Августина обратить внимание и на особенности самого эстетического восприятия, чему он в целом и посвятил VI кн. трактата «О музыке»708. В тесной связи с проблемой восприятия и эстетического суждения Августин поднимает в этой книге и некоторые другие эстетические вопросы. В частности, это касается проблемы числа и ритма (см. гл. V), которая в этой книге находит свое окончательное завершение. Здесь она теснейшим образом переплетается с вопросами восприятия, психическими закономерностями (числами психики) внутреннего мира человека. Само восприятие здесь как бы математизируется. Августин стремится выявить объективные законы (числа) восприятия и увязать их с общими космическими закономерностями. Он пытается не только понять механизм воздействия эстетического объекта на человека и механизм создания этого объекта, но и определить место эстетических закономерностей в порядке всего универсума, понятого в качестве всеобъемлющей числовой системы. Практически все эстетические явления, о которых шла речь в этой работе, находят здесь свое место в глобальной иерархии чисел.
В начале VI кн. Августин вводит классификацию из пяти разрядов чисел (или ритмов), которую затем дополняет и корректирует. К первому разряду относятся числа, находящиеся в самих звуках даже тогда, когда их никто не слышит, т. е. речь идет об объективно существующих закономерностях произведения искусства. Они-то и дают практически начало всем числам сферы восприятия. Второй вид - числа, существующие в чувстве или в ощущении субъекта восприятия. Августина в данном трактате интересует в основном слуховое восприятие, но он неоднократно показывает, что его выводы правомерны и для любого другого восприятия, ибо, по его мнению, любые ощущения связаны с числом. Даже при прикосновении пальцем к чувствительному месту тела «будет ощущаться число» (VI, 2, 3). Числа (ритмы) в ощущающей способности возникают только в том случае, когда на соответствующий орган чувств воздействуют числа объекта, и они исчезают, как только прекращается процесс восприятия объекта. Они подобны «следу, запечатлеваемому на воде». Как поясняет Августин в IV гл., речь здесь идет о физических процессах, происходящих в ухе под воздействием звука. «Отсюда вывод, что числа, находящиеся в самом звуке, могут существовать без тех, которые находятся в слышащей способности, тогда как эти последние существовать без первых не могут» * (VI, 2, 3). Числа ощущения необходимо отличать от чисел (ритмов) способности суждения, которые существуют и тогда, когда нет звука, и о которых речь впереди.
Числа третьего вида находятся в душе того, кто производит звук (в музыканте, к примеру). Этот вид не зависит от других видов и может проявляться в биении пульса, вздохах и т. п. Четвертый вид чисел находится в памяти; это способность запоминать. Он может существовать без первых трех видов, но только благодаря тому, что те ему предшествовали (VI, 3, 4). Наконец, существует еще и «пятый вид чисел, заключающийся в естественном суждении ощущающей способности,- когда нас радует равенство чисел и оскорбляет его нарушение»* (VI, 4, 5).
Таким образом, Августин различал пять элементов (или, как сказали бы мы теперь,- этапов), в коммуникативной цепи «художник - воспринимающий субъект» (несколько позже он дополнит ее еще одним элементом). При этом каждый элемент обладает, по мнению Августина, своими закономерностями (является особым видом чисел). Первый этап. - создание произведения («порождение чисел (ритмов) - более протяженное или краткое»), далее само произведение («звучание, которое приписывается телу») и процесс восприятия, состоящий из трех этапов: 1) непосредственное восприятие произведения (слушание), 2) работа памяти и 3) суждение о произведении на основе чувства удовольствия или неудовольствия. Последний этап, или пятый вид чисел, Августин считает высшим с точки зрения большей стабильности и вечности. Другим важным достоинством этих чисел является их полная принадлежность душе.
Как представитель христианско-неоплатонической мысли Августин, естественно, ценит душу значительно выше тела, но и телу он отдает должное с точки зрения гносеологии и эстетики. Душу он понимает еще в широком античном смысле, как средоточие всего духовного мира человека. А так как процесс восприятия осуществляется совместными усилиями души и тела, то он уделяет особое внимание соотношению и взаимодействию этих важных составляющих человека. Как неоплатоник и христианин, Августин предпочитает душу, но, как человек, еще принадлежащий античности с ее стихийным материализмом и пластическим мышлением и верующий, одновременно, в сотворение мира из ничего, воплощение Христа и грядущее воскресение всех во плоти, он, продолжая традиции своих предшественников - апологетов, стремится оправдать и телесную природу. Для этого ему приходится прибегать к достаточно примитивным суждениям. Истина, находящаяся в теле, полагает Августин, лучше лжи, заключенной в душе. Под истиной он имеет в виду реально существующий предмет (дерево), под ложью - его психический образ (дерево, увиденное во сне). Но не из-за тела - лучше, а ради самой истины, тут же добавляет он, ибо под действием греха тело изменилось к худшему. Однако, не унимается античный христианин в Августине, и тело «имеет красоту своего рода и тем самым значительно возвышает достоинство души, где и скорбь и болезнь заслуживают части какой-то красы». Поэтому не следует думать, что если душа «лучше тела, то все, что в ней происходит, лучше, чем то, что происходит в теле» * (VI, 4, 7). Здесь у Августина отчетливо просматривается та диалектика души и тела, которая была присуща всему христианскому неоплатонизму.
Что же роднит душу и тело, создает возможность их общения, с одной стороны, и дает общий критерий для их сравнения - с другой? Конечно же числа, хотя и различные. Чем больше тело пронизано присущими ему числами, тем оно лучше. Душу же эти числа ухудшают. Она, напротив, «будучи лишена тех чисел, которые она получает от тела, становится лучше, так как отвращается от телесных ощущений и преобразуется божественными числами мудрости» * (VI, 4, 7). Числа божественной мудрости далеки от тех, что находятся в произведениях искусства. Приведя цитату из Екклесиаста: «Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и число»709 (Eccl. 7, 25) - Августин добавляет: «Эти слова отнюдь нельзя относить к тем числам, которыми оглашаются позорища театров, их, как я уверен, нужно относить к тем числам, которые душа получает не от тела, но скорее сама запечатлевает в теле, получив от всевышнего Бога» * (VI. 4, 7).
Далее, полемизируя с манихеями, Августин стремится показать, что тело не воздействует на душу в процессе восприятия; вернее, тело не формирует душу, как художник, придающий форму материалу. Душа не является материалом, так как она лучше тела, а всякий материал - хуже мастера, его обрабатывающего. Процесс творения заключается в придании материалу числа, но тело не создает в душе чисел. Когда «мы слушаем, в душе не возникают числа от тех [ритмов], которые мы воспринимаем в звуках» (VI, 5, 8). Но если тело прямо не воздействует на душу и, тем не менее, участвует в процессе восприятия, то как же осуществляется этот процесс? «Мы, вероятно, не сможем,- заявляет Августин, сознавая всю сложность задачи, - ни обосновать, ни объяснить это»,- однако предлагает все же читателю свое решение.
Душа под божественным руководством господствует над телом и в теле. В одном случае это осуществляется легко, в другом - с большим трудом, в зависимости от того, как ей повинуется телесная природа. Если на тело извне осуществляется какое-либо воздействие, то «в этом теле, не в душе, возникает некое [действие], которое или противодействует действию души, или соответствует». Душа сопротивляется противодействию ниже ее стоящей материи и в результате этой борьбы становится напряженнее. И «эта, [возникшая] в результате трудности борьбы, напряженность (attentio), когда она не скрыта, называется восприятием (чувствованием - sentire)», которое в данном случае именуется болью и страданием. Когда же внешнее действие соответствует душе, «то она легко переносит все это в процессе своей деятельности. И эта акция, в результате которой она соединяет свое тело с внешней телесностью, осуществляется напряженно, вследствие участия внешнего члена, и она не скрывает [это]; но вследствие наличия соответствия (convenientia) восприятие происходит с удовольствием (cum voluptate sentitur). Когда же отсутствует соответствие, душа стремится его восполнить с помощью своего тела; и эта работа из-за своей трудности будет очень напряженной, и она не скрывает такую свою деятельность; называется же это голодом, жаждой или как-либо по-иному. Если же внешнее воздействие преобладает, так что деятельность [души] становится затруднительной и осуществляется не без напряжения и если эта деятельность не скрыта (non latet), то ощущается тошнота. Напряженность также возникает, когда [душа] отталкивает излишек, если спокойно - с удовольствием, если резко - с болью» (VI, 5, 9). «Я не хочу быть утомительным,- резюмирует свою мысль Августин,- мне представляется, что душа, когда она чувствует в теле, не от чего иного претерпевает, как от напряженного действия в своих страстях, и от нее не скрыто, что эти действия бывают или легкими вследствие соответствия, или тяжелыми из-за несоответствия - и это есть то, что называется чувствовать (sentire). Само же чувство, которое, пока мы ничего не воспринимаем, живет внутри нас, является инструментом тела, и его (чувства. - В. Б.) соразмерность (temporatio) определяется душой таким образом, чтобы оно было посредником телу в ощущениях, чтобы объединяло подобное с подобным и отталкивало вредное» (VI, 5, 10)710.
Таким образом Августин показывает, что чувственное восприятие - это сложный психофизиологический процесс, проходящий не механически, но при активном действии всех духовных сил человека (души, в терминологии Августина)711. Главной характеристикой любого восприятия и ощущения является напряженность, или внимание (attentio), души, которое обязательно возникает в психике как реакция на внешний раздражитель. Последний действует на телесные органы человека, возбуждая соответствующую реакцию души, осуществляемую посредством телесного же инструмента - чувства. Как заключает в конце этой главы Августин, «само восприятие (чувствование - sentire) есть движение тела, направленное против того движения, которое в нем имеется» (VI, 5, 15). Здесь Августин подметил некоторые признаваемые и современной психологией моменты в механизме чувственного восприятия, особо значимые для эстетического восприятия и связанные с возникновением в психике субъекта восприятия противоположно направленных аффектов.
Августин рассматривает пять различных ситуаций восприятия и ощущения. Первая - когда внешний раздражитель оказывает на психику действие, противоположное ее стремлениям. Возникшая при этом слишком сильная напряженность (перенапряженность) ощущается как боль или страдание. Когда раздражитель действует согласованно с душевной ориентацией, возникшее напряжение доставляет удовольствие, т. е. мы имеем дело практически с эстетическим восприятием, критерием которого, по Августину, является традиционная согласованность (convenientia), но не в самом объекте восприятия, а объекта с субъективной направленностью души. Эта интересная мысль, присущая и восточной патристике (Василию Великому, Псевдо-Дионисию и др.), играла важную роль во всей средневековой эстетике.
Третий случай - когда напряжение возникает в связи со стремлением души восполнить отсутствие соответствия с помощью своего тела. Соответствующие ощущения классифицируются Августином как чувство жажды, голода и т. п. Четвертый случай связан с избытком внешнего воздействия. Душа не успевает на него реагировать по существу и подает сигнал к прекращению такого воздействия, и как следствие - ощущение тошноты. Напряженность, возникшая в результате отбрасывания излишка внешнего воздействия, может доставлять удовольствие или причинять боль. Пятый случай имеет место, когда душа встречается с каким-либо расстройством своего тела. Напряжение, возникшее при борьбе с этим расстройством, называется чувством болезни или недомогания (VI, 5, 9). Во всех пяти случаях восприятия (к эстетическому восприятию, как мы видим, относится целиком только второй случай) Августин постоянно подчеркивает, что восприятием соответствующее напряжение называется только тогда, когда оно «не скрыто» (non latet). Вероятнее всего, речь идет о некотором осознаваемом душой напряжения или о сознательном внимании души, ибо еще в трактате «О количестве души» Августин, определяя чувство (или чувственное восприятие), писал: «...чувство есть претерпеваемое телом состояние, само по себе от души не укрывающееся» (De quant. anim. 25, 48)
[703]. Однако неясной остается, к примеру, следующая фраза Августина: «Итак, не является нелепой наша вера в то, что душа не скрывает свои движения ли, деятельность ли, работу ли,- какими бы именами ни называли ее действия,- когда воспринимает [что-либо]» (VI, 5, 11). Не скрывает от себя, от разума? В целом этот рационалистический момент августиновской теории остается не совсем ясным.
Механизм восприятия для всех органов чувств, подчеркивает Августин, одинаков. Те или иные чувства включаются в действие в зависимости от характера внешнего раздражителя. Так, светлое воздействует на глаза, «очень чистый и подвижный воздух» - на уши, «насыщение парами» - на обоняние, влажное - на вкусовое ощущение, «земляное и как бы грязное» - на осязание. При всех этих воздействиях возникают напряженные действия (attentiores actiones) в теле, «соответствующие месту и органу чувства: так говорят о зрении, о слухе, об обонянии, о вкусе или об осязании; этими действиями охотно принимается все согласное и с неудовольствием отклоняется все несоответствующее. Я думаю, что этими действиями руководит душа, побуждаемая воспринимающим телом, когда она ощущает, что чувства (passiones) также не отклоняются» (VI, 5, 10). При восприятии любых внешних раздражителей: света, запаха или звука,- перемещается что-то в самом теле или все оно приходит в движение. Эти действия осуществляются душой на основе предшествующих ощущений (восприятий) (VI, 5, 12), т. е. восприятие зависит от сенсуального опыта субъекта.
Изложение этой теории восприятия, опирающейся во многом на учение Плотина, Августин предпринял, конечно, отнюдь не ради самой теории. Она, в его глазах, служила подтверждением того, что «если душа в результате этих действий что-либо претерпевает, то претерпевает она от себя самой, а не от тела». Вывод этот, однако, вряд ли следует из изложенной теории, но Августину необходимо показать, что в иерархической «лестнице»: Бог - душа - тело,- воздействие возможно только в одном направлении - сверху вниз.
Сделав экскурс в психологию восприятия, Августин опять возвращается к пяти видам чисел, с тем чтобы упорядочить их в строгую иерархию. Из трех видов чисел - звучащих, находящихся в чувстве слуха и обитающих в памяти - первым он отводит последнее место, как числам телесным. Из двух остальных видов, находящихся, как отмечает Августин, в душе, он отдает предпочтение «находящимся в чувстве слуха», так как от них происходят и те, которые хранятся в памяти. Числа, находящиеся у производящего звук (или относительно искусства - у художника), Августин ставит выше чисел чувcтва слуха, так как они существуют и при полном молчании, и без поддержки памяти и производятся самой душой. И высший вид, как уже было показано,- числа судящие. Августин дает всем числам и соответствующие названия. (Не все из них поддаются адекватному переводу. Приводя здесь достаточно удачный перевод В. П. Зубова, в дальнейшем мы все же для большего удобства оставим их латинские наименования, как это и принято во многих научных исследованиях данного трактата.) «Пусть первые числа назовутся судящими (judiciales), вторые - движущимися вперед (progressores), третьи - откликающимися (occursores), четвертые - содержимыми в памяти (recordabiles), пятые - звучащими (sonantes) * (VI, 6, 16).
К. Перл считает эту иерархическую расстановку оригинальной находкой самого Августина, не встречающейся у других авторов713. Особый интерес она представляет для истории эстетики. Выделив, как мы уже показали, основные этапы в цепи «художник - произведение - субъект восприятия», Августин подчеркивает, что способность суждения на основе чувства удовольствия-неудовольствия выше даже творческой способности, чем косвенно утверждает, что закономерности (числа) способности суждения в какой-то мере определяют и законы творчества. Порядок остальных трех видов чисел менее очевиден, и его обоснование Августином не очень убедительно. Исходя из логики нашего автора, следовало бы, к примеру, числа памяти поставить выше чисел откликающихся, так как первые более духовны, ибо целиком находятся в душе, а occursores являют собой рубеж между телесным и духовным. Они находятся, как показал раньше Августин, в самом органе восприятия. Это первичное звено сферы восприятия. Именно между ними и судящими числами возникает то напряжение, которое Августин называет собственно восприятием (или ощущением), ибо здесь происходит встреча сигналов, идущих от внешнего раздражителя и от самой психики. С другой стороны, если последовательно проводить причинный принцип Августина в области чисел (occursores выше, так как они являются причиной recordabiles), то придется признать, что звучащие числа должны быть выше и recordabiles, и occursores. Здесь Августин, конечно, непоследователен, но заслуга его состоит в том, что он предпринял попытку системно, сказали бы мы теперь, подойти к проблеме творчества и восприятия, и попытку далеко не безрезультатную.
Из всех названных видов чисел судящие имеют наибольший срок жизни, но и они не вечны, а исчезают со смертью человека. Это числа, присущие только человеку. Притом они имеют свой характер и диапазон действия для каждого конкретного индивида. Одни люди судят быстрее, другие медленнее, одни - на основе сравнения с другими образцами, другие - опираясь на свое внутреннее чувство. Соответственно и воспринимают все люди по-разному, хотя и в определенных рамках. Различие восприятия зависит от природных данных и от практики восприятия, определенной тренировки (VI, 7, 19). Субъективный характер восприятия (особенно искусства) отмечали многие авторы и до Августина, но попытку теоретически разобраться в этом мы встречаем, пожалуй, впервые только у него.
Числа чувственной (или эстетической) способности суждения ставятся Августином выше остальных видов чисел еще и потому, что они завершают процесс восприятия и руководят всей творческой деятельностью, т. е. числами progressores. На их основе Августин связывает в единую систему процессы восприятия и творчества. «Ведь и числа, называемые progressores, - пишет он,- когда стремятся к какому-нибудь численно выразимому действию в теле, соразмеряются скрытно в соответствии с этими судящими числами714. В самом деле: то, что нас удерживает при хождении от неравных шагов, или... при ваянии от неодинаковых движений пальцев,- чтобы не перечислять многочисленные другие действия,- то, что сдерживает нас, понуждая при намерении осуществить что-либо посредством телесных членов, избегать неравных движений и молчаливо внушая нам некое равенство, - это и есть нечто судящее» * (VI, 8, 20). Процесс творчества, таким образом, регулируется и приводится в соответствие с законами восприятия, ибо judiciales - это прежде всего высшая ступень восприятия715.
Сам процесс восприятия осуществляется, по мнению Августина, при сложном взаимодействии чисел ощущения (occursores) и чисел памяти (recordabiles). Любой акт восприятия длится во времени и, если бы память не участвовала в процессе восприятия, мы не могли бы ничего воспринять, так как при переключении внимания на следующий слог, или звук, или другую сторону статуи, мы забывали бы мгновенно предыдущий слог, звук или ракурс скульптуры. Для истории эстетики имеет большое значение, что Августин специально подчеркивает временной характер зрительного восприятия, тем самым приравнивая по механизму восприятия временные виды искусства (поэзию, музыку) и статические (изобразительные искусства, архитектуру). «Ведь и в самих телесных формах,- пишет он,- видимых глазом, мы не можем судить ни о круглом и четырехугольном, ни о любом другом объекте, и вообще не можем ощущать их, не вращая их перед глазами; но если забывается виденное с одной стороны, когда смотрят на другую, то намерение судящего вовсе не достигает цели, ибо и здесь есть некая длительность времени, за изменением которой должна бдительно следить память» * (VI, 8, 21). Одни числа occursores без recordabiles ничего практически не могут воспринять. Так случается, когда мы не направляем свое внимание на восприятие чего-то, происходящего в нашем присутствии, например, разговора, когда мы увлечены каким-то делом. Мы слышим с помощью occursores голоса, но не понимаем и не воспринимаем разговора, так как recordabiles здесь направлены на другое и «вследствие внимания к другому тотчас же угасает импульс движения» (VI, 8, 21).
Августин отмечает две формы участия чисел (ритмов) памяти в восприятии. Первый - непосредственное восприятие, когда числа памяти доводят до судящих чисел числа ощущения. Второй - воспоминание. В этом случае память приносит судящей способности «следы» того, что было воспринято когда-то716. Числа occursores в этом процессе не участвуют (VI, 8, 22).
Итак, числа чувственной способности суждения являются главными и в процессе восприятия, и в акте творчества. Однако и они не до конца удовлетворяют Августина, так как действенны они только в определенном временном пространстве, могут судить только о том, что заключено в определенных границах времени, к тому же - только о том, что может быть расчленено в памяти. Нет ли более высоких чисел? - спрашивает себя Августин. Он берет для примера стих из гимна Амвросия Медиоланского «Deus creator omnium»717 и рассуждает следующим образом: Когда мы поем его, «мы слышим с помощью чисел occursores, узнаем - с помощью recordabiles, воспроизводим - с помощью progressores, получаем удовольствие через судящие числа и оцениваем (aestimare) с помощью некоторых других чисел, которых я еще не знаю; и от того удовольствия, которое является как бы суждением этих судящих чисел, возникает это другое, вторичное, более скрытое и более верное суждение» (VI, 9, 23).
Таким образом, Августин развивает дальше свою теорию эстетического восприятия. На основе чувственного суждения, «чувственного наслаждения» (delectari sensu) возникает более глубокая и верная «разумная оценка» (aestimare ratione). Августин сразу же стремится показать, что это две совершенно различные ступени, два разных вида чисел. Если мы различаем процессы восприятия, активного творчества и воспоминания, то должны различать и следующие два вида. Первый - принятие или отклонение движений на основе чувства удовольствия (in delectatione), получаемого от соответствия и согласованности в них, или - неудовольствия - от несоответствия; второй - оценка: правильно или неправильно возникло чувство удовольствия. Это чисто рациональный момент, рассудочная оценка (ratiocinando).
Если правильно, рассуждает далее Августин, что существуют некоторые числа, дающие возможность на основе чувства удовольствия признавать соизмеримые интервалы и отклонять беспорядочные, то необходимо признать, что разум, который возвышается над чувством удовольствия, тоже имеет свои числа и с их помощью может судить о нижестоящих числах. Если же это так, то нет сомнения, что в душе находится пять видов чисел, к которым присоединяется еще тот телесный вид, который был назван «звучащие» (sonantes). Теперь Августин считает необходимым внести уточнение в свою числовую иерархию. Высшими являются, конечно, те числа, которые дают оценку на основе разума. Они и выносят истинное суждение, следовательно, их и нужно назвать «судящие» (judiciales). Названные же сначала judiciales, дающие собственно эстетическое суждение, следует назвать sensuales (чувственные, судящие на основе чувства)718. Кроме того, и sonantes Августин считает теперь нужным назвать corporales (телесные), чтобы резче (уже в самом названии) противопоставить их пяти остальным видам, как принадлежащим душе (VI, 9, 24).
Введение рациональной оценки как высшей вполне закономерно для Августина, поставившего уже в трактатах кассициакского периода разум выше всего в человеке и верящего в почти безграничные его возможности. Эту тему он развивает несколько ниже и в «De musica». Интересно другое: почему Августин сначала дает только пятичастную иерархию, выводит эстетическое суждение на первое место, присвоив ему высший титул, и много и подробно говорит о нем? Только ли это традиционный риторический прием? Но ведь и любой словесный прием имеет у учителя красноречия свое значение. В данном случае он направлен на привлечение максимального внимания читателя к эстетическому суждению. Случайно ли это? К. Перл считал, что Августин мало заботился о словах вообще. И в этом случае он руководствовался своим излюбленным принципом, введенным еще в трактате «Против академиков»: «Когда речь идет о деле, не стоит спорить о словах» (Contr. acad. III, 20)719. Конечно, Августин всегда ценил сущность значительно выше обозначения, но он отнюдь не был равнодушен к словам. Он подробно обсуждает многие основополагающие термины в своих трактатах. Использовав в тексте какое-либо греческое слово, он обязательно указывает на причину такого словоупотребления - или потому, что в латыни нет ему адекватного слова (чаще, называя традиционный греческий термин, он тут же дает его латинский эквивалент), или потому, что не стоит, как он считает, вводить иностранных слов для тех понятий, которые хорошо обозначены в родном языке. Так что вряд ли он мог бездумно ввести такой важный термин, как judiciales, а затем поменять его содержание.
В логике обоснования шести видов чисел, как и процесса восприятия в целом, отразилось двойственное отношение и самого Августина, и шире, всей поздней античности, к проблеме чувственного (в том, более возвышенном смысле, какое мы вкладываем сейчас в понятие «эстетическое») и рационального. Греко-римская древность умела как-то безболезненно и органично сочетать и переплетать эстетическое и рациональное. Эти две составляющие человеческого духа не мешали друг другу в классической древности. Но уже эллинистический период принес с собой кризис разума, столкнув его с глубинными неосознаваемыми тайниками человеческой психики, в которые восточные «брахманы, маги и волшебники» проникали, по мнению эллинов, отнюдь не с помощью разума. Все это заставляло позднюю античность, особенно после активного распространения христианства в Империи, обратиться к «не-разумному» - к чувству, вере, эстетическому. При этом с чувством связывались почти все вербально не выражаемые движения человеческого духа, что особенно актуально было для различных культовых действ и искусства. Мы помним, к примеру, как высоко ставил Цицерон эстетическую оценку в вопросах ритма. Зрелища, разжигавшие чувственность, процветали в позднем Риме, и как реакция на них - ригоризм, аскетизм в суждениях многих христианских и нехристианских мыслителей поздней античности. По «Исповеди» Августина мы знаем, как болезненно протекал в нем самом процесс борьбы разума с необузданной чувственностью, как тяжело было отказываться ему от прекрасных женщин, от роскошных театральных зрелищ, от блестящей служебной карьеры и светской суеты буйного предзакатного Рима.
Не все ли это отразилось и в последнем эстетическом трактате Августина, когда он, может быть в последний раз, особым риторическим приемом вывел на первое место эстетическое суждение, чтобы затем свергнуть его с помощью разума, но перенеся на этот разум название, уже тесно связанное в душе читателя с эстетическим суждением. Что это? Ностальгия по отринутой сфере? Отзвук уходящих увлечений юности? Или уже новое понимание ограниченности и разума, и рациональной оценки и ощущение необходимости возвращения к чувству, но уже на каком-то ином, новом уровне? Так ли уж случайна игра в слова: rationales теперь стало judiciales, а judiciales превратилось в sensuales? Августин был человеком своего времени, жил им и выражал главные духовные тенденции этого времени, меньше всего задумываясь об этом.
Однако введение рациональной оценки опять возвращает нас от искусства к науке, ибо, конечно, все ее математические достижения, изложенные в первых пяти книгах «De musica». по достоинству могут быть оценены только разумом. Августин стремится исследовать далее сферы деятельности разума и чувственного суждения. Разуму доступно все то, о чем до сих пор писалось в трактате, и прежде всего он постигает, «что есть сама хорошая модуляция, которая заключается в некотором свободном движении, стремящемся к красоте» (VI, 10, 25). Он постигает законы организации ритмов и все числа, связанные с созданием и восприятием искусства, включая и свои собственные числа, как наиболее высокие.
А что же входит в сферу чувственного суждения и на основе чего оно судит? Здесь Августин обращается к тем эстетическим проблемам ритма, которые он наметил во II-V кн. трактата, и развивает их дальше. Прежде всего это касается закона равенства. Именно на нем во всех его модификациях (равенство, соразмерность, соответствие, пропорция - все это объемлет многозначный термин aequalitas) и основывается «чувственное суждение», или чувство удовольствия (радости, наслаждения - delectatio). На этой ступени восприятия душа не может познать закона равенства, но только чувствует радость от восприятия самого равенства720. «Телесное удовольствие души» не способно даже оценить, истинное ли это равенство, т. е. оно может допустить ошибку, принять неравенство за равенство, и у него нет критерия для исправления ошибки. А что может быть хуже, чем •принять подражание равенству за само равенство, хотя «мы не можем отрицать, что само подражание в своем роде и в своем порядке является прекрасным». Только разум признается Августином окончательным и законным судьей чувственной красоты. Он постигает те закономерности, к которым чувственность лишь стремится (VI, 10, 28)721.
Обращаясь, далее, к вопросу о пределах и границах восприятия, Августин опять напоминает, что числами пронизано все бытие от самых грубых материальных предметов до бескрайних космических далей и высших сфер духа, и доводит до логического конца свою теорию числовой организации бытия. Далеко не все из чисел (т. е. закономерностей) универсума доступны нашему восприятию. Правильно ориентированный в духовной сфере человек находится в системе числовой иерархии между высшими и низшими числами. При этом низшие числа не оскорбляют и не раздражают его, но только высшие доставляют удовольствие. Здесь Августин опять вспоминает антипод разума - delectatio, как средоточие всей духовной радости, высшего неописуемого наслаждения души, возникающего при восприятии всего соразмерного и вечного, т. е. практически эстетическое наслаждение. «Ибо, без сомнения, наслаждение является как бы основанием души» (VI, 11, 29)722. Оно упорядочивает душу. А что может быть выше тех чисел, которые содержат высшее, неизменяемое, вечное равенство? Там нет времени, так как нет изменяемости. Эти неизменяемые числа являются причиной и времени, которое создается и упорядочивается как подражание вечности, и всего космического порядка. Вращение неба, возникновение небесных тел и все остальное на звездных путях подчиняются «законам равенства, единства и упорядоченности». С небесными телами объединяются в единую космическую мелодию и подчиненные им земные предметы в круговороте своих исчисляемых времен (VI, 11, 29). «В этом, - развивает далее свою мысль Августин,- многое представляется нам неупорядоченным и расстроенным, ибо о каждом порядке мы судим по своим меркам и не знаем, что божественное Провидение представляет нам [все] прекрасным. Если, к примеру, кто-то встанет как статуя между роскошнейшими и прекраснейшими домами, он не сможет почувствовать красоты всего архитектурного ансамбля, так как сам будет его частью. Столь же мало может увидеть порядок построения всего войска солдат, находящийся на линии битвы. И в любом стихотворении, если слоги звучат какое-либо время, то они живут и чувствуют, но никоим образом им не может нравиться числовая соразмерность и красота соединенных [частей], так как они не могут ни обозреть, ни одобрить целого, ибо каждый из них образуется и имеет совершенство в продолжение быстротечного отрезка времени» (VI, 11, 30).
Таким образом, вечная красота и упорядоченность универсума, по мнению Августина, недоступны восприятию преходящего человека. Знание о высшем равенстве, единстве и упорядоченности он должен принять на веру. Ни восприятию, ни постижению высшая красота, понимаемая здесь как красота универсума, не поддается. Тем не менее она-то и является абсолютной ценностью. Числа же, возникшие в душе, ориентированной на преходящие вещи, также обладают красотой своего рода, но это красота преходяща, и божественное Провидение с досадой взирает на душу, устремленную к ней (VI, 11, 30).
Помимо непосредственного восприятия Августин подробно останавливается на двух видах представлений, связанных, как он считает, с памятью и «действующих против телесных восприятий». Августин обозначает их греческими терминами phantasia и phantasma (ср.: De Trin. XI, 10, 17). Под фантасией он понимает представления, образы, возникшие на основе когда-то бывшего реального восприятия. Однако эти образы неустойчивы и создают предпосылки для ложных суждений. На основе фантасий, которые в различных и противоположных направлениях волнуют душу, возникают новые духовные движения, которые уже не имеют прямой связи с предыдущими телесными восприятиями и чувственными впечатлениями и относятся к ним (подобны им - similes) как «образы образов» (imaginum imagines). Их Августин и называет phantasma. По-одному ибо, пишет он, представляю я себе отца своего, которого часто видел, и по-иному - деда, которого никогда не видел. Первое представление я нахожу в памяти - это фантасия, второе - в движении духа, берущем свое начало в памяти,- это фантасма. «Каким образом возникает и то и другое, трудно понять и объяснить. Все же, я думаю, что, если бы я никогда не видел человеческого тела, никоим образом не смог бы я мысленно образовать его видимую форму. Но и то, что делаю я из того, что я видел, я делаю с помощью памяти; и все же одно - находить в памяти фантасию и другое - делать из памяти фантасму» (VI, И, 32). Фантасмы возникают на основе свободных комбинаций образов когда-то виденных предметов и их элементов. Так, пишет Августин в «De Trinitate», никто не видел черных лебедей или четвероногих птиц, но наше воображение легко может представить себе и тех и других. Управляет фантасией и фантасмой (сознательно или неосознанно) воля (De Trin. XI, 10, 17).
Эти идеи, хотя они во многом и опираются на соответствующие мысли Плотина723, представляют большой интерес и для истории средневековой гносеологии, и для истории эстетики. Фантасия означает у Августина нечто близкое к нашему «представлению», но имеющему уже некое отступление от действительности, а фантасма близка к нашему «воображению», «фантазии». Важно, что обе формы мыслительных образов Августин производит от конкретного чувственного восприятия и видит в них две последовательные ступени отхода мысли от этого восприятия в область достаточно свободного воображения. И фантасию и, тем более, фантасму нельзя принимать за истинное представление. Истинное суждение на основе чувственного восприятия составляет, как мы видели, только разум с помощью своих судящих чисел. Тем не менее доля истины, но особой, неформализуемой, содержится и в фантасии, и в фантасме. Не бессмысленно ведь говорим мы, что в первом случае «мы чувствуем это так», а во втором - «мы так это воображаем (imaginari)». «Не без основания я могу сказать, что я имел отца и деда; но сказать, что они были точно такими, как их сохранил мой дух в фантасии или в фантасме, было бы в высшей степени неразумно». Есть, однако, люди, которые все суждения основывают только на своих фантасиях и фантасмах, принимая их за знания, постигаемые чувствами. Августин с осуждением относится к ним (VI, 11, 32).
Последовательно разбирая сначала структуру произведений искусства, затем механизм их восприятия, Августин постоянно помнит изначальную цель своего исследования в данном трактате: подняться от анализа низших материальных чисел к высшим, вечным724. Один разряд таких чисел он нашел в упорядоченной организации космоса. Но те числа практически непостигаемы и далеки от искусства. Выявив пять видов чисел в душе, а также способность образования в ней на основе памяти таких образов, как фантасия и фантасма, он чувствует, что не исчерпал еще внутренний мир человека, и опять пристально всматривается в него. Снова его внимание привлекает память. Оказывается, она способна не только производить «телесные движения духа» типа фантасии и фантасмы, но и содержит еще новый вид чисел - духовные (spirituales). Что же это за числа?
Если мы обратимся к искусству ритмическому и метрическому, рассуждает Августин, «которое производит стихи», то мы увидим, что это искусство обладает некоторыми числами, в соответствии с которыми и образуются стихи. Числа эти существуют и тогда, когда стиха еще нет. В данном случае термином ars Августин обозначает и искусство как творческую деятельность, и искусство как науку, соответствующую теории искусства. Искусством в первом смысле «является некоторое настроение (или состояние) духа художника»725, которое бывает только у того, кто сведущ в теории искусства (VI, 12, 35). В основе законов искусства лежат числа двух видов - преходящие и непреходящие. Первые меняются в различные исторические периоды - с ними связаны, например, изменения длительности тех или иных слогов. Эти числа необходимо изучать. Вторые числа (законы) никогда не меняются, наподобие суммы одного и двух, всегда равной трем. Эти вечные числа постоянно находятся в глубинах нашего духа (они-то и есть spirituales) и, отпечатываясь в уме человека, производят то «настроение» (affectio), которое и называется «искусством». Числа эти даны душе Богом. Поэтому даже тот, кто никогда не слышал об искусстве и его числах, с помощью наводящих вопросов может ему научиться. Он просто вспомнит, побуждаемый словами спрашивающего, то, что находится в глубинах его духа, но еще не всплыло в памяти.
Для истории эстетики приведенные мысли интересны тем, что Августин дает здесь новую дефиницию искусства с точки зрения непосредственного творческого акта. Определяющим в этом акте оказывается настроение, состояние духа художника, а не ratio, хотя далее он дает понять, что это «настроение» не субъективное состояние духа, а отпечаток в уме вечных духовных чисел.
Законы искусства Августин разделяет на непреходящие и изменяющиеся во времени. Эта важная для эстетики мысль, по всей видимости, была впервые сформулирована именно Августином.
Далее автор трактата «О музыке» ставит интересный вопрос. Если вечные числа заложены в душе, то почему же дух наш всякий раз, а часто и изначально, уклоняется от их рассмотрения? Что отвлекает его от «вечного равенства», выше которого ничего нет? Конечно же то, что мы больше всего любим. А что можем мы любить больше, чем прекрасное? Правда, говорят, что есть и «такие, которые любят безобразное (deformia) и которых греческое простонародье называет σαπροφίλοι (любители тухлятины);726 различие, однако, состоит лишь в том, насколько меньше содержится прекрасного в этом (т. е. безобразном. - В. Б.), чем в том, что нравится большинству. Ясно, однако, что никто не любит того, от чьего безобразия (foeditas) чувство терпит неудовольствие» (VI, 13, 38). Прервем на минуту мысль Августина, ибо здесь мимоходом он высказывает, опять же впервые в истории эстетики, очень важную и основополагающую для всей средневековой эстетики мысль. В глазах христианина мир - творение божественного Художника (см. гл. VII), и ничто в нем не может быть абсолютно безобразным. Существует только абсолютная красота. То, что кажется безобразным, просто содержит очень мало прекрасного. Недостаток прекрасного и расценивается как безобразное. Но и в безобразном можно усмотреть свою, хотя и малую красоту. Не зря же существуют σαπροφίλοι? И для безобразного Августин вводит определенную градацию. То безобразное, которое еще хоть кто-то может любить, - это deformia, а то, которое доставляет страдание чувству,- это уж нечто совсем мерзкое - foeditas.
Итак, развивая дальше свою мысль о том, что прекрасное в материальном мире, которое все так любят, отвлекает дух от созерцания «вечных, абсолютных истин», Августин расширяет и дополняет свое изложенное ранее понимание прекрасного и лежащего в его основе «равенства». «Прекрасное,- пишет Августин,- нравится через число, в котором, как мы уже говорили, [оно] достигает равенства (соразмерности). Эта красота встречается не только в области слышимого или в движениях тела, но также и в самих визуальных формах, в связи с которыми чаще всего говорится о красоте». Однако не следует думать, что равенство (или симметрия) бывает только одного типа, когда один, непарный член занимает место посредине, а по обе стороны от него парные члены располагаются на равных расстояниях. Как же тогда оценивать красоту цвета и света, которые тоже радуют нас, т, е. красоту простых, не состоящих из частей, образующих равенство, предметов? - вслед за Плотином спрашивает Августин и отвечает уже по-своему. «Что же иное ищем мы в свете и цветах, если не то, что соответствует (congruit) нашим собственным глазам? Ибо от чрезмерного блеска мы отворачиваемся, но не желаем видеть и сплошную тьму, так же и чрезмерно громкие звуки нам неприятны, но не любим мы и невнятное бормотанье... В этом [восприятии] стремимся мы к тому, что соответствует мере нашей природы (convenientia pro naturae nostrae modo), а несоответствие мы отвергаем, хотя знаем, что другие существа его принимают. Не радуемся ли мы закону равенства, когда узнаем, что все существующее таинственным образом распределено в соответствии с этим законом? Доказательство того, что в области обоняния, вкуса и осязания мы чувствуем все по тем же законам, увело бы нас далеко, но легко показать, что и в сфере этих ощущений нет ничего, что нравилось бы нам не по закону равенства или подобия; а где равенство или подобие, там - числовое соответствие; нет ничего более равного или более подобного, чем один и один» (VI, 13, 38).
Итак, для простых, не состоящих из частей эстетических объектов «закон равенства» сводится к «соответствию мере нашей природы», т. е. к соответствию объекта определенным психическим характеристикам субъекта. Этот вывод, собственно, напрашивался уже ранее, когда Августин излагал теорию чувственного восприятия, но там его интересовали другие стороны вопроса. Эстетическая мысль поздней античности, таким образом, все активнее и последовательнее обращается от анализа закономерностей только произведения искусства к анализу системы: произведение искусства - психика субъекта восприятия, ибо уже осознается, что без анализа последней и в первом далеко не все оказывается ясным. Закон соответствия и соразмерности частей объекта теперь переносится на соответствие отдельных элементов объекта элементам психики (души) субъекта. Конечно, приоритет здесь принадлежит не Августину. Идеи эти в той или иной форме встречаются у его предшественников - как христианских (Василий Великий), так и нехристианских мыслителей. Во многом они восходят к плотиновскому пониманию красоты и ее восприятия (см. гл. VI). Августин, неплохо зная и по-своему переосмысливая плотиновские идеи, стремился развить их дальше, ибо они хорошо соответствовали философско-эстетической атмосфере его времени. В частности, в рассматриваемой книге трактата «О музыке» он пытается конкретизировать, с одной стороны, и математизировать - с другой, самую сущность красоты. В основу равенства и соответствия, составляющих ядро красоты, и в основу самих процессов восприятия и творчества Августин закладывает не абстрактную плотиновскую идею, но более конкретное «число» (numerus), что позволяет ему усмотреть нечто общее в законах творчества, восприятия, теории искусства и в самом произведении искусства. Это, конечно, новый шаг в истории эстетической мысли после слишком уж абстрактной эстетической эйдологии Плотина, хотя и базирующейся на ней.
Продолжая далее исследовать причины, отвлекающие душу от созерцания вечных истин, Августин постоянно вращается в круге эстетических проблем, ибо оказывается, что все связанное с искусством и прекрасным наиболее активно привлекает душу. Забота о чувственных удовольствиях уводит душу в область откликающихся чисел (occursores). Стремление к активной творческой деятельности возбуждает числа progressores. «Если отвлекают ее фантасия и фантасма, то так работает она с числами памяти (recordabiles). Если, наконец, ее отвлекает любовь к суетнейшему познанию подобных же вещей, то тогда действует она с чувственными числами (sensuales), в которых как бы обитают некие правила искусства, доставляющего радость через подражание» (VI. 13, 39). В последнем случае имеется в виду собственно эстетическое восприятие, основанное на чувстве удовольствия. Важно, что и этот вид восприятия Августин считает познанием (cognitio) и. более того, усматривает в законах восприятия «правила искусства» (regulae artis), притом искусства миметического. Сфера восприятия и чувственного суждения (числа sensuales) оказывает, таким образом, на что уже указывалось выше, прямое воздействие на процесс создания произведений искусства. Эту же мысль он развивает подробнее и в 14-й гл. VI кн. Именно «чувственные числа» (числа чувственной способности суждения - sensuales) участвуют в организации ритмов, метров, стихов. С их помощью возникают различные стопы, долгие слоги сменяются краткими, замедляется чтение в нужных местах, т. е. везде, где музыка расходится с грамматикой, действуют числа sensuales. Разум судит, опираясь на них, сравнивая одни размеры (стихотворные) с другими. Ими определяются и правила о начале и завершении стиха и т. п. (VI, 14, 47).
Высказывая столь интересные мысли в области эстетического, Августин в последних главах VI кн. «De musica» относится к этой сфере уже не очень одобрительно. Ведь она отвлекает душу (и так активно отвлекает!) от созерцания абсолютных божественных истин, порождает любопытство, которое «является врагом душевного спокойствия и в [своей] суетности лишено истины» (VI, 14, 47). Здесь Августина терзают противоречия, не оставлявшие его на протяжении всей последующей жизни. С одной стороны, он ощущает огромную притягательность эстетической сферы, видит ее гносеологическую, прежде всего, а иногда и морально-этическую ценность и поэтому уделяет так много внимания ее анализу, высказывая ряд глубоких и оригинальных мыслей. С другой стороны, ему никак не удается ввести ее на основе равноправного, имеющего свое определенное место элемента в систему своего христианско-неоплатонического миропонимания. В своей онтологии (лучше всего он показал это в трактате «О порядке») Августин нашел уже свое определенное место не только красоте, но и злу, и безобразному, и всему негативному в общей упорядоченной системе мироздания, притом такое место, где все это негативное, находясь на своем месте, способствует организации общего порядка и красоты универсума. В гносеологии же, поставившей своей главной целью постижение Бога, а в связи с искусством - высших, вечных истин искусства, высших законов равенства и т. п., найти место чувственно воспринимаемым и доставляющим радость объектам и самому эстетическому восприятию Августину удается только отчасти, причем в поздний период своего творчества в суждениях о музыке и о красноречии (см. гл. VIII). В трактате «О музыке» он только ведет активный поиск в этом направлении.
Интересно отметить, что поиск новых духовных ценностей хотя и проходит в «De musica» под знаком только что принятого Августином христианства, но далеко не всегда в своих выводах соответствует ему. В частности, в области мимесиса Августин стоит на твердых классических позициях, близких к аристотелевской, и часто как бы вообще ничего не знает ни о неоплатонической, ни о христианской тенденциях в этом плане727.
Показывая достаточно подробно, на что отвлекается душа от «вечных истин», хотя она часто и знает о их существовании, Августин нередко опирается на свой жизненный опыт, о чем он так ярко писал в «Исповеди». Это придает его теоретическим рассуждениям особую ценность, ибо они не книжны, а основаны на личном опыте, на личных переживаниях и душевных противоречиях. Так, делает вывод Августин, вспоминая, видимо, свое еще близкое прошлое, «душа, обладая знаниями, на которых она могла бы основываться, необязательно может укрепиться в них» (VI, 13, 42). Душа разрывается между земным и небесным, преходящим и вечным, чувственной красотой и абсолютным идеалом, часто отдавая предпочтение первому. И это не дает покоя африканскому мыслителю, мучительно ищущему выход из создавшегося противоречия, ибо отбросить чувственное, земное, материальное он не может, но не может и полностью принять их, когда вспоминает об абсолютном. Августин постоянно стремится показать, что сам по себе материальный мир, с его «низшей» красотой и телесными числами неплох и прочно занимает свое место в универсуме, но любовь души к этому миру не поощряется им, так как она, останавливаясь на этой ступени бытия, утрачивает перспективу высших духовных ценностей. Что легко для души? - вопрошает он и с горечью отвечает: любить цвета и звуки, сладость и розы, т. е. все то, в чем она ничего не желает иного, кроме равенства и подобия (именно эстетический объект, добавили бы мы теперь). Но ведь в этом она познает только их (равенства и подобия) слабую тень и полустершийся след. А любить Бога, в котором не может содержаться ничего неравного, неподобного себе, ничего заключенного в определенном месте, ничего преходящего во времени, для души тяжело. При возведении больших зданий и им подобных сооружений, если не насмехаются над «законом искусства», не радуют ли нас исключительно числа, которые здесь являются соразмерными и подобными? «Если это так, то зачем душа спускается от того истиннейшего свода равенства к этому и возводит на его руинах земной помост?.. Очень трудна любовь этого мира. Ибо то, чего душа ищет - постоянства и вечности, не обретает в нем, так как в преходящих вещах содержится низшая красота и они только подражают постоянству, которое передается через душу от высшего Бога» (VI, 14, 44).
Подходя к завершению трактата «О музыке» и вроде бы уже окончательно выяснив отношения между числами телесными и абсолютными, небесными, Августин вспоминает христианскую идею воскресения и восстановления плоти и опять обращается к телесным числам, дополняя свою числовую систему новыми штрихами из области творчества и онтологии. Предварительно он останавливается еще на восьми добродетелях, которые помогают душе избегать превратности судьбы и не отклоняться от истинного пути. Это четыре низшие добродетели: благоразумие (prudentia), воздержание (temporantia), твердость (fortitudo) и справедливость (justitia), и еще четыре - высшие и совершенные: упорядоченность (ordinatio), бесстрастие (impassibilitas), освященность (sanctificatio) и созерцание (contemplatio) (VI, 16, 51 - 55). С их помощью душа преодолевает любовь к преходящим вещам и вкушает «сладость» вечного.
Подводя итог своим исследованиям в области метафизики чисел, Августин резюмирует: весь мысленный и материальный космос - упорядоченная система чисел. Душа человека находится между Богом и миром. Она управляется Богом с помощью чисел и сама управляет числами (ритмами) телесного уровня. Все соисчислимое прекрасно, но числа телесного уровня обладают минимальной красотой. Прекрасны числа благодаря законам равенства, подобия и порядка.
Однако как возникли телесные числа, т. е. практически весь материальный мир? Христианство утверждает, что он был создан Богом из ничего, и Августин, еще во власти античной философии, стремится доказать эту заведомо недоказуемую (в восточной патристике уже и в это время она считалась априорной) посылку если не «диалектическим» способом, то хотя бы с помощью аналогии. Как к ближайшей аналогии он обращается к творчеству художника и рассматривает его в данном случае с сугубо идеалистической позиции, хотя до этого он постоянно придерживался классической миметической теории. Смысл доказательства сводится к тому, что если художник может из одних (разумных) чисел создавать другие (телесные), то всемогущий творец - Бог, конечно же, может создать все числа, т. е. мир из ничего. Имеет смысл подробнее проследить эти заключительные рассуждения.
«Если художник (faber), - пишет Августин, - действительно может из чисел разума (rationahiles), которые находятся в его искусстве, сделать чувственные числа (sensuales), которые ему присущи, и эти sensuales превратить в движущиеся вперед числа (progressores), с помощью которых он движет своими членами при работе, и при этом уже появляются временные интервалы, и если он ими (progressores. - В. Б.) изготовит видимые формы из дерева, которые в своем пространственном членении соответствуют числовым закономерностям, то не может ли сама природа вещей, само дерево (в данном случае. - В. Б.), повинуясь указанию Бога, быть изготовлено из земли и других элементов? А эти, последние, не должны ли сами [возникнуть] из ничего?» Конечно, и дереву предшествовали пространственные и временные числа, ибо в каждом корне шевелится уже в скрытых числах та сила, которая приходит от семени и создает в соответствующее время ростки, стебли, листья, плоды и новые семена. Значительно сильнее открывается это в телах живых существ, чьи члены еще больше выявляют числовое равенство (parilitas). Если все это может состоять из элементов, не могут ли сами элементы возникнуть из ничего? В них содержится нечто более низкое (в смысле структурной организации), чем земля. Последняя обладает основным свойством тел, которое обнаруживается в единстве, числе и порядке. Неотъемлемым свойством земли (как вещества) является то, что каждая ее мельчайшая частица имеет три измерения (длину, ширину, высоту), чтобы быть способной принять форму тела. «Откуда у земли и соразмерность (aequalitas) частей, которые в длину, ширину и высоту простираются? Откуда и разумное соотношение (corrationalitas - так именно хотел бы я назвать аналогию), которое сообщается даже самым маленьким неделимым частям, так что [отношение] ее ширины к длине и ее высоты к ширине находятся в разумном отношении? Откуда, спрашиваю я, все это может прийти, если не от того высшего и вечного начала чисел, подобия, равенства и порядка? И если ты лишишь землю всего этого, станет она ничем (nihil erit). Только так всемогущий Бог создал землю, и из ничего земля была создана» (VI, 17, 57). Коснувшись земли, Августин должен традиционно сказать и о других основных элементах. Исходя из принципа максимального единства частей и степени их подобия друг другу, он заключает, что вода прекраснее земли, воздух прекраснее воды, а прекраснее его верхние слои неба. Во всех этих элементах находятся пространственные числа и постоянно протекают временные числа. Без них эти элементы ни существовать, ни иметь своей формы не могут.
Еще выше их - «разумные и духовные числа существ духовных и святых, которые воспринимают без посредствующей природы закон Бога; тот закон, без которого ни один листок не упадет с дерева, по которому сосчитан каждый наш волос и который они, ангелы, передают земным и подземным силам» (VI, 17, 58). Этой проникновенной мыслью, отчасти предвосхищающей то, что вскоре так подробно разработает знаменитый на все Средние века Doctor hierarhicus - Псевдо-Дионисий Ареопагит, и заканчивает Августин свое сочинение «О музыке». Логикой внутреннего развития христианское мышление и на Западе, и на Востоке приходит к иерархическому пониманию универсума. У Августина - это иерархия чисел. В ней «мир расчленен на ступени таким образом, что внутри этого порядка каждая ступень имеет свою позитивную ценность; так же и чувственность, которая лишь подражает равенству, обладает своей специфической красотой, поскольку и она этому равенству подражает»728. Смысл иерархической лестницы чисел в том, что она может стать регулятором жизни, устремленной к познанию универсума и его Первопричины. В этом плане и числа, принадлежащие искусству, должны возводить человека от чувственной жизни к жизни в ratio.
С определенной степенью условности числовая система Августина, включающая процессы эстетического творчества и восприятия, может быть представлена следующим образом. Высшее место среди созданных Богом чисел занимают вечные неизменяющиеся числа: разумные и духовные числа небесных чинов и пространственные и временные космические числа - источник всякого пространства и времени. Далее идут преходящие числа, а также числа материального мира, включающие верхние слои неба, воздух, воду и землю, и числа человека, состоящие из телесных чисел и чисел души. Последние, как мы видели, Августин подверг детальной разработке, постоянно обращаясь к тому или иному их аспекту на протяжении всей VI кн. «De musica».
Здесь проявились, с одной стороны, христианская неоплатоническая духовная ориентация автора, а с другой - его эстетические склонности и интересы. Именно этим объясняется отсутствие интереса у Августина к числам материального мира. О них, как мы видим, он вспоминает только в конце трактата, да и то мельком. Скажем, традиционный для античности огонь вообще ускользает здесь от его внимания. Не останавливается он и на такой категории, как «свет», хотя в одном месте, мельком опять же, показывает, что и свет может быть отождествлен с Христом и с Премудростью Божией (VI, 16, 52). Что касается чисел души, то среди них высшее место занимают числа разума, который берет начало от самого Бога. Эти числа имеют два названия: «судящие» - для процесса восприятия и «разумные» - для творчества. Далее идут sensuales, progressores, occursores и recordabiles с фантасией и фантасмой. О них уже было достаточно сказано.
Разум является изобретателем искусств. Самой системы искусств здесь Августин не дает, так как он занимался ею еще в трактате «О порядке», поэтому и мы не останавливаемся на них особо. Числа искусств делятся на теоретические и практические (телесные). Теоретические - это правила, или законы, искусства, в соответствии с которыми и творит художник. Это прежде всего духовные числа (spirituales), данные художнику от Бога и хранящиеся в глубинах памяти. Воздействуя на разум, они вызывают у художника особое творческое «настроение», «переживание» (affectio), которое и составляет основу творческого процесса. Это, так сказать, аффективный, внесознательный компонент творческого процесса, берущий начало непосредственно от Бога. Далее идут «рациональные» (или разумные) числа - правила искусства, диктуемые разумом. Однако, как показывает Августин, они входят и в теорию искусства, хотя и участвуют в творческом процессе не непосредственно, а через «чувственные» числа (числа эстетической способности суждения - sensuales). Кроме того, в теорию искусства входят и преходящие, исторически меняющиеся законы искусства и миметические числа, ибо искусство мыслится Августином прежде всего как подражательное. При этом одни искусства больше «подражают» числам материального мира (живопись, скульптура), другие - космическим числам (поэзия и музыка). Практические числа искусства - это те телесные (corporales) числа, которые звучат в стихах, метрах, ритмах и т. п.
Процесс творчества заключается в том, что все числа, отнесенные к теории искусства, воздействуют (rationabiles через sensuales, а spirituales через affectio) на производительные числа (progressores), волитивные числа, которые руководят телесными числами, т. е. определенными движениями рук, голоса художника, в результате чего и возникает произведение искусства. Процесс восприятия прост, и о нем уже много говорилось в данной главе. Такова условная схема эстетического творчества и восприятия, по Августину.
Конечно, не все нашло в ней отражение. Скажем, главные эстетические принципы, такие, как единство, равенство, соразмерность, подобие, порядок, красота, основанные на числах и пронизывающие всю представленную им систему, от высших ступеней к низшим, как на онтологическом, так и на психологическом уровнях, наглядно изобразить не удается. Но и то, что удалось показать, отчетливо выявляет как безусловные находки Августина, так и определенную однобокость его числовой системы. О находках мы уже много говорили. Однобокость является прежде всего следствием абстрактно-рационалистической ориентации автора. И эта ориентация, возникшая под влиянием в первую очередь пифагорейства, неоплатонизма и, отчасти, христианства, в целом далека и от античной классической эстетики, и от средневековой. Она - специфический продукт переходного периода. Суть ее сводится к тому, что Августина в трактате «О музыке» почти не интересует содержательная сторона искусства729. Все его внимание направлено на систему абстрактных закономерностей (чисел), воплощающихся в определенной форме искусства и доставляющих удовольствие при восприятии, и ни слова, даже мимоходом, не сказано о его содержательной стороне. И классики древности, которых знал Августин,- Платон, Аристотель, Феофраст, Цицерон, и практически все христианские мыслители, начиная с апологетов II - III вв. и кончая поздним Средневековьем и Возрождением, выдвигали на первое место в искусствах именно содержательную сторону730. Но, несмотря на это, эта односторонность, как это ни парадоксально, позволила Августину уделить основное внимание психологии творчества и восприятия, сделать интересные эстетические выводы.
Пристальное внимание Августина к внутреннему миру человека, к механизмам восприятия, познания, творчества, дало ему возможность поставить на обсуждение проблему эстетического восприятия и связать в одну систему сферы творчества, восприятия и само произведение искусства на основе психологии и теории чисел. Именно психологическая часть эстетики Августина, наиболее подробно изложенная в VI кн. трактата «О музыке», явилась самой оригинальной частью его эстетического учения731, отделившей августиновскую эстетику от эстетических учений древности и наметившей многие черты эстетики средневековой.
Глава X ВОСПРИЯТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО
Любая эстетическая проблема так или иначе связана с проблемой восприятия, и Августин был одним из первых мыслителей, глубоко осознавших эту связь. Наиболее интересные и оригинальные страницы августиновской эстетики посвящены именно осмыслению психологии эстетического восприятия. Специально эта проблема была освещена Августином в VI кн. «De musica», однако вопросы чувственного восприятия, лежащего в основе эстетического, интересовали Августина на протяжении всего его творчества, составляя важную часть его гносеологии. Поэтому, прежде чем перейти к собственно эстетической теории, остановимся кратко на августиновском понимании чувственного восприятия.
Если теория эстетического восприятия является оригинальной находкой самого Августина, то в вопросе чувственного восприятия он в основном зависит от Плотина
[704]. Проблему восприятия Августин, как правило, рассматривает на примере зрительного восприятия, как наиболее совершенного и наиболее духовного в человеке (De Trin. XI, 1, 1), хотя нередко обращается и к слуховому восприятию.
Вслед за Плотином
[705] Августин различает три рода зрения, или видения: зрение телесное, когда мы глазами видим обычные предметы (visio corporalis), зрение духовное (visio spiritualis), когда мы внутри себя видим образы того, что знаем или по опыту, или по представлению, и зрение умственное, или интеллектуальное (visio intellectualis), когда мы в своем уме созерцаем абстрактные, не имеющие зрительного образа представления (De Gen. ad lit. XII, 6, 15-9, 16)
[706]. Высшим является, естественно, умственное зрение, низшим - телесное. Телесного зрения не может быть без духовного, а духовного - без умственного (XII, 24, 51), т. е. эти три рода зрения служат одновременно и тремя ступенями восприятия материального мира. Предмет воспринимается телесным зрением, в результате чего в духе запечатлевается его образ. Если перед нами дух неразумный, как у животных, то этот образ так и остается в нем; если же речь идет о разумном существе, то образ духа в нем осмысляется разумом и происходит познание предмета - или «интеллектуальное видение» его (XII, 11, 22). Первые две ступени чреваты различными ошибками, и только разумное зрение избегает их.
Для нас особый интерес представляют как раз первые две ступени восприятия, ибо здесь, при переходе от первой ко второй, возникают духовные образы видимых предметов, а также - образы воображения, когда не действует первая ступень восприятия. В раннем трактате «О свободном выборе» (391) Августин называет вторую ступень восприятия «внутренним чувством» (interior sensus), находящимся в душе человека (De lib. arb. II, 3, 8 - 9). Никакой акт чувственного восприятия невозможен без участия «внутреннего чувства», но и над ним господствует разум.
Рассматривая процесс восприятия, Августин различает три состояния: бытие объекта (цвета), видение его и ощущение, или восприятие, его, когда его даже нет перед глазами. Только сам объект мы видим глазами, два остальных состояния могут быть усмотрены лишь разумом (II, 3, 9).
Человек обладает своими собственными телесными чувствами, внутренним чувством и разумом, и тем не менее, несмотря на различие этих чувств у каждого, одни и те же объекты мы видим одинаково. Августин считает чувственное восприятие объективным, мало зависящим от субъекта восприятия: «Как бы ни отличалось мое чувство от твоего, но то, на что мы оба смотрим, не может представляться мне одним, а тебе иным; но оно является нам обоим одним и тем же и мы видим его одновременно» (II, 7, 16).
В трактате «О Троице» Августин останавливается на трех моментах зрительного восприятия: 1) объект зрения (ipsa res quam videmus), 2) процесс зрения (visio) и 3) внимание души (animi intentio), которое удерживает чувство зрения на рассматриваемом предмете, т. е. определенный акт воли (De Trin. XI, 2, 2).
Введение
волевого момента в процесс чувственного познания является оригинальной находкой Августина; его нет в плотиновской теории восприятия
[707].
Внимание, или направленность, души, «интенция души» (intentio animi) организует процесс зрительного восприятия, объединяя предмет зрения и сам процесс зрения. В момент рассматривания предмета «в чувстве» зрителя возникает образ предмета, настолько подобный формам самого предмета, что зрителю бывает трудно различить их. Этот образ существует только в процессе зрения и исчезает почти сразу же по его прекращении. Он, подобно отпечатку перстня на воде (XI, 2, 3), хотя и исчезает не мгновенно, но достаточно быстро (XI, 2, 4).
Воля играет важную роль на всех этапах чувственного познания. В процессе непосредственного смотрения она сосредоточивает зрение на рассматриваемом предмете. По окончании этого процесса образ предмета из «чувства» передается памяти, где он и хранится долгое время. Память содержит образы всего увиденного, и при желании человек всегда может увидеть их своим «внутренним зрением» (In Ioan. ev. 23, 11). Вызывает образ из памяти в сферу «внутреннего чувства» опять же воля. Происходит процесс, аналогичный внешнему смотрению, только теперь воля направляет душу не на внешний предмет, а внутрь себя, на образы памяти. Августин склонен различать образы, хранящиеся в памяти, и возникшие в представлении, на основе вызванных из памяти, хотя они и подобны друг другу (De Trin. XI, 3, 6). Иногда образы представления бывают настолько яркими, что их принимают за реальные предметы. Обычно яркие образы представления возникают во сне, у сумасшедших, у пророков и предсказателей (XI, 4, 7). Процесс видения зависит не только от того, что находится перед глазами человека, но прежде всего от того, на что направлено внимание его души. Интенция души при этом далеко не всегда подчиняется разуму.
В процессе обычного зрительного восприятия Августин усматривает, по крайней мере, три этапа, на каждом из которых формируется свой зрительный образ: «В том членении, которое мы начинаем образом (формой - species) тела и доходим до образа, возникающего в понимании познающего (in contuitu cogitantis), открываются четыре образа, как бы поступенчато возникающие один из другого: второй от первого, третий от второго, четвертый от третьего. От образа тела, который мы видим, возникает образ в чувстве (in sensu) смотрящего; а от него появляется образ в памяти, и от этого - тот, который получается в уме (in acie) познающего. Таким образом, воля как бы трижды объединяет родителя с порождением: во-первых, образ тела с тем, который возникает в телесном чувстве, во-вторых, этот - с тем, который возникает из него в памяти, и этот последний, в-третьих,- с тем, который рождается от него в созерцании воспринимающего» (in cogitantis intuitu) (XI, 9, 16). Процесс зрительного восприятия представляется Августину (на основе плотиновских изысканий в этом направлении) весьма сложным, включающим в себя как органы чувств, так и все основные компоненты психики. Теория Августина предвосхищает некоторые современные научные открытия в области психологии зрительного восприятия
[708].
Изложенная здесь кратко августиновская теория зрительного восприятия во многом была перенесена ее автором и на восприятие произведений искусства, в частности поэзии и музыки. Но специфика объекта и результата восприятия заставила Августина обратить внимание и на особенности самого эстетического восприятия, чему он в целом и посвятил VI кн. трактата «О музыке»
[709]. В тесной связи с проблемой восприятия и эстетического суждения Августин поднимает в этой книге и некоторые другие эстетические вопросы. В частности, это касается проблемы числа и ритма (см. гл. V), которая в этой книге находит свое окончательное завершение. Здесь она теснейшим образом переплетается с вопросами восприятия, психическими закономерностями (числами психики) внутреннего мира человека. Само восприятие здесь как бы математизируется. Августин стремится выявить объективные законы (числа) восприятия и увязать их с общими космическими закономерностями. Он пытается не только понять механизм воздействия эстетического объекта на человека и механизм создания этого объекта, но и определить место эстетических закономерностей в порядке всего универсума, понятого в качестве всеобъемлющей числовой системы. Практически все эстетические явления, о которых шла речь в этой работе, находят здесь свое место в глобальной иерархии чисел.
В начале VI кн. Августин вводит классификацию из пяти разрядов чисел (или ритмов), которую затем дополняет и корректирует. К первому разряду относятся числа, находящиеся в самих звуках даже тогда, когда их никто не слышит, т. е. речь идет об объективно существующих закономерностях произведения искусства. Они-то и дают практически начало всем числам сферы восприятия. Второй вид - числа, существующие в чувстве или в ощущении субъекта восприятия. Августина в данном трактате интересует в основном слуховое восприятие, но он неоднократно показывает, что его выводы правомерны и для любого другого восприятия, ибо, по его мнению, любые ощущения связаны с числом. Даже при прикосновении пальцем к чувствительному месту тела «будет ощущаться число» (VI, 2, 3). Числа (ритмы) в ощущающей способности возникают только в том случае, когда на соответствующий орган чувств воздействуют числа объекта, и они исчезают, как только прекращается процесс восприятия объекта. Они подобны «следу, запечатлеваемому на воде». Как поясняет Августин в IV гл., речь здесь идет о физических процессах, происходящих в ухе под воздействием звука. «Отсюда вывод, что числа, находящиеся в самом звуке, могут существовать без тех, которые находятся в слышащей способности, тогда как эти последние существовать без первых не могут» * (VI, 2, 3). Числа ощущения необходимо отличать от чисел (ритмов) способности суждения, которые существуют и тогда, когда нет звука, и о которых речь впереди.
Числа третьего вида находятся в душе того, кто производит звук (в музыканте, к примеру). Этот вид не зависит от других видов и может проявляться в биении пульса, вздохах и т. п. Четвертый вид чисел находится в памяти; это способность запоминать. Он может существовать без первых трех видов, но только благодаря тому, что те ему предшествовали (VI, 3, 4). Наконец, существует еще и «пятый вид чисел, заключающийся в естественном суждении ощущающей способности,- когда нас радует равенство чисел и оскорбляет его нарушение»* (VI, 4, 5).
Таким образом, Августин различал пять элементов (или, как сказали бы мы теперь,- этапов), в коммуникативной цепи «художник - воспринимающий субъект» (несколько позже он дополнит ее еще одним элементом). При этом каждый элемент обладает, по мнению Августина, своими закономерностями (является особым видом чисел). Первый этап. - создание произведения («порождение чисел (ритмов) - более протяженное или краткое»), далее само произведение («звучание, которое приписывается телу») и процесс восприятия, состоящий из трех этапов: 1) непосредственное восприятие произведения (слушание), 2) работа памяти и 3) суждение о произведении на основе чувства удовольствия или неудовольствия. Последний этап, или пятый вид чисел, Августин считает высшим с точки зрения большей стабильности и вечности. Другим важным достоинством этих чисел является их полная принадлежность душе.
Как представитель христианско-неоплатонической мысли Августин, естественно, ценит душу значительно выше тела, но и телу он отдает должное с точки зрения гносеологии и эстетики. Душу он понимает еще в широком античном смысле, как средоточие всего духовного мира человека. А так как процесс восприятия осуществляется совместными усилиями души и тела, то он уделяет особое внимание соотношению и взаимодействию этих важных составляющих человека. Как неоплатоник и христианин, Августин предпочитает душу, но, как человек, еще принадлежащий античности с ее стихийным материализмом и пластическим мышлением и верующий, одновременно, в сотворение мира из ничего, воплощение Христа и грядущее воскресение всех во плоти, он, продолжая традиции своих предшественников - апологетов, стремится оправдать и телесную природу. Для этого ему приходится прибегать к достаточно примитивным суждениям. Истина, находящаяся в теле, полагает Августин, лучше лжи, заключенной в душе. Под истиной он имеет в виду реально существующий предмет (дерево), под ложью - его психический образ (дерево, увиденное во сне). Но не из-за тела - лучше, а ради самой истины, тут же добавляет он, ибо под действием греха тело изменилось к худшему. Однако, не унимается античный христианин в Августине, и тело «имеет красоту своего рода и тем самым значительно возвышает достоинство души, где и скорбь и болезнь заслуживают части какой-то красы». Поэтому не следует думать, что если душа «лучше тела, то все, что в ней происходит, лучше, чем то, что происходит в теле» * (VI, 4, 7). Здесь у Августина отчетливо просматривается та диалектика души и тела, которая была присуща всему христианскому неоплатонизму.
Что же роднит душу и тело, создает возможность их общения, с одной стороны, и дает общий критерий для их сравнения - с другой? Конечно же числа, хотя и различные. Чем больше тело пронизано присущими ему числами, тем оно лучше. Душу же эти числа ухудшают. Она, напротив, «будучи лишена тех чисел, которые она получает от тела, становится лучше, так как отвращается от телесных ощущений и преобразуется божественными числами мудрости» * (VI, 4, 7). Числа божественной мудрости далеки от тех, что находятся в произведениях искусства. Приведя цитату из Екклесиаста: «Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и число»
[710] (Eccl. 7, 25) - Августин добавляет: «Эти слова отнюдь нельзя относить к тем числам, которыми оглашаются позорища театров, их, как я уверен, нужно относить к тем числам, которые душа получает не от тела, но скорее сама запечатлевает в теле, получив от всевышнего Бога» * (VI. 4, 7).
Далее, полемизируя с манихеями, Августин стремится показать, что тело не воздействует на душу в процессе восприятия; вернее, тело не формирует душу, как художник, придающий форму материалу. Душа не является материалом, так как она лучше тела, а всякий материал - хуже мастера, его обрабатывающего. Процесс творения заключается в придании материалу числа, но тело не создает в душе чисел. Когда «мы слушаем, в душе не возникают числа от тех [ритмов], которые мы воспринимаем в звуках» (VI, 5, 8). Но если тело прямо не воздействует на душу и, тем не менее, участвует в процессе восприятия, то как же осуществляется этот процесс? «Мы, вероятно, не сможем,- заявляет Августин, сознавая всю сложность задачи, - ни обосновать, ни объяснить это»,- однако предлагает все же читателю свое решение.
Душа под божественным руководством господствует над телом и в теле. В одном случае это осуществляется легко, в другом - с большим трудом, в зависимости от того, как ей повинуется телесная природа. Если на тело извне осуществляется какое-либо воздействие, то «в этом теле, не в душе, возникает некое [действие], которое или противодействует действию души, или соответствует». Душа сопротивляется противодействию ниже ее стоящей материи и в результате этой борьбы становится напряженнее. И «эта, [возникшая] в результате трудности борьбы,
напряженность (attentio), когда она не скрыта, называется восприятием (чувствованием - sentire)», которое в данном случае именуется болью и страданием. Когда же внешнее действие соответствует душе, «то она легко переносит все это в процессе своей деятельности. И эта акция, в результате которой она соединяет свое тело с внешней телесностью, осуществляется
напряженно, вследствие участия внешнего члена, и она не скрывает [это]; но вследствие наличия соответствия (convenientia) восприятие происходит с удовольствием (cum voluptate sentitur). Когда же отсутствует соответствие, душа стремится его восполнить с помощью своего тела; и эта работа из-за своей трудности будет очень напряженной, и она не скрывает такую свою деятельность; называется же это голодом, жаждой или как-либо по-иному. Если же внешнее воздействие преобладает, так что деятельность [души] становится затруднительной и осуществляется не без напряжения и если эта деятельность не скрыта (non latet), то ощущается тошнота. Напряженность также возникает, когда [душа] отталкивает излишек, если спокойно - с удовольствием, если резко - с болью» (VI, 5, 9). «Я не хочу быть утомительным,- резюмирует свою мысль Августин,- мне представляется, что душа, когда она чувствует в теле, не от чего иного претерпевает, как от напряженного действия в своих страстях, и от нее не скрыто, что эти действия бывают или легкими вследствие соответствия, или тяжелыми из-за несоответствия - и это есть то, что называется чувствовать (sentire). Само же чувство, которое, пока мы ничего не воспринимаем, живет внутри нас, является инструментом тела, и его (чувства. -
В. Б.) соразмерность (temporatio) определяется душой таким образом, чтобы оно было посредником телу в ощущениях, чтобы объединяло подобное с подобным и отталкивало вредное» (VI, 5, 10)
[711].
Таким образом Августин показывает, что чувственное восприятие - это сложный психофизиологический процесс, проходящий не механически, но при активном действии всех духовных сил человека (души, в терминологии Августина)
[712]. Главной характеристикой любого восприятия и ощущения является
напряженность, или внимание (attentio),
души, которое обязательно возникает в психике как реакция на внешний раздражитель. Последний действует на телесные органы человека, возбуждая соответствующую реакцию души, осуществляемую посредством телесного же инструмента - чувства. Как заключает в конце этой главы Августин, «само восприятие (чувствование - sentire) есть движение тела, направленное против того движения, которое в нем имеется» (VI, 5, 15). Здесь Августин подметил некоторые признаваемые и современной психологией моменты в механизме чувственного восприятия, особо значимые для эстетического восприятия и связанные с возникновением в психике субъекта восприятия противоположно направленных аффектов.
Августин рассматривает пять различных ситуаций восприятия и ощущения. Первая - когда внешний раздражитель оказывает на психику действие, противоположное ее стремлениям. Возникшая при этом слишком сильная напряженность (перенапряженность) ощущается как боль или страдание. Когда раздражитель действует согласованно с душевной ориентацией, возникшее напряжение доставляет удовольствие, т. е. мы имеем дело практически с эстетическим восприятием, критерием которого, по Августину, является традиционная согласованность (convenientia), но не в самом объекте восприятия, а объекта с субъективной направленностью души. Эта интересная мысль, присущая и восточной патристике (Василию Великому, Псевдо-Дионисию и др.), играла важную роль во всей средневековой эстетике.
Третий случай - когда напряжение возникает в связи со стремлением души восполнить отсутствие соответствия с помощью своего тела. Соответствующие ощущения классифицируются Августином как чувство жажды, голода и т. п. Четвертый случай связан с избытком внешнего воздействия. Душа не успевает на него реагировать по существу и подает сигнал к прекращению такого воздействия, и как следствие - ощущение тошноты. Напряженность, возникшая в результате отбрасывания излишка внешнего воздействия, может доставлять удовольствие или причинять боль. Пятый случай имеет место, когда душа встречается с каким-либо расстройством своего тела. Напряжение, возникшее при борьбе с этим расстройством, называется чувством болезни или недомогания (VI, 5, 9). Во всех пяти случаях восприятия (к эстетическому восприятию, как мы видим, относится целиком только второй случай) Августин постоянно подчеркивает, что восприятием соответствующее напряжение называется только тогда, когда оно «не скрыто» (non latet). Вероятнее всего, речь идет о некотором осознаваемом душой напряжения или о сознательном внимании души, ибо еще в трактате «О количестве души» Августин, определяя чувство (или чувственное восприятие), писал: «...чувство есть претерпеваемое телом состояние, само по себе от души не укрывающееся» (De quant. anim. 25, 48)В. Отт также предлагает понимать под non latere сознание (Ott W. Op. cit., S. 52).. Однако неясной остается, к примеру, следующая фраза Августина: «Итак, не является нелепой наша вера в то, что душа не скрывает свои движения ли, деятельность ли, работу ли,- какими бы именами ни называли ее действия,- когда воспринимает [что-либо]» (VI, 5, 11). Не скрывает от себя, от разума? В целом этот рационалистический момент августиновской теории остается не совсем ясным.
Механизм восприятия для всех органов чувств, подчеркивает Августин, одинаков. Те или иные чувства включаются в действие в зависимости от характера внешнего раздражителя. Так, светлое воздействует на глаза, «очень чистый и подвижный воздух» - на уши, «насыщение парами» - на обоняние, влажное - на вкусовое ощущение, «земляное и как бы грязное» - на осязание. При всех этих воздействиях возникают напряженные действия (attentiores actiones) в теле, «соответствующие месту и органу чувства: так говорят о зрении, о слухе, об обонянии, о вкусе или об осязании; этими действиями охотно принимается все согласное и с неудовольствием отклоняется все несоответствующее. Я думаю, что этими действиями руководит душа, побуждаемая воспринимающим телом, когда она ощущает, что чувства (passiones) также не отклоняются» (VI, 5, 10). При восприятии любых внешних раздражителей: света, запаха или звука,- перемещается что-то в самом теле или все оно приходит в движение. Эти действия осуществляются душой на основе предшествующих ощущений (восприятий) (VI, 5, 12), т. е. восприятие зависит от сенсуального опыта субъекта.
Изложение этой теории восприятия, опирающейся во многом на учение Плотина, Августин предпринял, конечно, отнюдь не ради самой теории. Она, в его глазах, служила подтверждением того, что «если душа в результате этих действий что-либо претерпевает, то претерпевает она от себя самой, а не от тела». Вывод этот, однако, вряд ли следует из изложенной теории, но Августину необходимо показать, что в иерархической «лестнице»: Бог - душа - тело,- воздействие возможно только в одном направлении - сверху вниз.
Сделав экскурс в психологию восприятия, Августин опять возвращается к пяти видам чисел, с тем чтобы упорядочить их в строгую иерархию. Из трех видов чисел - звучащих, находящихся в чувстве слуха и обитающих в памяти - первым он отводит последнее место, как числам телесным. Из двух остальных видов, находящихся, как отмечает Августин, в душе, он отдает предпочтение «находящимся в чувстве слуха», так как от них происходят и те, которые хранятся в памяти. Числа, находящиеся у производящего звук (или относительно искусства - у художника), Августин ставит выше чисел чувcтва слуха, так как они существуют и при полном молчании, и без поддержки памяти и производятся самой душой. И высший вид, как уже было показано,- числа судящие. Августин дает всем числам и соответствующие названия. (Не все из них поддаются адекватному переводу. Приводя здесь достаточно удачный перевод В. П. Зубова, в дальнейшем мы все же для большего удобства оставим их латинские наименования, как это и принято во многих научных исследованиях данного трактата.) «Пусть первые числа назовутся судящими (judiciales), вторые - движущимися вперед (progressores), третьи - откликающимися (occursores), четвертые - содержимыми в памяти (recordabiles), пятые - звучащими (sonantes) * (VI, 6, 16).
К. Перл считает эту иерархическую расстановку оригинальной находкой самого Августина, не встречающейся у других авторов
[713]. Особый интерес она представляет для истории эстетики. Выделив, как мы уже показали, основные этапы в цепи «художник - произведение - субъект восприятия», Августин подчеркивает, что способность суждения на основе чувства удовольствия-неудовольствия выше даже творческой способности, чем косвенно утверждает, что закономерности (числа) способности суждения в какой-то мере определяют и законы творчества. Порядок остальных трех видов чисел менее очевиден, и его обоснование Августином не очень убедительно. Исходя из логики нашего автора, следовало бы, к примеру, числа памяти поставить выше чисел откликающихся, так как первые более духовны, ибо целиком находятся в душе, а occursores являют собой рубеж между телесным и духовным. Они находятся, как показал раньше Августин, в самом органе восприятия. Это первичное звено сферы восприятия. Именно между ними и судящими числами возникает то напряжение, которое Августин называет собственно восприятием (или ощущением), ибо здесь происходит встреча сигналов, идущих от внешнего раздражителя и от самой психики. С другой стороны, если последовательно проводить причинный принцип Августина в области чисел (occursores выше, так как они являются причиной recordabiles), то придется признать, что звучащие числа должны быть выше и recordabiles, и occursores. Здесь Августин, конечно, непоследователен, но заслуга его состоит в том, что он предпринял попытку системно, сказали бы мы теперь, подойти к проблеме творчества и восприятия, и попытку далеко не безрезультатную.
Из всех названных видов чисел судящие имеют наибольший срок жизни, но и они не вечны, а исчезают со смертью человека. Это числа, присущие только человеку. Притом они имеют свой характер и диапазон действия для каждого конкретного индивида. Одни люди судят быстрее, другие медленнее, одни - на основе сравнения с другими образцами, другие - опираясь на свое внутреннее чувство. Соответственно и воспринимают все люди по-разному, хотя и в определенных рамках. Различие восприятия зависит от природных данных и от практики восприятия, определенной тренировки (VI, 7, 19). Субъективный характер восприятия (особенно искусства) отмечали многие авторы и до Августина, но попытку теоретически разобраться в этом мы встречаем, пожалуй, впервые только у него.
Числа чувственной (или эстетической) способности суждения ставятся Августином выше остальных видов чисел еще и потому, что они завершают процесс восприятия и руководят всей творческой деятельностью, т. е. числами progressores. На их основе Августин связывает в единую систему процессы восприятия и творчества. «Ведь и числа, называемые progressores, - пишет он,- когда стремятся к какому-нибудь численно выразимому действию в теле, соразмеряются скрытно в соответствии с этими судящими числами
[714]. В самом деле: то, что нас удерживает при хождении от неравных шагов, или... при ваянии от неодинаковых движений пальцев,- чтобы не перечислять многочисленные другие действия,- то, что сдерживает нас, понуждая при намерении осуществить что-либо посредством телесных членов, избегать неравных движений и молчаливо внушая нам некое равенство, - это и есть нечто судящее» * (VI, 8, 20). Процесс творчества, таким образом, регулируется и приводится в соответствие с законами восприятия, ибо judiciales - это прежде всего высшая ступень восприятия
[715].
Сам процесс восприятия осуществляется, по мнению Августина, при сложном взаимодействии чисел ощущения (occursores) и чисел памяти (recordabiles). Любой акт восприятия длится во времени и, если бы память не участвовала в процессе восприятия, мы не могли бы ничего воспринять, так как при переключении внимания на следующий слог, или звук, или другую сторону статуи, мы забывали бы мгновенно предыдущий слог, звук или ракурс скульптуры. Для истории эстетики имеет большое значение, что Августин специально подчеркивает временной характер зрительного восприятия, тем самым приравнивая по механизму восприятия временные виды искусства (поэзию, музыку) и статические (изобразительные искусства, архитектуру). «Ведь и в самих телесных формах,- пишет он,- видимых глазом, мы не можем судить ни о круглом и четырехугольном, ни о любом другом объекте, и вообще не можем ощущать их, не вращая их перед глазами; но если забывается виденное с одной стороны, когда смотрят на другую, то намерение судящего вовсе не достигает цели, ибо и здесь есть некая длительность времени, за изменением которой должна бдительно следить память» * (VI, 8, 21). Одни числа occursores без recordabiles ничего практически не могут воспринять. Так случается, когда мы не направляем свое внимание на восприятие чего-то, происходящего в нашем присутствии, например, разговора, когда мы увлечены каким-то делом. Мы слышим с помощью occursores голоса, но не понимаем и не воспринимаем разговора, так как recordabiles здесь направлены на другое и «вследствие внимания к другому тотчас же угасает импульс движения» (VI, 8, 21).
Августин отмечает две формы участия чисел (ритмов) памяти в восприятии. Первый - непосредственное восприятие, когда числа памяти доводят до судящих чисел числа ощущения. Второй - воспоминание. В этом случае память приносит судящей способности «следы» того, что было воспринято когда-то
[716]. Числа occursores в этом процессе не участвуют (VI, 8, 22).
Итак, числа чувственной способности суждения являются главными и в процессе восприятия, и в акте творчества. Однако и они не до конца удовлетворяют Августина, так как действенны они только в определенном временном пространстве, могут судить только о том, что заключено в определенных границах времени, к тому же - только о том, что может быть расчленено в памяти. Нет ли более высоких чисел? - спрашивает себя Августин. Он берет для примера стих из гимна Амвросия Медиоланского «Deus creator omnium»
[717] и рассуждает следующим образом: Когда мы поем его, «мы слышим с помощью чисел occursores, узнаем - с помощью recordabiles, воспроизводим - с помощью progressores, получаем удовольствие через судящие числа и оцениваем (aestimare) с помощью некоторых других чисел, которых я еще не знаю; и от того удовольствия, которое является как бы суждением этих судящих чисел, возникает это другое, вторичное, более скрытое и более верное суждение» (VI, 9, 23).
Таким образом, Августин развивает дальше свою теорию эстетического восприятия. На основе чувственного суждения, «чувственного наслаждения» (delectari sensu) возникает более глубокая и верная «разумная оценка» (aestimare ratione). Августин сразу же стремится показать, что это две совершенно различные ступени, два разных вида чисел. Если мы различаем процессы восприятия, активного творчества и воспоминания, то должны различать и следующие два вида. Первый - принятие или отклонение движений на основе чувства удовольствия (in delectatione), получаемого от соответствия и согласованности в них, или - неудовольствия - от несоответствия; второй - оценка: правильно или неправильно возникло чувство удовольствия. Это чисто рациональный момент, рассудочная оценка (ratiocinando).
Если правильно, рассуждает далее Августин, что существуют некоторые числа, дающие возможность на основе чувства удовольствия признавать соизмеримые интервалы и отклонять беспорядочные, то необходимо признать, что разум, который возвышается над чувством удовольствия, тоже имеет свои числа и с их помощью может судить о нижестоящих числах. Если же это так, то нет сомнения, что в душе находится пять видов чисел, к которым присоединяется еще тот телесный вид, который был назван «звучащие» (sonantes). Теперь Августин считает необходимым внести уточнение в свою числовую иерархию. Высшими являются, конечно, те числа, которые дают оценку на основе разума. Они и выносят истинное суждение, следовательно, их и нужно назвать «судящие» (judiciales). Названные же сначала judiciales, дающие собственно эстетическое суждение, следует назвать sensuales (чувственные, судящие на основе чувства)
[718]. Кроме того, и sonantes Августин считает теперь нужным назвать corporales (телесные), чтобы резче (уже в самом названии) противопоставить их пяти остальным видам, как принадлежащим душе (VI, 9, 24).
Введение рациональной оценки как высшей вполне закономерно для Августина, поставившего уже в трактатах кассициакского периода разум выше всего в человеке и верящего в почти безграничные его возможности. Эту тему он развивает несколько ниже и в «De musica». Интересно другое: почему Августин сначала дает только пятичастную иерархию, выводит эстетическое суждение на первое место, присвоив ему высший титул, и много и подробно говорит о нем? Только ли это традиционный риторический прием? Но ведь и любой словесный прием имеет у учителя красноречия свое значение. В данном случае он направлен на привлечение максимального внимания читателя к эстетическому суждению. Случайно ли это? К. Перл считал, что Августин мало заботился о словах вообще. И в этом случае он руководствовался своим излюбленным принципом, введенным еще в трактате «Против академиков»: «Когда речь идет о деле, не стоит спорить о словах» (Contr. acad. III, 20)
[719]. Конечно, Августин всегда ценил сущность значительно выше обозначения, но он отнюдь не был равнодушен к словам. Он подробно обсуждает многие основополагающие термины в своих трактатах. Использовав в тексте какое-либо греческое слово, он обязательно указывает на причину такого словоупотребления - или потому, что в латыни нет ему адекватного слова (чаще, называя традиционный греческий термин, он тут же дает его латинский эквивалент), или потому, что не стоит, как он считает, вводить иностранных слов для тех понятий, которые хорошо обозначены в родном языке. Так что вряд ли он мог бездумно ввести такой важный термин, как judiciales, а затем поменять его содержание.
В логике обоснования шести видов чисел, как и процесса восприятия в целом, отразилось двойственное отношение и самого Августина, и шире, всей поздней античности, к проблеме чувственного (в том, более возвышенном смысле, какое мы вкладываем сейчас в понятие «эстетическое») и рационального. Греко-римская древность умела как-то безболезненно и органично сочетать и переплетать эстетическое и рациональное. Эти две составляющие человеческого духа не мешали друг другу в классической древности. Но уже эллинистический период принес с собой кризис разума, столкнув его с глубинными неосознаваемыми тайниками человеческой психики, в которые восточные «брахманы, маги и волшебники» проникали, по мнению эллинов, отнюдь не с помощью разума. Все это заставляло позднюю античность, особенно после активного распространения христианства в Империи, обратиться к «не-разумному» - к чувству, вере, эстетическому. При этом с чувством связывались почти все вербально не выражаемые движения человеческого духа, что особенно актуально было для различных культовых действ и искусства. Мы помним, к примеру, как высоко ставил Цицерон эстетическую оценку в вопросах ритма. Зрелища, разжигавшие чувственность, процветали в позднем Риме, и как реакция на них - ригоризм, аскетизм в суждениях многих христианских и нехристианских мыслителей поздней античности. По «Исповеди» Августина мы знаем, как болезненно протекал в нем самом процесс борьбы разума с необузданной чувственностью, как тяжело было отказываться ему от прекрасных женщин, от роскошных театральных зрелищ, от блестящей служебной карьеры и светской суеты буйного предзакатного Рима.
Не все ли это отразилось и в последнем эстетическом трактате Августина, когда он, может быть в последний раз, особым риторическим приемом вывел на первое место эстетическое суждение, чтобы затем свергнуть его с помощью разума, но перенеся на этот разум название, уже тесно связанное в душе читателя с эстетическим суждением. Что это? Ностальгия по отринутой сфере? Отзвук уходящих увлечений юности? Или уже новое понимание ограниченности и разума, и рациональной оценки и ощущение необходимости возвращения к чувству, но уже на каком-то ином, новом уровне? Так ли уж случайна игра в слова: rationales теперь стало judiciales, а judiciales превратилось в sensuales? Августин был человеком своего времени, жил им и выражал главные духовные тенденции этого времени, меньше всего задумываясь об этом.
Однако введение рациональной оценки опять возвращает нас от искусства к науке, ибо, конечно, все ее математические достижения, изложенные в первых пяти книгах «De musica». по достоинству могут быть оценены только разумом. Августин стремится исследовать далее сферы деятельности разума и чувственного суждения. Разуму доступно все то, о чем до сих пор писалось в трактате, и прежде всего он постигает, «что есть сама хорошая модуляция, которая заключается в некотором свободном движении, стремящемся к красоте» (VI, 10, 25). Он постигает законы организации ритмов и все числа, связанные с созданием и восприятием искусства, включая и свои собственные числа, как наиболее высокие.
А что же входит в сферу чувственного суждения и на основе чего оно судит? Здесь Августин обращается к тем эстетическим проблемам ритма, которые он наметил во II-V кн. трактата, и развивает их дальше. Прежде всего это касается закона
равенства. Именно на нем во всех его модификациях (равенство, соразмерность, соответствие, пропорция - все это объемлет многозначный термин aequalitas) и основывается «чувственное суждение», или чувство удовольствия (радости, наслаждения - delectatio). На этой ступени восприятия душа не может познать закона равенства, но только чувствует радость от восприятия самого равенства
[720]. «Телесное удовольствие души» не способно даже оценить, истинное ли это равенство, т. е. оно может допустить ошибку, принять неравенство за равенство, и у него нет критерия для исправления ошибки. А что может быть хуже, чем •принять подражание равенству за само равенство, хотя «мы не можем отрицать, что само подражание в своем роде и в своем порядке является прекрасным». Только разум признается Августином окончательным и законным судьей чувственной красоты. Он постигает те закономерности, к которым чувственность лишь стремится (VI, 10, 28)
[721].
Обращаясь, далее, к вопросу о пределах и границах восприятия, Августин опять напоминает, что числами пронизано все бытие от самых грубых материальных предметов до бескрайних космических далей и высших сфер духа, и доводит до логического конца свою теорию числовой организации бытия. Далеко не все из чисел (т. е. закономерностей) универсума доступны нашему восприятию. Правильно ориентированный в духовной сфере человек находится в системе числовой иерархии между высшими и низшими числами. При этом низшие числа не оскорбляют и не раздражают его, но только высшие доставляют удовольствие. Здесь Августин опять вспоминает антипод разума - delectatio, как средоточие всей духовной радости, высшего неописуемого наслаждения души, возникающего при восприятии всего соразмерного и вечного, т. е. практически эстетическое наслаждение. «Ибо, без сомнения, наслаждение является как бы основанием души» (VI, 11, 29)
[722]. Оно упорядочивает душу. А что может быть выше тех чисел, которые содержат высшее, неизменяемое, вечное равенство? Там нет времени, так как нет изменяемости. Эти неизменяемые числа являются причиной и времени, которое создается и упорядочивается как подражание вечности, и всего космического порядка. Вращение неба, возникновение небесных тел и все остальное на звездных путях подчиняются «законам равенства, единства и упорядоченности». С небесными телами объединяются в единую космическую мелодию и подчиненные им земные предметы в круговороте своих исчисляемых времен (VI, 11, 29). «В этом, - развивает далее свою мысль Августин,- многое представляется нам неупорядоченным и расстроенным, ибо о каждом порядке мы судим по своим меркам и не знаем, что божественное Провидение представляет нам [все] прекрасным. Если, к примеру, кто-то встанет как статуя между роскошнейшими и прекраснейшими домами, он не сможет почувствовать красоты всего архитектурного ансамбля, так как сам будет его частью. Столь же мало может увидеть порядок построения всего войска солдат, находящийся на линии битвы. И в любом стихотворении, если слоги звучат какое-либо время, то они живут и чувствуют, но никоим образом им не может нравиться числовая соразмерность и красота соединенных [частей], так как они не могут ни обозреть, ни одобрить целого, ибо каждый из них образуется и имеет совершенство в продолжение быстротечного отрезка времени» (VI, 11, 30).
Таким образом, вечная красота и упорядоченность универсума, по мнению Августина, недоступны восприятию преходящего человека. Знание о высшем равенстве, единстве и упорядоченности он должен принять на веру. Ни восприятию, ни постижению высшая красота, понимаемая здесь как красота универсума, не поддается. Тем не менее она-то и является абсолютной ценностью. Числа же, возникшие в душе, ориентированной на преходящие вещи, также обладают красотой своего рода, но это красота преходяща, и божественное Провидение с досадой взирает на душу, устремленную к ней (VI, 11, 30).
Помимо непосредственного восприятия Августин подробно останавливается на двух видах представлений, связанных, как он считает, с памятью и «действующих против телесных восприятий». Августин обозначает их греческими терминами phantasia и phantasma (ср.: De Trin. XI, 10, 17). Под фантасией он понимает представления, образы, возникшие на основе когда-то бывшего реального восприятия. Однако эти образы неустойчивы и создают предпосылки для ложных суждений. На основе фантасий, которые в различных и противоположных направлениях волнуют душу, возникают новые духовные движения, которые уже не имеют прямой связи с предыдущими телесными восприятиями и чувственными впечатлениями и относятся к ним (подобны им - similes) как «образы образов» (imaginum imagines). Их Августин и называет phantasma. По-одному ибо, пишет он, представляю я себе отца своего, которого часто видел, и по-иному - деда, которого никогда не видел. Первое представление я нахожу в памяти - это фантасия, второе - в движении духа, берущем свое начало в памяти,- это фантасма. «Каким образом возникает и то и другое, трудно понять и объяснить. Все же, я думаю, что, если бы я никогда не видел человеческого тела, никоим образом не смог бы я мысленно образовать его видимую форму. Но и то, что делаю я из того, что я видел, я делаю с помощью памяти; и все же одно - находить в памяти фантасию и другое - делать из памяти фантасму» (VI, И, 32). Фантасмы возникают на основе свободных комбинаций образов когда-то виденных предметов и их элементов. Так, пишет Августин в «De Trinitate», никто не видел черных лебедей или четвероногих птиц, но наше воображение легко может представить себе и тех и других. Управляет фантасией и фантасмой (сознательно или неосознанно) воля (De Trin. XI, 10, 17).
Эти идеи, хотя они во многом и опираются на соответствующие мысли Плотина
[723], представляют большой интерес и для истории средневековой гносеологии, и для истории эстетики. Фантасия означает у Августина нечто близкое к нашему «представлению», но имеющему уже некое отступление от действительности, а фантасма близка к нашему «воображению», «фантазии». Важно, что обе формы мыслительных образов Августин производит от конкретного чувственного восприятия и видит в них две последовательные ступени отхода мысли от этого восприятия в область достаточно свободного воображения. И фантасию и, тем более, фантасму нельзя принимать за истинное представление. Истинное суждение на основе чувственного восприятия составляет, как мы видели, только разум с помощью своих судящих чисел. Тем не менее доля истины, но особой, неформализуемой, содержится и в фантасии, и в фантасме. Не бессмысленно ведь говорим мы, что в первом случае «мы чувствуем это так», а во втором - «мы так это воображаем (imaginari)». «Не без основания я могу сказать, что я имел отца и деда; но сказать, что они были точно такими, как их сохранил мой дух в фантасии или в фантасме, было бы в высшей степени неразумно». Есть, однако, люди, которые все суждения основывают только на своих фантасиях и фантасмах, принимая их за знания, постигаемые чувствами. Августин с осуждением относится к ним (VI, 11, 32).
Последовательно разбирая сначала структуру произведений искусства, затем механизм их восприятия, Августин постоянно помнит изначальную цель своего исследования в данном трактате: подняться от анализа низших материальных чисел к высшим, вечным
[724]. Один разряд таких чисел он нашел в упорядоченной организации космоса. Но те числа практически непостигаемы и далеки от искусства. Выявив пять видов чисел в душе, а также способность образования в ней на основе памяти таких образов, как фантасия и фантасма, он чувствует, что не исчерпал еще внутренний мир человека, и опять пристально всматривается в него. Снова его внимание привлекает память. Оказывается, она способна не только производить «телесные движения духа» типа фантасии и фантасмы, но и содержит еще новый вид чисел -
духовные (spirituales). Что же это за числа?
Если мы обратимся к искусству ритмическому и метрическому, рассуждает Августин, «которое производит стихи», то мы увидим, что это искусство обладает некоторыми числами, в соответствии с которыми и образуются стихи. Числа эти существуют и тогда, когда стиха еще нет. В данном случае термином ars Августин обозначает и искусство как творческую деятельность, и искусство как науку, соответствующую теории искусства. Искусством в первом смысле «является некоторое настроение (или состояние) духа художника»
[725], которое бывает только у того, кто сведущ в теории искусства (VI, 12, 35). В основе законов искусства лежат числа двух видов - преходящие и непреходящие. Первые меняются в различные исторические периоды - с ними связаны, например, изменения длительности тех или иных слогов. Эти числа необходимо изучать. Вторые числа (законы) никогда не меняются, наподобие суммы одного и двух, всегда равной трем. Эти вечные числа постоянно находятся в глубинах нашего духа (они-то и есть spirituales) и, отпечатываясь в уме человека, производят то «настроение» (affectio), которое и называется «искусством». Числа эти даны душе Богом. Поэтому даже тот, кто никогда не слышал об искусстве и его числах, с помощью наводящих вопросов может ему научиться. Он просто вспомнит, побуждаемый словами спрашивающего, то, что находится в глубинах его духа, но еще не всплыло в памяти.
Для истории эстетики приведенные мысли интересны тем, что Августин дает здесь новую дефиницию искусства с точки зрения непосредственного творческого акта. Определяющим в этом акте оказывается настроение, состояние духа художника, а не ratio, хотя далее он дает понять, что это «настроение» не субъективное состояние духа, а отпечаток в уме вечных духовных чисел.
Законы искусства Августин разделяет на непреходящие и изменяющиеся во времени. Эта важная для эстетики мысль, по всей видимости, была впервые сформулирована именно Августином.
Далее автор трактата «О музыке» ставит интересный вопрос. Если вечные числа заложены в душе, то почему же дух наш всякий раз, а часто и изначально, уклоняется от их рассмотрения? Что отвлекает его от «вечного равенства», выше которого ничего нет? Конечно же то, что мы больше всего любим. А что можем мы любить больше, чем прекрасное? Правда, говорят, что есть и «такие, которые любят безобразное (deformia) и которых греческое простонародье называет σαπροφίλοι (любители тухлятины);
[726] различие, однако, состоит лишь в том, насколько меньше содержится прекрасного в этом (т. е. безобразном. -
В. Б.), чем в том, что нравится большинству. Ясно, однако, что никто не любит того, от чьего безобразия (foeditas) чувство терпит неудовольствие» (VI, 13, 38). Прервем на минуту мысль Августина, ибо здесь мимоходом он высказывает, опять же впервые в истории эстетики, очень важную и основополагающую для всей средневековой эстетики мысль. В глазах христианина мир - творение божественного Художника (см. гл. VII), и ничто в нем не может быть абсолютно безобразным. Существует только абсолютная красота. То, что кажется безобразным, просто содержит очень мало прекрасного. Недостаток прекрасного и расценивается как безобразное. Но и в безобразном можно усмотреть свою, хотя и малую красоту. Не зря же существуют σαπροφίλοι? И для безобразного Августин вводит определенную градацию. То безобразное, которое еще хоть кто-то может любить, - это deformia, а то, которое доставляет страдание чувству,- это уж нечто совсем мерзкое - foeditas.
Итак, развивая дальше свою мысль о том, что прекрасное в материальном мире, которое все так любят, отвлекает дух от созерцания «вечных, абсолютных истин», Августин расширяет и дополняет свое изложенное ранее понимание прекрасного и лежащего в его основе «равенства». «Прекрасное,- пишет Августин,- нравится через число, в котором, как мы уже говорили, [оно] достигает равенства (соразмерности). Эта красота встречается не только в области слышимого или в движениях тела, но также и в самих визуальных формах, в связи с которыми чаще всего говорится о красоте». Однако не следует думать, что равенство (или симметрия) бывает только одного типа, когда один, непарный член занимает место посредине, а по обе стороны от него парные члены располагаются на равных расстояниях. Как же тогда оценивать красоту цвета и света, которые тоже радуют нас, т, е. красоту простых, не состоящих из частей, образующих равенство, предметов? - вслед за Плотином спрашивает Августин и отвечает уже по-своему. «Что же иное ищем мы в свете и цветах, если не то, что соответствует (congruit) нашим собственным глазам? Ибо от чрезмерного блеска мы отворачиваемся, но не желаем видеть и сплошную тьму, так же и чрезмерно громкие звуки нам неприятны, но не любим мы и невнятное бормотанье... В этом [восприятии] стремимся мы к тому, что соответствует мере нашей природы (convenientia pro naturae nostrae modo), а несоответствие мы отвергаем, хотя знаем, что другие существа его принимают. Не радуемся ли мы закону равенства, когда узнаем, что все существующее таинственным образом распределено в соответствии с этим законом? Доказательство того, что в области обоняния, вкуса и осязания мы чувствуем все по тем же законам, увело бы нас далеко, но легко показать, что и в сфере этих ощущений нет ничего, что нравилось бы нам не по закону равенства или подобия; а где равенство или подобие, там - числовое соответствие; нет ничего более равного или более подобного, чем один и один» (VI, 13, 38).
Итак, для простых, не состоящих из частей эстетических объектов «закон равенства» сводится к «соответствию мере нашей природы», т. е. к соответствию объекта определенным психическим характеристикам субъекта. Этот вывод, собственно, напрашивался уже ранее, когда Августин излагал теорию чувственного восприятия, но там его интересовали другие стороны вопроса. Эстетическая мысль поздней античности, таким образом, все активнее и последовательнее обращается от анализа закономерностей только произведения искусства к анализу системы: произведение искусства - психика субъекта восприятия, ибо уже осознается, что без анализа последней и в первом далеко не все оказывается ясным. Закон соответствия и соразмерности частей объекта теперь переносится на соответствие отдельных элементов объекта элементам психики (души) субъекта. Конечно, приоритет здесь принадлежит не Августину. Идеи эти в той или иной форме встречаются у его предшественников - как христианских (Василий Великий), так и нехристианских мыслителей. Во многом они восходят к плотиновскому пониманию красоты и ее восприятия (см. гл. VI). Августин, неплохо зная и по-своему переосмысливая плотиновские идеи, стремился развить их дальше, ибо они хорошо соответствовали философско-эстетической атмосфере его времени. В частности, в рассматриваемой книге трактата «О музыке» он пытается конкретизировать, с одной стороны, и математизировать - с другой, самую сущность красоты. В основу равенства и соответствия, составляющих ядро красоты, и в основу самих процессов восприятия и творчества Августин закладывает не абстрактную плотиновскую идею, но более конкретное «число» (numerus), что позволяет ему усмотреть нечто общее в законах творчества, восприятия, теории искусства и в самом произведении искусства. Это, конечно, новый шаг в истории эстетической мысли после слишком уж абстрактной эстетической эйдологии Плотина, хотя и базирующейся на ней.
Продолжая далее исследовать причины, отвлекающие душу от созерцания вечных истин, Августин постоянно вращается в круге эстетических проблем, ибо оказывается, что все связанное с искусством и прекрасным наиболее активно привлекает душу. Забота о чувственных удовольствиях уводит душу в область откликающихся чисел (occursores). Стремление к активной творческой деятельности возбуждает числа progressores. «Если отвлекают ее фантасия и фантасма, то так работает она с числами памяти (recordabiles). Если, наконец, ее отвлекает любовь к суетнейшему познанию подобных же вещей, то тогда действует она с чувственными числами (sensuales), в которых как бы обитают некие правила искусства, доставляющего радость через подражание» (VI. 13, 39). В последнем случае имеется в виду собственно эстетическое восприятие, основанное на чувстве удовольствия. Важно, что и этот вид восприятия Августин считает познанием (cognitio) и. более того, усматривает в законах восприятия «правила искусства» (regulae artis), притом искусства миметического. Сфера восприятия и чувственного суждения (числа sensuales) оказывает, таким образом, на что уже указывалось выше, прямое воздействие на процесс создания произведений искусства. Эту же мысль он развивает подробнее и в 14-й гл. VI кн. Именно «чувственные числа» (числа чувственной способности суждения - sensuales) участвуют в организации ритмов, метров, стихов. С их помощью возникают различные стопы, долгие слоги сменяются краткими, замедляется чтение в нужных местах, т. е. везде, где музыка расходится с грамматикой, действуют числа sensuales. Разум судит, опираясь на них, сравнивая одни размеры (стихотворные) с другими. Ими определяются и правила о начале и завершении стиха и т. п. (VI, 14, 47).
Высказывая столь интересные мысли в области эстетического, Августин в последних главах VI кн. «De musica» относится к этой сфере уже не очень одобрительно. Ведь она отвлекает душу (и так активно отвлекает!) от созерцания абсолютных божественных истин, порождает любопытство, которое «является врагом душевного спокойствия и в [своей] суетности лишено истины» (VI, 14, 47). Здесь Августина терзают противоречия, не оставлявшие его на протяжении всей последующей жизни. С одной стороны, он ощущает огромную притягательность эстетической сферы, видит ее гносеологическую, прежде всего, а иногда и морально-этическую ценность и поэтому уделяет так много внимания ее анализу, высказывая ряд глубоких и оригинальных мыслей. С другой стороны, ему никак не удается ввести ее на основе равноправного, имеющего свое определенное место элемента в систему своего христианско-неоплатонического миропонимания. В своей онтологии (лучше всего он показал это в трактате «О порядке») Августин нашел уже свое определенное место не только красоте, но и злу, и безобразному, и всему негативному в общей упорядоченной системе мироздания, притом такое место, где все это негативное, находясь на своем месте, способствует организации общего порядка и красоты универсума. В гносеологии же, поставившей своей главной целью постижение Бога, а в связи с искусством - высших, вечных истин искусства, высших законов равенства и т. п., найти место чувственно воспринимаемым и доставляющим радость объектам и самому эстетическому восприятию Августину удается только отчасти, причем в поздний период своего творчества в суждениях о музыке и о красноречии (см. гл. VIII). В трактате «О музыке» он только ведет активный поиск в этом направлении.
Интересно отметить, что поиск новых духовных ценностей хотя и проходит в «De musica» под знаком только что принятого Августином христианства, но далеко не всегда в своих выводах соответствует ему. В частности, в области мимесиса Августин стоит на твердых классических позициях, близких к аристотелевской, и часто как бы вообще ничего не знает ни о неоплатонической, ни о христианской тенденциях в этом плане
[727].
Показывая достаточно подробно, на что отвлекается душа от «вечных истин», хотя она часто и знает о их существовании, Августин нередко опирается на свой жизненный опыт, о чем он так ярко писал в «Исповеди». Это придает его теоретическим рассуждениям особую ценность, ибо они не книжны, а основаны на личном опыте, на личных переживаниях и душевных противоречиях. Так, делает вывод Августин, вспоминая, видимо, свое еще близкое прошлое, «душа, обладая знаниями, на которых она могла бы основываться, необязательно может укрепиться в них» (VI, 13, 42). Душа разрывается между земным и небесным, преходящим и вечным, чувственной красотой и абсолютным идеалом, часто отдавая предпочтение первому. И это не дает покоя африканскому мыслителю, мучительно ищущему выход из создавшегося противоречия, ибо отбросить чувственное, земное, материальное он не может, но не может и полностью принять их, когда вспоминает об абсолютном. Августин постоянно стремится показать, что сам по себе материальный мир, с его «низшей» красотой и телесными числами неплох и прочно занимает свое место в универсуме, но любовь души к этому миру не поощряется им, так как она, останавливаясь на этой ступени бытия, утрачивает перспективу высших духовных ценностей. Что легко для души? - вопрошает он и с горечью отвечает: любить цвета и звуки, сладость и розы, т. е. все то, в чем она ничего не желает иного, кроме равенства и подобия (именно эстетический объект, добавили бы мы теперь). Но ведь в этом она познает только их (равенства и подобия) слабую тень и полустершийся след. А любить Бога, в котором не может содержаться ничего неравного, неподобного себе, ничего заключенного в определенном месте, ничего преходящего во времени, для души тяжело. При возведении больших зданий и им подобных сооружений, если не насмехаются над «законом искусства», не радуют ли нас исключительно числа, которые здесь являются соразмерными и подобными? «Если это так, то зачем душа спускается от того истиннейшего свода равенства к этому и возводит на его руинах земной помост?.. Очень трудна любовь этого мира. Ибо то, чего душа ищет - постоянства и вечности, не обретает в нем, так как в преходящих вещах содержится низшая красота и они только подражают постоянству, которое передается через душу от высшего Бога» (VI, 14, 44).
Подходя к завершению трактата «О музыке» и вроде бы уже окончательно выяснив отношения между числами телесными и абсолютными, небесными, Августин вспоминает христианскую идею воскресения и восстановления плоти и опять обращается к телесным числам, дополняя свою числовую систему новыми штрихами из области творчества и онтологии. Предварительно он останавливается еще на восьми добродетелях, которые помогают душе избегать превратности судьбы и не отклоняться от истинного пути. Это четыре низшие добродетели: благоразумие (prudentia), воздержание (temporantia), твердость (fortitudo) и справедливость (justitia), и еще четыре - высшие и совершенные: упорядоченность (ordinatio), бесстрастие (impassibilitas), освященность (sanctificatio) и созерцание (contemplatio) (VI, 16, 51 - 55). С их помощью душа преодолевает любовь к преходящим вещам и вкушает «сладость» вечного.
Подводя итог своим исследованиям в области метафизики чисел, Августин резюмирует: весь мысленный и материальный космос - упорядоченная система чисел. Душа человека находится между Богом и миром. Она управляется Богом с помощью чисел и сама управляет числами (ритмами) телесного уровня. Все соисчислимое прекрасно, но числа телесного уровня обладают минимальной красотой. Прекрасны числа благодаря законам равенства, подобия и порядка.
Однако как возникли телесные числа, т. е. практически весь материальный мир? Христианство утверждает, что он был создан Богом из ничего, и Августин, еще во власти античной философии, стремится доказать эту заведомо недоказуемую (в восточной патристике уже и в это время она считалась априорной) посылку если не «диалектическим» способом, то хотя бы с помощью аналогии. Как к ближайшей аналогии он обращается к творчеству художника и рассматривает его в данном случае с сугубо идеалистической позиции, хотя до этого он постоянно придерживался классической миметической теории. Смысл доказательства сводится к тому, что если художник может из одних (разумных) чисел создавать другие (телесные), то всемогущий творец - Бог, конечно же, может создать все числа, т. е. мир из ничего. Имеет смысл подробнее проследить эти заключительные рассуждения.
«Если художник (faber), - пишет Августин, - действительно может из чисел разума (rationahiles), которые находятся в его искусстве, сделать чувственные числа (sensuales), которые ему присущи, и эти sensuales превратить в движущиеся вперед числа (progressores), с помощью которых он движет своими членами при работе, и при этом уже появляются временные интервалы, и если он ими (progressores. - В. Б.) изготовит видимые формы из дерева, которые в своем пространственном членении соответствуют числовым закономерностям, то не может ли сама природа вещей, само дерево (в данном случае. - В. Б.), повинуясь указанию Бога, быть изготовлено из земли и других элементов? А эти, последние, не должны ли сами [возникнуть] из ничего?» Конечно, и дереву предшествовали пространственные и временные числа, ибо в каждом корне шевелится уже в скрытых числах та сила, которая приходит от семени и создает в соответствующее время ростки, стебли, листья, плоды и новые семена. Значительно сильнее открывается это в телах живых существ, чьи члены еще больше выявляют числовое равенство (parilitas). Если все это может состоять из элементов, не могут ли сами элементы возникнуть из ничего? В них содержится нечто более низкое (в смысле структурной организации), чем земля. Последняя обладает основным свойством тел, которое обнаруживается в единстве, числе и порядке. Неотъемлемым свойством земли (как вещества) является то, что каждая ее мельчайшая частица имеет три измерения (длину, ширину, высоту), чтобы быть способной принять форму тела. «Откуда у земли и соразмерность (aequalitas) частей, которые в длину, ширину и высоту простираются? Откуда и разумное соотношение (corrationalitas - так именно хотел бы я назвать аналогию), которое сообщается даже самым маленьким неделимым частям, так что [отношение] ее ширины к длине и ее высоты к ширине находятся в разумном отношении? Откуда, спрашиваю я, все это может прийти, если не от того высшего и вечного начала чисел, подобия, равенства и порядка? И если ты лишишь землю всего этого, станет она ничем (nihil erit). Только так всемогущий Бог создал землю, и из ничего земля была создана» (VI, 17, 57). Коснувшись земли, Августин должен традиционно сказать и о других основных элементах. Исходя из принципа максимального единства частей и степени их подобия друг другу, он заключает, что вода прекраснее земли, воздух прекраснее воды, а прекраснее его верхние слои неба. Во всех этих элементах находятся пространственные числа и постоянно протекают временные числа. Без них эти элементы ни существовать, ни иметь своей формы не могут.
Еще выше их - «разумные и духовные числа существ духовных и святых, которые воспринимают без посредствующей природы закон Бога; тот закон, без которого ни один листок не упадет с дерева, по которому сосчитан каждый наш волос и который они, ангелы, передают земным и подземным силам» (VI, 17, 58). Этой проникновенной мыслью, отчасти предвосхищающей то, что вскоре так подробно разработает знаменитый на все Средние века Doctor hierarhicus - Псевдо-Дионисий Ареопагит, и заканчивает Августин свое сочинение «О музыке». Логикой внутреннего развития христианское мышление и на Западе, и на Востоке приходит к иерархическому пониманию универсума. У Августина - это иерархия чисел. В ней «мир расчленен на ступени таким образом, что внутри этого порядка каждая ступень имеет свою позитивную ценность; так же и чувственность, которая лишь подражает равенству, обладает своей специфической красотой, поскольку и она этому равенству подражает»
[728]. Смысл иерархической лестницы чисел в том, что она может стать регулятором жизни, устремленной к познанию универсума и его Первопричины. В этом плане и числа, принадлежащие искусству, должны возводить человека от чувственной жизни к жизни в ratio.
С определенной степенью условности числовая система Августина, включающая процессы эстетического творчества и восприятия, может быть представлена следующим образом. Высшее место среди созданных Богом чисел занимают вечные неизменяющиеся числа: разумные и духовные числа небесных чинов и пространственные и временные космические числа - источник всякого пространства и времени. Далее идут преходящие числа, а также числа материального мира, включающие верхние слои неба, воздух, воду и землю, и числа человека, состоящие из телесных чисел и чисел души. Последние, как мы видели, Августин подверг детальной разработке, постоянно обращаясь к тому или иному их аспекту на протяжении всей VI кн. «De musica».
Здесь проявились, с одной стороны, христианская неоплатоническая духовная ориентация автора, а с другой - его эстетические склонности и интересы. Именно этим объясняется отсутствие интереса у Августина к числам материального мира. О них, как мы видим, он вспоминает только в конце трактата, да и то мельком. Скажем, традиционный для античности огонь вообще ускользает здесь от его внимания. Не останавливается он и на такой категории, как «свет», хотя в одном месте, мельком опять же, показывает, что и свет может быть отождествлен с Христом и с Премудростью Божией (VI, 16, 52). Что касается чисел души, то среди них высшее место занимают числа разума, который берет начало от самого Бога. Эти числа имеют два названия: «судящие» - для процесса восприятия и «разумные» - для творчества. Далее идут sensuales, progressores, occursores и recordabiles с фантасией и фантасмой. О них уже было достаточно сказано.
Разум является изобретателем искусств. Самой системы искусств здесь Августин не дает, так как он занимался ею еще в трактате «О порядке», поэтому и мы не останавливаемся на них особо. Числа искусств делятся на теоретические и практические (телесные). Теоретические - это правила, или законы, искусства, в соответствии с которыми и творит художник. Это прежде всего духовные числа (spirituales), данные художнику от Бога и хранящиеся в глубинах памяти. Воздействуя на разум, они вызывают у художника особое творческое «настроение», «переживание» (affectio), которое и составляет основу творческого процесса. Это, так сказать, аффективный, внесознательный компонент творческого процесса, берущий начало непосредственно от Бога. Далее идут «рациональные» (или разумные) числа - правила искусства, диктуемые разумом. Однако, как показывает Августин, они входят и в теорию искусства, хотя и участвуют в творческом процессе не непосредственно, а через «чувственные» числа (числа эстетической способности суждения - sensuales). Кроме того, в теорию искусства входят и преходящие, исторически меняющиеся законы искусства и миметические числа, ибо искусство мыслится Августином прежде всего как подражательное. При этом одни искусства больше «подражают» числам материального мира (живопись, скульптура), другие - космическим числам (поэзия и музыка). Практические числа искусства - это те телесные (corporales) числа, которые звучат в стихах, метрах, ритмах и т. п.
Процесс творчества заключается в том, что все числа, отнесенные к теории искусства, воздействуют (rationabiles через sensuales, а spirituales через affectio) на производительные числа (progressores), волитивные числа, которые руководят телесными числами, т. е. определенными движениями рук, голоса художника, в результате чего и возникает произведение искусства. Процесс восприятия прост, и о нем уже много говорилось в данной главе. Такова условная схема эстетического творчества и восприятия, по Августину.
Конечно, не все нашло в ней отражение. Скажем, главные эстетические принципы, такие, как единство, равенство, соразмерность, подобие, порядок, красота, основанные на числах и пронизывающие всю представленную им систему, от высших ступеней к низшим, как на онтологическом, так и на психологическом уровнях, наглядно изобразить не удается. Но и то, что удалось показать, отчетливо выявляет как безусловные находки Августина, так и определенную однобокость его числовой системы. О находках мы уже много говорили. Однобокость является прежде всего следствием абстрактно-рационалистической ориентации автора. И эта ориентация, возникшая под влиянием в первую очередь пифагорейства, неоплатонизма и, отчасти, христианства, в целом далека и от античной классической эстетики, и от средневековой. Она - специфический продукт переходного периода. Суть ее сводится к тому, что Августина в трактате «О музыке» почти не интересует содержательная сторона искусства
[729]. Все его внимание направлено на систему абстрактных закономерностей (чисел), воплощающихся в определенной форме искусства и доставляющих удовольствие при восприятии, и ни слова, даже мимоходом, не сказано о его содержательной стороне. И классики древности, которых знал Августин,- Платон, Аристотель, Феофраст, Цицерон, и практически все христианские мыслители, начиная с апологетов II - III вв. и кончая поздним Средневековьем и Возрождением, выдвигали на первое место в искусствах именно содержательную сторону
[730]. Но, несмотря на это, эта односторонность, как это ни парадоксально, позволила Августину уделить основное внимание психологии творчества и восприятия, сделать интересные эстетические выводы.
Пристальное внимание Августина к внутреннему миру человека, к механизмам восприятия, познания, творчества, дало ему возможность поставить на обсуждение проблему эстетического восприятия и связать в одну систему сферы творчества, восприятия и само произведение искусства на основе психологии и теории чисел. Именно психологическая часть эстетики Августина, наиболее подробно изложенная в VI кн. трактата «О музыке», явилась самой оригинальной частью его эстетического учения
[731], отделившей августиновскую эстетику от эстетических учений древности и наметившей многие черты эстетики средневековой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многообразные пути развития позднеантичной средиземноморской цивилизации привели в начале нашей эры к поискам некоторых синтетических образований на основе греко-римских и древнееврейских (и шире - ближневосточных) духовных и культурных феноменов. Реальную почву они обрели в новом религиозно-мировоззренческом движении - христианстве. Его первые теоретики, защитники и пропагандисты - апологеты, опираясь на новый религиозный опыт, Св. Писание (и прежде всего - на только что обретенные тексты Нового Завета), а также - на весь культурно-духовный опыт античности, предприняли критический анализ многих сторон предшествующей культуры с позиций новой религиозной идеологии. Построение христианской культуры они начали фактически с создания своего рода несистематизированной критической культурологии, в рамках которой значительное место заняли проблемы, определяемые современной наукой как эстетические.
На основе Св. Писания апологеты заложили такие фундаментальные предпосылки новой художественно-эстетической культуры и нового эстетического сознания, как вера в Воплощение Логоса, христианское понимание человека в единстве его души и тела; концепция любви; идея творения мира из ничего; антиномизм на дискурсивном уровне мышления и осознание сверхразумного опыта в качестве его более высокой формы; концепция сотворения человека «по образу и подобию» Бога; глобальный символизм.
Естественно, что основные богословско-мировоззренческие проблемы христианства были лишь частично поставлены апологетами. До их окончательной разработки и канонизации было еще далеко. Только в IV в. Отцы Церкви займутся их подробным и всесторонним осмыслением. Однако пафос первооткрывателей истины, характерный для ранних Отцов Церкви, как и вера в абсолютность этой истины, побуждал их смело высказываться по всем вопросам культуры, приводя нередко к глубоким интуитивным прозрениям, в том числе и в эстетической сфере. Именно апологеты выдвинули многие из тех эстетических идей (касающихся понятий образа, символа, аллегории, знака, их места в культуре; прекрасного, искусства), которые затем более основательно будут разработаны их последователями по aesthetica patrum, и в частности Блаженным Августином.
Первые Отцы Церкви подходили к культуре античности с позиций христианского гуманизма. Особо непримиримо относились они к зрелищным искусствам, осуждая жестокость гладиаторских боев, травли зверей, безнравственность мимических представлений, бездуховность «массовой культуры» имперского Рима. Критическое отношение к изобразительным искусствам побудило ранних Отцов Церкви поставить и ряд интересных теоретических проблем. Одна из них - о роли искусств в происхождении античных религий и культов. Отсюда - иконоборческие тенденции в раннехристианской эстетике. Другая проблема связана с иллюзионизмом позднеантичных изображений. Многие мыслители того времени относились скептически, а порой и резко враждебно к этим изображениям и выдвинули на смену античной категории мимесиса понятие фантасии, более «мудрой художницы», по выражению Флавия Филострата, чем подражание.
Большое внимание апологеты уделили вопросам творчества и отношения к художнику в новой культуре в связи с идеей творения мира из ничего. Понимание мира как высшего художественного произведения, созданного Богом по законам меры, порядка и красоты, подняло на новую высоту и проблему человеческого творчества, в частности художественного. Художника начинают отличать от ремесленника. По-новому понимается в этот период и прекрасное в мире и в искусстве. Природная естественная красота, и особенно красота человека, ценится многими апологетами значительно выше красоты искусства. Отсюда борьба с роскошью, косметикой, украшениями. При этом раннехристианские мыслители руководствовались не только эстетическими мотивами. Борьба с богатством, как источником зла, насилия и несправедливости в мире, играла здесь не меньшую роль. Особенно это характерно для II - нач. III в.
Апологетам принадлежит приоритет во введении в обиход христианской культуры такой важной категории, как символический образ в трех его главных модификациях: подражательный (миметический), символико-аллегорический и знаковый.
Анализ эстетических концепций и представлений Аврелия Августина показывает, что им фактически была создана сложная
эстетическая система, единая и достаточно стабильная в целом, хотя и не лишенная противоречий и определенных моментов развития в частностях. Не изложенная систематически, эта своего рода «несистематическая система» Августина тем не менее, без сомнения, является наиболее полной и развитой эстетической системой античности
[732]. И это не случайно. Ряд объективных и субъективных факторов способствовал появлению этой системы. Среди них можно указать хотя бы на следующие. В духовной культуре поздней античности ко времени Августина преобладали внерациональные формы и движения. Истину искали не в естественнонаучных знаниях или в философии, но на путях религиозного, мистического, сверхразумного опыта. В этой атмосфере эмоционально-эстетический подход к миру приобретал особое значение. Августин, на что мы неоднократно указывали, был от природы одарен обостренной эстетической восприимчивостью. Кроме того, он хорошо знал, хотя и не всегда из первых рук, основные эстетические концепции античности, как западной, так и восточной. Все это побуждало его постоянно обращаться к эстетической проблематике, притом в самых ответственных моментах своей общей философско-богословской теории. Это и привело его к созданию собственной эстетической системы, хотя, естественно, такой задачи перед собой он и не ставил.
Эстетическая система Августина теоцентрична и составляет важную часть его общемировоззренческой системы. Центром ее - абсолютной Красотой, но также и абсолютным Благом и абсолютной Истиной является Бог. Весь материальный и духовный мир предстает в этой системе произведением Бога, высшего Художника, сотворившего его по законам красоты. Поэтому все в мире (материальном и духовном) носит на себе ее следы. В онтологической иерархии прекрасное выступает одним из главных показателей бытийственности. Безобразное свидетельствует об отсутствии красоты и, соответственно, бытия. Понятно, что духовная красота занимает в этой системе верхние иерархические ступени. Все сказанное относится в одинаковой мере как к универсуму, так и к социуму и отдельному человеку.
В реальном человеческом обществе, представлявшемся Августину сложным конфликтным взаимопереплетением двух градов - града земного и града Божия, восхождение по ступеням красоты является одним из главных путей духовного совершенствования человека, ведущим его к достижению вечной блаженной жизни. Само блаженство предстает в изображении Августина, по сути дела, высшей ступенью эстетического наслаждения - это некое состояние бесконечно длящейся неописуемой радости, беспредельного ликования духа, высшее духовно-эмоциональное наслаждение: это абсолютно бескорыстное, лишенное малейшего элемента утилитаризма удовольствие. И оно в системе Августина является главной целью устремлений человека, пределом его мечтаний. Блаженство, по Августину,- не только высшая (будущего века) ступень бытия человека, но и желанный итог его познавательной деятельности - это состояние высшего, бесконечного абсолютного познания Истины. И хотя Августин, в силу, может быть, известной молодости и неискушенности латинского философского мышления того времени, оставался даже в облачении епископа последовательным приверженцем ratio, безраздельно верившим в его безграничные возможности, высшая ступень познания - vita beata представлялась ему состоянием сверхразумным. Отсюда и удивительно высокое место любви в его системе, в качестве главнейшего экзистенциального и гносеологического фактора. Любят же люди только прекрасное. Мир, однако, как ясно видит Августин, наполнен отнюдь не только прекрасными и добрыми вещами и явлениями. Он приходит к осознанию глобальной упорядоченности в мире (ведь он - прекрасное творение Бога!) всех позитивных и негативных явлений, т. е. в определенном смысле к одному из первых в истории философии осмыслений диалектической взаимосвязанности всех природных и социальных явлений. Для эстетики существенным оказывается возведенный Августином в норму закон контраста, или оппозиции, на котором и держится гармония мира.
Основные структурные закономерности бытия у Августина почти полностью сводятся к собственно эстетическим законам. Это прежде всего целостность и единство, затем число (или ритм), которое определяет все формы бытия, далее - равенство, подобие, соответствие, соразмерность, симметрия, гармония. Все они лежат и в основе искусства. Как Бог сотворил мир по законам красоты, так и человек-художник стремится строить на них свою деятельность. Содержащееся в его духе искусство и есть комплекс всех законов красоты, по которым он должен создавать конкретные произведения. Главным содержанием искусства является красота, и ценность произведения искусства определяется степенью выраженности в нем этой красоты. Понятно, что большей ценностью обладают искусства, выражающие более высокую ступень красоты, т. е. прежде всего красоту духовную. Августин не отрицает этим миметическую функцию искусства, но выше ценит «подражание» духовной красоте, чем красоте конкретно-чувственной. Поэтому музыка и искусство слова стоят в его системе на более высокой ступени, чем изобразительные или зрелищные искусства. Все искусства, по Августину, должны способствовать или непосредственному постижению той или иной ступени красоты, или приобщению человека к духовным, в частности философско-религиозным, ценностям. Выполнить это свое назначение они могут одним из двух способов: или путем прямого эмоционально-эстетического воздействия на субъект восприятия (например, как юбиляция в музыке), или с помощью своей знаково-символической функции. Изучение этих способов эмоционально-эстетического воздействия приводит Августина, с одной стороны, к детальной разработке знаковой теории, а с другой - к исследованиям в области эстетического восприятия, т. е. к созданию двух наиболее оригинальных концепций в его эстетической системе.
Таким образом, Августин, пожалуй, впервые в истории эстетической мысли, оказался невольным создателем целостной эстетической системы, включающей в себя все ее основные компоненты: эстетический объект (природа и искусство), эстетическое содержание (красота), эстетический субъект, процесс эстетического восприятия (и суждения) и творчества. И компоненты эти представлены в системе Августина не механически (тогда бы, собственно, и нельзя было говорить о системе), но в их реальной взаимосвязи и сложных переплетениях.
Эстетическая система Августина включает в себя почти все основные достижения эстетической мысли античности. Наряду с этим в ней много и новых, собственно августиновских находок, на которых мы подробно останавливались. Историки эстетики по праву видят в нем последнего античного и первого средневекового эстетика
[733] и почитают его, наряду с Псевдо-Дионисием, как родоначальника «тысячелетней эпохи средневековой эстетики»
[734]. К этому можно, пожалуй, добавить только следующее.
Еще при жизни Августина Рим пал и непрерывная линия развития эстетики надолго прервалась на Западе. Следы эстетики, «не только античной, но и новой эстетики Августина», стали быстро стираться
[735]. Поэтому Августин не имел прямых последователей и продолжателей. Только эстетика зрелого Средневековья активно восприняла и развила дальше многие его идеи. Однако в Средние века не нашлось мыслителя, который смог бы построить более полную эстетическую систему, чем августиновская. Эстетика Августина явилась нормой и образцом для средневековой эстетики, а многие ее положения оказались созвучными и художественному мышлению Средневековья. Более того, некоторые идеи Августина (к примеру, отдельные положения его знаковой теории, его учения о механизме эстетического восприятия и суждения, его рассуждения о структурных закономерностях красоты и искусства, в частности, закон контраста и т. п.) сохранили свою актуальность и до наших дней.
Итак, у первых Отцов Церкви в основном апологетической ориентации (на этом основании, как мы помним, в этот том был помещен и Блаженный Августин) начали складываться основы новой, христианской культурологии и новой эстетики. Последнее для нас имеет не только чисто академический интерес. Как известно, искусство, как и художественная культура в целом, является концентрированным носителем практически непроходящих ценностей. Во всяком случае, духовные ценности, нашедшие выражение в художественной культуре, оказываются, как свидетельствует исторический опыт, значительно более долговечными, чем ценности научные, философские и даже религиозные... Вспомним хотя бы об эстетической значимости многих наскальных росписей неолита, древнеегипетского, шумерского или вавилонского искусства. Да и Древняя Греция актуальна для нас сегодня вовсе не своей религией, и даже - не аристотелевской философией (хотя вся последующая западноевропейская философия и базируется на ней), а своим искусством - пластическим и словесным. Аристотель интересен сегодня только историкам философии, а поэмы Гомера, античная трагедия или греческая пластика классического периода являются мощным источником духовной пищи для нашего современника, обладающего, естественно, достаточно развитым эстетическим восприятием, т. е. эстетическим сознанием.
Эстетическое сознание - наиболее древняя и универсальная форма духовного мира человека, при этом - высокоразвитая и ориентированная на глубинные, сущностные основы бытия. Именно поэтому эстетические ценности, как универсальная квинтэссенция духовного потенциала Культуры, оказываются менее всего подвержеными коррозии времени и менее всего зависят от языковых, этнических, религиозных и т. п. границ, существенно влияющих на другие ценности и формы сознания. Отсюда - особая значимость изучения эстетического сознания других народов, других периодов истории культуры и прежде всего - древних. Это относится и к патристике. И хотя Отцы Церкви специально не занимались эстетической сферой и даже не подозревали о ее существовании, объективно они были «полноценными» и «добросовестными» носителями эстетического сознания своего времени, которое в их период, пожалуй, наиболее полно и адекватно воплотилось (хотя и в крайне диффузном виде) именно в их бесчисленных текстах, посвященных самой разнообразной богословской проблематике. Несколько позже оно (в Византии и Древней Руси) найдет и более адекватные формы в художественной культуре. Однако в период перехода от античной культуры к христианско-средневековой (и особенно - православной) новое эстетическое сознание и формировалось, и выражалось, и сохранялось наиболее полно в святоотеческой письменности. И, может быть, для будущих поколений именно этот пласт патристики, aesthetica patrum, окажется наиболее значимым и актуальным.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
| БТ - Богословские труды. Москва. |
| ВВ - Византийский временник. |
| ВДИ - Вестник древней истории. |
| ПМЭМ - История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. |
| CSEL - Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum. Wien. |
| DOP - Dumbarton Oaks Papers. Cambridge/Mass. |
| GCS - Griechische christliche Schriftsteller der ersten Jahrhunderte. Berlin. |
| PG - Patrologiae cursus completus. Ed. J.-P. Migne. Series graeca. Paris. |
| PL - Patrologiae cursus completus. Ed. J.-P. Migne. Series latina. Paris. |
| SP - Studia Patristica. Berlín. |
| TU - Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. Berlin. |
УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОТЦОВ ЦЕРКВИ
Августин
Aductationes in Job (Aduct. in Job) - Примечания к книге Иова
Confessiones (Conf.) - Исповедь
Contra academicos (Contr. acad.) - Против академиков
Contra epistulam Manichaei (Contr. ep. Man.) - На послание манихея
Contra Faustum Manichaeum (Contr. Faust.) - Против Фавста-манихея
De beata vita (De beat. vit.) - О жизни блаженной
De catechisandis rudibus (De cat. rud.) - Об обучении оглашаемых
De civitate Dei (De civ. Dei) - О Граде Божием
De consensu evangelistarum (De cons. evang.) - О согласии евангелистов
De diversis quaestionibus (De div. quaest.) - О различных рассмотрениях
De doctrina christiana (De doctr. chr.) - О христианской науке
De fide et operibus (De fid. et oper.) - О вере и деяниях
De fide et symbolo (De fid. et symb.) - О вере и символах
De Genesi ad litteram (De Gen. ad lit.) - О Книге Бытия буквально
De Genesi ad litteram liber imperfectura (De Gen. ad lit. imp.) - О Книге Бытия буквально, незаконченный трактат
De Genesi contra Manicheos (De Gen. contr. Man.) - О Книге Бытия против манихеев
De immortalitate animae (De immort. anim.) - О бессмертии души
De libero arbitrio (De lib. arb.) - О свободном выборе
De magistro (De mag.) - Об учителе
De musica (De mus.) - О музыке
De natura boni contra Manicheos (De nat. bon.) - О природе добра против манихеев
De opere monachorum (De op. monach.) - О деяниях монахов
De ordine (De ord.) - О порядке
De quantitate animae (De quant. anim.) - О количестве души
De spiritu et littera (De spirit. et lit.) - О духе и букве
De Trinitate (De Trin.) - О Троице
De utilitate credendi (De util. cred.) - О пользе веры
De vera religione (De vera relig.) - Об истинной религии
Enarrationes in Psalmos (Enar. in Ps.) - Толкования на псалмы
Enchiridion ad Laurentium (Enchirid.) - Руководство для Лаврентия
Epistulae (Ер.) - Послания
Tractatus in Ioannis evangelium (In Ioan. ev.) - Трактат на Евангелие от Иоанна
Retractationes (Retr.) - Обзор [своих сочинений]
Sermones (Serm.) - Беседы
Soliloquia (Solil.) - Монологи
Аристид
Apologia (Apol.) - Апология
Арнобий
Adversus nationes (Adv. nat.) - Против язычников
Афинагор
De resurrectione mortuorum (De res. mort.) - О воскресении мертвых
Legatio pro christianis (Leg.) - Прошение в защиту христиан
Гермий Философ
Irrisio gentilium philosophorum (Irris.) - Осмеяние чуждых философов
Дионисий Александрийский
Commentarium in principium Ecclesiastae (In princ. Eccl.) - Толкование на начало Книги Екклесиаста
De natura (De nat.) - О природе
De promissionibus (De promis.) - Об обетованиях
Ерм
Pastor - Пастырь
Ипполит Римский
Contra Noetum (Contr. Noet.) - Против Ноэта
Demonstratio de Christo et Anticristo (Dem. de Chr.) - Показание о Христе и Антихристе
Philosophumena (Phil.) - Философумены
Sermo in sancta theophania (Serm. in theoph.) - Слово на святое Богоявление
Ириней Лионский
Contra haereses (Contr. haer.) - Против ересей
Киприан
Ad Demetrianum (Ad Demetr.) - К Деметриану
Ad Donatum (Ad Donat.) - К Донату
De bono patientiae (De bono pat.) - О благе терпения
De habitu virginium (De hab. virg.) - Об одежде девственниц
De lapsis (De laps.) - О падших
De laudi martyrii (De laud. mart.) - О похвале мученичеству
De opere et eleemosynis (De op. et eleem.) - О [благих] делах и милостынях
Quod idola dii non sint (Quod idol.) - О суете идолов
Климент Александрийский
Paedagogus (Paed.) - Педагог
Protrepticus (Protr.) - Увещание к эллинам
Stromata (Str.) - Строматы
Лактанций
De divinis institutionibus (Div. inst.) - Божественные наставления
De opificio Dei (De opif. Dei) - О божественном творчестве
De ira Dei - О гневе Божием
Минуций Феликс
Octavius (Octav.) - Октавий
Ориген
Commentarium in Evangelium secundum Ioannem (In Ioan. Com.) - Комментарий к Евангелию от Иоанна
Commentarium in Evangelium secundum Matthaeum (In Matth. Com.) - Комментарий к Евангелию от Матфея
Contra Celsum (Contr. Cels.) - Против Цельса
De oratione (De orat.) - О молитве
De principiis (De princ.) - О началах
In Ieremiam Homiliae (In Ierem. Ноm.) - Гомилии на книгу пророка Иеремии
Exhortatio ad martyrium (Exhort.) - Увещание к мученичеству
Homiliae in Genesim (In Gen. Нот.) - Гомилии на Книгу Бытия
Homiliae in Psalmos (In Ps. Нот.) - Гомилии на Книгу Псалмов
Татиан Сириец
Oratio adversus graecos (Adv. gr.) - Слово к эллинам
Тертуллиан
Ad martyrus (Ad martyr.) - К мученикам
Ad nationes (Ad nat.) - К язычникам
Ad Scapulam (Ad Scap.) - К Скапуле
Adversus Hermogenes (Adv. Herm.) - Против Гермогена
Adversus Judeos (Adv. Jud.) - Против иудеев
Adversus Marcionen (Adv. Marc.) - Против Маркиона
Adversus Praxeam (Adv. Prax.) - Против Праксеана
Adversus Valentianos (Adv. Valent.) - Против валентиниан
Apologeticus (Apol.) - Апологетик
De baptismo (De bapt.) - О крещении
De carne Christi (De carn. Chr.) - О плоти Христа
De carnis resurrectione (De carn. resur.) - О воскресении плоти
De corona militis (De cor.) - О венке воина
De cultu feminarum (De cult. fem.) - Об одеянии женщин
De idololatria (De idol.) - Об идолопоклонстве
De oratione (De orat.) - О молитве
De paenitentia (De paenit.) - О покаянии
De pallio (De pal.) - О плаще
De patientia (De pat.) - О терпении
De praescriptione haereticorum (De praes. haer.) - Об отводе дела против еретиков
De spectaculis (De spect.) - О зрелищах
De testimonio animae (De test. anim.) - О свидетельстве души
Scorpiace (Scorp.) - Скорпиак
Феофил Антиохийский
Ad Autolycum (Ad Aut.) - К Автолику
Юстин Философ
Apologia I (Apol. I) - Апология I
Apologia II (Apol. II) - Апология II
Dialogus cum Tryphone (Tryph.) - Диалог с Трифоном
Псевдо-Юстин
Cohortatio ad Graecos (Coh. ad gr.) - Увещание к эллинам
Oratio ad Graecos (Orat. ad gr.) - Речь к эллинам
Epistola ad Diognetum (Ad Diogn.) - Послание к Диогнету (Христианский памятник II - III вв.)
ZUSAMMENFASSUNG
Das vorliegende Buch ist der erste Band der grundlegenden Forschungen des Verfassers zur "AESTHETICA PATRUM". Die Kirchenväter befaßten sich - wie insgesamt die antiken und mittelalterlichen Denker - nicht ausdrücklich mit den Problemen der Ästhetik, da die ästhetische Problematik erst später, nämlich in der Neuzeit, der wissenschaftlichen Untersuchung unterzogen wurde. Doch das ästhetische Bewußtsein, das eins von den ältesten Formen des Bewußtseins darstellt, verkörperte sich implizit in vollkommener Form im künstlerischen Schaffen und im Kult und drückte sich hinreichend in zahlreichen patristischen Werken aus. Das vorliegende Werk ist der systematischen Analyse der ästhetischen Vorstellungen der Kirchenväter gewidmet. Die Notwendigkeit einer Aufarbeitung der unterschiedlichen Auffassungen der Kirchenväter resultiert insbesondere aus der Tatsache, daß viele ihrer Probleme, wie in der Monographie immer wieder nachzuweisen versucht wird, die Basis für die mittelalterlich-christliche Ästhetik sowohl des Westens, der lateinisch sprechenden Welt, als auch der des Ostens, von Byzanz und Rußland, bildete.
Die Einleitung legt den methodologischen Standpunkt der historischästhetischen Studie dar, nämlich die Auffassung, daß man die gesamte (natürliche, gegenständliche, soziale und geistige) Umwelt des Menschen, die sich irgendwie in gefühlsmäßig wahrnehmbaren Formen ausdrückt oder (und) als Objekt der nichtutilitären, sich selbst genügenden Betrachtung auftritt und dem Wahrnehmungssubjekt einen geistigen Genuß verschafft, der Sphäre des Ästhetischen zuordnen muß. Ein weiterer wichtiger methodologischer Einstieg in die Analyse der ästhetischen Anschauungen der Kirchenväter bietet sich im breiten Kontext vieler allgemeiner Probleme der philosophischen und theologischen Auffassungen zur Kultur dieser komplizierten Übergangsperiode. Diese Problemsicht gibt die Möglichkeit, eine Vielzahl von Fragestellungen zum Gedankengut der frühen Christen aufzuwerfen.
Der erste Teil des Buches ist der Geisteswelt der Apologeten gewidmet. Der erste der insgesamt fünf Abschnitte des Teiles gibt unter der Überschrift "Grundlegende Entwicklungstendenzen der spätantiken Kultur und Ästhetik" einen kurzen Überblick über die Kultur der Spätantike in der Periode des Entstehens und der Entwicklung des frühen Christentums (I - III. Jh.) Es ergibt sich von selbst, daß im Zusammenhang mit der Thematik nur bestimmte Aspekte dieser Zeit dargestellt werden konnten, die im Kontext der Gesamtproblematik stehen. So werden hauptsächlich jene Tendenzen der römischen Kultur beleuchtet, die von den Kirchenvätern besonders kritisiert bzw. völlig abgelehnt und bekämpft wurden. Schließlich geht es um das Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Kulturtraditionen innerhalb des römischen Imperiums, der griechischrömischen und der orientalischen. Aufgezeigt werden insbesondere die inneren Faktoren dieser Synthese in der Periode des Hellenismus, die sich unter anderem widerspiegeln in den Auffassungen Philos von Alexandrien und in den erhaltenen Schriften früher christlicher Autoren. Ein besonderes Kapitel dieses Abschnittes ist der Ästhetik Philos von Alexandrien gewidmet, von dem sich die symbolisch-allegoretische Richtung in der patristischen Ästhetik herleitet.
Gemäß dem "Prinzip des breiten Kontextes" leitet der zweite Abschnitt zur Analyse der Kulturauffassungen der frühen Kirchenväter über. Auf Grundlage einer Auswertung praktisch aller uns überlieferter Texte jener griechischen und lateinischen Autoren (Justinus der Philosoph und Märtyrer, Tatian der Syrer, Athenagoras, Theophil von Andochien, Irenäus von Lyon, Hippolyt von Rom, Klemens von Alexandrien, Tertullian, Minucius Felix, Cyprian, Arnobius und Lachtantius) läßt sich erweisen, daß sie die Begründer einer prinzipiell neuen Kulturauffassung, nämlich der christlichen, waren und Theoretiker einer Kultur wurden, die das Leben in Europa bis ins 20. Jh. hinein bestimmte oder mitbestimmte.
Weiter ergab sich, daß die Apologeten, ausgehend von einer tendenziösen Kritik der antiken Kultur und dem Aufzeigen des ihrer Meinung nach unvermeidlichen Untergangs dieser Epoche, alle wichtigen Aspekte einer weiteren Entwicklung der Menschheit auf Grundlage der Evangelien durchdachten. Diese zwei Aspekte der Lehren der Kirchenväter - die ethische Kritik am Bestehenden und die Entwicklung einer neuen christlichen Weltanschauung - werden in der gesamten Monographie sorgfältig voneinander unterschieden und doch auch in ihrer Bezogenheit aufeinander dargestellt, so daß insgesamt deutlich wird, welche Elemente der Lehren aus dem geistigen Umfeld übernommen wurden und welche als eigener Beitrag des frühen Christentums zum kulturtheoretischen und ästhetischen Denken angesehen werden müssen.
Der zweite Teil des Abschnittes "Die philosophisch-teologische Konzeption der frühen Patristik" entwickelt die Gedanken weiter, indem er die wesentlichen Aspekte der patristischen Ontologie, Gnoseologie und Ethik darstellt und eine Analyse des Begriffs "Held" folgen läßt, der sich in dieser Periode im Christentum herausbildete. Denn das frühe Christentum entwarf ein bis zu dieser Zeit unbekanntes Bild vom 'Krieger Christi', von den Krieger-Märtyrern, den Krieger-Bekennern, die dem Feuer und Schwert ihrer Gegner mit mannhafter Geduld, Widerstandskraft und Demut, mit dem Wort der Wahrheit und mit Tugend entgegentreten.
Der dritte Abschnitt "Die ethisch-religiöse Dominante im künstlerischen Schaffen" wendet sich der Problematik des Menschen, genauer der Frage nach dem frühchristlichen Humanismus zu und zeigt, daß das Christentum, das in der Dornenkrone, im Leiden und schmachvollem Tod des Gottessohnes die Rettung der Menschen sah, einen für die antike Welt völlig neuen Zugang zur Frage nach dem Sein des Menschen entwickelte. Sich an die Ideen der Stoiker und Kyniker anlehnend und entsprechend der neutestamentlichen Forderung auf Nächstenliebe bezeichneten die Kirchenväter der ersten Jahrhunderte Menschlichkeit und Nächstenliebe als die wichtigsten Prinzipien des menschlichen Zusammenlebens, erhoben also Forderungen, die bis in die heutige Zeit reichen.
Im christlichen Humanismus sieht der Autor eine wesentliche Quelle der frühchristlichen "Ästhetik der Verneinung", deren Wesen in der mehr oder weniger konsequenten "Enthüllung" und Verneinung praktisch aller entscheidenden Bestandteile der heidnischen künsthlerischen Kultur besteht. In drei Kapiteln versucht er deutlich zu machen, wie trotz dieser allgemeinen Grundhaltung die Kirchenväter die einzelnen Kunstgattungen - darstellende Kunst, Rhetorik, Theater - doch unterschiedlich bewerteten. Er gelangt zu dem Schluß, daß die Ästhetik der Verneinung (der frühen Christen) von keinem globalen Antiästhetizismus zeugt, sondern von einem anderen für die Antike nicht traditionellen Verständnis der ästhetischen Problematik. Den Christen schien es vor allem notwendig, sich von der antiken Emotionalität und Affektivität in der Kunst zu distanzieren, um von neuem, von der Struktur der neuen Ästhetik her, zu ihr wieder zurückzukehren. Am Ende des dritten Abschnittes zeigt er, wie auf Grundlage der negativen Beziehung zur antiken Kunst im frühen Christentum die Idee von der Notwendigkeit einer neuen, christlichen Kunst heranreifte, entsprechend dem Interesse der neuen Weltanschauung.
Der vierte Abschnitt der Monographie "Die neue ästhetische Problematik" zeigt, daß die eigentlichen ästhetischen Anschauungen der Patristik in vielerlei Hinsicht im Dienst und in Abhängigkeit von der christlichen Schöpfungslehre standen. Das Verständnis der Welt als Werk eines göttlichen Künstlers führte dazu: das Schaffen des menschlichen Künstlers sehr hoch zu bewerten; den Künstler höher einzuschätzen als das Werk seiner Hände; die Schönheit und nicht den Nutzen als Grundlage des schöpferischen Aktes anzusehen; die Sphäre der geistig-moralischen Vervollkommnung des Menschen mit der ästhetischen zu verbinden.
Als ästhetisches Problem stellten die christlichen Denker die Fragen nach dem Schönen und nach dem Bild. Die Idee der Schöpfung der Welt durch Gott aus dem Nichts zwang die frühen Christen, das Schöne in bezug auf die Welt und den Menschen neu zu durchdenken. Da für die Christen die Welt das Werk eines göttlichen Künstlers war und der Mensch ihnen als Gipfel der Schöpfung erschien, galt ihnen im Gegensatz zu den Platonikern und orientalischen Denkern das natürliche Schöne der sichtbaren Welt und vor allem die natürliche Schönheit des Menschen als höchster ästhetischer Wert des Seins. Diesen stellten die Apologeten jedem beliebigen "künstlerischen" Schönen gegenüber, wie es im "heidnischen" Rom kultiviert wurde, so insbesondere der dekorativ-angewandten und der darstellenden Kunst. Höher als jedes sichtbare schöne bewerteten die Kirchenväter das moralisch-geistige Schöne. Dieses war ihrer Meinung nach besonders charakteristisch für Christus und die Märtyrer, die ihr Leben für den christlichen Glauben ließen. In den Tugenden sahen sie den höchsten Ausdruck menschlicher Schönheit. In diesem Zusammenhang kommt dem Verständnis des Häßlichen eine besondere Funktion zu. Im vorliegenden Werk wird gezeigt, daß das Häßliche auftritt als besondere Kategorie, die dem Schönen nicht entgegengesetzt wurde, aber eine gewichtige Zeichenfunktion besaß und in einer Reihe mit solchen Kategorien wie der des Symbols oder des Zeichens stand.
Weiter wendet sich der Autor dem Problem des Bildes in der frühchristlichen Ästhetik zu. Da die Welt und alle Schöpfung der menschlichen Hände von den Kirchenvätern der ersten Jahrhunderte als ein System von Rätseln, Symbolen und Bildern verstanden wurde, die jeweils eine gewisse geistige Realität ausdrücken, erarbeiteten sie eine interessante Theorie des bildhaft-symbolischen Ausdrucks. In der Eikonologie der Apologeten werden drei Gruppen von Bildern unterschieden: mimetische (nachahmende, gegenständlich-plastische), symbolisch-allegorische und zeichnenhafte, die sich voneinander unterscheiden durch den Charakter, durch ihre Beziehung zum widergespiegelten Objekt und durch den Grad der Ähnlichkeit. Auch wird darauf aufmerksam gemacht, daß nicht alle Apologeten überzeugt waren, daß Bilder geistige Inhalte ausdrücken können. So haben denn bestimmte Vertreter der frühen Patristik eine geistige Grundlage für die bilderfeindlichen Bewegungen im Mittelalter gelegt.
Im 5. Abschnitt "Das Ästhetische in der ersten systematischen christlichen Dogmatik" werden hauptsächlich die ästhetischen Ansichten von Origenes und Dionysios, eines der Nachfolger des Origenes in der alexandrinischen katechetischen Schule, untersucht. Die Analyse von Texten des Origenes brachte den Verfasser zur Überzeugung, daß ästhetisches Bewußtsein und ästhetische Erfahrung (freilich unreflektiert) eine wesentliche Rolle beim Ausformen der christlichen Erkenntnistheorie und der Lehre vom Sein spielten. Dies gilt besonders dann, wenn sich das diskursive Denken als ungenügend erwies beim Ausdrücken tiefer Seinswahrheiten. So wurde die ästhetische Erfahrung zu einer Hilfe für das formal-logische Denken des ersten christlichen Systematikers und später vieler anderer Kirchenväter. Im Abschnitt wird die theologisch-ästhetische Bedeutung der symbolisch-allegorischen Methode in der Exegese des Origenes und die Bedeutung einiger vom ihm erarbeiteter Symbole für die mittelalterliche Kultur aufgezeigt (z.B. das Verständnis von der Arche Noes als einer Bibliothek geistiger und geistlicher Bücher). Dort wird auch das Verständnis des Origenes von den Grundkonzepten christlicher Kultur wie Weisheit, Bild, Ähnlichkeit usw analysiert.
Der zweite Teil dieses Bandes widmet sich der Ästhetik des hl. Augustinus, des größten Representanten lateinischen Patristik, der die Tradition der Apologeten im Westen fortsetzte. (Sein geistiger Weg ging ähnlich dem Weg vieler früher Apologeten vom Heidentum zum Christentum, und "De Civitate Dei" ist die letzte großartige Apologie des Christentums). Beim Studium des überaus reichen literarischen Erbes dieses Geistesmannes kam der Verfasser zu der Überzeugung, daß die philosophischen und ästhetischen Auffassungen des Aurelius Augustinus in der komplizierten Übergangsperiode von der Antike zum Mittelalter eine besondere Bedeutung erlangten. In vielerlei Hinsicht stellten sie ein Bilanz der antiken Philosophie und Ästhetik und ihrer Entwicklung dar, wiesen jene neuen Wege, auf denen sich dann das philosophisch-ästhetische Denken des Mittelalters bewegte.
Die Analyse der ästhetischen Auffassungen des Aurelius Augustinus zeigt, daß wir hier einem komplizierten ästhetischen System gegenüberstehen. Dieses ist insgesamt einheitlich und in sich auch ausreichend stabil, aber in Einzelheiten enthält es auch Widersprüche und hat in bestimmten Momenten eine Weiterentwicklung erfahren. Ohne Zweifel ist es innerhalb der antiken und patristischen Ästhetik das vollständigste und am weitesten entwickelte System. Dies ist nicht zufällig! Eine Reihe objektiver und subjektiver Faktoren begünstigten das Entstehen dieses Systems, von denen einige im Folgenden aufgezeigt werden sollen. In der geistigen Kultur der Spätantike zur Zeit des Augustinus überwogen nichttraditionelle Wege und Formen des Weltverständnisses. Man suchte die Wahrheit nicht mit Hilfe der Naturwissenschaften und der Philosophie, sondern auf Wegen religiöser, mystischer und "übervernünftiger" Erfahrung. In dieser Atmosphäre gewann die emotional-ästhetische Einstellung zur Welt besondere Bedeutung. Augustinus war mit einer besonderen ästhetischen Aufnahmefähigkeit begabt. Außerdem kannte er sehr gut, wenn auch nicht immer aus erster Hand, die grundlegenden ästhetischen Konzeptionen der Antike des Westens sowie des Ostens. All dieses führte ihn dazu, sich häufig mit ästhetischen Problemen zu beschäftigen. Sie sind bei ihm oft ein sehr wichtiger Teil seiner philosophischen Theorie (und zwar genau dort, wo man keine befriedigende Lösung mit Hilfe diskursiven Denkens finden konnte), was schließlich auch zum Entstehen eines eigenständigen ästhetischen Systems führte, obwohl er selbst natürlich dies nicht eigentlich beabsichtigt hatte.
Das ästhetische System des Augustinus ist ein theozentrisches und stellt einen wichtigen Teil seines allgemeinen Weltbildes dar. Im Zentrum seiner Ästhetik steht die absolute Schönheit, aber auch als das absolute Gute und die absolute Wahrheit: Gott ist der große Künstler, der alles nach den Gesetzen der Schönheit geschaffen hat; deshalb trägt in der Welt alles - als materielles und als geistiges - Gottes Spur in sich. In der ontologischen Hierarchie tritt das Schöne als eines der Hauptmerkmale des Seins auf. Das Häßliche zeugt von der Abwesenheit der Schönheit und entsprechend des Seins. Es ist verständlich, daß die geistige Schönheit in diesem System eine hohe hierarchische Stufe inne hat. Alles Gesagte trifft in gleichem Maße auf das Universum, auf die Gesellschaft und auf den einzelnen Menschen zu.
In der real existierenden menschlichen Gesellschaft ortet Augustinus wegen der gegenseitigen Verflechtungen der beiden Reiche (civitas) komplizierte Konflikte. Der Weg über die Stufe der Schönheit ist seiner Ansicht nach einer der wichtigsten zur geistigen Vollkommenheit, zum ewigen seligen Leben. Der Zustand der Seligkeit erscheint bei Augustinus im Grunde genommen als die höchste Stufe des ästhetischen Genusses. Dieser ist ein Zustand unendlichen, unbeschreiblichen Frohlockens und Freude des Geistes; den höchsten emotionalen geistigen Genuß aber sieht er in der absoluten Selbstlosigkeit, die ein Fehlen auch des geringsten Strebens nach utilitaristischem Genuß besteht. Dieser Zustand ist im System des Augustinus das wichtigste und höchste Ziel menschlichen Strebens, der Gegenstand aller seiner Träume. Die Seligkeit ist nach Augustinus nicht nur eine hohe Stufe menschlichen Seins (im zukünftigen Zeitalter), das wünschenswerte Ergebnis seiner Erkenntnistätigkeit; sie ist der Zustand höchsten, selbstlosen und absoluten Wissens um die Wahrheit. Obwohl Augustinus vielleicht in seiner Jugend und wegen der bekannten Mangelhaftigkeit der lateinischen Philosophie seiner Zeit ein konsequenter Anhänger der Ratio war und an deren fast grenzenlose Möglichkeiten auch noch in Ausübung seines Amtes als Bischof unverbrüchlich glaubte, verstand er die höhere Stufe des Wissens (die vita beata) als einen über das Vernünftige hinausgehenden Zustand. Von hier wird auch der Platz der Liebe in seinem System als der wichtigste existenzielle und gnoseologische Faktor verständlich. Er ging davon aus, daß die Menschen in der Regel das Schöne lieben. Wie Augustinus klar sah, ist aber die Welt nicht nur mit schönen und guten Dingen angefüllt. Darum kam er zur Erkenntnis von der globalen Regulierbarkeit (hier sieht er das schöne Werk Gottes) der positiven und der negativen Erscheinungen in der Welt, und in dieser Hinsicht ist er der erste Denker in der Geschichte der Philosophie, bei dem wir auf ein Nachdenken über dialektische Wechselbeziehungen zwischen allen natürlichen und sozialen Erscheinungen stoßen. Für das Verständnis der Ästhetik ist wichtig, daß Augustinus das Gesetz vom Kontrast und von der Gegenüberstellung als Norm erkannt hat, auf deren Grundlage die Harmonie der Welt beruht.
Die grundlegenden strukturellen Gesetzmäßigkeiten des Universum lassen sich bei Augustinus fast vollständig auf eigentlich ästhetische Gesetze zurückführen. Es sind dies vor allem Gesamtheit und Einheit, sodann Zahl und Rhythmus, die die Basis einer jeden Form bilden, weiterhin Gleichheit, Abbild, Übereinstimmung, Angemessenheit, Symmetrie und Harmonie. Alle diese Gesetzmäßigkeiten liegen auch den Künsten zugrunde. Wie Gott die Welt nach den Gesetzen der Schönheit schuf, so bemüht sich auch der menschliche Künstler, seine Tätigkeit auf derselben Basis zu begründen. In seinem Verstand, in dem „Kunst" enthalten ist, existiert die Gesamtheit der Gesetze der Schönheit, auf deren Grundlage der Künstler konkrete Werke schaffen muß. Der Hauptinhalt der Kunst ist die Schönheit. Den Wert der Kunstwerke bestimmt Augustinus nach dem Maß ihrer Schönheit, in wieweit durch sie Schönheit ausgedrückt wird. Augustinus verneint nicht die mimetische Funktion der Kunst, bewertet aber die „Nachahmung" (faktisch den Ausdruck) der geistigen Schönheit höher. Deshalb stehen ihm zufolge die Musik und die Kunst des Wortes auf einer höhren Stufe als die darstellende Kunst oder die Kunst der Bühne. Alle Künste müssen nach Augustinus zum unmittelbaren Erfassen dieser oder jener Stufe der Schönheit befähigen bzw. zu einem bestimmten geistigen Wert, insbesondere dem philosophisch-religiösen hinführen. Dies können die Künste entweder dem Weg der unmittelbaren emotional-ästhetischen Einwirkung auf das Wahrnehmungssubjekt (z. B. in Form der Jubilatio in der Musik) oder mit Hilfe ihrer Funktion als Zeichen bzw. Symbol bewirken. Seine Auffassung von diesen Fähigkeiten der Künste führte Augustinus zu einer detaillerten Ausarbeitung einer Zeichentheorie und zu Forschungen auf dem Gebiet der ästhetischen Wahrnehmung, d. h. zur Ausarbeitung der beiden wichtigsten und originellsten Konzeptionen in seiner Ästhetik.
So ist Augustinus, ohne es vielleicht selbst gewollt zu haben, der erste in der Geschichte das ästhetischen Denkens, bei dem sich ein einheitliches ästhetische Inhalt (die Schönheit), das ästhetische Subjekt, die Prozesse der ästhetisches System einschließlich aller grundlegenden Komponenten dieses Systems nachweisen läßt: das ästhetische Objekt (Natur und Kunst), der ästhetische Inhalt (die Schönheit), das ästhetische Subjekt, die Prozesse der ästhetischen Wahrnehmung (und des Urteilens) und jene des ästhetischen Schaffens. Diese Komponenten sind in seinem System nicht von mechanischer Art (wäre es so, würde im Grunde niemand darüber sprechen); sie stellen reale wechselseitige Zusammenhänge und komplizierte Beziehungen dar. Darin besteht die wichtigste historische Bedeutung der Ästhetik des Augustinus; sie ist der eingehenden Beachtung wert.
Noch zu Lebzeiten Augustinus fiel Rom, und damit wurde die lange Linie ästhetischen Denkens, die zu Augustinus hinführte, im Westen für lange Zeit unterbrochen. Die Spuren ästhetischen Denkens, des antiken und auch des neuen augustinischen, wurden schnell verwischt. Deshalb fand Augustinus keinen direkten Nachfolger, der sein Denken fortgesetzt hätte. Erst als die mittelalterliche Ästhetik voll entwickelt war, nahm sie seine Ideen auf und entwickelte viele von ihnen weiter. Doch kennt das Mittelalter keinen Denker, der ein vollständigeres ästhetisches System entwerfen hatte als Augustinus. Die Ästhetik des Augustinus blieb Norm und Vorbild, und wir stoßen im künstlerischen Denken des gesammten Mittelalters auf viele seine Ideen. Überdies behalten einige seine Ideen (z. B. Aspekte seiner Zeichentheorie, seine Lehre vom Mechanismus der ästhetischen Wahrnehmung und des ästhetischen Urteilens, seine Überlegungen zu strukturellen Gesetzmäßigkeiten der Schönheit und der Kunst, insbesondere das Gesetz des Kontrastes usw.) ungebrochene Bedeutung bis in unsere Tage.
SUMMARY
"AESTHETICA PATRUM" in its systematic treatment of the early Christian aesthetics as reflected in Patristic literature is a pioneering study in international scholarship. The Church Fathers, like the ancient and medieval thinkers in general, did not deal with the problems of aesthetics as such; it was not until much later, in the Modern era, that these questions became the object of scholarly reflection. Aesthetic consciousness, however, as one of the most ancient non-verbal forms of consciousness which was embodied most fully in artistic culture and religious cult, manifested itself distinctly in the numerous theological treaties of the Church Fathers. The author demonstrates that the aesthetic, in its many forms of manifestation, appears as one of the essential ways by which a human being comes to God through a system of sense-perceptible symbols. Thereby his approach extends far beyond the frame of traditional (in a modern European sense) aesthetics.
The aesthetic consciousness of the Church Fathers is considered in the context of the formation of their general philosophical and theological views. The author discusses the formation of the fundamental propositions of the Christian doctrine (concerning God, the incarnation of Logos-Christ, the creation of the world, the sophijnost' of the creation, the concept of love, the problem of the relationship between the human person and the Church etc.) and the place and role of aesthetic ideas and phenomena in the formation of these.
The book consists of two parts. The first part is dedicated to the aesthetic-culturological ideas of the early Church Fathers (the 2 - 3th c. apologists): Justin Martyr, Irenaeus of Lyons, Athenagoras, Clement of Alexandria, Origen, Dionysius of Alexandria, Tertullian, Minucius Felix, Cyprian, Arnobius, Lactantius. The author traces their Graeco-Roman and Middle East sources, in particular the elements of Ciceronian aesthetics (whose influence on the Latin Fathers was substantial), the aesthetic ideas of Philo of Alexandria, the teaching on beauty of Plotinus, the Old Testament ideas of Sophia, art, the creation of the world and artistic activity etc.
However, the main attention is focused on the birth of new Christian aesthetic consciousness on the basis of the "aesthetics of negation" (an attitude towards pagan artistic culture), in particular, on the understanding of art, artistic activity, imitation, image, likeness, symbol, sign, allegory, the beautiful and the sublime. The author demonstrates the change of aesthetic preferences in the new culture as compared to the ancient.
Many ideas and principles of the apologists in the Latin world were developed by one of the most celebrated Fathers of Western Christianity, St.Augustine. The second part of the book is dedicated to the detailed analysis of his aesthetic system (perhaps, a unique system of such kind in Patristics). Here the author demonstrates the role that aesthetic phenomena and paradigms have in the Augustinian historiography and his teachings on being, cognition and the Church. The rather detailed Augustinian concepts and ideas of the universal order, number and rhythm, the beautiful (and its numerous laws such as harmony, commensurability, likeness etc.), artistic activity, the Christian understanding of art (and especially rhetoric and music - the meaning of jubilatio), his theories of the sign and aesthetic perception have formed a solid foundation for Western European medieval aesthetics. Moreover, some of the questions examined by Augustine are still important for contemporary aesthetics.
The book is based on the study of Greek and Latin sources, many of which still have not been translated into modern languages, as well as on the most recent critical literature on Patristics.
At the present time the author is working on the second volume of the Aesthetica Patrum which is dedicated to the Church Fathers of the 4th century, the "Golden Age" of Patristics.
RÉSUMÉ
"Aesthetica Patrum" représente une étude systématiquce première dans la science mondiale de l'esthétique des débuts du christianisme reflétée dans la littérature patristique. Naturellement, les pères de l'église, comme les penseurs de l'antiquité et du Moyen Age en général, ne se penchaient pas particulièrement sur les problèmes de l'esthétique, car la réflexion scientifique en est venue bien plus tard, seulement au temps nouveau. Pourtant la conscience esthétique comme une des formes de conscience non-verbale la plus ancienne, s'incarnant implicietment le plus pleinement dans la culture artistique et le culte religieux, a été mise en relief dans plusieurs textes théologiques des pères de l'église. L'étude démontre que l'esthétique dans plusieures formes de son expression est représenté comme une des voies importantes de l'homme vers Dieu à travers un système de symboles perçus sensuellement. Ainsi le lecteur est conduit loin des cadres de l'esthétique traditionelle (dans le sens européen des temps nouveaux).
La consience esthétique des pères de l'église est considérée dans le contexte de la formation de leurs idées théologiques-philosophiques générales; est démontrée la genèse des postulats fondamentaux du dogme chrétien (Dieu, Incarnation du Logos-Christ, création de l'univers, Sophie de la création, conceptions de l'amour, problèmes de l'homme et de l'église etc.), la place et le rôle dans leur formation des conceptions et phénomènes esthétiques.
Le livre contient deux parties. La première est consacrée aux options esthétiques-culturologiques des premiers pères de l'église (apologistes du II - III siècles): Justinus Philosophe et Martyre, Irenaeus de Lyon, Athenagoras, Clément d'Alexandrie, Origènes, Dionysius d'Alexandrie, Tertullian, Minucius Félix, Cyprian de Carthage, Arnobius, Laktantius. Leurs sources gréco-romaines et de proche Orient sont démontrées, notamment des éléments de l'esthétique de Cicéron (qui a beaucoup influencé les pères latins), les idées esthétiques de Philo d'Alexandrie, la conception du beau chez Plotin, les regards de l'Ancien Testament sur la Sophie, l'art, la création de l'univers et la création artistique etc.
L'attention principale est attachée à la naissance sur la base de "l'esthétique de la négation" (attitude envers la culture artistique païenne) d'une nouvelle conscience esthétique chrétienne - notamment, de la conception de l'art, de la création, de l'imitation, de l'image, du simulacre, du symbole, du signe, de l'allégorie, du beau, du sublime. La transformation des dominantes esthétiques dans la nouvelle culture par rapport à l'antique est démontrée.
Plusieurs idées et principes des apologistes dans le monde latin ont été développées par un des pères les plus importants du chrétianisme occidental Saint Augustin. La deuxième partie du livre est consacrée à l'analyse munitieuse de son système esthétique (probablement unique dans son genre dans la patristique). Y est démontré quelle place occupent les phénomènes et paradygmes esthétiques dans l'historiosophie et les dogmes de l'archevêque sur l'être, la connaissance, l'église. Les conceptions et idées travaillées en détail par Augustin sur l'ordre dans l'Univers, le nombre et le rythme, le beau (et plusieurs de ses régularités du type harmonie, proportion, simulacre etc.), la création, la conception chrétienne de l'art (surtout de l'éloquence et de la musique - le sens de jubilation); sa théorie du signe et de la perception de l'esthétique ont formé une base solide de l'esthétique moyennageuse de l'Europe occidentale. Certains des problèmes qu'il a révélé gardent jusqu'aujourd'hui leur actualité.
L'étude est basée sur des sources grecques et latines, qui ne sont pas encore toutes traduites en langues modernes, ainsi que sur la littérature scientifique actuelle sur la patristique.
A présent l'auteur travaille sur le deuxième volume de « Aesthetica Patrum » consacré aux pères de l'église du IV siècle, âge d'or de la patristique.
notes
Примечания
2
См., в частности: Лосев А. Ф. История античной эстетики. М., 1963 - 1994, [т. 1-8]; История эстетической мысли. М., 1985 - 1990, т. 1-5; Tatarkiewicz Wł. Historia estetyki. T. 1-3. Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1960-1967, t. 1-3; Balthasar H. U. von. Herrlichkeit: Eine theologische Ästhetik. Einsiedeln, 1961 - 1969, Bd. 1-3.
3
См.: De Bruyne E. Études d'esthétique médiévale. Brügge, 1946, t. 1-3; Tatarkiewicz Wł. Op. cit., 1962, t. 2: Estetyka sredniowieczna: Mathew G. Byzantine Aesthetics. London, 1963; Balthasar H. U. von. Op. cit.. Bd. 2; Perpeet W. Ästhetik im Mittelalter. Freiburg in Br.; München, 1977.
4
Об этом свидетельствует и многолетний опыт автора по изучению этих периодов в истории эстетики. См.: Бычков В. В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991; Он же. Русская средневековая эстетика: XI-XVII века. М., 1992.
5
Об эстетическом сознании древних русичей, возникшем на основе святоотеческого, см.: Бычков В. В. Феномен древнерусского эстетического сознания. - Утренняя звезда. М., 1993. № 1, с. 221-236.
6
См. классические справочники по патристике - «Патрологии»: Quasten J. Patrology. Utrecht; Bruxelles, 1950-1960, vol. 1-3; Altaner В., Stuiber A. Patrologie. Freiburg; Basel; Wien, 1966.
7
См., в частности, работы: Ферреро Г. Величие и падение Рима. М., 1915 - 1925, т. I-V; Виппер Р. К). Очерки истории Римской империи. Берлин. 1923; Stein E. Geschichte des spätrömischen Reiches. Wien, 1928; Mommsen Th. Römische Geschichte. 2. Aufl. München, 1976. Bd. 1-8; Friedländer L. Sittengeschichte Roms. 2. Aufl. Köln, 1957; Kostovtzeff M. L Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Keiserreich. Leipzig, 1931. Bd. I, II: Heuss A. Römische Geschichte. Braunschweig, 1960; Bengtson H. Römische Geschichte: Republik und Kaiserzeit bis 284 n. Chr. München, 1973; Seel O. Römertum and Latinität. Stuttgart, 1964; Geffken J. Der Ausgang der griechisch-römischen Heidentums. Heidelberg, 1920; Alföldi A. Studien zur Geschichte der Weltkrise des 3. Jahrhunderts nach Christus. Darmstadt, 1967; Grant M. The climax of Rome. Boston; Toronto, 1968; Dill S. Roman society from Nero to Marcus Aurelius. New York, 1957; Chríst К. Der Untergang der antiken Welt. Darmstadt, 1970; Kahrstedt U. Kulturgeschichte der römischen Kaiserzeit. Bern. 1958; Kulturgeschichte der Antike. Berlin, 1978. Bd. 2: Rom.
8
См. подробнее: Cumont F. Die orientalische Religionen im römischen Heidentum. Leipzig; Berlin, 1931; Nillson M. P, Geschichte der griechischen Religion. München, 1950. Bd. 2: Die hellenistische und römische Zeit; Latte K. Römische Religionsgeschichte. München. 1967.
9
Цит. в пер. С. Э. Радлова по: Лукиан. Собр. соч. М.; Л., 1935, т. 1, с. 503.
10
Там же, с. 501.
11
О более древних контактах Греции с цивилизациями Ближнего Востока и Передней Азии см.: Гринцер П. А. Две эпохи литературных связей. - В кн.: Типология и взаимосвязи литератур древнего мира. М., 1971, с. 7-67.
12
Цит. по: Виппер Р. Ю. Рим и раннее христианство. М., 1954, с. 166 - 167.
13
Трубецкой С. Н. Учение о Логосе в его истории: Философское исследование. М., 1906, с. 175, 181. О распространении культа Исиды, его понимании, толковании и отправлении в римском мире см: Dill S. Ор. cit, р. 560-584; Cumont F. Op. cit., S. 68-93.
14
А. Кун писал, что культ Великой матери носит в глазах современного человека «печать какой-то дикости, грубого изуверства. Но в глазах верующего того времени все это имело глубокий смысл. Во всем этом было выражено одно стремление: посредством всех этих добровольных страданий, посредством нанесения себе увечий стремились достигнуть слияния с божеством, стремились освободить свою душу от власти тела, очистить ее от скверны греха. Создается даже какое-то особое благочестивое стремление слиться с богиней для лучшей, более совершенной жизни. Религиозный экстаз, до которого доводили верующего все обряды этого культа, возвышал человека, давал ему удовлетворение» (Кун Н. А. Предшественники христианства: Восточные культы в Римской империи. М., 1922, с. 54).
15
См.: Кун Η.А. Указ. соч., с. 112.
16
Ср.: Dill S. Op. cit., р. 585-586.
17
Подробнее о восточных религиях в римской культуре см., в частности, указанные работы К. Latte и F. Cumont.
18
См.: Моммзен Т. История Рима. Μ., 1949, т. V: Провинции от Цезаря до Диоклетиана, с. 516.
19
Там же, с. 579.
20
См.: Покровский М. М. История римской литературы. М.; Л., 1942; История греческой литературы. М.. 1960, т. 3; История римской литературы. М., 1961, т. 2; Lesky Α. Α history of Greek literature. New York, 1966, p. 807-897.
21
Виппер Р. Ю. Рим и раннее христианство, с. 220.
22
См.: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977, с. 198-200.
23
См.: Соколов В. С. Плиний Младший: Очерк истории римской культуры времен империи. М., 1956, с. 99-102.
24
Штаерман Е. М. Кризис античной культуры. М., 1975, с. 35.
25
См.: Буассье Г. Картины римской жизни времен цезарей. М., [1913].
26
Хотя в целом, как показал еще Л. Фридлендер, имперский Рим достаточно холодно относился к изобразительному искусству. См.: Friedländer L. Ueber den Kunstsinn der Römer in der Kaiserzeit. Königsberg. 1852, S. 32.
27
Ср.: Штаерман Е. М. Указ. соч., с. 37-39.
28
См.: Zaloscer H. Vom Mumienbildnis zur Ikone. Wiesbaden, 1969.
29
См.: Friedländer L. Sittengeschichte Roms, S. 235-276.
30
Ibid.. S. 250.
31
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 147.
32
Fríedländer L. Op. cit., S. 498.
33
См.: Grabar A. Die Kunst des frühen Christentums. München, 1967, S. 42-57; см. также: Volbach W. F., Hirmer M. Frühchristliche Kunst. München, 1958; Meer F. van der. Altchristliche Kunst. Köln, 1960; Talbot Rice D. Beginn und Entwicklung der christlichen Kunst. Köln, 1960; Sauser E. Frühchristliche Kunst. Sinnbild und Glaubensaussage. Innsbruck; Wien; München, 1966.
34
О происхождении и первых веках христианства существует огромная литература. См., в частности, работы: Harnack A. Die Mission und Ausbreitung des Christentums. Leipzig, 1906; Carrington Ph. The early Christian church. Cambridge, 1957; Ранович А. Б. О раннем христианстве. М., 1959; Ленцман Я. А. Происхождение христианства. М., 1960; Ковалев С. И. Основные вопросы происхождения христианства. М.; Л., 1964; Голубцова Н. И. У истоков христианской церкви. М., 1967.
35
Сам термин «эллинизм» (έλληνισμός ) происходит от глагола έλληνίζω, означавшего сначала «правильно говорить по-гречески»; позже, в период эллинизации Востока, в самих восточных странах он стал указывать принадлежность к греческим обычаям, греческой культуре. См.: Jaeger W. Das frühe Christentum und die griechische Bildung. Berlin, 1963, S. 81.
36
См.: Коростовцев M. А. Религия Древнего Египта. M., 1976, с. 286.
37
О феномене «языковой замкнутости» греческой культуры см., в частности: Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность»: (Противостояние и встреча двух творческих принципов). - В кн.: Типология и взаимосвязь литератур древнего мира. М., 1971, с. 236 и далее.
38
В. Тарн в работе «Эллинистическая цивилизация» (М., 1949, с. 209) подчеркивает, что с 200 г. до н. э. евреи создали огромную литературу на еврейском, арамейском и греческом языках. См. также работы: Bousset W. Die Religion des Judentums im späthellenistischen Zeitalter. Tübingen, 1926; Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Leipzig, 1909, Bd. III (Repr.: Haldesheim, 1964); полная библиография по этой проблеме опубликована в Германии: Bibliographie zur jüdisch-hellenistischen und intertestamentarischen Literatur 1900-1970. (TU, Bd. 1062). Berlin, 1975. Греческая литература этого периода хорошо известна.
39
Подробному сравнительному анализу ветхозаветной и греческой духовной культур посвящены монографии И. Гессена (Hessen J. Platonismus und Prophetismus. München; Basel, 1955) и Т. Бомана (Boman Th. Das hebräische Denken im Vergleich mit dem griechischen. Göttingen, 19593). Кроме того, существует ряд работ, анализирующих отдельные проблемы той и другой культуры.
40
См.: Boman Th. Op. cit., S. 172; Hessen J. Op. cit., S. 21, 56, 75. Апологии библейского иррационализма посвящена книга Л. Шестова «Афины и Иерусалим» (Париж, 1951). Монография E. R. Dodds «The Greeks and the irrational» (Los Angeles; London, 1971), анализирующая элементы иррационального в греческой культуре, лишний раз подтверждает оценку греческого философского типа мышления в целом как рационалистического, хотя и возникшего на иррационализме народных верований.
41
Образ Бога настолько рельефен в Ветхом Завете, что поддается подробной классификации его характер и тип как erist Choleriker. См.: Otto R. Sünde und Urschuld. München, 1932, S. 71.
42
В библейской и особенно талмудической (т. е. уже эллинистической и позднеантичнон) литературе был распространен метафорический образ, близкий к персонификации,- действующая, говорящая «община Израиль» (kenesseth Jisrael). См.: Schalem G. Zur Entwicklungsgeschichte der Kabbalistischen Konzeption der Schehinah, - In: Eranos Jahrbuch. Zürich. 1953, Bd. XXL S. 51.
43
См.: Schürer E. Op. cit., Bd. III, S. 503-504.
44
См.: Dobschütz E. Zeit und Raum im Denken des Urchristentums. - Journal of Biblical Literature, 1922, p. 212: Boman Th. Op. cit., S. 120, 133.
45
T. Боман стремится даже показать, что временные формы глаголов греческого языка имеют пространственную окраску. См.: Boman Th. Op. cit., S. 124.
46
Ibid., S. 133.
47
Hessen J. Op. cit., S. 90.
48
См. подробнее: Boman Th. Op. cit., S. 131 - 133. См. также: Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность», с. 229-230. А. Еремия переводит olam, отмечая, что в Новом Завете ему соответствует αίών, как «Weltlauf», понимая его как некую пространственно-временную целостность. См.: Jeremias A. Das AT im Lichte des Alten Orients. Leipzig, 19304, S. 127.
49
См.: Boman Th. Op. cit., S. 148-149, 158; Ср.: Hessen J. Op. cit., S. 88.
50
См.: Cullmann O. Christus und die Zeit. Zürich, 1962, S. 61. Пониманию древними греками истории и времени посвящены, в частности, следующие работы: Тахо-Годи А. А. Ионийское и аттическое понимание термина «история» и родственных с ним. - В кн.: Вопросы классической филологии. М., 1969, т. II, с. 107 - 126; Тахо-Годи А. А. Эллинистическое понимание термина «история» и родственных с ним. - Там же, с. 126-157; Гайденко В. П. Тема судьбы и представление о времени в греческом мировоззрении, - Вопросы философии, 1969, № 9; Лосев А. Ф. Античная философия истории. М., 1977. Кропотливо исследовав все зачатки историзма в греческой культуре, А. Ф. Лосев заключает: «Это необычайно сужало и ограничивало античную философию истории и навсегда оставило ее на ступени таких концепций, как вечное возвращение, периодические мировые пожары, душепереселение и душевоплощение» (Указ. соч., с. 201).
51
Cullmann О. Op. cit., S. 61.
52
Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930, т. I, с. 84 и др.
53
Там же, с. 82, 91 и др.
54
Там же, с. 76.
55
Греческая эстетика и греческая гносеология берут начало от зрительного восприятия, а многие их термины восходят этимологически к глаголу «видеть» (είδω) (ср.: Bultmann R. Zur Geschichte der Lichtsymbolik im Altertum. - Philologus. Wiesbaden, 1948, Bd. 97, H. 1/2, S. 17-29).
56
Boman Th. Op. cit., S. 177.
57
Ibid., S. 69-71.
58
Ibid., S. 71.
59
Scholem G. Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen. Zürich, 1957, S. 121.
60
См.: Bultmann R. Op.- cit.; Beierwaltes W. Lux inteleigibilis: Untersuchung zur Lichtmetaphysik der Griechen. München, 1957.
61
Лосев А, Ф. История античной эстетики. М., 1962, [т. 2]: Софисты. Сократ, Платон, с. 417.
62
Там же. с. 582.
63
См.: История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли. М., 1962, т. I, с. 142, фрагм. 19.
64
Boman Th. Op. cit., S. 135.
65
См.: Бычков В. В. Византийская эстетика: Теоретические проблемы. М., 1977, с. 159-163.
66
м.: Аверинцев С, С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность», с. 225 и далее; Boman Th. Op. cit., S. 97.
67
См.: Boman Th. Op. cit., S. 61.
68
Ibid., S. 60.
69
Цит. по кн.: Поэзия и проза древнего Востока/Пер. И. Дьяконова. М.. 1973, с. 630-636.
70
См. подробнее: Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность», с. 222-223.
71
Там же, с. 213.
72
Ауэрбах Э. Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе. М., 1976, с. 44.
73
Там же, с. 32.
74
Там же, с. 32, 33.
75
Там же, с. 35, 36.
76
Как указывал еще Моммзен, «в эпоху ранней империи на 8 млн. египтян приходился 1 млн. иудеев, а влияние их, вероятно, шло дальше этого численного соотношения» (Моммзен Т. История Рима, т. V, с. 437).
77
Подробно об этой литературе см.: Schürer E. Op. cit., Bd. 3, S. 420-633.
78
Моммзен Т. Указ. соч., т. V, с. 438.
79
См.: Würthweil E. Der Text des Alten Testaments: Eine Einführung in die Biblia Hebraica. Stuttgart, 19734, S. 53-55.
80
См.: Schürer E. Op. cit., Bd. III, S. 435-440.
81
См.: Ibid., S. 553-629.
82
См.: Tatarkiewicz Wł. Historia estetyki. Wroclaw; Warszawa; Krakow. 1962, t. 1: Estetyka starozytna, s. 101.
83
См.: История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли. М., 1962, т. I, с. 191. См. также: Tatarkiewicz Wł. Op. cit., s. 290.
84
Моммзен Т. Указ. соч.. т. V, с. 441-442.
85
См.: О возвышенном / Пер., статья и примеч. Н. А. Чистяковой. М.; Л., 1966.
86
См., в частности: Külpe O. Anlänge psychologischer Ästhetik bei den Griechen. - Philosophische Abhandlungen: M. Heinze zum 70. Geburtstage gewidmet von Freunden und Schülern. Berlin, 1906, S. 120; Birmelin E. Die Kimsttheoretischen Grundlagen in Philostrats Apollonios.- Philologus, 1933, Bd. 88.
87
Цит. по: Tatarkiewicz Wł. Op. cit., s. 243.
88
Подробный анализ плотиновской эстетики см. в работе: Лосев А. Ф. История античной эстетики. М., 1980, [т. VI]: Поздний эллинизм.
89
По гностицизму существует в науке огромная литература. Мы опираемся здесь на следующие работы общего характера: Поеное М. Э. Гностицизм II в. и победа христианской церкви над ним. Киев, 1917; Völker W. Quellen zur Geschichte der Christlichen Gnosis. Tübingen, 1932; Leisegang H. Die Gnosis. Leipzig, 1924; Jonas H. Gnosis und spätantiker Geist. Göttingen, 1954, Bd. l, 2; Heinrich D. F. G. Die Hermes-Mystik und das Neue Testament. Leipzig, 1918; Kroll J. Die Lehren des Hermes Trismegistos. Münster, 1914: Трофимова М. К. Историко-философские вопросы гностицизма. M., 1979.
90
См.: Alfaric P. Les écritures manichéennes. Paris, 1918, t. 1, 2; Burkitt F. C. The religion of the Manichees. Cambridge, 1925; Schaeder H. H. Urform und Fortbildungen des manichäischen Systems. Leipzig, 1927; Jackson A. V. W. Researches in Manichäism. New York, 1932; Peuch H. C. Le manichéisme, son fondateur. Paris, 1949; Widengren G. Mani und der Manichäismus. Stuttgart, 1961.
91
Точнее, основоположником этого течения считается учитель Плотина александрий ский философ Аммоний Сакк (ок. 175 - ок. 247 гг.). Однако от него не осталось никаких письменных источников. Литература по философии и эстетике античного неоплатонизма велика. Сошлемся здесь хотя бы на некоторые работы общего характера: Блонский П. П. Философия Плотина. М., 1918; Лосев А. Ф. История античной эстетики. М., 1980. [т. 6]: Поздний эллинизм; 1988, [т. 7]: Последние века, [кн. 1-2]; Nebel G. Plotins Kategorien der intelligiblen Welt. Tübingen, 1929: Theiler W. Forschungen zum Neuplatonismus. Berlin, 1966; Krämer H. J. Platonismus und hellenistische Philosophie. Berlin; New York, 1971; Reale G. Storia della filosofia antica. Milano, 1978, IV: Le scuole dell età impériale; Horst K. Plotins Aesthetik. Gotha, 1905: Bourbon di Petrella F. Il problema dell'arte e della bellezza in Plotino. Firenze, 1956.
92
Подробнее об эстетике Ямвлиха см.: Лосев А. Ф. История античной эстетики, [т. VII, кн. 1], с. 122 и далее.
93
Об эстетических взглядах Филона см.: Лосев А. Ф. Указ, соч., [т. VI], с. 82 - 128.
94
Трубецкой С. Н. Филон и его предшественники. - Вопросы философии и психологии. М., 1898, кн. 1, с. 177.
95
Подробнее см.: Danielou. Philon d'Alexandrie, Paris. 1958.
96
См.: Siegfried С. Philo von Alexandria als Ausleger des Alten Testaments. Jena, 1875, S. 140-141, а также: Иваницкий В. Ф. Филон Александрийский: Жизнь и обзор литературной деятельности. Киев, 1911, с. 511-512. Т. Моммзен писал: «Филон, один из самых знатных и богатых иудеев эпохи Тиберия, фактически относится к своей родной религии не многим иначе, чем Цицерон - к религии римской; однако сам он считал, что не уничтожает ее, но лишь раскрывает ее внутренний смысл» (Моммзен Т. Указ. соч., т. V, с. 443).
97
См.: Wolfson H. A. The philosophy of the church fathers. Cambridge (Mass.), 1956, vol. 1. Следует, правда, отметить, что в этой «координатной системе» не всегда можно точно определить параметры того или другого явления христианской философии, ибо Вольфсон в своей предшествующей монографии («Philo. Foundatiohs of religion philosophy in Judaism, Christianity and Islam». Cambridge (Mass.), 1947, vol. 1-2) во многом модернизирует взгляды Филона, пытаясь, по меткому выражению его оппонента К. Бормана, «превратить Филона из эклектика в систематика» (Bormann K. Die Ideen- und Logoslehre Philos von Alexandrien: Eine Auseinandersetzung mit H. A. Wolfson. Köln. 1955, S. 5).
98
Подробнее о теории познания Филона см. в указанной монографии Г. А. Вольфсона, а также в работах: Freudenthal M. Die Erkenntnislehre Philos von Alexandria. Berlin, 1891; Jonas H. Op. cit., Bd. II, H. l, S. 70-121.
99
При цитировании работ Филона дается общепринятое сокращенное латинское название работы, глава и параграф по изданию: Philonis Alexandrini Opera Ed. L. Cohn et P. Wendland. Berolini. 1896-1926, vol. I-VII.
100
τό γάρ όν, ή όν έστιν, ούχί τών πρός τι - De mut. nom. 27. Трансцендентный характер Бога у Филона и вытекающий отсюда агностицизм подчеркивает в своем исследовании Г. Ионас: Jonas H. Op. cit., Bd. II, Η. l, S. 74-80; 82-83.
101
Именно эту сторону филоновской философии, как своеобразнейшую, особо выделяет А. Ф. Лосев: «Но тут появилось такое огромное историко-философское явление, как Филон Александрийский, который как раз давал и учение о Первоедином абсолюте, и теорию интимно-личностного восхождения к нему». (Лосев А. Ф. История античной эстетики. М., 1979, [т. 5]: Ранний эллинизм, с. 765).
102
См.: De opif. mundi 16. 34; De spec. leg. I 171; см. также: Siegfried С. Op. cit., S. 211-218.
103
См.: De Deo 5 - 6 (латинские тексты цит. по изданию: Philonis Judaei Opera omnia Ed. K. Tauchnitz, Lipsiae, 1851 - 1853, t. I-VIII); см. также: Трубецкой С. Н. Указ. соч., с. 150.
104
Bormann К. Op. cit., S. 72.
105
Учение Филона о Логосе подробнее см. в работах С. Трубецкого, Г. Вольфсона, К. Бормана, Г.-Ф. Вейса (Weiss H.-F. Untersuchungen zur Kosmologie des hellenistischen und palästinischen Judentums. Berlin, 1966, S. 248-282) и других авторов.
106
См.: Siegfried С. Op. cit., S. 247.
107
См. русский перевод M. M. Елизаровой в издании: Тексты Кумрана. M., 1971, вып. 1, с. 376-385.
108
Подробнее о филоновском понимании фантасии см.: Freudenthal M. Die Erkenntnislehre Philos von Alexandria, S. 54, 59-61.
109
Платон только сравнивал процесс познания со зрительным восприятием (см.: Resp. VI, 508a-509b).
110
См.: Freudenthal M. Op. cit., S. 43-49.
111
τέλειον μέν άγαθόν έοτι τό καλόν - De post. Caini 95. Вспомним, что и Платон считал идею блага «несказанно прекрасной» (Resp. VI, 508е - 509а).
112
О противоречиях, возникших в филоновской концепции творения мира в связи со стремлением к синтезу библейской идеи «творения из ничего» (creatio ex nihilo) и платоновско-стоических идей об устроении неустроенной, безобразной, бесформенной и неупорядоченной вечно существовавшей материи см. подробнее в работе: Weiss H.-F. Op. cit., S. 18-44. 59-74.
113
Цит. по: Иваницкий В. Ф. Филон Александрийский, с. 55.
114
м., например, символическое толкование Филоном связи Авраама и Агари, когда «любящий учение ум» познает ее необычайную красоту и входит к ней (De congr. erud. 124-125). Агарь здесь - символ пропедевтических наук, и зачинает она в процессе ее «познания» умом (Авраамом) софиста (Исмаила).
115
См.: Buhmann R. Op. cit., S. 32-33.
116
См.: Klein F.-N. Lichtterminologie bei Philon von Alexandrien und in den hermetischen Schriften. Leiden, 1962. S. 38. Клейн пропускает только душу, как носитель особого света.
117
Ср.: Ibid., S. 59.
118
См. подробнее с указанием библиографии: Klein F.-N. Op. cit., S. 213.
119
По этому поводу еще Т. Моммзен писал: «Общие приемы так называемого аллегорического толкования, посредством которого философы, в особенности стоики, повсюду учтиво выпроваживали туземные языческие религии, были в равной мере применимы и неприменимы как к богам Илиады, так и к Книге Бытия: если под Авраамом Моисей понимал разум, под Сарой - добродетель, под Ноем - справедливость, если четыре райских потока обозначали четыре основные добродетели,- в таком случае самый просвещенный из эллинов мог веровать в Тору» (Моммзен Т. Указ. соч., т. V, с. 442).
120
Как отмечал Э. Шюрер, выдвижение этики на первое место в философии передлогикой и физикой греков является характерной чертой всей иудейско-эллинистической философии, наиболее отчетливо проявившейся у Филона (Schürer E. Op. cit., S. 503).
121
Трубецкой С. H. Филон и его предшественники, с. 862.
122
Иваницкий В. Ф. Филон Александрийский, с. 539.
123
Филон не был открывателем этой формы философского мышления. Все философское наследие Платона, как известно, облечено в художественную форму, хотя и совершенно иного вида и структуры, чем у Филона. При строгой логике платоновского изложения художественный эффект его диалогов только способствует доходчивости формально-логических заключений. У Филона же часть познавательной нагрузки перенесена с понятийного уровня на полухудожественную форму, т. е. на эмоционально-эстетический уровень. Поэтому если диалектические рассуждения Платона могут быть почти без всякого ущерба для них изъяты из художественной формы диалога и изложены на языке формальной логики, то по отношению к филоновской философии такая операция оказывается малоэффективной. Об этом убедительно свидетельствуют и многочисленные попытки современных исследователей рационалистически изложить философскую систему Филона. Она не поддается полной формализации. Отсюда и возможность противоположного понимания многих важнейших положений этой системы (см. хотя бы показательную в этом плане полемику по основным понятиям филоновской гносеологии между К. Борманом и Г. Вольфсоном). Филон не дал логически замкнутой мировоззренческой системы. Решение некоторых проблем он перенес на уровень эмоционального переживания, зафиксировав это в полухудожественной форме своего символического комментария. Поэтому-то вне этой формы философия Филона во многом разрушается и не может быть правильно понята.
124
Действительно, по убеждению Филона, как и его иудейских предшественников и современников, тексты Св. Писания (особенно Пятикнижие Моисея) боговдохновенны и священны. А следовательно, они совершенны во всех отношениях и не содержат ничего случайного и ошибочного. Каждый значок имеет свой смысл. В принципе этот подход типичен для любой традиции религиозной экзегезы, однако в системе филоновского этико-эстетического философствования он играет особую роль.
125
Эти филоновские идеи были близки и многим авторам Мишны, один из которых, Акиба бен Иосиф (нач. I - нач. II в.), построил на них целую толковательную систему. «Он находил всевозможные намеки во всех грамматических особенностях языка Библии, в плеоназмах, в повторениях одного и того же закона, в соединительных и противительных союзах, в указательных местоимениях, в определенном члене, в личных местоимениях при глаголе и в местоименных суффиксах, словом, во всех тех «лишних» словах, частицах и буквах, которые, однако, необходимы во всякой связной речи» (Переферкович М. Талмуд, его история и содержание. СПб., 1897, ч. 1: Мишна. с. 42).
126
См., в частности, семиотический аспект подобного подхода в работе: Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970.
127
Полный филологический анализ системы филоновского аллегорического комментирования с указанием влияний на него стоической и мидрашистской комментаторской традиций был проведен Карлом Зигфридом в работе: Philo von Alexandria als Ausleger des Alten Testaments. Jena, 1875. На него мы во многом и опираемся в дальнейшем изложении. Дополнением к этой работе в плане классификации способов комментирования по отдельным работам Филона является филологическое исследование: Adler M. Studien zu Philon von Alexandreia. Breslau, 1929; а в плане детального анализа филоновской техники аллегорезы - работа: Christiansen J. Die Technik der allegorischen Auslegungswissenschaft bei Philo von Alexandreia. Tübingen, 1969.
128
См.: Siegfried C. Op. cit., S. 165.
129
Трактат цитируется в указанном переводе M. M. Елизаровой.
130
См.: Siegfried С. Op. cit., S. 165.
131
Ibid.. S. 166-168.
132
Подробнее см.: ibid.. S. 168-180.
133
Филон постоянно увлекается лингвистическими импровизациями на темы: чем отличается земледелец (γεωργός) от пахаря (εργάτης γής), пастух (ποιμήν) от «кормящего скот» (κτηνοτρόφος), всадник (ΐππεΰς) от наездника (αναβάτης), царь (βασιλεύς) от тирана (τύραννος) и т. п. (см.: De agric.. а также: Siegfried С. Op. cit., S. 172-173).
134
Типологически она развивала жанр древнееврейской апологии эллинистического времени. См.: Geffcken J. Zwei griechische Apologeten. Leipzig; Berlin, 1907, S. XI ff.
135
См.: Jordan H. Geschichte der altchristlichen Literatur. Leipzig, 1911, S. 211-212.
136
Подробные сведения об апологетах см. в известных «Историях христианской литературы» и «Патрологнях»: Harnack A. Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius. Leipzig, 1893 - 1904. Bd. 1, 2; Krüger G. Geschichte der altchristlichen Literatur in den ersten drei Jahrhunderten. Freiburg i. Br.; Leipzig, 1895; Bardenhewer O. Geschichte der altkirchlichen Literatur. Freiburgi. Br., 1902-1903. Bd. 1. 2; Quasten J. Patrology. Utrecht; Brüssels, 1950. vol. 1; Altaner B. Patrologie: Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter. Freiburg i. Br., 19585. В отечественной литературе философские взгляды апологетов рассматриваются в кн.: Соколов В. В. Средневековая философия. М., 1979, с. 37 - 46; Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии: Латинская патристика. М., 1979.
137
Одну из реконструкций текста см. в указанной книге Гефкена (сноска 1), с. 3-27; об Аристиде подробнее см.: Hennecke E. Die Apologie des Aristides. Leipzig, 1893.
138
Сочинения Юстина, Татиана, Афинагора, Феофила Антиохийского, Гермия Философа цитируются по изданию PG, t. 6 с отдельными коррективами по более поздним изданиям.
139
Подробнее о Юстине см.: Martindale С. St. Justin the Martyr. London, 1921.
140
Gilson E., Böhner Ph. Geschichte der christlichen Philosophie von ihren Anfängen bis Nikolaus von Cues. Lief. 1. Paderborn, 1952, S. 28.
141
Издание и анализ его «Апологии» см. в монографии Гефкена (сноска 1), с. 120-238. См. также: Bardy G. Athenagoras. Paris, 1943.
142
О нем см.: Rapisarda E. Teofilo di Antiochia. Torino, 1936.
143
Цит. по: PG. t. 7; см. так же: Lawson L. The biblical theology of St. Irenaeus. London. 1948.
144
Цит. по: PG, t. 10.
145
Не случайно Климент и Ориген считаются основателями христианской философии (см. : Jaeger W. Das frühe Christentum und die griechische Bildung. Berlin, 1963, S. 35). хотя, конечно, не следует забывать и первого христианского философа Юстина, который сознательно включил античную философию Логоса в христианское наследие и по праву считается основателем «христианского гуманизма» (см. сноску 7). С именем Климента связывают и начало христианского платонизма (Casey R. P, Clement of Alexandria and the beginnings of Christian platonism.- Harvard Theological Review, 1925. vol. XVIII. p. 39-101).
146
Название «Строматы» не было изобретением самого Климента. Этот жанр сборников смешанного содержания был распространен в его время (см.: Paye E. Clément d'Alexandrie: Etude sur les rapports du christianisme et de la philosophie grecque au Il-e siècle. Paris, 1898, p. 87 - 89). О названии и жанре «Стромат» см. подробнее: Méhat А. Etude sur les «Stromates» de Clément d'Alexandrie. Paris, 1966, p. 96-114.
147
См.: Meifort J. Der Platonismus bei Clemens Alexandrinus. Tübingen, 1928; Timothy H. The early Christian apologist and Greek philosophy. Assen, 1973.
148
Подробному анализу литературных источников Климента посвящено фундаментальное исследование И. Габриэльсона: Gabrielsson J. Über die Quellen des Clemens Alexandrinus. Uppsala; Leipzig, 1906 - 1909. Bd. l, 2. Об основных философских источниках «Стромат» см.: Méhat A. Op. cit., р. 190-195. Не случайно «Строматы» являются одним из важных источников по истории античной философии. См., например: Zeller Ed. Grundriss der Geschichte der griechischen Philosophie. Leipzig, 1907, S. 7-8.
149
Работы Климента цит. по: Clemens Alexandrinus [Werke]. Berlin, 1960-1972. Bd. 1-3 (в серии: GCS).
150
См.: PG, t. 10.
151
Моммзен Т. Указ. соч., т. V, с. 580.
152
См.: Apol. 18; De spect. 19; De resur. carn. 59; Сочинения Тертуллиана цитируются по: CSEL, vol. 20.47; PL, t. 1.
153
См.: Tertullians Ausgewählte Schriften ins Deutsche übersetzt H. Kellner. München, 1912. Bd. l, S. XLIV.
154
Подробнее о Тертуллиане см.: Lorts J. Tertullian als Apologet. Münster, 1927 - 1928, Bd. I, II; Nisters B. Tertullian, seine Persönlichkeit und sein Schicksal. Münster, 1950; Barnes T. D. Tertullian: A Historical and Literary Study. London, 1971.
155
По подсчетам ученых Тертуллиан образовал в латыни 982 новых термина. См.: Haendler G. Von Tertullian bis zu Ambrosius. Berlin, 1978, S. 22.
156
См.: Rolffs E. Tertullian, der Vater des abendländischen Christentums. Berlin, 1930.
157
В этих двух работах много текстологических совпадений, поэтому в науке до последнего времени идет спор о приоритете того или другого автора. Литературу сторонников той и другой концепции см.: Altaner B. Patrologie, S. 130. Сам Альтанер считает, что приоритет Тертуллиана лучше обоснован (Ibid.. S. 129). См. также: Diller H. In Sachen Tertullian und Minucius Felix. - Philologus, 1935, Bd. 90, S. 98-114, 216-239; Axelson B. Das Prioritätsproblem Tertullian - Minucius Felix. Lund, 1941; Becker C. Der «Octavius» des Minucius Felix: Heidnische Philosophie und frühchristliche Apologetik. München, 1967, S. 94-97.
158
«Октавий» цитируется по: CSEL, vol. 2.
159
Сочинения Киприана цитируются по: CSEL. vol. 3. О нем см.: Ludwig ]. Der heilige Märtyrerbischof Cyprian von Karthago. München, 1951: Gülzow H. Cyprian und Novatian. Tübingen, 1975.
160
Издание текста: Arnobii adversus nationes libri VII.- CSEL, vol. 4; использован также хороший русский перевод H. M. Дроздова с некоторыми уточнениями: Арнобий. Семь книг «Против язычников». Киев, 1917.
161
См. : Röhricht A. Die Seelenlehre des Arnobius nach ihren Quellen und ihrer Entstehung untersucht. Hamburg, 1893, S. 27-28.
162
Его работы цитируются по: CSEL, vol. 19; vol. 27.
163
Садов А. И. Древнехристианский писатель Лактанций. СПб., 1895, с. 78.
164
См.: Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность», с. 222.
165
К вопросу о понимании и осмыслении культуры в Древнем Риме см.: Кнабе Г. С. Понимание культуры в Древнем Риме и ранний Тацит. - В кн.: История философии и вопросы культуры. М., 1975, с. 62-130.
166
Об идеологии киников см., в частности, работы И. М. Нахова: Der Mensch in der Philosophie der Kyniker.- In: Der Mensch als Maß der Dinge. Berlin, 1976, S. 361-398; Кинизм Диона Хрисостома. - В кн.: Вопросы классической филологии. М., 1976, вып. VI, с. 46-104; Философия киников. М., 1982.
167
См. подробнее: Плотников В. История христианского просвещения в его отношениях к древней греко-римской образованности: Период первый. От начала христианства до Константина Великого. Казань, 1885; Krause W, Die Stellung der frühchristlichen Autoren zur heidnischen Literatur. Wien, 1958; Timothy H. Op. cit.
168
Современные данные по сравнительной хронологии ближневосточных и греко-римской культур см.: Бикерман Э. Хронология древнего мира: Ближний Восток и античность. М., 1976. Из хронологических таблиц этой монографии видно, что пафос апологетов имел под собой определенные основания.
169
Ср.: Лосев А. Ф. Античная философия истории. М., 1977, с. 200-201. «Не Риму суждено было даровать миру опыт истории,- пишет А. Ф. Лосев. - ...римское чувство истории... так же неисторично, как и все античное» (Лосев А. Ф. Эллинистически-римская эстетика I-II вв. н. э., с. 21, 71).
170
Сохранившиеся тексты античных критиков христианства см.: Ранович А. Античные критики христианства. M., 1935. Большие фрагменты Цельса и Корнелия Фронтона сохранились только в соответствующих апологиях Оригена и Минуция Феликса (у последнего Фронтон выступает под именем Цецилия). Подробнее о характере и содержании полемики с христианами см.: Спасский Л. Эллинизм и христианство: (История литературно-религиозной полемики между эллинизмом и христианством за раннейший период христианской истории (150-254). Сергиев Посад, 1913.
171
Deus christianorum onocoëtes; греческое όνοκοίτης - имеющий общее с ослом, родственный ослу.
172
См.: Just. Apol. I. 26; Tryph. 10; Athen. Leg. 3. etc.
173
См.: Clem. Protr. 2; Tat. Adv. gr. 8; Athen. Leg. 20; 21; Theoph. Ad Auf. III, 8 etc.
174
Афинагор цитирует известное место из «Истории» Геродота: «Ведь Гесиод и Гомер, по моему мнению, жили не раньше, как лет за 400 до меня. Они-то впервые и установили для эллинов родословную богов, дали имена и прозвища, разделили между ними почести и круг деятельности и описали их образы» (II, 53; перев. Г. А. Стратоновского цит. по кн.: Геродот. История в девяти книгах. Л., 1972, с. 97).
175
Римскому миру учение Эвгемера было известно по переводу поэта Энния, которым пользовался и Цицерон. См.: Tusc. disp. I, 12 - 13.
176
См.: Cornuti Theologiae graecae compendium/Ed. С. Lang. Lipsiae, 1881; Лосев А. Ф. История античной эстетики, [т. 5]: Ранний эллинизм, с. 166.
177
Римские писатели эллинистического периода много писали об «упадке нравов» в римском обществе, относя этот упадок по времени между 290 и 146 гг. См.: Утченко С. Л. Древний Рим: События. Люди. Идеи. М., 1969, с. 267-289.
178
См.: Kahrstedt U. Kulturgeschichte der römischen Kaiserzeit. Bern, 1958, S. 259.
179
О свободном положении женщины в имперском Риме см. в гл. I. См. также: Kahrstedt U. Op. cit., S. 247-251.
180
О развитии и трансформации этих представлений в средневековой культуре см.: Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972, с. 217-236, 248-261.
181
Внутри античной культуры примерно в это же время (1-я пол. III в.) историю греческой философии написал Диоген Лаэртский. У него встречаются те же анекдотические рассказы о философах, что и у апологетов.
182
По популярной в поздней античности легенде Эмпедокл кончил жизнь, бросившись в кратер Этны, что послужило поводом к многочисленным насмешкам ранних христиан над ним.
183
См.: ps.-Just. Coh. ad gr. 12; Tat. Adv. gr. 31; 36-41; Theoph. Ad Aut. III. 16-29; многие главы «Стромат» Климента посвящены этому вопросу.
184
См.: Just. Apol. I, 44; 59; 60. ps.-Just. Coh. ad gr. 25; множество мест в «Строматах» (в частности, см.: Str. I. 60, 1; 66, 1; 69, 6: 72, 5; V, 10, 3 etc.).
185
См.: Daskalakis M. J. Die eklektischen Anschauungen des Clemens von Alexandria und seine Abhängigkeit von der griechischen Philosophie. Leipzig, 1908, S. 29-32.
186
Opinatio in philosophia sola sit (Div. inst. III, 3, 8).
187
Дословно: in illa physica sola oblectatio est.
188
Virtus autem cum scientia conjuncta sapientia est.
189
Лактанций цитирует здесь похвалу философии из «Тускуланских бесед» Цицерона, которая в полном виде звучит так: «О философия, водительница душ, изыскательница добродетелей, гонительница пороков! что стало бы без тебя не только со мной, но и со всем родом человеческим! Ты породила города, ты соединила в общество рассеянных по земле людей, ты объединила их сперва домами, потом супружеством, наконец - общностью языков и письмен; ты открыла законы, стала наставницей порядка и нравственности; к тебе мы прибегаем в беде, от тебя ищем помощи, тебе всегда вверялся я отчасти, а теперь вверяюсь целиком и полностью. Один день, прожитый по твоим уставам, дороже, чем целое бессмертие, прожитое в грехе! У кого мне искать поддержки, как не у тебя, которая одарила меня покоем и избавила от страха смерти? Но мы видим: мало того, что философия не получает похвал за ее услуги жизни людской,- большинство людей ею просто пренебрегают, а некоторые даже и хулят. Хулить философию, родительницу жизни,- это все равно, что покушаться на матереубийство; но и этим себя пятнают люди, столь неблагодарные, что бранят ту, кого должны бы чтить, даже не умея понять! Но я думаю, что это заблуждение, этот мрак, опутывающий непосвященные души, держится оттого, что люди не могут заглянуть в прошлое настолько, чтобы признать в первоустроителях этой жизни философов» (Tusc. V, 2, 5). Перев. М. Гаспарова цит. по: Цицерон Марк Туллий. Избр. соч. М., 1975, с. 324-325.
190
non ergo utilitatem ex philosophia, sed oblectationem petunt.
191
О значении проблемы «поиска» (ζήτησις) для развития ранней патриотической мысли см.: Daniehu J. Recherche et Tradition chez les Pères. - SP. Berlin, 1975, vol. XII, p. 3-13.
192
Ibid., S. 3-4.
193
Ср.: Майоров Г. Г. Указ. соч., с. 116.
194
В последней фразе Тертуллиан намекает на апостольские призывы уклоняться от ненужных споров о происхождении и родословной Христа, приводящих к ересям. См.: 1 Тим 1, 4; Тит 3, 9; 2 Тим 2, 17; 2, 23.
195
Как отмечает А. Ф. Лосев, «со времен стоиков диалектика стала самым неукоснительным образом пониматься в ближайшей связи с риторикой», т. е. в значении, близком к изначальному (см.: Лосев А. Ф. История античной эстетики, [т. 5]. Ранний эллинизм, с. 84-85). Латинские апологеты чаще понимали ее в этом значении, греческие - в более строгом философском смысле - как логику.
196
Ср.: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим 1. 20).
197
Ср.: «Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков» (1 Кор 1, 25).
198
О глубинной переоценке культурных ценностей идет речь в Первом Послании к Коринфянам: «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых; и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее» (1 Кор 1, 27-28).
199
В рукописях здесь встречаются разночтения. Вместо «распят» в некоторых кодексах стоит «рожден» (natus est), что не противоречит общему смыслу, так как «рождение» Бога по христианским представлениям тоже дело немыслимое и «постыдное». Ж.-П. Минь использовал в своем издании (PL) natus est.
200
Здесь Тертуллиан, как отмечает Г. Хэндлер, поставил проблему, остро вставшую в теологии только в V в.,- о соотношении божественного и человеческого в Иисусе (Haendler G. Op. cit., S. 41).
201
О специфике философско-религиозного мышления Тертуллиана подробнее см. в работах: Попов К. Д. Тертуллиан, его теория христианского знания и основные начала его богословия. Киев, 1880; Lortz J. Tertullian als Apologet. Münster, 1927 - 1928, Bd. I, II; Seyr F. Die Seelen- und Erkenntnislehre Tertullians und die Stoa. Wien, 1937; Vecchiotti L La filosofia di Tertulliano. Urbino, 1970.
202
См.: Kühn R. Der Octavius des Minucius Felix: Eine heidnisch-philosophische Auffassung vom Christentum. Leipzig, 1882, S. 26 ff. Ср.: Beutler R. Philosophie und Apologie bei Minucius Felix. Königsberg, 1936.
203
Здесь показательна парафраза Арнобия известного изречения из 1 Кор 3. 19. Его deum primum (у Павла - deum) - внесознательная дань языческому многобожию.
204
Платон, опираясь на восточные учения о бессмертии и переселении душ. делает вывод, что душа содержит в своих глубинах все знания, а любое познание и учение сводится к извлечению этих знаний из глубин памяти - к припоминанию: «ведь искать и познавать - это как раз и значит припоминать» (Men. 81 d; цит. по: Платон. Сочинения: В 3-х т. М., 1968, т. 1, с. 384-385).
205
Единственным исключением, пожалуй, можно считать лишь отдельные положения философии киников. Кинизм, выражавший, как и более позднее христианство, интересы наиболее угнетаемой части населения Греции и Рима, в том числе и рабов, стремился также спустить философию на землю, сделать ее руководительницей обыденной жизни заблудшего человечества. Считая себя целителями человечества, киники призывали людей вернуться к «натуральной» жизни, отказаться от всех благ культуры, от богатства, роскоши, всех достижений цивилизации (даже от огня), установить полное равенство всех членов общества, ликвидировать рабство и ввести всеобщую трудовую повинность. «Киники,- пишет И. М. Нахов, - стремились осуществить невозможное: освободить людей от оков государства, закона, от общества, в котором они жили» (Nachov I. Der Mensch in der Philosophie der Kyniker, S. 396). Ясно, что общество не могло пойти по указанному явно регрессивному пути. Однако многие идеи киников оказались созвучными и раннему христианству, и дохристианским иудейским сектам типа ессеев (ср.: Нахов И. М. Кинизм Диона Хрисостома, с. 85-88). В отличие от киников идеологи раннего христианства очень скоро почувствовали, во-первых, что для построения новой культуры необходимо опираться на лучшие достижения предшествующих культур, а не возвращаться к первобытному состоянию и, во-вторых, что радикальные изменения в общественном сознании в этот период можно было осуществить, только опираясь на божественный авторитет, а не путем разумной апелляции к сознанию масс. Печальный опыт ничего не добившихся атеистов-киников, слывших в народе сумасшедшими, возможно, послужил хорошим историческим примером для христиан.
206
О философских взглядах латинских апологетов см. в указанной работе Г. Г. Майорова, с. 101-142.
207
Ср.: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы, с. 159-163.
208
Meifort J. Der Platonismus bei Clemens Alexandrinus. Tübingen, 1928, S. 18.
209
Климент, как отмечают современные историки философии, «обогатил мир христианской мысли античными ценностями и этим дал мощный толчок к спекулятивному углублению христианского учения» (Gilson E., Böhner Ph. Op. cit., S. 46). Он активно продолжил юстиновскую традицию «христианского гуманизма», понимаемого как «удивительно смелый и широкий жест христианина-эллина, с которым он все приво дил к Христу - водный источник и звезды, море и быстрые корабли. Гомера и Платона и даже мистические числа пифагорейцев. Все было подготовкой, и поэтому все было наделено особым значением» (Rahner H. Griechische Mythen in christlichen Deutung. Zürich, 1957, S. 13 - 14).
210
Почти все исследователи духовного наследия Климента уделяли большое внимание этой проблеме. Термин γνώσις употребляется Климентом в различных значениях (см.: Capitaine W. Die Moral des Clemens von Alexandrien. Paderborn, 1903, S. 279; Scherer W. Klemens von Alexandrien und seine Erkenntnisprinzipien. München, 1907, S. 68-83; Völker W. Der wahre Gnostiker nach Clemens Alexandrinus. Berlin; Leipzig, 1952, S. 304-313), но главный его смысл - глубинное постижение истины, включаю щее как рациональную, так и иррациональную ступени. «Успокоение в божестве,- отмечал В. Шерер, - является целью, а узрение истины в глубочайших основаниях ее бытия - сущностью гносиса» (Op. cit., S. 71). Социологическую и антропоцентриче скую сторону Климентова гносиса подчеркивает М. Фарантос, указывая, что гно сис - это также и встреча с действительностью, «правильное» поведение человека в социуме, любовь к ближним, самопознание (Farantos M. Die Gerechtigkeit bei Klemens von Alexandrien. Bonn, 1972, S. 138-139 etc).
Следует отличать производимого Климентом от этого христианского гносиса «гностика» - субъекта познания христианской философии - от представителей «гностицизма» - чуждого христианству синкретического философско-религиозного течения первых веков новой эры, о котором мы уже говорили. Климент вслед за Иринеем называл этих «гностиков» «лжеименными гностиками» (ψευδωνυμοσ γνωοτικός) (ср.: Scherer W. Op. cit., S. 69).
211
См., в частности: Ernesti K. Die Ethik des Titus Flavius Clemens von Alexandrien. Paderborn, 1900. S. 123 - 135; Daskalakis M. Die eklektischen Anschauungen des Clemens von Alexandria und seine Abhängigkeit von der griechischen Philosophie. Leipzig, 1908; Osborn E. F. The philosophy of Clement of Alexandria. Cambridge, 1957, p. 146-167.
212
Ср.: Völker W. Op. cit., S. 234. См. также: Faye E. Op. cit., p. 201-216.
213
Подробнее см.: Scherer W. Op. cit., S. 29-40; Méhat A. Op. cit., p. 421-488.
214
Ср.: Osborn E. F. Op. cit., p. 146-158.
215
Ср.: Daskalakis M. Op. cit., S. 75.
216
Ср.: Farantos M. Op. cit., S. 138.
217
См.: Völker W. Op. cit., S. 352-353.
218
Ibid., S. 326.
219
Обозначение глав и параграфов по реконструкции Гефкена: Geffcken J. Op. cit., S. 3-27.
220
«Тертуллиан, - писал немецкий исследователь, - больше чем создатель церковной латыни, он - основатель западноевропейского доавгустиновского католицизма» (Loofs F. Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte. Halle, 19505, S. 128).
221
Перев. С. Шервинского (Овидий. Метаморфозы. M., 1977, с. 42).
222
См.: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы, с. 145.
223
См. о развитии этих идей средневековой культурой: Гуревич А. Я. Указ. соч., с. 265-268.
224
Краткий очерк ее см.: Асмус В. Ф. Античная философия. М., 1976, с. 469-493; подробнее: Pohlenz M. Die Stoa: Geschichte einer geistigen Bewegung. Göttingen, 1959. Bd. 1-2.2 В сравнении с христианской этикой: Stelzenberger J. Die Beziehungen der frühchristlichen Ethik zur Ethik der Stoa. München, 1933.
225
См. о нем: Kihn H. Der Ursprung des Briefes an Diognet. Freiburg i. Br., 1882; Bardenhewer O. Geschichte der altchristlichen Literatur. Bd. I, S. 290-299.
226
Подробнее об этом см. в следующей главе.
227
См.: Völker W. Der wahre Gnostiker nach Clemens Alexandrinus, S. 251.
228
Арнобий для обоснования своей мысли приписывает Платону оценку, которая в общем-то не следует из его нарративной передачи рассказа египетского жреца в «Тимее» (см.: Tim. 22).
229
См.: Бычков В. В. Византийская эстетика, с. 26-27.
230
Климент Александрийский призывал бороться с самими страстями и «изглаживать» их полностью из души. Страсти он понимал почти пластически, как некие оттиски, отпечатки (έναπερείσματα), которые оставляют в душе человека злые духовные силы (Str. II, ПО, 1).
231
Даже для киников Геракл оставался идеалом героя, образцом для подражания. Более того, Дион Хрисостом рисовал образ Геракла во многом подобным образу евангельского Иисуса, что способствовало в какой-то мере укреплению язычества (см.: Нахов И. М. Кинизм Диона Хрисостома, с. 60). Возможно, именно поэтому ранние христиане так настойчиво стремятся развенчать этот древний идеал героя греко-римского мира.
232
Знаменитая фраза известного софиста и ритора классического периода Протагора: «Человек есть мера всех вещей,- существующих, что они есть, а несуществующих, что их нет»,- не имеет никакого отношения к этой «человечности». В контексте Протагоровой субъективистской и релятивистской гносеологии она означает, что объективной истины не существует вообще, что не только различные люди, но и один и тот же человек в разных ситуациях различные суждения принимает за истинные (см. : Lexikon der Antike. Leipzig, 1979, S. 454-455). Это не означает, однако, что в греко-римской античности совершенно не поднималась проблема «человечности». У киников и поздних стоиков (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий) мы найдем многие гуманистические идеи, составившие фундамент христианской этики. Но именно у ранних христиан они сложились в целостную систему, центр которой составлял страдающий ради спасения всех людей Богочеловек, и именно в этой редакции идеи «человечности» обрели свою долгую историческую жизнь.
233
См.: Gilson E., Böhner Ph. Geschichte der christlichen Philosophie, S. 27-28.
234
О гуманизме в этом смысле см.: Ревякина Н. В. Проблема человека в итальянском гуманизме второй половины XIV - первой половины XV в. М., 1977; Горфункель А. X. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. М., 1977; Боткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. М., 1978; Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
235
Перев. С. Шервинского, цит. по: Овидий. Метаморфозы, с. 33.
236
adeo et sine opère et sine effectu cogitatus carnis est actus.
237
Ср. античное понимание «неотделимости» души от тела у Аристотеля (De anim. Il, 1).
238
Забота о чистоте тела и повышенное внимание к одежде для ранних христиан было неразрывно связано с культом телесных (плотских) влечений, распространенным в господствующих кругах позднеримского общества.
239
Ниже, пока идет изложение только по этому трактату, название трактата в скобках опущено, указываются только глава и параграф.
240
Специально вопрос творения и «идеального художника» рассматривается в следующей главе.
241
См. по этому поводу: Bolkestein H. Humanitas bei Lactantius: Christlich oder orientalisch? - In: Pisciculi. Festschrift F. J. Dölger. Münster, 1939, S. 62-65; Lausberg M. Christliche Nächstenliebe und heidnische Ethik bei Laktanz.- SP. vol. XIII (TU, Bd. 116), 1975, p. 29-34.
242
См.: Stelzenberger J. Die Beziehungen der frühchristlichen Ethik zur Ethik der Stoa. München, 1933; Lausberg M. Op. cit.
243
M. Лаусберг приводит ряд таких сознательных «замалчиваний» идей Сенеки у Лактанция и делает вывод, что «влияние языческой этики на него было более сильным, чем это представляется на первый взгляд из его не всегда верной полемики» (Op. cit., S. 34).
244
У Цицерона (De off. II, 15, 52) речь идет о том, что творить добро лучше делами, чем деньгами. Лактанций в полемических целях «замалчивает» контекст речи Цицерона.
245
Многие из этих идей можно найти и у Сенеки, прежде всего в его трактате «О благодеяниях». Не случайно, отмечает М. Лаусберг, Лактанций не упоминает об этом трактате в своей полемике с античной философией, ибо ему пришлось бы несколько умерить свой полемический задор (Op. cit., S. 32-33).
246
См.: Friedländer L. Sittengeschichte Roms, S. 422 - 847; Mattingly H. Roman impérial civilisation. London, 1957, p. 244-292; Kahrstedt U. Kulturgeschichte der römischen Kaiserzeit, S. 234-304.
247
См.: Kalkmann A. Tatians Nachrichten über Kunstwerke.- Rheinisches Museum, 1887, Bd. 42.
248
έναπόλλυτε τής κακίας τά ύπομνήματα (Adv. gr. 34).
249
См. подробнее: Elliger W. Die Stellung der alten Christen zu den Bildern in den ersten vier Jahrhunderten. Leipzig. 1930; KitzingerE. The cult of images in the age before iconoclasm.- DOP, t. 8, 1954; Ladner G. B. The concept of the image in the Greek fathers and the Byzantine iconoclastic controversy.- DOP, 1953, t. 7.
250
См.: Justini Philosophi Apol. I, 9; Epistola ad Diognetum 2.
251
См.: Apol. 12; а также: Minucii Felicis Octavius, 23-24.
252
σκιαγραφία здесь понимается Афинагором в изначальном, буквальном смысле - как изображение тени. В античности этот термин имел обычно более широкое значение, определяя объемное (со светотеневой и цветовой моделировкой), пространственное, близкое к иллюзионистическому изображение. Здесь может быть понята и как графика - контурный рисунок.
253
Интересно, что живший несколько раньше Тертуллиана Дион Хрисостом в своей «Олимпийской речи» доказывал, что не постижимых человеческими чувствами и невидимых богов вполне пристойно изображать только в человеческом облике, ибо человек - наиболее благородное и прекрасное создание природы. См.: Лосев А. Ф. Эллинистически-римская эстетика I-II вв. н. э., с. 184.
254
См.: Tertul. De spect. 12; Min. Felic. Octav. 27; Cypr. Quod idol. 3.
255
Здесь Климент имеет в виду любимые в эллинистический период и воспетые в бесчисленных греческих эпиграммах иллюзионистические изображения знаменитых «лошадей» Апеллеса. Вспомним также «телку» Мирона, «виноград» Зевксиса. клевать который с полотна слетались птицы, наконец, «занавес» Паррасия, который ввел в заблуждение самого Зевксиса, попытавшегося его отдернуть. См.: Лосев А. Ф. История античной эстетики, [т. 5]: Ранний эллинизм, с. 405.
256
См.: Ovid. Metam. X, 243 ff.
257
Мысль о том, что художника следует ценить выше произведений его искусства, высказывали и Сенека, и со ссылкой на Менандра Юстин (Apol. I, 20), и Афинагор (Leg. 15), и Климент Александрийский (в ряде мест).
258
Вспомним, что Филон Александрийский ценил красоту произведений искусства значительно выше красоты человека.
259
См.: Бычков В. В. Античные традиции в эстетике раннего Августина. - В кн.: Традиция в истории культуры. М., 1978, с. 90-93.
260
Лукиан едко высмеял любителей риторского эстетизма, процветавшего в период «второй софистики», в своей «Похвале мухе» (О второй софистике см.: Lesky A. A history of Greek literature, p. 829-845; Kennedv G. The art of rhetoric in the Roman World 300 B. C.- A. D. 300. New Jersey, 1972, p. 553-613.)
261
Март К. Философы и поэты-моралисты времен Римской империи. М., 1879, с. 230.
262
См.: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы, с. 188-200.
263
Последнее указание весьма любопытно, так как трактат под таким названием известен в греческой редакции и относится исследователями ко II в. См.: Cebetis tabula/Recognovit Fr. Drosihn. Lipsiae, 1871; Нахов И. М. Традиции аллегоризма и «Картина» Кебета Фиванского. - В кн.: Традиция в истории культуры. М., 1978, с. 71-76.
264
Об отношении Лактанция к поэзии и поэтическому творчеству см.: Messmer E. Laktanz und die Dichtung. München, 1974.
265
См.: Тахо-Годи А. А. Художественно-символический смысл трактата Порфирия «О пещере нимф». - Вопросы классической филологии, 1976, № 1, с. 3-27; Попова Т. В. Гомер в оценке неоплатоников. - В кн.: Древнегреческая литературная критика. М., 1975, с. 415-449.
266
См.: Friedländer L. Sittengeschichte Roms, S. 422-553; Kahrstedt U. Op. cit.. S. 251-271; Симоне Т. Очерки древнеримской жизни. СПб., 1879.
267
См.: Варнеке Б. Очерки из истории древнеримского театра. СПб.. 1903; Он же. История античного театра. М.; Л., 1940; Каллистов Д. П. Античный театр. Л., 1970; Головня В. В. История античного театра. М., 1972.
268
Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел / Перев. М. Кузьмина. Цит. по: Ахилл Татий, Левкиппа и Клитофонт. Лонг, Дафнис и Хлоя. Петроний, Сатирикон. Апулей, Метаморфозы, или Золотой осел. М., 1969, с. 522-523.
269
О происхождении, развитии, содержании и поэтике мима подробнее см.: Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М.. 1978, с. 230-267.
270
Об эстетике римских кровавых зрелищ см.: Лосев А. Ф. Эллинистически-римская эстетика I-II вв. н. э., с. 52-54.
271
Культ Солнца, пришедший с Востока, был распространен в Римской империи. В одной из молитв того времени Солнце называется «Вседержителем (παντοκράτορ), духом мира, силой мира, светом мира». См.: Nilsson M. P. Geschichte der griechischen Religion. München, 1950, Bd. II: Die hellenistische und römische Zeit, S. 493.
272
См.: Головня В. В. Указ. соч., с. 363.
273
См.: Бычков В. В. Византийская эстетика, с. 133 - 134.
274
Перев. М. Л. Гаспарова, цит. по: Аристотель и античная литература. М., 1978, с. 116.
275
Русский перев. Л. А. Фрейберг см.: Памятники поздней античной научно-художественной литературы. М., 1964, с. 11-46: анализ эстетических аспектов трактата см.: Лосев А. Ф. Эллинистически-римская эстетика I - II вв. н. э.
276
К. Шнейцер, подчеркивая доминирование эмоционального над рациональным в культуре позднего эллинизма и раннего христианства, отмечает, что именно в этот период стоики открывают важный психологический закон - «закон противоположности чувств: глубочайшими чувствами являются не удовольствие или неудовольствие, но удовольствие и неудовольствие совместно» (Schneider С. Geistesgeschichte des antiken Christentums. München, 1954, Bd. I, S. 159-160).
277
quod in facto recitur, etiam in dicto non est recipiendum.
278
Цицерон писал в «Катоне Старшем»: «...нет преступления, нет дурного деяния, на которое страсть к наслаждениям не толкнула бы человека; разврат, прелюбодеяния и всяческие гнусности порождаются одними только соблазнами наслаждения. Если самое прекрасное, что даровала человеку природа или божество,- это разум, то ничто так не враждебно этому божественному дару, как наслаждение; где властвует похоть, нет места воздержанности, да и вообще в царстве наслаждения доблесть утвердиться не может» (Перев. В. Горенштейна, цит. по: Цицерон, Марк Туллий. Избр. соч., М., 1975, с, 370).
279
См.: Osborn E. F. Op. cit., p. 182.
280
Здесь Климент приводит стих из «Одиссеи» (IV, 221), в котором у Гомера определяется действие сока, подмешанного Еленой в вино своих гостей, т. е. подчеркивает прежде всего физиологическое воздействие музыки.
281
Ср.: Лосев А Ф. История античной эстетики, [т. 4]: Аристотель и поздняя классика. М., 1975, с. 599.
282
έπί τών σκηνογραφουμένων - здесь Климент имеет в виду особые приемы (близкие к линейной перспективе) организации пространства в театрально-декорационной живописи поздней античности, ведущие свою традицию от древнегреческого живописца V в. до н. э. Агатарха. См.: Виппер Б. Р. Искусство древней Греции. М., 1972, с. 147.
283
Г. Кох писал, что «не только Тертуллиан, но и Климент ничего еще не знает о христианских изображениях» (Koch H. Die altchristliche Bilderfrage nach den literaris chen Quellen. Göttingen, 1917, S. 84).
284
Трудно представить, что Климент, живя в главном культурном центре Египта, не знал о ее существовании.
285
См. о них: Павлов В. В. Египетский портрет I - IV веков. М., 1967.
286
Как отмечает Климент, первопричина «не познается ни с помощью искусства, ни с помощью разума» (Str. II, 13. 4), т. е. он различает «художественно-практическое» и интеллектуальное познание.
287
Под «архитектурой» Климент имеет в виду геометрические основания строительного искусства.
288
φαντασία... ταϋτα είργάσατο, σοφωτέρα μιμήσεως δημιουργός μίμηοις μέν γάρ δημιουργήσει, ό είδεν φαντασία δέ καί, ό μή είδεν
289
Следует отметить, что автор интересного исследования о мимесисе и фантасии в филостратовском «Жизнеописании Аполлония» Э. Бирмелин (см.: Birmelin E. Die kunsttheoretischen Grundlagen in Philostrats Apollonios. - Philologus, 1933, Bd. 88) предприняла достаточно убедительную попытку доказать, что φαντασία в приведенном отрывке, включающая в себя μίμησις в узком смысле (как голое подражание действительности), практически идентична мимесису в широком смысле (как особому творческому началу, включающему в себя изображение как действительного, так и «возможного»), употребляемому Аристотелем (Poet. 9, 1451 b 17) и самим Филостратом при разговоре о живописи в другом месте книги (Vit. Apol. II, 20; 22) (Op. cit., S. 399-401). Далее, задаваясь мыслью выяснить, почему же Филострат употребил все-таки термин φαντασία, Бирмелин приходит к выводу, что он продолжает здесь мысли «младших академиков» о художественной «идее» произведения искусства (S. 407). Думается, что не только этим руководствовался Филострат, используя термин φαντασία. Речь у него идет не просто об «идее» произведения, но об «идее», созданной мудростью художника, т. е. в какой-то мере о вымысле, о художественном воображении. Конечно, античная φαντασία отличалась от современной «фантазии» или «воображения», но явилась все же их предшественницей.
290
Külpe O. Anfänge psychologischer Ästhetik bei den Griechen. - Philosophische Abhandlun gen M. Heinze zum 70. Geburtstage gewidmet von Freunden und Schülern. Berlin, 1906, S. 120-121.
291
См.: Медведев И. П. Византийский гуманизм XIV- XV вв. Л., 1976; Бычков В. В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991, с. 334-361.
292
Цит. по: Блок Александр. Собр. соч. М.; Л., 1960, т. 3, с. 301.
293
Подробному анализу развития в позднеантичной культуре идеи творения мира «из ничего» посвящена 1-я часть монографии: Weiss H. F. Untersuchungen zur Kosmologie des hellenistischen und palästinischen Judentums. Berlin, 1966.
294
Тертуллиан имеет в виду, что слово κόσμος у греков означает и мироздание (космос), и украшение.
295
Цит. по: Лосев А. Ф. История античной эстетики, [т. 5]: Ранний эллинизм, с. 155.
296
Ср.: Weiss H. F. Op. cit., S. 147-148.
297
Лосев А. Ф. Эстетическая терминология ранней греческой литературы (эпос и лирика). - Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина, 1954, т. LXXXIII, с. 134.
298
См.: Tatarkiewicz Wł. Historia estetyki. II: Estetyka sredniowieczna, s. 11 - 12.
299
Ibid., s. 12.
300
άλλά πάντα μέτρώ καί αριθμώ καί οταθμώ διέταξας. В Вульгате эта мысль передана так: sed omnia mensura et numero et pondere disposuisti (11, 21).
301
Ср.: Tatarkiewicz Wł. Op. cit., s. 13.
302
έκ γάρ μεγέθους καί καλλονής κτισμάτων αναλόγως ό γενεσιουργός αυτών θεωρείται.
303
См.: Balthasar H. U. von. Herrlichkeit: Eine theologische Ästhetik. Bd. II, S. 71 ff.
304
Ср.: Ibid., S. 71-72.
305
См.: Tatarkiewicz Wł. Op. cit.; Шестаков В. Я. Гармония как эстетическая категория: Учение о гармонии в истории эстетической мысли. М.. 1973, с. 54-86.
306
τό εύτακτον, τό διαπαντός σύμφωνον, τό μέγεθος, τήν χροιάν, τό σχήμα, τήν διάθεσιν τού κόσμου.
307
См.: Casel O. Das christliche Opfermysterium: Zur Morphologie und Theologie des eucharistischen Hochgebetes. Graz etc., 1968, S. 339.
308
Интересно отметить, что Юстин чисто в христианских традициях сознательно огрубляет внешний вид добродетели, которая у Ксенофонта выглядит значительно обаятельнее и привлекательнее своей спутницы: «одна - миловидная, с чертами врожденного благородства; украшением ей была чистота тела, стыдливость в очах, скромность наружности, белая одежда; другая была упитанная, тучная и мягкотелая; благодаря косметике лицо ее казалось на вид белее и румянее, чем оно было в действительности; фигура казалась прямее, чем была от природы; глаза широко раскрыты; одежда такая, что сквозь нее может просвечивать красота молодости» (перев. С. И. Соболевского, цит. по: Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения. М.; Л., 1935, с. 61).
309
Ср.: Kahrstedt U. Kulturgeschichte der römischen Kaiserzeit, S. 236-240.
310
См.: Méhat A. Étude sur les «Stromates» de Clément d'Alexandrie. Paris, 1966, p. 344-345.
311
Эта тенденция была присуща в той или иной мере всей духовной атмосфере поздней античности, когда гносеология искала выход из тупиков рационализма в эстетической сфере. И у гностиков, и у неоплатоников можно найти нечто близкое. В одном из гностических текстов говорится: «Гносис и созерцание прекрасного суть покой и молчание духа. Кто однажды воспринял прекрасное, уже не может созерцать ничего иного и ни о чем другом говорить; он не может двигать своим телом. Он утрачивает способность любого чувственного восприятия, любого телесного движения и застывает в покое. Прекрасное купает весь разум в свете, высветляет всю душу и устремляет ее сквозь тело в высоту и обращает всего человека в божественное существо» (цит. по: Quispel G. Gnosis als Weltreligion. Zürich, 1951, S. 39).
312
Климент цитирует послание Павла: 1 Кор 2. 9.
313
В. Фёлькер неоднократно подчеркивает отсутствие «твердой терминологии» у Климента. См.: Völker W. Der wahre Gnostiker nach Clemens Alexandrinus, S. 13, 248, 304. 333 etc.
314
Трудно согласиться со слишком уж прямолинейным выводом Г. Коха: «Древнейшее христианство ничего не хотело знать о чувственной красоте; его любовь и его стремления были направлены только на духовно-нравственную красоту» (Koch H. Op. cit., S. 85). Это замечание вступает в противоречие с библейской идеей творения. Гораздо ближе к истине В. Фёлькер, отмечавший, что у Климента, как и у Филона, «налицо колебания между открытием мира и бегством от него» (Völker W. Op. cit., S. 216).
315
Ср. мысль Филона, восходящую к платоновской эстетике: мудрец, «даже если бы он безобразием тела превзошел Силена, является самым красивым (pulcherrimus est)» (Quest. in Gen. IV, 99).
316
Ср.: Brehm J. Die Geschlechtergemeinschaft bei Klemens von Alexandrien: Ein Beitrag zur Sexualauffassung bei Klemens von Alexandrien. München, 1964, S. 36-43.
317
Комментируя это место, А. Мэа заключает: «Итак, Климент вновь обретает тип. канон эллинской красоты, когда он отстаивает права природы перед лицом искусственности, когда он провозглашает превосходство простоты перед богатством» (Méhat A. Op. cit., р. 344). Это новое обретение обладает, конечно, уже и новым значением.
318
См.: Clem. Alex. Str. IV, 116, 2; Tert. De carn. Chr. 9.
319
В связи с Климентовым пониманием прекрасного возникло у А. Мэа понятие «эстетики возвращения к природе» в отличие от эллинской эстетики природы: «Без сомнения, эстетика в «Строматах», этот лабиринт, этот английский сад, является скорее эстетикой возвращения к природе, чем [эстетикой] природы самой по себе. Она скорее барочна, чем классична; но, как всякое произведение барокко, она содержит классическое ядро, сохраняет остаток классицизма» (Méhat A. Op. cit., p. 345).
320
См.: Tert. De carn. resur. 57; Lact. Div. inst. II, 6, 2 - 3 etc.
321
См.: Бычков В. В. Византийская эстетика, с. 133 - 136.
322
Об отношении к телу и телесной красоте в древнем ближневосточном мире см.: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы, с. 60-64.
323
К вопросу о знаковости и символизме в ранневизантийской культуре ср.: Аверинцев С. С. Указ. соч., с. 109-149.
324
Интересный аспект позднеантичного аллегоризма в связи с общей теорией аллегоризма рассматривает И. М. Нахов в своей статье «Традиции аллегоризма и «Картина» Кебета Фиванского» (Традиция в истории культуры. М., 1978, с. 61-78). Вопросу аллегории и символа у неоплатоников посвящена статья С. С. Аверинцева «Неоплатонизм перед лицом Платоновой критики мифопоэтического мышления». См.: Платон и его эпоха. М., 1979, с. 83 - 97.
325
Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры, с. 265-266.
326
Хороший русский перевод «Пастыря» Ерма был издан еще в прошлом веке П. Преображенским (см.: Писания мужей апостольских. СПб., 1895). Он переиздается до сих пор без изменений (см.: Антология: Раннехристианские отцы церкви. Брюссель, 1978; 1988; Писания мужей апостольских. Рига. 1992), Он и использован нами в данной работе с некоторыми уточнениями по новым изданиям греческого оригинала (Patram apostolicorum opéra. Lipsiae, 1906; Sources Chrétiennes. Paris, 1968, t. 53 bis). В науке принята цитация «Пастыря» с указанием названий трех его книг: I - Visiones (Vis.) - Видения; II - Mandata (Mand.) - Заповеди и III - Similitudines (Sim.) - Подобия (или, точнее, в переводе с греческого оригинала - Притчи - παραβολαί). В связи с нашей проблематикой см. работы: Van Deemter R, Der Hirt des Hermas: Apokalipse oder Allegorie? Amsterdam, 1929; Ström A. V. Der Hirt des Hermas: Allegorie oder Wirklichkeit? Leipzig, 1936.
327
Völker W. Op. cit., S. 114. Конечно, Климент здесь во многом не оригинален, а опирается прежде всего на учение Филона. У последнего, как убедительно показал Г. Вильмс, είκών также играет важную роль во всем учении. Логос и «духовный космос» являются образами Бога, человек - «образом образа», «чувственный космос» - «подражанием божественному образу» и т. п. (см. Willms H. ΕΙΚΩΝ: Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung zum Platonismus. Münster i. Westf., 1935, I. Teil: Philon von Alexandreia, S. 54-57, 80 - 87). Более того. Филон впервые сблизил сферы платоновской ίδέα с είκών (Leg. alleg. I, 33; Willms Η. Op. cit., S. 64) и тем самым, как подчеркивает Г. Лэднер, создал важное промежуточное звено между платоновской и христианской теориями образа (См.: Ladner G. В. The concept of the image in the Greek fathers and the Byzantine iconoclastic controversy. - DOP, 1935, t. 7, p. 7).
328
У Филона человек был «вторым образом» («образом образа Бога»). Ср. в герметических текстах: τό δέ τρίτον ζώον ό άνθρωπος κατ' εικόνα του κόσμου γενόμενος (VIII, 5).- Цит. по: Willms Я. Op. cit., S. 47.
329
Ср. платоновскую теорию «подражания» в связи с искусством, в частности: Лосев А. Ф. История античной эстетики, [т. 3]: Высокая классика. М., 1974, с. 32-56, 160-173.
330
См. подробнее: Struker A. Die Gottebenbildlichkeit des Menschen in der christlichen Literatur der ersten zwei Jahrhunderte: Ein Beitrag zur Geschichte der Exegese von Genesis I, 26. Münster i. Westf., 1913.
331
Ibid., S. 55-57.
332
Издание: Die Pseudoklementinen. Berlin, 1953 - 1965, Bd. I-II; PG, t. 1; ср. также: Struker A. Op. cit., S. 60-69.
333
Столь сильно выраженный эллинский эстетизм у представителя древнееврейского гносиса вызывает удивление, хотя и не противоречит главной тенденции того времени, направленной на синтезирование греко-римской и ближневосточных культур.
334
См.: Struker A. Op. cit., S. 41.
335
Подробному анализу этого вопроса посвящен большой раздел в монографии А. Штрукера (с. 76-128).
336
Balthasar H. U. von. Op. cit., S. 56.
337
См.: Brox N. Offenbarung, Gnosis und enostischer Mythos bei Irenäus von Lyon. Salzburg, 1966.
338
Ср.: Struker A. Op. cit., S. 100-102.
339
Ibid., S. 121.
340
О развитии этих идей в греческой патристике см.: Merki H. Όμοίωσις θεώ: Von der platonischen Angleichung an Gott zur Gottähnlichkeit bei Gregor von Nyssa. - In: Paradosis: Beiträge zur Geschichte der altchristlichen Literatur und Theologie. Freiburg i. Schw.. 1952, Bd. 7, S. 45 ff.
341
По мнению Евсевия Кесарийского, Климент был знаком с трудами Иринея (Eccl. hist. VI, 13, 9).
342
У Филона функцию «этически-гностического пути» к Богу выполнял образ - είκών (ср.: Willms H. Op. cit., S. 94-112).
343
В последнее время появилась интересная, но спорная работа о «праведности» у Климента, автор которой, в частности, вопреки установившейся в науке точке зрения предлагает новое истолкование проблемы образа у Климента. По мнению М. Фарантоса, «Адам не был создан совершенным - καθ' όμοίωσιν, но только - κατ' είκόνα, т. е. он имел возможность стать совершенным (καθ' όμοίωσιν) путем дальнейших усилий и сохраняя верное отношение к Богу». Он не только не осуществил этого, но «с грехопадением потерял человек и κατ' είκόνα (не καθ' όμοίωσιν)». Под κατ' είκόνα у Климента автор предлагает понимать не разум, который был сохранен человеку и после грехопадения, а правильное отношение к Богу и к обыденной действительности (Farantos M. Op. cit., S. 132-133, Anm. 7; S. 134, Anm. 2; S. 135). Думается все же, что вся Доклиментова эйконология и его собственные суждения не дают оснований для подобных выводов.
344
Ср. понимание образа как пути у Филона: Willms H. Op. cit., S. 94-112.
345
Ср. у скептиков: Sext. Emp. Adv. Math. I, 38.
346
См.: Kuypers K. Der Zeichen- und Wortbegriff im Denken Augustins. Amsterdam, 1934; Marcus R. A. St. Augustine on signs. - Phronesis, Assen, 1957, vol. 2, N l, p. 60-83; Бычков В. В. Античные традиции в эстетике раннего Августина. - В кн.: Традиция в истории культуры. М., 1978, с. 98-101; см. также: Часть вторая, гл. IX данной книги.
347
DVC цит. в перев. М. М. Елизаровой по: Тексты Кумрана. М., 1971, вып. I, e. 378, 383.
348
См.: Bourguet P. Les Symbols des quatre évangélistes. - Revue réformée, 1959, vol. 10; Crozet R. Les quatre Évangélistes et leurs Symboles. - Cahiers techniques de l'Art, 1966.
349
Ср.: Гуревич А. Я. Указ. соч.. с. 266.
350
Ср.: Boer W. den. De Allegorese in het Werk van Cléments Alexandrinus. Leiden, 1940.
351
См.: Völker W. Op. cit.. S. 17; Osborn E. F. Op. cit., p. 168-174.
352
О некоторых конкретных этимологических толкованиях Климента (как составной части аллегорических) и их происхождении, а также о символике Египта у Климента см.: Treu U. Etymologie und Allegorie bei Klemens von Alexandrien. - SP, Berlin, 1961, Bd. IV (TU, 79), S. 191-211; см. также: Daniélou J. Typologie et allégorie chez Clément d'Alexandrie. - SP, Bd. IV, S. 50-57.
353
Подобное толкование см. и у Филона (De vit. Mos. II, 88).
354
Ср.: Osborn E. F. Op. cit., p. 170.
355
Уже Августин рассматривал четыре способа «изъяснения» Писания: исторический, аллегорический, аналогический и этиологический (De Gen. ad lit. imp. 2,5), кроме того, он знает и другие подходы (см.: De Gen. contr. Man. II, 2, 3 - подробнее см. в части второй данного тома). В XII в. Петр Коместор в прологе своей «Схоластической истории» указывает на три способа понимания Писания - исторический, аллегорический и тропологический (см.: Неретина С. С. Специфика сознания развитого средневековья (На примере «Схоластической истории» Петра Коместора): Автореф. дис. М., 1978, с. 11; с толкованием этого места С. С. Неретиной, однако, трудно согласиться). А. Я. Гуревич называет в своей монографии четыре наиболее распространенных в западном Средневековье способа понимания Писания: исторический, аллегорический, тропологический и анагогический. См.: Гуревич А. Я. Указ. соч., с. 75-76.
356
См. подробнее: Stein E. Philo und der Midrasch.- Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, Berlin. 1931, Bd. 57; Heinemann J. Altjüdische Allegoristik. Breslau, 1932; Heinemann J. Philons griechische und jüdische Bildung. Breslau, 1932.
357
Как отмечал немецкий ученый начала века, в аллегористике язычников и христиан разделяла лишь тонкая перегородка. И те и другие стремились на основе аллегорезы построить из старых руин новое здание. См.: Geffcken J. Zwei griechische Apologeten, S. 246.
358
Здесь его критика во многом смыкается с критикой античного аллегоризма скептиками. См.: Geffcken J. Op. cit., S. 246.
359
О различных аспектах античной литературной критики см. : Очерки истории римской литературной критики. М., 1963; Древнегреческая литературная критика. М., 1975.
360
Против понимания богов античного пантеона в качестве аллегорий природных явлений выступал и Татиан. См.: Adv. gr. 21.
361
Богословско-философским идеям Оригена посвящена огромная литература. См., в частности: Болотов В. В. Учение Оригена о Св. Троице. СПб., 1879; Елеонский Ф. Учение Оригена о божестве Сына Божия и Духа Святого. М., 1881; Daniélou J. Origène. Paris. 1948; Balthasar H. U. von. Origenes: Geist und Feuer. Ein Aufbau aus Origenes Schriften. Salzburg, 1951; Crouzel H. Theologie de l'image de Dieu chez Origène. Paris, 1956; Nautin P. Origène. Paris, 1977; см. также библиографию: Crouzel H. Bibliographie critique d'Origène. - Instrumenta patristica. Steenbrugge: Den Haag, 1971, t. VIII: 1982, VIII a; Farina R. Bibliografia Origeniana: 1960-1970. Roma, 1971.
362
Работы Оригена цитируются в основном по изданию GCS с учетом PG, t.11 -17 и русских переводов изданных в России трактатов «О началах», «Против Цельса», «О молитве» и «Увещание к мученичеству».
363
Для Климента и Оригена гносис, как уже отмечалось, еще не был негативным понятием, связываемым более поздними Отцами Церкви с ложным гносисом, хотя Ориген употреблял этот термин уже более осторожно, чем Климент; он знал учение гностика Валентина (ум. ок. 160 г.) и не разделял многих его положений.
364
Völker W. Das Vollkommenheitsideal des Origenes: Eine Untersuchung zur Geschichte der Frömmigkeit und zu den Anfängen christlicher Mystik. Tübingen, 1931. S. 84.
365
См. его специальный трактат «Увещание к мученичеству».
366
Подробнее см., например: Völker W. Op. cit., S. 98 - 144.
367
Ibid., S. 138-144.
368
Ibid.. S. 144.
369
Русский перевод трактата «О началах» цит. по изданию: Творения Оригена, учителя александрийского, в русском переводе. Вып. I: О началах. Казань. 1899.
370
См.: Contr. Cels. VI, 69; De princ. I, 2, 2; Ι, 8, 3.
371
Здесь Ориген ссылается на греческий текст Книги Притчей Соломоновых (2, 5): «ты чувство божественное обретешь» (αϊσθησιν θείαν εύρήσεις).
372
Подробнее о библейской экзегетике Оригена см. : Gögler R. Zur Theologie des biblischen Wortes bei Origenes. Düsseldorf, 1963.
373
Эти идеи впоследствии лягут в основу концепции «неподобных подобий» Псевдо-Дионисия Ареопагита (см., например: Бычков В. В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991, с. 89-92).
374
В их лексиконе, как мы видели, так обозначаются статуи языческих богов - идолы, к которым у ранних христиан было резко отрицательное отношение.
375
Ориген вслед за Платоном (Ер. VI, 322 de) и Псалмопевцем различает две мудрости - божественную и человеческую.
376
Анализу оригеновских образов и символов и отысканию их платоновских прототипов посвящена диссертация: Lettner M. Zur Bildersprache des Origenes: (Platonismen bei Origenes). Ausburg, 1962.
377
Ср.: Böhringer Fr. Origenes und sein Lehrer Klemens, oder die alexandrinische und innerkirchliche Gnosis des Christentums. Stuttgart, 1874, S. 373.
378
Подробнее об аллегорическом методе Оригена см.: Hanson С. Allegory and Event: A Study of the Sources and Significance of Origenes' Interpretation of Scripture. London, 1959.
379
Здесь и далее первые две гомилии на Книгу Бытия цитируются в переводе А. Г. Дунаева. Изданы в GCS (Origenes Werke, Bd. 6).
380
Böhringer Fr, Op. cit., S. 373.
381
Важной заслугой Оригена в богословии считается введение понятия «трех ипостасей» (In Ioan. Com. II, 6) применительно к Троице (см.: Болотов В. В. Указ, соч., с. 251-252).
382
Ср.: Болотов В. В. Указ. соч., с. 209, 380.
383
Там же, с. 243.
384
Уточнено по греческому тексту Септуагинты. которым обычно пользовались греко-язычные Отцы Церкви и многие латинские: 'Έοτιν γάρ έν αύτή.
385
Цитаты из Плотина даны в переводе А. Ф. Лосева.
386
Ср.: Прем 7, 25-26.
387
В античной философии (у Аристотеля, Плутарха) так обозначались «неподвижные звезды» в отличие от движущихся планет.
388
Здесь у Оригена явно слышны отзвуки атомистической картины мира, разработанной древнегреческими философами Демокритом и Эпикуром.
389
У ап. Павла читаем: «Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничтожении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное» (1 Кор 15, 42-44).
390
Именно эта концепция апокатастасиса явилась одной из причин зачисления Оригена в еретики.
391
Подробнее см.: Crouzel H. Théologie de l'Image de Dieu chez Origène. Paris, 1956; Maloney G. A. Man, the Divine Icon: The Patristic Doctrine of Man made according to the Image of God. New Mexico, 1973, p. 68-87.
392
Ориген пользовался, видимо, текстом Септуагинты, где стоит только одна эта фраза: κατ' είκόνα θεόύ έποίησεν αύτόν («по образу Божию сотворил его»); в синодальном же переводе, восходящем к древнееврейскому оригиналу, стоит и то и другое, что делает толкование Оригена неубедительным: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его» (1, 27). Это же чтение дает и Вульгата, а вот церковнославянский перевод повторяет версию Септуагинты.
393
См.: Bienen W. A. Dionysius von Alexandrien: Zur Frage des Origenismus im dritten Jahrhundert. Berlin; New York, 1978, S. 177.
394
См.: Harnak A. Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius. Leipzig, 1958, Bd.2, S. 58.
395
Bienert W. A. Op. cit., S. 174.
396
Ibid., S. 132.
397
См.: Opitz H.-G. Dionys von Alexandrien und die Libyer. - Quantilacumque: Studies presented to K. Lake. London, 1937, p. 42.
398
Работы Дионисия сохранились только во фрагментах, которые собраны в следующих изданиях: PG, t. 10; PL, t. 5; Feltoe Ch. L. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΕΙΨΑΝΑ: The Letters and other Remains of Dionysious of Alexandria. Cambridge, 1904; Творения св. Дионисия Великого, епископа Александрийского, в русском переводе А. Дружинина. Казань, 1900. В данной работе использован русский перевод с отдельными уточнениями по греческим оригиналам.
399
Дионисий имеет в виду Первое Послание Иоанна. Два других небольших послания, включенные в Новый Завет под именем Иоанна, видимо, ему не были известны.
400
άγαθόν ήδονήν είναι.
401
Творения св. Дионисия, с. 173.
402
Jaspers K. Die grossen Philosophen. München, 1957, Bd. I, S. 390-391.
403
См.: Grabmann M. Die Geschichte der scholastischen Methode. Freiburg i. Br., 1909, Bd. l, S. 125-147.
404
См.: The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy./Ed. by A. H. Armstrong. Cambridge, 1967. p. 348; Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии: Латинская патристика. М., 1979, с. 181 - 340.
405
Jaspers К. Op. cit., S. 392.
406
Ibid., S. 393-394.
407
См. гл. I.
408
Svoboda K. L'esthétique de Saint Augustin et ses sources. Brno, 1933, p. 199.
409
Tatarkiewicz Wł. Estetyka Sredniowieczna, s. 58.
410
См.: Трубецкой Е. Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке. М., 1892, ч. I: Миросозерцание Блаженного Августина, с. 54-55; Jaspers К. Op. cit., S. 386; Gilson E. The Christian Philosophy of Saint Augustine. London, 1961.
411
См.: Andresen C. Bibliographia Augustiniana. Darmstadt, 1973 г. и выходящие ежегодно с 1955 г. «Revue des Etudes augustiniennes. Bulletin Augustinien», Paris, в каждом из которых содержится не менее 400 названий новых работ по Августину.
412
Berthaud A. Sancti Augustini doctrina de pulchro ingenuisque artibus. Poitier, 1891; Thimme W. Literarisch-ästhetische Bemerkungen zu den Dialogen Augustins.- Zeitschrift für Kirchengeschichte. Gotha, Bd. 29, 1908; Hruban J. Esthetika sv. Augustina. Olomütz, 1920.
413
См.: Eschweiler K. Die ästhetischen Elemente in der Religionsphilosophie des hl. Augustin. Euskirchen, 1909; Wikman A. Beiträge zur Ästhetik Augustins. Weida i. Th., 1909.
414
См.: Wikman A. Op. cit., S. 9.
415
Ibid., S. 11; 101.
416
См.: Edelstem H. Die Musikanschauung Augustins nach seiner Schrift «De musica». Freiburg im Br.. 1929.
417
См. сноску 7.
418
См.: Svoboda K. Op. cit., p. 196.
419
См.: Chapman E. Saint Augustine's Philosophy of Beauty. New York; London, 1939.
420
См.: Manferdini T. L'estetica religiosa in S. Agostino. Bologna. 1969.
421
См.: Balthasar H. U. von. Herrlichkeit: Eine theologische Ästhetik. Einsiedeln, 1962, Bd. II. S. 95-144.
422
См. сноску 8, с. 58-80.
423
См.: Спасский А. А. Эллинизм и христианство. Сергиев Посад, 1913.
424
Основными источниками биографии Августина являются его «Исповедь» и его жизнеописание, составленное Поссидием. епископом Каламенским, другом и учеником Августина (см.: PL, t. 32). Из современных исследований лучшей биографической работой, пожалуй, можно считать монографию П. Брауна: Brown P. Augustinus von Hippo. Leipzig, 1972; английский оригинал: Brown P. Augustine of Hippo. London, 1967. По-русски см. очерк А. А. Столярова в издании: Аврелий Августин. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонийского. М., 1991. с. 5 - 50.
425
Работы Августина цитируются по изданиям: CSEL (отдельные тома); PL, t. 32-47; частично использован русский перевод: Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского, 2-е изд., Киев, 1901 - 1915, ч. 1 - 8; «Исповедь» и «Об обучении оглашаемых» цитируются в новых переводах M. E. Сергеенко, опубликованных в «Богословских трудах»,- М.. 1976, т. 15; 1978, т. 19. При цитации даются общепринятые сокращения названий трактатов с указанием последовательно цифрами книги (римская), главы и параграфа (арабские) трактата.
426
До нас дошли только отрывки «Гортензия», написанного Цицероном по образцу также сохранившегося только фрагментарно аристотелевского «Протрептика». Ища утешения после смерти дочери Туллии в философии. Цицерон утверждал, что мудрость выше всех земных благ и невзгод, что только жизнь духа является истинной жизнью человека. Здесь же он дал и краткий очерк истории философии. Содержание «Гортензия» см.: Plasberg О. De M. Tulii Ciceronis Hortenzio dialogo. Lipsiae, 1892.
427
Подробнее о манихействе см. в работах: Alfaric P. Les écritures manichéennes. Paris, 1918, v. 1-2; Burkitt F. С. The religion of the Manichees. Cambridge, 1925; Schaeder H. H. Urform und Fortbildungen des manichäischen Systems. Leipzig, 1927; Peuch H. C. Le manichéism, son fondateur. Paris, 1949; Widengren G. Mani und der Manichäismus. Stuttgart, 1961; Décret Fr. L'Afrique manichéene (IV-V siècle): Étude historique et doctrinale. Paris, 1978, v. 1-2.
428
См.: Brown P. Op. cit., S. 39-51.
429
См.: Прохоров Г. Нравственное учение св. Амвросия, епископа Медиоланского. СПб., 1912, с. 52-110; Courcelle P. Recherches sur les «Confessions» de S. Augustin. Paris, 1950, p. 106-138.
430
О Викторине и его философских взглядах см.: Benz E. Marius Viktorinus und die Entwicklung der abendländischen Willensmethaphysik. Stuttgart, 1932; Майоров Г. Г. Указ. соч., с. 169 - 176.
431
См.: Boyer Ch. Christianisme et Néo-Platonisme dans la formation de Saint Augustin. Paris, 1953; Theiler W. Porphyrios und Augustinus. Halle, 1933; Courcelle P. Op. cit.
432
Трубецкой Е. Указ. соч., с. 41.
433
Как отмечал К. Ясперс, после обращения изменился смысл философского мышления Августина. Он начал философствовать на библейской основе, осуществляя «рефлексию над тем, что в Библии было нерефлектированным» (Jaspers К. Op. cit., S. 323-324).
434
См.: Possid. Vita August. 3.
435
Подробнее о донатистском движении см.: Thümmel W. Zur Beurteilung des Donatismus. Halle, 1893; Frend W. H. The Donatist Church: a Movement of Protest in Roman North Africa. London, 1952; Brisson J.-P. L'Autonomisme et le Christianisme dans l'Afrique romaine. Paris, 1958; Белоликов В. Литературная деятельность Бл. Августина против раскола донатистов. Киев, 1912; Дилигенский Г. Г. Северная Африка в IV-V веках. М., 1961.
436
Possid. Vita August. 7.
437
См.: Дилигенский Г. Г. Указ. соч., с. 217; Brown P. Op. cit., S. 119-125.
438
пелагианстве и борьбе с ним у Августина см.: Brown P. Op. cit., S. 298-308; там же дана и специальная библиография вопроса.
439
Подробнее о епископской деятельности Августина и его духовной жизни в этот период см.: Possid. Vita August.; Brown P. Op. cit.
440
О философских взглядах этих мыслителей см.: Майоров Г. Г. Указ. соч.. с. 101 - 142.
441
По этому же пути, кстати, шли и первые христианские школы, например александрийская, руководимая Климентом, Оригеном и их последователями.
442
Altaner B. Patrologie: Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter. 5. Aufl. Freiburg, 1958, S. 378.
443
Ср.: Трубецкой Е. Указ. соч., с. 23; среди главных негативных сил той эпохи Э. Ауэрбах отмечает «садизм, кровожадность, перевес магически-чувственного над разумным и этическим. <...> Против плебейского омассовления, против иррациональных и безмерных желаний, против магических сил с их чарами у просвещенной классической культуры было оружие - аристократическое, индивидуалистическое, рациональное, исполненное меры владения собою». Однако в период поздней античности это оружие было уже малоэффективным. Ему на смену пришло оружие христианское. «У христианства в борьбе с магическим опьянением есть иное оружие, не то, что у рациональной индивидуалистической античной культуры, достигшей своего наивысшего развития. Христианство недаром есть движение, идущее из глубин непосредственного чувства; христианство способно побивать врага его же собственным оружием. У христианства тоже магия, но это не та магия, что опьяняет кровью, она сильнее, потому что человечнее и богаче надеждами» (Ауэрбах Э. Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.. 1976. с. 85).
444
Ср.: Jaspers K.Op. cit., S. 391.
445
См.: Часть первая, глава III настоящего тома.
446
Попов Я. В. Личность и учение Блаженного Августина. Сергиев Посад, 1917, т. I, ч. 1: Личность Бл. Августина, с. 15.
447
Там же, с. 2.
448
De civitate Dei - точнее: «О государстве Божием» или «О божественном обществе», однако русскому уху представляется более благозвучным традиционный перевод «О граде Божием».
449
О работе Августина над «De civitate Dei» см.: Brown P. Op. cit., S. 261-273.
450
См.: Бычков В. В. Эстетика поздней античности, с. 50-55.
451
См. работы: Ziegenfuß W. Augustinus, christliche Transzendenz in Gesellschaft und Geschichte. Berlin, 1948; Burleigh J. The City of God: A study of St. Augustine's Philosophy. London, 1949; Markus R. A. Saeculum: History and Society in the Theology of S. Augustine. Cambridge, 1970; Deane H. A. The political and social ideas of St. Augustine. New York; London. 1963; Майоров Г. Г. Указ. соч., с. 330-340.
452
De cat. rud. 24, 12; De civ. Dei I, 35. 57.
453
Ср.: Adam A. Der manichäische Ursprung der Lehre von den zwei Reichen bei Augustin.- Theologische Literaturzeitung. Leipzig, 1952, № 77, S. 385-390.
454
Подробный анализ древнеримских концепций культуры см. в работе: Кнабе Г. С. Понимание культуры в древнем Риме и ранний Тацит. - История философии и во просы культуры. М., 1975, с. 62 - 130
455
Полный анализ использования Августином латинских авторов см. в работе: Hagendahl H. Augustine and the Latin Classics. Göteborg, 1967, Vol. 1-2.
456
Подробнее о понятии времени у Августина см.: Wundt M. Der Zeitbegriff bei Augustin. - Neue Jahrbücher für das klassische Altertum: Geschichte und Literatur. Leipzig. 1918; Boros L. Das Problem der Zeitlichkeit bei Augustinus. München, 1954; Lampey E. Das Zeitproblem nach den Bekenntnissen Augustins. Regensburg. 1960.
457
Августин цитирует Библию (Исх 3, 14).
458
Ср.: Соколов В. В. Средневековая философия. М., 1979, с. 79.
459
Августиновской экклесиологии посвящена работа: Benz E. Augustins Lehre von der Kirche. Mainz, 1954.
460
Подробнее см.: Nvgren G. Das Prädestinationsproblem in der Theologie Augustins.- Studia Theologica. Lund, 1956, vol. 12: Brown P. Op. cit., S. 348-356.
461
См: De vera relig. 19, 37; De civ. Dei XI, 10.
462
См. подробнее: Бычков В. В. Византийская эстетика, с. 26-27.
463
См. там же, с. 23-43.
464
Подробнее об эпикурейской эстетике см.: Лосев. А. Ф. История античной эстетики, [т. 5]; Ранний эллинизм, с. 179-317.
465
Достаточно, в частности, сослаться хотя бы на следующие работы: Mausbach J. Die Ethik des hl. Augustinus. Freiburg, 1909, Bd. 1-2; Schmaus M. Die psychologische Trinitätslehre des hl. Augustinus. Münster, 1927; Ritter J. Mundus intelligibilis: Eine Untersuchung zur Aufnahme und Umwandlung der neuplatonischen Ontotogie bei Augustinus. Frankfurt, 1935; Hendrix E. Augustins Verhältnis zur Mystik. Würzburg, 1936; Stumpf M. Selbsterkenntnis und illumination bei Augustinus. München, 1944; Burnaby J. Amor Dei: A Study of the Religion of St. Augustin. London, 1947; Hessen J. Die Philosophie des hl. Augustinus. Glock, 1948; Körner F. Das Prinzip der Innerlichkeit in Augustins Erkenntnislehre. Würzburg, 1952; Berlinger R. Augustins dialogische Methaphysik. Frankfurt, 1962; Schöpf A. Wahrheit und Wissen: Die Begründung der Erkenntnis bei Augustin. München, 1962; Mandouze A. Saint Augustin: L'aventure de la raison et de la grâce. Paris, 1968; Sage A. La vie religieuse selon Saint Augustin. Paris, 1972; Попов И. В. Указ. соч.; Майоров Г. Г. Указ. соч., с. 181-340.
466
См., в частности, работы: Barion J. Plotin und Augustinus: Untersuchungen zum Gottesproblem. Berlin, 1935; Dahl A. Augustinus und Plotin: Philosophische Untersuchung zum Trinitätsproblem und der Nuslehre. Lund, 1945.
467
См.: Drewniok P. De Augustini contra Academicos libris III. Breslau, 1913; специально полемике Августина со скептиками посвящена статья: Гаджикурбанов А. А. Августин и академический скептицизм. - Из истории западноевропейской культуры. М.: Изд. МГУ, 1979, с. 53-67.
468
См.: Бычков В. В. Византийская эстетика, с. 14-64.
469
Как убедительно показал А. Ф. Лосев, вся греческая философия теснейшим образом связана с эстетикой и без последней не может быть понята (см.: Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930, т. 1, с. 84 и далее).
470
Один из русских исследователей творчества Августина писал: «Вся философия Бл. Августина носит на себе печать эстетического направления его духа. На мир, на все явления природы и истории он смотрит преимущественно с точки зрения красоты» (Попов И. В. Личность и учение Блаженного Августина, т. I, ч. 1, с. 22). О платоновских и неоплатонических корнях августиновской притчи о филокалии и философии см.: Svoboda К. Op. cit., p. 17-19.
471
Ср.: Svoboda К. Op. cit., p. 185.
472
Ср.: Gercken J. Inhalt und Aufgabe der Philosophie in den Jugendschriften Augustins. Münster, 1939.
473
О влиянии на мировоззрение Августина античных традиций см., в частности: Edlhofer R. Die Erkenntnislehre des Aurelius Augustinus und ihr wesentlicher Zusammenhang mit der Lehre Platos. Wien, 1938; Leder H. Untersuchung über Augustins Erkenntnistheorie in ihren Beziehungen zur antiken Skepsis, zu Plotin und Descartes. Marburg, 1901; Testard M. Saint Augustin et Cicéron. Paris, 1958, vol. 1-2; Hagendahl H. Augustine and the Latin Classics. Göteborg, 1967, vol. 1-2.
474
См.: Hessen J. Die Begründung der Erkenntnis nach dem heiligen Augustins. Münster in. W., 1916, S. 23-26.
475
См.: Schöpf A. Wahrheit und Wissen: Die Begründung der Erkenntnis bei Augustin. München, 1965, S. 47-48. О единстве веры и знания у Августина см.: Thonnard F. J, La Philosophie et sa méthode rationelle en augustinisme. - Revue des éitudes augustiniennes. Paris, 1960, vol. VI/4. p. 27; Майоров Г. Г. Указ. соч., с, 224-229.
476
Подробнее см.: Lütcke К. П. «Auctoritas» bei Augustin: Mit einer Einleitung zur römischen Vorgeschichte des Begriffs. Stuttgart, 1968, S. 84-96.
477
Jaspers K. Op. cit., S. 335.
478
Основанный на этой евангельской мысли принцип «поиска» истины вообще присущ патриотической философии, особенно греческой, причем в значительно большей мере, чем последующей схоластике. (См.: Daniélou J. Recherche et tradition chez les Pères.- SP. Berlin, 1975, vol. XII, p. 3-13.)
479
Ср.: Rusch H. Studien über Augustinus. - Festschrift für F. Dornseiff. Leipzig, 1953, S. 145.
480
Hoffmann W. Philosophische Interpretation der Augustinusschrift de arte musica. Marburg, 1931, S. 5. Далее В. Гофман подчеркивает, что и полярная категория stultitia (глупость) означает не просто незнание, но непонимание себя в своем бытии (das Sich-nicht-in-seinem-Sein-verstanden-haben).
481
Подробнее о проблеме мудрости у Августина см.: Cayré F. La notion de Sagesse chez Saint Augustin. - L'année théologique. Paris, 1943, p. 433-456 (автор этой статьи выявляет 31 значение слова sapientia y Августина); Forster K. Metaphysische und heilsgeschichtliche Betrachtungsweise in Augustins Weisheitsbegriff. - Augustines Magister. 1955, Bd. III, S. 381-389; Stein W. Sapientia bei Augustinus. Bonn, 1973, а также практически во всех работах о теории познания Августина.
482
Ср.: Edelstem H. Op. cit., S. 64; см. также: Offenberg M. Die scientia bei Augustinus. Freiburg. 1921.
483
См.: Hessen J. Op. cit., S. 38, 116.
484
Bourke V. J. Wisdom in the Gnoseology of St. Augustine. - Augustinus: Revista trimestral publicada por los Padres Augustinos recoletos. Madrid, 1958, p. 332.
485
См.: Edelstein H, Op. cit., S. 62, 122; Stein W. Op. cit., S. 109.
486
В оригинале она звучит еще лаконичнее и выразительнее: Deus semper idem, noverim me, noverim te. Oratum est.
487
Мы не останавливаемся здесь на августиновском разделении мудрости на божественную и человеческую. См.: Stein W. Op. cit., S. 75 - 133.
488
Sapientia simpliciter multiplex et uniformiter multiformis.
489
invisibiles atque incommutabiles rationes rerum; ср.: Wolfson H. A. The Philosophy of the Church Fathers. Cambridge, 1956, vol. 1, p. 282.
490
Подробнее на проблеме чувственного восприятия мы останавливаемся в гл. X; см. также: Попов И. В. Личность и учение Блаженного Августина, т. I, ч. 2, с. 20-65.
491
Подробнее см.: Schöpf A. Op. cit., S. 95 - 171. Процесс познания понимается Августином как восхождение от телесного к бестелесному, к предметам высшего порядка, среди которых важное место занимают соразмерности и числа (см.: Kuypers K. Der Zeichen- und Wortbegriff im Denken Augustins. Amsterdam, 1934, S. 26).
492
Ср.: Майоров Г. Г. Указ. соч., с. 266-267.
493
Possunt et sic: pulchre de alio; pulchre per aliud; pulchra circa aliud: pulchre ad pulchrum; pulchre in pulchro; pulchre ad pulchritudinem; pulchre apud pulchritudinem.
494
См.: Solil. I, 7. 14; I, 10, 17; De ord. II, 19, 51.
495
Однако адекватно передать это racionabile по-русски затруднительно и примененные у нас далее термины «рациональное», «целесообразное», а также употребляемые другими переводчиками понятия «объективно разумное» или просто «разумное» достаточно непривычно воспринимаются в русском переводе соответствующих текстов Августина.
496
Здесь и ниже De ord. II, 11, цит. с некоторыми уточнениями в перев. В. П. Зубова по: ПМЭМ, М., 1962, т. I, с. 275-276.
497
Ср.: Jaspers К. Op. cit.. S. 346-347.
498
Ср.: Ibid., S. 345.
499
О влиянии Плотина на теологию Августина см. подробнее: Верещацкий П. И. Плотин и Бл. Августин в их отношении к тринитарной проблеме. Казань, 1911; Boyer Ch. Christianisme et néo-platonisme dans la formation de S. Augustin. Paris, 1920; Barion J. Op. cit.
500
К. Ясперс, к примеру, выделяет у Августина следующие «бесчисленные» триады. В душе: бытие, познание, жизнь; бытие, знание, любовь; память, познание, воля; дух, знание, любовь. В отношении Бога: Бог в свете нашего познания, носитель нашей действительности, высшее благо наших действий; Он есть основа понимания, причина существования, порядок жизни; Он истина учения, первопричина природы, счастье жизни. Во всем сотворенном мире: существование, бытие в различии, соответствие; быть, знать, желать; природа, познание, польза. В самом Боге: вечность, истина, воля (см.: Jaspers К. Op. cit., S. 351-352).
501
О методологическом значении аналогии в теории религиозного познания Августина см. в работе: Mader J. Die logische Struktur des personalen Denkens: Aus der Methode der Gotteserkenntnis bei Aurelius Augustinus. Wien, 1965, S. 127-151, 208-221.
502
Попов И. В. Указ. соч., т. 1, ч. II, с. 211-212.
503
См.: Enar. in ps. 14,4; 26, И; 77, 7; 101, 2, 2.
504
По поводу мира и покоя как определенного идеала августиновской философии можно напомнить интересные замечания русского исследователя начала века: «От раздвоения и разлада временной действительности Августин ищет спасения в созерцании вечности. Основной мотив его философии есть искание такой новой, идеальной вселенной, которая преодолевала бы в себе контрасты временной действительности, ее дурную двойственность в единстве всеобщего мира и покоя»; «Центральный интерес всей философии Августина вращается вокруг этого основного вопроса: как спастись от смерти, от раздвоения нашей человеческой природы? Пред Августином носится идеал целостной личности, пребывающей в состоянии мира и покоя»; «Его идеал есть новая вселенная, как единство всеобщего покоя» (Трубецкой Е. Указ. соч., с. 27, 30, 31).
505
О гносеологической значимости любви у Августина см.: Girkon P. Augustinus. Berlin, 1929, S. 209 f.; Arend H. Der Liebesbegriff bei Augustinus. Berlin, 1929; Burnaly J. Amor Dei. London, 1947.
506
Э. Жильсон называет последний этап ступенью «мистического созерцания» (см.: Gilson E, Introduction à l'étude de Saint Augustin. Paris, 1949, p. 10, 126 и др.).
507
См.: Ratzinger J. Der Weg der religiösen Erkenntnis nach dem heiligen Augustinus. - Kyriakon: Festschrift Johannes Quasten. Münster (Westf.), 1970, vol. 2, S. 553.
508
На роли «свободных наук» в религиозной гносеологии мы останавливаемся подробнее в гл. 8.
509
См., в частности, работы, указанные в сноске 1; а также - цитированные исследования И. В. Попова, Э. Жильсона, И. Гессена, К. Ясперса; многие положения августиновской теории познания нашли отражение в следующих работах: Kratzer A. Die Erkenntnislehre des Aurelius Augustinus. München, 1913; Kälin B. Die Erkenntnislehre des hl. Augustinus. Freiburg, 1920; Hessen J. Die augustinische und thomistische Erkenntnislehre. Paderborn, 1922; Geyer J. Theorie Augustins von der Selbsterkenntnis der menschlichen Seele. Münster, 1935; Edlhoffer R. Die Erkenntnislehre des Aurelius Augustinus und ihr wesentlicher Zusammenhang mit der Lehre Platos. Wien, 1938; Korger M. E. Grundprobleme der augustinischen Erkenntnislehre. - Recherches augustuniennes. Paris, 1962, vol. 2.
510
Ср.: Jaspers K. Op. cit., S. 368, 363-369.
511
См. подробнее: Часть первая, гл. III/1 данной работы.
512
См.: Ratzinger J. Op. cit., S. 555.
513
Ibid., S. 555-561.
514
См.: Ratzinger J. Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche. München, 1954, S. 41.
515
Ratzinger J. Der Weg der religiösen Erkenntnis, S. 557.
516
Ср.: Van der Meer F. Augustinus der Seelorger. Köln, 1951, S. 306-307; 319.
517
См.: Ratzinger J. Der Weg der religiösen Erkenntnis, S. 561.
518
Ср. также: De Gen. ad lit. imp. 5, 21; De Gen. ad lit. I, 3, 6; XII, 16, 32.
519
См. подробнее: Körner F. Das Prinzip der Innerlichkeit in Augustins Erkenntnislehre. Würzburg, 1952, S. 117 - 165; Falkenhahn W. Augustins Illuminationstheorie im Lichte der jüngsten Forschungen. Köln, 1948; Körner F. Die Entwicklung Augustinst von der Anamnesis zur Illuminationslehre im Lichte seines Innerlichkeitsprinzips. - Theologische Quartalschrift. Tübingen, 1954, Bd. 134, S. 397-447; Balthasar H. U. von. Op. cit., Bd. 2, S. 111-112.
520
Körner F. Das Prinzip der Innerlichkeit, S. 134.
521
В своей теории порядка Августин во многом развивает, а иногда и буквально повторяет идеи Плотина. У последнего можно найти, в частности, и такую мысль: «Нелепо обвинять целое, исходя из его частей; следует соотносить части с самим этим целым, насколько они созвучны и прилажены к нему, а не рассматривать это целое под впечатлением от его незначительных частей» (En. III, 2, 3)
522
Ср.: Svoboda К. Op. cit., p. 20-48; Chapman E. Op. cit., p. 38-44.
523
Ср. у Плотина: «...если бы не было зла, универсум был бы несовершенным» (En. II, 3, 18).
524
Ср. у Плотина: «Все представляет собой части живого универсума, и целое остается тождественным себе при постоянно борющихся друг с другом частях, ибо все происходит на основе логоса; необходимо же, чтобы этот единый логос складывался в своем единстве из противоположных друг другу логосов: его состав и сущность словно замешаны на этих противоположностях» (En. III, 2, 16).
525
Перев. В. П. Зубова, цит. по: ПМЭМ, т. I, с. 277.
526
Именно за это критикует идею всеобщего порядка Августина Е. Трубецкой, считая характер его теодицеи «антигуманным» (Трубецкой Е. Указ. соч., с. 74 - 75, 79).
527
Плотиновский трактат Эн. VI, 6 («О числах») посвящен в основном онтологической природе числа, лежащего в основе всего бытия (см.: Лосев А. Ф. Диалектика числа у Плотина. М., 1928). У Августина речь больше идет о ритме и рациональных закономерностях универсума.
528
Трубецкой Е. Указ. соч., с. 59.
529
Платон во второй книге «Законов», говоря о каноничности египетского искусства, приравнивает живопись и ваяние к мусическим искусствам.
530
А. Ф. Лосев пишет: « Аристид указывает на факт существования ритма в неподвижных телах, - например, в статуях. Это обстоятельство очень важно. Античность главным образом и чувствовала ритм в неподвижном. Такова ее специфическая особенность» (Лосев А. Ф. Античная музыкальная эстетика. - В кн.: Античная музыкальная эстетика. М., 1960, с. 91).
531
См. предисловие К. Перла к немецкому переводу трактата: Aurelius Augustinus. Musik. Paderborn, 1940, S. XII.
532
Вряд ли, однако, можно согласиться со слишком уж категоричным утверждением Эдельштейна, заявлявшего на основе различного цитируемого Августином материала (в I-V книгах цитируются в основном античные авторы: Вергилий, Гораций, Катулл, Теренциан Мавр и др., а в VI книге - исключительно цитаты из Библии), что «первые книги и шестая книга происходят из различных миров: те - из мира античной научной и поэтической образованности, эта - из мира христианской веры» (Edelstem H. Op. cit., S. 120-121).
533
О понимании музыки в античности см., в частности, работы: Gevaert F. A. Histoire et théorie de la musigue dans l'antiquité. Paris, 1875 - 1881, vol. 1-2; Лосев А. Ф. Античная музыкальная эстетика. - В кн.: Античная музыкальная эстетика. М., 1960; Lipman E. A. Musical Thought in Ancient Greece. New York; London, 1964; Татаркевич Вл. Античная эстетика. M., 1977. с. 208-219; Лосев А. Ф. История античной эстетики. М., 1979, [т. 5]: Ранний эллинизм, с. 513 - 592.
534
См. примечание А. Ф. Лосева к «Федону» в кн.: Платон. Соч.: В 3-х т. М., 1970, т. 2, с. 499, сн. 13; а также: Лосев А. Ф. История античной эстетики. М., 1974, [т. 3]: Высокая классика, с. 59.
535
Цит. по: Секст Эмпирик. Соч.: В 2-х т. М., 1976, т. 2, с. 192.
536
Проблему этического значения музыки у античных мыслителей впервые ярко и полно осветил еще в конце прошлого века Г. Аберт: Abert Я. Die Lehre vom Ethos in der griechischen Musik. Leipzig, 1899.
537
Цит. по: Античные мыслители об искусстве / Под ред. В. Ф. Асмуса. М., 1937, с. 194.
538
Секст Эмпирик. Соч.: В 2-х т., т. 2, с. 194.
539
Музыка, по мнению Аристотеля, непосредственно подражает эмоциональным, этическим, психическим состояниям человека, тогда как портретная живопись подражает только отображению этических свойств во внешнем виде человека, т. е. в музыке более глубокое и непосредственное подражание (Polit. VIII, 5, 5 - 7). Ср.: Лосев А. Ф. Античная музыкальная эстетика, с. 108.
540
В данной главе трактата «De musica» мы для краткости опускаем в скобках наименование трактата. Цитаты, обозначенные знаком *, даны в переводе В. П. Зубова по изданию: Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения. М., 1966.
541
Плутарх считал музыку «изобретением богов» (De mus. 15).
542
См.: Aristot. Polit. VIII, 5,4; а также: Лосев А. Ф. История античной эстетики. М.. 1975, [т. 4]: Аристотель и поздняя классика, с. 558-559.
543
См.: Edelstein H. Op. cit., S. 74.
544
К. Свобода не усматривает этого противоречия в августиновской формулировке, хотя и констатирует у него наличие «интересной антитезы»: «музыка как незаинтересованное, нравящееся само по себе движение и музыка музыкантов, исполняемая ради определенной практической цели. Эта антитеза влечет за собой и соответствующую антитезу в связи с понятием прекрасного» (Svoboda К. Op. cit., p. 68).
545
Д. Золтаи подчеркивает антиномию средневекового понимания музыки. Хотя музыка как наука и занимала свое место среди семи «свободных искусств», в реальной действительности звучащая музыка была не свободным, но в прямом смысле слова «служебным искусством». Ее функция сводилась к подготовке и введению верующих в культовое действо (Zoltai D. Ethos und Affekt: Geschichte der philosophischen Musikästhetik von dem Anfang bis zu Hegel. Budapest; Berlin, 1970, S. 77; Золтаи опирается здесь на работу; Schäfke R. Geschichte der Musikästhetik in Umrissen. Berlin, 1934, S. 195). О типично средневековой функции музыки см.: Abert H. Die Musikanschauung des Mittelalters und ihre Grundlagen. Halle, 1905, S. 194-266.
546
Как отмечал еще В. Гофман, термины ars, scientia, imitatio y Августина многозначны (см.: Hoffmann W. Philosophische Interpretation der Augustinusschrift de arte musica. Marburg, 1931, S. 19)
547
Цит. по: Perl С. Op. cit., S. 287.
548
Ср.: Svoboda K. Op. sit., p. 71.
549
О средневековой эстетике чисел см.: Abert H. Die Musikanschauung des Mittelalters und ihre Grundlagen. Halle, 1905.
550
В эпилоге трактата «О порядке» Августин с огромным уважением отзывается о «почти божественном» учении Пифагора, с которым он познакомился из сочинений Варрона (De ord. II 20, 53).
551
См.: Abert H. Die Musikanschauung des Mittelalters..., S. 28.
552
Ibid., S. 31.
553
Об абсолютности единицы много рассуждал Плотин в Эн. VI, 6.
554
Для античности см.. в частности: Лосев А. Ф. История античной эстетики, [т. 5]. Ранний эллинизм, с. 566-588 и библиографию на с. 801-804; см. также Krusius F. Römische Metrik. München, 1955.
555
Как отмечает К. Перл в комментарии к своему переводу (Op. cit., S. 292), теория метра Августина во многих пунктах возвращается к уже утерянной метрике.
556
Это «парадоксальное» объяснение слова versus, как и вся V кн., по мнению К. Перла, восходит не к Варрону и Теренциану Мавру, а, вероятно, к малоизвестной александрийской школе теории и практики стихосложения. До конца II в. эта школа была культурно-образовательным центром для многих известных ученых, и ее традиции сохранились еще в III и IV вв. (Op. cit., S. 293-294). Интересно, что в трактате «О порядке» Августин еще придерживался традиционной этимологии слова versus (см.: De ord. II, 14, 40).
557
Об эстетике ритма в античности см.: Античная музыкальная эстетика, с. 90-104; 239-255.
558
Мы цитируем их по изданию: Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве / Под ред. М. Л. Гаспарова. М., 1972
559
В «Проблемах», восходящих к аристотелевскому кругу, уже предпринимаются попытки объяснить эстетическую значимость ритма: «Ритму же радуемся мы ввиду того, что он содержит известное упорядоченное число» (Probl. XIX, 38; ср.: Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977, с. 211). Исократ, впервые обративший внимание на эстетическую сторону речи, писал: «Поэты все говорят при помощи метров и ритмов... а это имеет такое очарование, что если дело плохо с словесным выражением и энтимемами, то все-таки самой эвритмией и симметрией они водительствуют над душами слушателей» (Serm. IX, 10f) - цит. по изд.: Античная музыкальная эстетика, с. 242. Плутарх связывал ритмы с красотой (De mus. 12).
560
Для Цицерона уже малоактуальна этическая теория ритма, процветавшая в классический период (о ней подробнее см. в кн. : Abert H. Die Lehre vom Ethos in der griechischen Musik. Leipzig, 1899). Все его внимание привлечено к эстетической функции ритма. Подробнее об эстетике Цицерона см.: Svoboda К. Les idées esthétiques de Cicéron. - Acta Sessionis Ciceronianae. Warszawa, 1960; Лосев А. Ф. История античной эстетики, [т. 5]: Ранний эллинизм, с, 477-492.
561
См. подробнее: Grabar A. Plotin et les origines de l'esthétique mеdiévale. - Cahiers archéologiques. Paris, 1945.
562
Подробное изложение этого вопроса см. в работах: Лосев А. Ф. История античной эстетики, [т. 6]: Поздний эллинизм. М., 1980; Ананьин С. А. Учение Плотина о прекрасном. - Вера и разум. Харьков, 1903, № 2-3, с. 47-57; 93 - 104; Volkmann R. Die Höhe der antiken Ästhetik oder Plotins Abhandlungen vom Schönen. Stettin, 1860; Norst K. Plotins Aesthetik. Gotha, 1905; Krakowski E. Une philosophie de l'amour et de la beauté. Paris, 1929; Brennau R. E. The Philosophy of Beauty in the «Enneads» of Plotin. - The New Scholasticism, 1940, 19.
563
Трактат Эн. I, 6 цитируется с некоторыми уточнениями по переводу, опубликованному В. Ф. Асмусом в издании: Античные мыслители об искусстве: Сборник высказываний древнегреческих философов и писателей об искусстве. М., 1937, с. 198-205; Эн. V, 8 даны в переводе А. Ф. Лосева по изданию: ПМЭМ. М., 1962, т. I, с. 224-235.
564
См.: Stoic. veter. fragm. Arnim III, 392: «Красота тела - в симметрии частей, в хорошем цвете и физической добротности...» (ср.: Ibid., III, 278; 279; 472). Подобное понимание красоты было вообще характерным практически для всей доплотиновской греко-римской эстетики (см.: Татаркевич В. Античная эстетика, с. 323, 302).
565
А. Ф. Лосев поясняет, что под эйдосом у Плотина «нужно понимать образ, или форму (буквально по-гречески «вид») нематериальной природы, но с ярко выраженной картинной и пластической структурой» (см.: ПМЭМ, т. I, с. 222).
566
Следует отметить, что ни Плотин, ни затем Августин не делают четкого терминологического различия между красотой и прекрасным.
567
Татаркевич В. Указ. соч., с. 307.
568
Там же, с. 301
569
См. подробнее: Бычков В. В. Византийская эстетика, с. 95-98; Perpeet W. Ästhetik im Mittelalter. Freiburg; München, 1977, S. 79.
570
См.: Бычков В. В. Византийская эстетика, с. 35-41.
571
Татаркевич В. Указ. соч., с. 306.
572
Там же, с. 301. Анализируя теорию искусства Плотина, В. Татаркевич и сам приходит к «снятию» этой «парадоксальности»: «Пребывая в сем наименее совершенном из миров, человек стремится вернуться в мир высший, мир абсолюта, откуда происходит и он. Искусство - один из путей к такому возврату. Творческая природа искусства - отражение абсолютного, творчески совершенного бытия. Поэтому прекрасное и искусство оказались существенным элементом философской системы Плотина» (там же, с. 308).
573
См.: Grabar A. Op. cit.
574
См.: Татаркевич В. Указ. соч., с. 307.
575
Там же, с. 309.
576
Августин, отмечал русский исследователь, проявил особую восприимчивость именно к эстетической стороне неоплатонического учения (см.: Попов И. В. Личность и учение блаженного Августина, т. 1., ч. I. с. 26).
577
Perpeet W. Op. cit., S. 62.
578
См.: Wikman A. Op. cit., S. 34; Chapman E. Op. cit., p. 49; Tatarkiewicz Wł. Estetyka średniowieczna, s. 60.
579
Tatarkiewicz Wł. Op. cit., s. 60.
580
См.: Chapman E. Op. cit., p. 45.
581
Ср.: Wikman A. Op. cit., S. 69.
582
Ibid., S. 52; Balthasar H. U. von. Op. cit., S. 97; о красоте как важнейшем атрибуте божества у Августина и Плотина см.: Manferdini T. Op. cit., p. 13-20.
583
Ср.: Tatarkiewicz Wł. Op. cit., s. 66.
584
См.: Balthasar H. U. von. Op. cit., S. 116.
585
Ср.: De ord. I, 8, 26; De Gen. ad lit. imp. 16, 58 etc.
586
Подробнее см.: Eschweiler K. Op. cit., S. 28-42; Chapman E. Op. cit., p. 53-54.
587
Ср.: In Ioan ev. 3, 21; 32, 3; Enar. in ps. 44, 26.
588
См.: Eschweiler K. Op. cit., S. 17-27; Svoboda K. Op. cit., p. 153, 163.
589
Одно из определений justitia см. в De div. quaest. 31.
590
Ср.: Chapman E. Op. cit., p. 52.
591
См.: De ord. I, 10. 30; De Trin. X, 1, 2.
592
Ср.: Wikman A. Op. cit., S. 66.
593
Ita et ipso faciente pulchra sunt singula, et ipso ordinante pulchra sunt omnia.
594
См.: Wikman A. Op. cit., S. 44-51; Svoboda K. Op. cit., p. 10-16; 144-145.
595
См.: Wikman A. Op. cit., S. 47.
596
Tatarkiewicz Wł. Op. cit., s. 62.
597
Ibid., s. 66; ср. также: Balthasar H.U. von. Op. cit., S. 101-102.
598
Ср.: Попов И. В. Указ. соч., т. 1, ч. II, с. 101.
599
См.: Бычков В. В. Эстетика Филона Александрийского, с. 61; Воman Th. Das hebräische Denken im Vergleich mit dem griechischen. Göttingen, 1959. S. 69-71.
600
Ср.: Eschweiler K. Op. cit., S. 13-14.
601
См.: WikmanA. Op. cit., S. 89.
602
Ср.: Serm. 243, 7, 6; Svoboda K. Op. cit.. p. 189-190; Wikman A. Op. cit.. S. 84.
603
Wikman A. Op. cit., S. 95.
604
Amata est foeda, ne remaneret foeda.
605
Под «женихом» в библейских текстах христианская традиция понимает Христа, под «невестой» - Церковь.
606
По-гречески Χριστός - «Помазанник» Божий, а распятие на кресте - позорная казнь; римляне просто не могли понять, как это Сын Божий может отдать себя в руки палачей, обладая божественной силой и возможностью избежать этого.
607
См., к примеру, изображения: Pütz G. Deutsche Malerei. Leipzig; Jena; Berlin, 1964, Abb. S. 88; Vegas L. C. Die Internationale Gotik in Italien. Dresden, 1966, Abb. 60; Wolf H. Schätze französischer Buchmalerei: 1400-1460, Berlin. 1975, Abb. 12. 13.
608
Ср.: Svoboda K. Op. cit., p. 141.
609
Ср.: Tatarkiewicz Wł. Op. cit., s. 65.
610
Показательны в этом плане живописные «Распятия» итальянских мастеров XIII в. Джунто Пизано, Коппо ди Марковальдо, Чимабуэ (см.: Bologna F. Die Anfänge der italinischen Malerei. Dresden, 1964, Abb. 42-44, 67-69; Sindona E. L'opéra compléta di Cimabue e il momento figurativo pregiottesco. Milano, 1975. tav. I-VII, XXXVII-XLII)
611
Ср.: Eschweiler K. Op. cit., S. 11-12; Wikman A. Op. cit., S. 61-67.
612
Ср.: Попов И.В. Указ. соч., т. 1, ч. II, с. 111.
613
Цит. по: Perl С. Op. cit., S. 287.
614
Tatarkiewicz Wł. Op. cit., s. 62.
615
В этом плане вряд ли можно согласиться с выводом А. Викмана о том, что в области чувственной красоты «Августин был в общем и целом формальным эстетиком (Formalästhetiker)» (Op. cit., S. 100; ср. так же: S. 66, 70, 98).
616
На глубокую внутреннюю связь формальных законов красоты с выражением и просвещением (illuminatio) справедливо указывал еще Э. Шепмен, постоянно подчерки вая, что именно она выявляет реальный смысл красоты у Августина (см.: Chapman E. Op. cit., p. 45, 50, 54-55).
617
Ср.: Wikman A. Op. cit., S. 21.
618
Ср.: Gilson E. Introduction à l'étude de Saint Augustin. Paris, 1949, p. 246
619
Здесь уместно вспомнить мысль Е. Трубецкого о том, что манихейский дуализм в разных обличьях вошел в систему Августина (см.: Трубецкой Е. Указ. соч., с. 82).
620
Подробнее о сложном взаимодействии материи и формы по Августину см.: Gilson E. Op. cit., p. 256-274.
621
По этому поводу автор новейшего русского перевода «Исповеди» замечает: «В этой изменяемости нет ничего определенного: материя одновременно и «ничто» и «нечто»; она и «есть» и «не есть». Материя Бл. Августина не соответствует первичной материи Аристотеля, мыслимой и существующей только в связи с формой; у Бл. Августина это некая парадоксальная реальность: это и полное отсутствие формы, и способность принимать самые разные формы. Плотин говорил о ней: «...она уже есть, поскольку она будет, но ее бытие только в будущем» (Эн. II, 5, 3-5). Антиномический характер материи обусловливает и антиномичность представления о ней: нужно примириться с тем, что ее знаешь, не понимая, что это такое. Ср. Эн. II, 4, 10: «Ее (материю) неясную мыслишь неясно, темную - темно; мыслишь, не мысля» (БТ, т. 12, с. 258, сн. 11).
622
Ср.: Майоров Г. Г. Указ. соч., с. 289.
623
sed omnia mensura et numero et pondère disposuisti (но Ты всё расположил мерою, числом и весом) (Sap. 11, 12).
624
Ср.: Бычков В. В. Византийская эстетика, с. 144-165.
625
Ср.: Svoboda K. Op. cit., p. 146.
626
Ср.: The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy, p. 361.
627
См.: Татаркевич В. Античная эстетика, с. 293-294.
628
См.: Голенищев-Кутузов И. Н. Средневековая латинская литература Италии. М., 1972, с. 58; Meter G. Die sieben freien Künste im Mittelalter. Einsiedeln, 1886.
629
См.: Assunto R. Die Theorie des Schönen im Mittelalter. Köln, 1963, S. 19.
630
О тенденциях религиозной утилитаризации «свободных наук» у Августина см.: Grabmann M. Op. cit., S. 126-129.
631
Августин воспринял эту традицию от Варрона (см.: Alfaric В. P. Op. cit., p. 445).
632
Это же членение он сохранил и в поздний период (см.: De doctr. chr. II, 27; Enar. in ps. 150, 8).
633
Подробнее об этом Августин писал в трактате «О музыке» (см. гл. V).
634
Позже Августин будет упрекать себя за излишнюю увлеченность «свободными науками» (Retr. I, 3, 2).
635
Перев. В. П. Зубова цит. по: ПМЭМ, т. I, с. 275.
636
Там же, с. 267.
637
Ср.: Tatarkiewicz Wł. Op. cit., s. 66-67; 337.
638
В. Татаркевич писал по этому поводу: «Если он сохранил теорию подражания, то лишь соединяя с убеждением, что искусство ищет красоты. При этом он так преобразил ее, что она перестала быть выражением натурализма, а стала его противоположностью. Допуская, что каждый предмет имеет свою красоту, что в каждом находятся следы красоты, он утверждал, что если искусство подражает предметам, то не в целом, но только в меру отыскания в них и усиления этих следов» (Tatarkiewicz Wł. Op. cit., s. 67).
639
Ibid., s. 67-68.
640
См. подробнее: Бычков В. В. Эстетика поздней античности, с. 171; 173.
641
См.: Perry В. Е. The Ancient Romances: A Literary-Historical Account of Their Origins. Berkeley; Los Angeles, 1967.
642
Плиний Младший. Письма. M.; Л., 1950, с. 289.
643
См. : Бычков В. В. Античные традиции в эстетике раннего Августина - Традиция в истории культуры. М., 1978, с. 103, сн. 21.
644
Ср.: Svoboda К. Op. cit., p. 101, 137.
645
Анализ художественной специфики этого отрывка см. у Э. Ауэрбаха (Указ. соч.. с. 85-93).
646
См.: Часть первая, гл. III/2 (зрелищные искусства); специально об эстетике римского цирка и амфитеатра см.: Лосев А. Ф. Эллинистически-римская эстетика I-II вв. н. э. М.: Изд. МГУ, 1979, с. 45-55.
647
Ср.: Tat. Adv. gr. 23; Tertul. De spect. 12; Cypr. Ad Donat. 6; Lact. Div. inst. VI, 20. 8-13.
648
См.: Svoboda K. Op. cit., p. 99, 192.
649
См.: Marcus R. A. Christianity in the Roman World. London, 1974.
650
См.: Svoboda K. Op. cit., p. 192.
651
Ср. уже приводившиеся высказывания о «ложности» басни и поэзии из Solil. II, 11, 20; De Gen. ad lit. I, 10, 21.
652
Один из историков средневековой эстетики писал: «Новый поворот аллегорическая экзегеза получила у Августина. Именно у него александрийское учение об экзегезе непосредственно объединилось с течением позднеантичной традиции. Анализ его трактата «De doctrina christiana» наглядно показывает, как могла стать необходимой практика и передача опыта филологической интерпретации Библии в позднелатинских школах. При этом существенным вспомогательным средством служили 'Εγκύκλιοι παιδείαι известные уже со времен софистов семь искусств, с помощью которых писатель проводил формальное и предметное толкование (см.: Glunz H. H. Die Literarästhetik des europäischen Mittelalters. Bochum: Langendreer, 1937. S. 102 - 103; ср.: S. 104).
653
Ср. решение этого вопроса Горацием:
Что придает стихам красоту: талант иль наука?
Вечный вопрос! а по мне, ни старанье без божьего дара,
Ни дарованье без школы хорошей плодов не приносит:
Друг за друга держась, всегда и во всем они вместе.
(De art. poet. 408-411). Перев. M. Гаспарова цит. по: Квинт Гораций Флакк. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970, с. 393).
654
Ср.: Наставление оратора, XI, 1.
655
Августин подчеркивает, что он использует здесь латинский перевод Иеронима, который стоит ближе к еврейскому оригиналу, чем соответствующее место Септуагинты (De doctr. chr. IV, 7, 15).
656
Г. Глунц усматривал специфику экзегезы Августина в том, что он подходил к Библии как к произведению словесного искусства (См.: Glunz H. H. Op. cit., S. 104).
657
См.: Eggersdorfer F. X. Der heilige Augustinus als Pädagoge und seine Bedeutung für die Geschichte der Bildung. Freiburg i. Br., 1907; Gerg R. Die Erziehung des Menschen: Nach den Schriften des heiligen Augustinus dargestellt. Köln, 1909; Kevane E. Translatio imperii: Augustine's De doctrina christiana and the Classical Paideia. - SP. Berlin, 1976, vol. XIV, p. 446-460.
658
Хронологически этот трактат был закончен значительно раньше, чем IV кн. «О христианской науке», но в последней многие идеи сформулированы более полно, поэтому основное изложение вопроса мы даем по ней, привлекая более ранний трактат только в качестве дополнения.
659
См.: Besseler H. Musik des Mittelalters und der Renaissance. - Handbuch der Musikwissenschaft. Potsdam, 1931; Perl С. J. Augustinus and die Musik. - Augustinus Magister. Paris, 1954, vol. 3, p. 439-452; Nowak A. Die «numeri judiciales» des Augustinus und ihre musiktheoretische Bedeutung. - Archiv für Musikwissenschaft. 1975, Bd. 32, S. 196-207.
660
Ср.: Perl C. J. Die Geburt der abendländischen Musik, - Theologie und Glaube. Paderborn, 1953, Hf. 2.
661
Ср.: Perl С. J. Augustinus und die Musik, S. 452.
662
«Юбиляция, - пишет К. Перл,- этот прекраснейший из даров, которые Восток мог принести западной церкви, это как бы «свободнейшее» дитя сакрального искусства, побудила Августина к таким замечаниям, которые стоят совершенно изолированно в патриотических текстах, указывают на его понимание музыки, его любовь к музыке и которые, впрочем, также выводят его мистиком, которым он в иных аспектах вряд ли являлся» (Perl С. J. Augustinus und die Musik, S. 441).
663
См.: Hammerstein R. Die Musik der Engel: Untersuchungen zur Musikanschauung des Mittelalters. Bern; München, 1962, S. 41.
664
Abert H. Die Musikanschauung des Mittelalters, S. 208.
665
По поводу словесной ограниченности в передаче внутреннего знания хорошо сказала М. И. Цветаева:
Да вот и сейчас, словарю
Предавши бессмертную силу -
Да разве я то говорю,
Что знала, - пока не раскрыла
Рта, знала еще на черте
Губ, той - за которой осколки...
И снова, во всей полноте,
Знать буду - как только умолкну.
(Цветаева Марина. Избранные произведения. М.; Л., 1965, с. 306).
Аналогичное ощущение было близко многим мыслителям поздней античности, ранней патристики, Средневековья.
666
Ср.: Edelstein H. Die Musikanschauung Augustins nach seiner Schrift «De musica», S. 126-127.
667
См.: Perl C. J. Augustinus und die Musik, S. 444.
668
Ibid., S. 452.
669
Ср.: Abert H. Op. cit., S. 194-210.
670
См.: Reese G. Music in the Middle Ages. New York, 1940.
671
Ср.: Abert H. Op. cit., S. 216-220.
672
Ср.: Svoboda K. Op. cit., p. 197.
673
О современном понимании знака в его различных аспектах см. в работе: Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976, с. 68-134.
674
Ср.: Marcus R. A. St. Augustine on Signs, - Phronesis: A Journal for Ancient Philosophy. 1957, vol. 2, № 1, p. 70.
675
Интересно отметить, что в трактате «О музыке» Августин, напротив, уделяет внимание только ритмо-метрическому значению слова и практически нигде, за исключением редких оговорок, относящихся не к предмету трактата, а к форме исследования, не говорит о смысловой, содержательной стороне слова.
676
Ср.: Marcus R. A. Op. cit., p. 73.
677
О трактате «Об учителе» подробнее см. специальную работу: Ott W. Ueber die Schrift des hl. Augustinus De magistro. Hechingen, 1898; Jonson D. W. «Verbum» in the early Augustine (386 - 397). - Recherches augustiniennes. Paris, 1972, vol. 8.
678
См.: Marcus R. A. Op. cit., p. 64-65.
679
res quae significantur, pluris quam signa esse pendendas.
680
Ср.: ChydeniusJ. The Theory of Medieval Symbolism. - Societas Scientiarum Fennica: Commentationes Humanarum Litterarum. Helsingfors, 1960, t. 27/2, p. 5 - 8.681
681
См.: Colish M. L. The Mirror of Language: A Study in the Medieval Theory of Knowledge. New Haven; London, 1968, p. 60.
682
Цит. по: Секст Эмпирик. Соч.: В 2-х т. М., 1976. т. 2, с. 58 - 59. Следует иметь в виду, что скептики в этом вопросе опираются на традицию Платона, который в «Кратиле» пришел к выводу, «что не из имен нужно изучать и исследовать вещи, но гораздо скорее из них самих» (Crat. 439b; цит. по: Платон. Соч.: В 3-х т. М., 1968, т.1, с. 489).
683
Ср.: Kuypers K. Der Zeichen- und Wortbegriff im Denken Augustins. Amsterdam. 1934, S. 18, 23-24; Marcus R. A. Op. cit., p. 68.
684
Проблема внутреннего и внешнего слова подробно изложена у И. В. Попова (Указ. соч., т. 1, ч. II, с. 279-281).
685
Там же, с. 280.
686
Здесь Августин развивает теорию воспоминания (άνάμνησις) знаний, заложенных в душе, при обучении, изложенную Платоном в «Меноне».
687
См.: Бычков В. В. Византийская эстетика, с. 134-136.
688
Эти две функции языка у Августина отмечены в работах: Rotta P. La filosofia del linguaggio nella patristica e nella scolastica. Torino, 1909, p. 112-113; Colish M. Op. cit., p. 56.
689
См.: Marcus R. A. Op. cit., p. 72.
690
Подробнее см. гл. X.
691
Ср.: Colish M. L. Op. cit.. p. 22.
692
См.: De vera relig. 50, 99: De civ. Dei X, 15; De fid. et symb. 2,3-3,4.
693
βλέπομεν γάρ άρτι δι' έσόπτρου έν αίνίγματι, τότε δέ πρόσωπον πρός πρόσωπον. Канонические латинский и русский переводы звучат так: Videmus enim nunc per spéculum et per aenigma, tunc autem coram cernemus; «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу» (1 Кор 13, 12).
694
См.: Colish M. L. Op. cit., p. 79-81.
695
В трактате «Об ораторе» Цицерон писал: «Итак, при употреблении отдельных слов больше всего яркости и блеска сообщают речи переносные выражения, а из переносных выражений и уже не по отдельности, а из нескольких подряд складывается, в свою очередь, следующий прием того же рода: тот, при котором говорится одно, а подразумевать следует иное» (De orat. III, 41, 166; перев. Φ. А. Петровского; цит. по: Цицерон Марк Туллий. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972, с. 238). Цицерон, в свою очередь, опирался на Аристотеля, писавшего в «Риторике»: «метафора заключает в себе загадку, так что ясно, что загадки - хорошо составленные метафоры» (Ret. 2, 12). Из греческих христианских писателей особенно активно проблему энигмы в связи с библейскими текстами поднимали Климент Александрийский, Ориген, Григорий Нисский.
696
Эти же четыре способа он называет и в другом трактате того же времени (392 г.). Ср: De util. cred. 5.
697
См.: Schöpf A. Wahrheit und Wissen: Die Begründung der Erkenntnis bei Augustin, S. 21; Г. Глунц, как уже указывалось, акцентировал внимание на филологически-философском подходе (См.: Glunz H. H. Op. cit., S. 102).
698
Подробнее о знаковых проблемах в XIII кн. «Исповеди» см. : Hott A. Die Welt der Zeichen bei Augustin. Wien, 1963.
699
И в «Исповеди», и в ряде других трактатов Августин подробнейшим образом исследует эту фразу, показывая, в каких различных смыслах могут пониматься и все ее слова («в начале», «сотворил», «небо», «земля»), и сама фраза в целом.
700
Ср.: Colish M. L. Op. cit., p. 8.
701
См.: Allard G.-H. L'articulation du sens et du signe dans le De doctrina christiana de S.Augustin // SP. Berlin, 1976, vol. 14, p. 388.
702
Glunz H. H. Op. cit., S. 104.
703
В. Отт, посвятивший специальную работу августиновскому учению о чувственном познании, показывает многие почти буквальные совпадения у Августина и Плотина по этому вопросу. См.: Ott W. Des hl. Augustinus Lehre über die Sinneserkenntnis. - Philosophisches Jahrbuch. Fulda, 1900, Bd. 13, S. 45-59; 138-148.
704
См.: En. V, 1,10; 3,9; 9,1.
705
Ср.: Ott W. Op. cit., S. 46; The Cambridge History of Later Greek and Early Médiéval Philosophy, p. 376-377.
706
Cp.: Попов И. В. Личность и учение Блаженного Августина, т. 1, ч. II, с. 39.
707
См.: в частности, работу: Грегори Р. Л. Глаз и мозг: Психология зрительного восприятия. М., 1970; Зинченко В. П., Вергилес Н. Ю. Формирование зрительного образа: (Исследование деятельности зрительной системы). М.: Изд. Моск. ун-та, 1969.
708
Читателя не должен смущать тот факт, что теория зрительного восприятия Августина, изложенная здесь в основном по его поздним работам, вроде бы полагается нами в основу теории, разработанной им в раннем трактате. Основные идеи концепции зрительного (или чувственного) восприятия, во многом заимствованные у Плотина, т. е. еще до начала его литературной деятельности, просматриваются и в его ранних трактатах, и в самой VI кн. «De musica», как мы убедимся ниже. Однако наиболее подробно они были изложены в поздних работах Августина, что и определило целесообразность анализа их здесь по этим работам. Г. Г. Майоров справедливо подчеркивает, что теория зрения в «De Trinitate» только развивает идеи, намеченные в ранних работах (см.: Майоров Г. Г. Указ. соч., с. 256).
709
Августин использует здесь неканонический текст Библии, ибо в канонических переводах слово «число» отсутствует.
710
Ср.: Ott W. Op. cit., S. 54-59.
711
Представление об активности души в процессе восприятия восходит к Плотину (ср.: Edelstein H. Op. cit., S. 96). Подробнее о влиянии Плотина и, в частности, его теории чувственного восприятия, на Августина см. в работе: Alfaric В. P. L'évolution intellectuelle de Saint Augustin. Paris, 1918; об активной деятельности души в процессе эстетического восприятия у Августина см.: Manferdini T. Op. cit., p. 62-68.
712
В. Отт также предлагает понимать под non latere сознание (Ott W. Op. cit., S. 52).
713
См.: Perl K. Augustinus Aurelius: Musik, S. 298.
714
latente istorum judicialium nutu modificantur.
715
О проблеме эстетического суждения у Августина см. также: Manferdini T. Op. cit., р. 69-80.
716
Специально проблеме памяти Августин посвятил многие страницы «Исповеди» (Conf. X, 8, 12-19, 28).
717
О художественной значимости этого гимна Амвросия см. в работе: Голенищев-Кутузов И. Н. Средневековая латинская литература Италии. М., 1972, с. 66.
718
В самом перенесении названия judiciales с одного вида чисел на другой современный исследователь видит сложную диалектику чувственного и рационального моментов в августиновской концепции эстетического суждения (см. : Nowak A. Die «Numeri judiciales» des Augustinus und ihre musiktheoretische Bedeutung, S. 201).
719
См.: Perl K. Op. cit., S. 298.
720
Ср.: Hoffmann W. Op. cit., S. 71-72.
721
См.: Edelstein H. Op. cit., S. 106.
722
Delectatio quippe quasi pondus est animae.
723
Ср.: En. IV, 3, 29-32; Georg R. Die Erziehung des Menschen: Nach den Schriften des heiligen Augustinus dargestellt. Köln, 1909. S. 140f.; Alfaric B. P. Op. cit., p. 471.
724
См.: Manferdini T. Op. cit., p. 89-96.
725
Это определение дано в форме риторического вопроса: «Тогда не считаешь ли ты, что это искусство является чем-либо иным, как не некоторым настроением духа художника?» (hanc artem num aliud putas quam affectionem quamdam esse animi artificis?)
726
Qui aiment la pourriture, как переводит К. Свобода (Op. cit., p. 83).
727
См.: Бычков В. В. Эстетика поздней античности.
728
Edelstein Я. Op. cit., S. 107.
729
Вспомним викмановскую классификацию эстетики Августина как «формальной» (Wikman A. Op. cit., S. 100).
730
Подводя итог платоновским исследованиям метра и ритма, А. Ф. Лосев пишет: «...в музыкальной структуре его в конце концов вовсе не интересует ни ритмика, ни метрика; хорошая размеренность звуков диктуется для него только словами, которые сопровождаются музыкой. Если словесный текст высок в моральном отношении, то и сопровождающая его музыкальная мелодия тоже оказывается моральной и вполне допустимой, независимо от ее ритмико-метрического построения» (Лосев А. Ф. История античной эстетики. М., 1974, [т. 3]: Высокая классика, с. 137). На близкой к этой позиции стояли и Климент Александрийский, и Василий Великий, и Иоанн Дамаскин, и многие другие Отцы Церкви.
731
См.: Taterkiewicz Wł. Op. cit., s. 63 - 64; ср.: Svoboda K. Op. cit., p. 79. Для сравнения можно указать, что в одноименном трактате Плутарха проблеме восприятия посвящено всего три маленьких параграфа, суть которых сводится к следующему. «Восприятие должно идти вровень с запоминанием», оно должно распознавать мелодию, ритм и текст и в каждом из этих элементов должно находить «ошибки и красоты» (Demus. 34-36).
732
Ср.: Svoboda К. Op. cit., p. 199.
733
См.: Tatarkiewicz Wł. Op. cit., s. 69.
734
Perpeet W. Op. cit., S. 25.
735
См.: Tatarkiewicz Wł. Op. cit., s. 71.