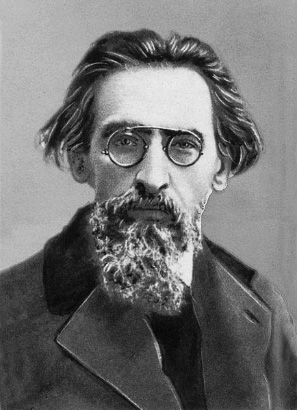Лев Карсавин Поэма о смерти
От автора и об авторе
1. Поэма о смерти… Почему, в самом деле, этому не быть поэмою? — Оттого и поется, что тяжело.
2. На костре сжигали жидовку. — Палач цепью прикручивает ее к столбу. А она спрашивает: так ли она стала, удобно ли ему… К чему ей заботиться об устройстве палача? Или так он скорее справится со своим делом? Или он — сама судьба, неумолимая, бездушная, — все же последний человек? — Он ничего не ответит и, верно, ничего даже не почувствует. Но, может быть, что-то шевельнется в его душе, отзываясь на ее кроткий вопрос; и рука его на мгновение дрогнет; и неведомое ему самому, никому не ведомое сострадание человека как бы облегчит смертную ее муку. А мука еще впереди, невыносимая, бесконечная. И до последнего мига — уже одна, совсем одна — будет она кричать и корчиться, но не будет звать смерти: смерть сама придет, если только… придет.
3. Не проходит моя смертная тоска и не пройдет, а — придет сильнейшею, невыносимою. Не безумею от нее, не умираю; и не умру: обречен на бессмертие. Мука моя больше той, от которой умирают и сходят с ума. Умрешь — вместе с тобой нет и твоей муки; сойдешь с ума — не будешь знать ни о себе, ни о ней. Здесь же нет ни конца, ни исхода; да и начала нет — потеряно.
4. «Невелика твоя мука, если от нее не безумствуешь и не умираешь. Просто: ты холоден и бесчувствен; мука же твоя самая обыкновенная хандра».
— Но значит же что-нибудь вечность! Вечная хандра стоит кратковременной ужаснейшей муки. —
5. «При чем тут вечность? Да и откуда у тебя привилегия на бессмертие? — Раз ты не умрешь, не умрут и другие. Тогда и та несчастная жидовка будет вечно корчиться и кричать беззвучным уже от крика голосом на своем неугасимом костре. А согласись: телесная мука подействительней душевной».
— Разве я говорю о душевной муке? Ведь она же и телесна — вечная боль (пока: преимущественно в области сердца). А когда она возрастет, не станет ли она мучительней всякого огня? Не предвестие ли она того, что еще будет?… Расширится она и целиком включит в себя и муки жидовки, и все другие человеческие страдания… Конечно, и жидовка, умерев, не умерла, и все обречены на бессмертие'. Но они этого не знали или не знают. Хоть на земле у них была беззаботная радость. —
6. «У них было и страдание большее, чем твоя хандра. Они умели чувствовать. Впрочем, и ты был ребенком».
— Не помню… Пускай я бесчувствен и холоден. Разве холод не жжет? Не в глубине ли ада ледяная пустыня? Не там ли льдом сковано тело? Слезы, не успевая выступить из глаз, застывают. Легко ли чувствовать, что у тебя вместо сердца острый и жгучий кусок льда, останавливающий всякое чувство и движение? —
7. «Окамененное нечувствие… Какое горделивое одиночество! — Утешение не меньшее, чем смерть и безумие».
— Нет, я не одинок и не героичен. Может быть, боюсь новых страданий не за себя, а за тех, кого люблю. Но люблю ли их? Не своего ли состраданья боюсь, когда трепетно жду их страданья? — Недейственная чувствительность, «периферическая», как называла ее Элените… Да и боюсь-то всего каких-то смешных, маленьких неприятностей: не страдать, а видеть слезы, не погибнуть, а опоздать на поезд… Все ничтожно, как у тех, кого Данте увидел в преддверии ада: на небо не попали — не за что, но и адская глубина не принимает — и злато настоящего не сделали… Какое уж там величие духа! — Не герой, а самый обыкновенный человек. Вот и сейчас: ношусь со своей тоской, а сам ведь, пожалуй, думаю о том, как бы развлечься. — Хорошо бы встретить любовь («…блеснет любовь улыбкою прощальной» 2). Но за отсутствием любви не повредит и маленькая интрижка, нечто вроде изящной игры в любовь, разумеется — в половую (XVIII siecle). Это — «вечерок любви»; но: если «только утро любви хорошо», то, надо полагать, и вечерок неплох… Так от возвышенной любви к возвышающему обману, от возвышающего обмана к занимательной игре. А дальше?…
8. «Емли сребряник и гряди ко блуднице». — Не беру серебряника и не иду, а только — иногда думаю. Тем мировая скорбь и кончается.
9. Милая читательница!… Будут же у меня читательницы — тем более что о них думаю настоятельнее, чем о читателях. Милая и сострадательная читательница, напечатал я в 1922 году книгу о любви, довольно-таки безвкусную, но не безынтересную. Сам верил, что открываю новые горизонты и вступаю в новый мир, или почти верил: хотел верить. Критики не без остроумия назвали меня тогда «ученым эротоманом», один же психиатр (по–видимому, вполне справедливо) заметил, что книжка хотя и о любви, а насквозь «головная». Как бы то ни было, теперь вот пишу о смерти, а сам, кажется, надеюсь, что из этого выйдет для меня если и не любовь, то по крайней мере одно из указанных выше состояний (до «сребреника» исключительно). Дело в том, что упомянутая книжка (вместе со многим другим) привела меня к внутреннему разложению, т. е. — к духовной смерти; я же склонен верить в диалектическую связь противоречий. Откровенно предупреждаю Вас о своей коварной надежде. Не могу лишь пока ничего сказать о мотивах предупреждения.
10. Узнав в своей муке душевное гниение или умирание, я сразу несколько успокоился. (Вероятно, отсюда и перемена стиля, и, в частности, немного не к месту игривое обращение к Вам, моя читательница.) Успокоился же я, несомненно, оттого, что все до сих пор сказанное было художественным творчеством, т. е. — поэтическим и, стало быть, самым точным восприятием себя, обещанною поэмою. Ведь суть поэзии как раз в том, что она возносит поэта над ним самим. Не следует успокаиваться на мысли о высоте своего созерцания. Но как замечу это, так сейчас же снова разоблачу свою низость и, следовательно, подымусь еще выше. Так и буду орлом не сидеть на высоте, а парить над собою: там, где еще не сознаю, что я парю.
11. Великой муки не побеждает ни смерть, ни безумие: ее побеждает поэзия, дитя отчаянья. Побеждая же муку, поэзия очищает поэта. Следовательно, она — совсем по Аристотелю — трагическая поэзия, светлая, а потому — не умеющая смеяться (самое большее — грустно улыбнется), стыдливая, а потому —… Ничего не поделаешь: после Шекспира необходим в трагедии циник и шут… Забудьте об условности стиля, о пошлости многих образов и слов, о поэтическом бессилии. — Тем строже и чище сама поэзия. Как истина, как женщина, она наряжается для разоблачения и без обмана прекрасна лишь во всей своей наготе. Мудро поет Мистенгет:«II m'a vue nue, plus quе nue…»
12. Поэзия — смысл и система. Поэзия — метафизика, возносящая «мета», «за» пределы естества. Meтафизика живет в поэзии; поэзия, раскрывая свой смысл, умирает в холодном свете метафизики.
13. Поэт — дитя. Из страданий своих, из омытых слезами падений сплетает он себе венок. Играя, его надевает; смеется лучшим в мире смехом — смехом сквозь слезы. Так смеется ребенок: сияют глаза, а со щек еще не сбежали крупные, горькие слезы. Из стонов своих слагает поэт песню: поет — как весь мир, ставший в нем радостью. Но не знает поэт, да и не думает о том, отчего так радует его сплетенный им венок, словно росинками, сверкающий слезами, отчего так красива рожденная стонами песня.
14. Метафизик — древний–древний старец. Величавой волною сбегает его седая борода. Но слаб он и зябок: солнечным лучам не согреть его желтых, прозрачных рук. Он знает смысл исчезающей жизни; знает цену всякому горю и место всякой радости. Но для него нет уже ни радости, ни горя; и светлая, как холодный прозрачный родник, грусть останавливается в его выцветших глазах. Он всю жизнь превратил в стройную мысль, все понял. Но где это все, если он уже не живет?
15. Поэт же живет, но ничего не знает и лишь в детском неведении своем велик неизреченною мудростью. Однако: не дети ли становятся стариками и не в детство ли впадают старики?
16. Всякую метафизику обвиняют в «оптимизме», в том, что она недооценивает «трагизма» жизни. — Наивные обвинения и смешные слова: «оптимизм», «пессимизм»! Ненужные слова! «Трагизм» — это, конечно, слово не выдуманное. К несчастью, злоупотребляют им невежды, далее Аристотеля не читавшие. Для них трагедия там, где убивают, где рыдают и каменеют от ужаса, где зло глумится над поверженным добром, а бессмыслица торжествует над смыслом. Но ведь все это — сама жизнь. К чему же бессмысленную действительность называть совсем не подобающим ей именем? Ибо трагедия не действительность, а — жизнь, уже преображенная поэзией. Трагическая поэма — вещий сон поэта и метафизика о преображенной жизни. Она просветляет, ибо говорит о том, чем должна быть наша жизнь и что она в таинственном своем существе уже есть. Зло и бессмыслица еще не трагедия. Гибель в них добра и смысла еще не трагедия. Трагичен лишь катарсис — очищение и оправдание зла (не добро же надо оправдывать!) в умерщвляемом им добре, осмысление бессмыслицы в убиваемом ею смысле.
17. Конечно, поэт или метафизик — пророк. Но он и человек, который безобразит и бессмысленно страдает и, может быть, лишь потому бывает иногда ясновидцем («Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон» и т. д.). Только на мгновения возносится поэт над жизнью, исполняясь радостью метафизических озарений и поэтических восторгов. Но и в эти мгновения он лишь вдалеке, в утреннем тумане видит Ханаанскую землю и — уже стремится с горы, чтобы томиться в безводной пылающей пустыне. — Заметьте это, сострадательная читательница!
18. «Оптимист» ли, «пессимист» ли он? — Посмотрим на Вашего метафизика–пессимиста. — Ну, немножечко пострадал, больше всего от зависти. Потом сочинил систему, довольно складную и «ужасно» мрачную, но — почему же «пессимистическую», раз это «ужасно» только для дам, а для него самого приятно?… Завел собак, «друзей непонятого», из подыхающих стал делать чучела и наслаждается себе среди этой падали, упиваясь званием великого пессимиста.
19. Нет, лучше, достойнее — «быть пессимистом» (т. е., говоря простыми словами, — страдать) в самой жизни, в метафизике же — «быть оптимистом». К тому же здесь и нельзя им не быть: здесь лишь можно по недомыслию считать себя «пессимистом» или (что то же самое) не быть систематиком. Страдать же надо реально, а не в сонном мечтании. —'Страдание — великий дар, печать избранности и благородства. Если Бог тебя на том свете спросит: «Зачем ты на земле так безобразничал?» — смело отвечай: «Зато, Господи, я и страдал». И, поверь мне, Бог в тупик станет. Что же, в самом деле, сможет Он тебе ответить, если сам Он страдал в тебе? Не страдай Он — не было бы и нашего безобразия, из-за которого мы страдаем.
20. Великая и настоящая мука безмолвна. Ее никаким словом не выскажешь и никаким криком не выкричишь. Только глумясь и паясничая, как шут, не осквернишь ее безмолвия. Можно, разумеется, распространиться и на тему о «видимом миру смехе сквозь невидимые миру слезы». Но тогда не избавишься от себя самого; тогда уничтожишь всю свою метафизику тупым самодовольством. И не будет уже той последней серьезности, которая здесь необходима.
Как бы личное
21. Где теперь светловолосая Элените? Где это девически неловкое ее признание?… Все прошло. Ничего не вернешь. Все умерло или: живет лишь для того, чтобы мучить меня… Ведь это же я, сам я сижу, наклонившись вперед, с неискренней от робости улыбкой. — Я-то я, да вот все-таки уже и не я. Тот «я» мертв во мне. Осталась от него холодная могила, саркофаг. Эту могилу я — еще — живой украшаю последними, милыми цветами запоздалой осени… —
22. Из кладбищенской литературы. — Записи прохожих на могиле в виде обмена мыслей: 1. «Здесь лежит юнкер семнадцати лет. Обложите могилу несчастного!» — 2. «Чем прикажете?» — 3. «Конечно, дерном». — 4. «А я думал: г…….
23. Внутри себя самого недвижим я, как моя каменная могила. Тесно мне от нее: распирает она мою) душу. Веет от нее холодом… Стал я собственным своим трупом. Труп этот во мне как что-то неотменимое, как мое тело. В самом деле, не есть ли тело лишь застывшая, умершая душа?
24. Не яд ли, который незримо сочится из моего трупа, отравляет всякую мою радость, всякое чувство? огнем тления пронизывает всякую мысль?… Не могу жить: потому что не забываю. И не могу забыть, да и не хочу. Впрочем, сам не знаю: хочу или не хочу. — Хочу и не хочу сразу. Хотел бы, чтобы свободно жить и дышать. Но жаль забыть. — Вспоминаемое кажется лучшим из всего, что было. И не забыть уже хочешь, а воскресить… Ах, читательница! Тогда бы я вновь слушал дрогнувший голос Элените, которого сейчас мучительно не могу вспомнить; смотрел бы на ее побледневшее лицо, вместо которого сейчас передо мною лишь испещренная мелкими буквами бумага… Вот помню: у Элените странно расширялись зрачки, и от этого ее серые глаза внезапно темнели; но — помню лишь на словах: не вижу… Если бы вернулось прошлое— все бы, думается, видел, слышал, чувствовал, все: до самой последней черточки. Понял бы то, чего тогда и не заметил и чего теперь, сколько ни старайся, — не вспомнишь. Сказал бы все, что не сказалось и не подумалось. Но все прошло: ничего не вернешь… Не возвращается прошлое, а уходит; не яснеет, а бледнеет и расплывается. С каждым днем оно все неуловимее. Скоро даже эти мгновения, даже эти воспоминания уйдут навсегда. Будут где-то вдали виднеться две скорбные бескровные тени. —
На нашу общую могилу
Ронял я белые цветы
И с ними все, что сердцу мило,
А их кропила кровью ты.
И кровь дымилась и чернела,
И сохла, лепестки суша,
И все мое дрожало тело,
И стыла медленно душа.
О, эта кровь! О, эти руки,
В разъятьи тягостном, без сил!
……………………………………….
……………………………………….
Два последних стиха не вышли: оказались такими пошлыми, что не заслужили появления на бумаге. Не потому ли, что и все где-то посередине между жизнью и смертью? Нет ни начала, ни конца. И я, в себе еще живом ставший своим собственным трупом, — медленно разлагающийся труп.
25. Так мне ли усовершенствовать свое прошлое, даже если бы оно вернулось? — Я могу лишь напоить его трупным своим ядом и растлить. Во что потом превратилось это «лучшее»?… Да не потому ли и кажется оно таким светлым, что осталось недосказанным, неясным?… — Все ли я вспоминаю и верно ли вспоминаю? А что если вспоминаемое лишь осенние цветы, которыми я убираю свой саркофаг, асфодели, которых питает мой тлеющий труп? То, что не сознавалось, когда я пытался жить, то, что сейчас представляется «лучшим», не было ли на самом деле иным — бессильным и безобразным?
26. Понятны мне теперь жалобы Элените. — Жаловалась она, что летает над нею какая-то злая, черная птица с мягкими, душными крыльями, летает и не дает ей дышать… Конечно, Элените немного и присочинила: таких птиц не бывает. Но не все же она сочинила, а только — кое-что присочинила, да и то — для поэзии. Стало быть, она уже как-то чуяла яд, который теперь разъедает мою душу. — Конечно! Почему же иначе называла мою душу «темною», а меня самого — «черным»? Не мне обвинять: я в ответ уже совсем намеренно и лживо молол какой-то вздор (даже вспомнить стыдно!), в благоприятном смысле толкуя появление птицы, все-таки — вещей.
27. А теперь который уже день — ложусь спать, и вокруг меня начинает летать черная муха, противная, с лоснящейся спинкой, жирная… Хочу ее умертвить. Но внезапно появляется мысль: «А вдруг это Элените? Вдруг ее убью?» Не убить же нельзя: очень уж мерзкая муха, отвратительная. Ночью запутывается у меня в волосах и ест их: их становится все меньше… Так и не решился умертвить. Два раза придавливал платком, но не по–настоящему: колебался. И она все летает и злобно, а может быть — и жалобно жужжит.
28. Как бледная тень, живу я–прошлый в себе–на–стоящем; или: — я–настоящий безжизненной тенью блуждаю и тоскую в моем прошлом. Так, говорят, умерший не расстается с родною землею. Незримою тенью витает он там же, где жил и страдал. Мил ему по–прежнему шелест деревьев, желанны жаркие лучи солнца, бесконечно дороги те, кого навеки оставил. Но — знает он, что шелестят деревья, вслушивается и… ничего не слышит; — ищет солнечных лучей и… не находит, не видит. Хотел бы он коснуться любимых, отереть их слезы, сказать им ласковое слово, шуткою вызвать улыбку. Но — ничего не выходит: он бестелесен, безвиден, бессилен. Живет ли он? — Нет, живут лишь люди, а не призраки. Мертв ли? — Только для живых его нет, и мучительно хочет он жить.
29. Чтобы жить, нужно тело, нужна горячая кровь. Около пролитой дымящейся крови толпятся бледные тени. Лунною ночью, обернувшись белогубым упырем или черной мухой, прилетает к спящему скорбная тень. Неслышно приникает она к нему и медленно тянет его густую соленую кровь. Мечется спящий, пытается выговорить какое-то слово, а она пьет его кровь и, напившись, возвращается на родную любимую землю.
30. Вот почему, милая читательница, Вам следует меня опасаться. — Если Вы, не боясь метафизики, ненароком меня полюбите, я выпью Вашу кровь, высосу Вас, как бесстрастный паук высасывает муху. Ваша кровь мне нужна, чтобы вернуться в мое прошлое. Не полагайтесь на то, что с виду я совсем не противен и не демоничен, напротив — нежен. Отыскав в Вас черты сходства с Элените, я сам поверю, что люблю Вас ради Вас самих; и мы вместе сочиним какую-нибудь очень глубокую и красивую теорию любви. Все худое случится не по моей воле — само собою: отравивший меня яд отравит и Вас. Такова уж судьба бескровной тени — метафизика, а по родству с ним и поэта.
Не верь, не верь поэту, дева,
Его своим ты не зови,
И пуще Божеского гнева
Страшись поэтовой любви!
Вы, наверно, целиком читали эти стихи. Но если Вы и прощаете поэту некоторое его кокетство, то все же не поддавайтесь чарам таланта и, во всяком случае, не доверяйте его довольно-таки двусмысленному обещанию «не нарушать твоей святыни» '. Оно явно не согласуется с характеристикою поэтом его любви, ради чего я и напомнил Вам о данном стихотворении. Любящий и любимый поэт —
…не змеею сердце жалит,
А, как пчела, его сосет
Прекрасный и смелый образ! Но к чему, скажите мне, опорочена ни в чем не повинная пчелка? Дело вовсе не в ней, а в методическом высасывании крови. Укус самой ядовитой змеи во много раз легче. Как всегда, поэт не понимает смысла данного ему откровения; и образ его оправдан лишь тем, что уподобляет девичье сердце, а, следовательно, по общеизвестному правилу риторики, и всю деву благоухающему цветку.
31. Однако если сравнение с безобидною пчелою лукаво и не по заслугам прикрашивает поэта, то и «бледная, бескровная тень» (даже — склонная к вампиризму) также еще слишком привлекательный, «романтический» образ. Просто — прокаженный вместо того, чтобы сидеть на гноище и черепком чесать свои струпья, приоделся, скрыл за синими очками слезящиеся глаза и лезет целовать здоровых людей. Впрочем, и этот образ может показаться трагически–красивым.
32. Философски рассуждая, все это означает следующее. — Человек есть существо умирающее. Смерть его — он сам как собственное тление. Понятно, что, общаясь с другими, он может лишь заражать их трупным ядом, если только это нужно. Ибо и они все так же умирают и тлеют.
33. Но все люди не только «умирают так же, как я». Они не только где-то и когда-то предваряют, сопровождают или повторяют мое умирание в своем, моему лишь подобном. Все это — только внешний вид нашей общей смерти. Умирание — распадение. Окончательная смерть — полный распад. Но дело-то в том, что мы все только распадаемся, только умираем, а не распались и не умерли… Были мы чем-то одним с Элените. А теперь вот все дальше и дальше она от меня; и даже голоса подать друг другу не можем: все равно не дозовешься. И однако — вспоминаем, томимся и забыть друг друга не в силах. Какие-то тоненькие–тоненькие ниточки связывают всех нас, и живых и мертвых, весь мир, становятся все тоньше, а не рвутся; не ниточки — тоненькие жилки, по которым бежит наша общая кровь. Наши неслышные вздохи сливаются в один тяжелый вздох, наши слабенькие стоны — в невыносимый вопль всего живого, в бессильное проклятие страданиям и смерти. Разве необходимо, чтобы стон человечества был одноголосым? — Он может быть и полифоничным. Так еще величественнее.
34. Не рвутся слабые ниточки, а страшно, что вот–вот порвутся. Такие они тоненькие, что их даже не видно. Кажется, точно и совсем их нет… А боится человек одиноко умирать; не берет примера с подыхающей собаки. Как несчастная жидовка, цепляется за последнего человека; хочет, чтобы кто-нибудь его пожалел, да и сам иногда пожалеет.
35. Умирание мое, смертная моя тоска — умирание и тоска всех, мира смертная мука. И совсем даже неважно: очень или не очень я сам страдаю. Предположим даже, что, воспользовавшись некоторыми природными своими особенностями, я лишь вообразил себя страдальцем. — Все равно. Как же иначе ощутить и понять нашу общую муку?.. Актер играет трагическую роль. Почему не сыграть ее метафизику? Только в игре открывается беспримесная правда. Зритель должен смотреть не на актера, но на изображаемого актером героя. А Вы, читательница, лучше всего сделаете, подразумевая (не всегда, конечно) под моим «я» весь мир. Мое «я» — его маска.
Сомнение
36. Рассеять бы непроницаемый туман, разорвать магический круг одиночества, вырваться из Асфоделевых полей и на волю и солнце, к живым людям, чтобы жить с ними, не думая о прошлом, не зная о своем умирании!
37. Напрасна и случайна одинокая жизнь и «на казнь обречена». Словно и не по своей воле появился на свет. Словно какой-то чародей «воззвал тебя из ничтожества», но оставил в тебе слишком много этого самого ничтожества. Страстью души он не наполнил, но ум-то «сомненьем оковал», если только ум и сомнение не одно и то же. — Ум высмеивает всякую цель и даже себя самого. Пронзительным взглядом умерщвляет он всякое желание. Под этим взглядом забьется, затрепещет сердце, как робкая птичка. И вот уже бесстрастно смотрит ум, как разлагается душа в бесконечное множество боязливых, бессильных, мгновенно умирающих желаний.
Цели нет передо мною.
Пусто сердце, празден ум.
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.
38. Долго смотрю на зимнее уже, свинцовое, снежное (но снега нет) небо. Мелькают какие-то блестящие точки. (Доктора, кажется, называют их «mouches volantes» и объясняют склерозом.) Точек этих множество. Они — неизвестно, откуда и как, — внезапно появляются, не торопясь, но неотвратимо, проплывают по кривой и — неизвестно, куда и как, — пропадают. А солнца нет. И ни одна из них не станет солнцем; и все они не сольются в солнце, хотя, может быть, в них солнце рассеялось.
39. В темной, холодной душе все время возникают желания, утомительно мелькают. То это бесстрастная мысль, за которую прячется еще не ощутимое желание; то — как бы и настоящее желание. Но все равно бессильны. Ни одному не удается увлечь душу. Ни одно не осуществляется. И слишком их много; и слишком все они противоречивы… Иногда все же выберешь то либо другое (— не для убеждения ли себя в том, что можешь не только бессильно хотеть?); но, чем полнее стараешься его пережить, тем скорее оно распадается на множество каких-то безразличных мгновений. И смотришь уже на него со стороны: чувствуешь его как что-то чужое; осуществляешь его автоматически, да и не его, а что-то совсем другое осуществляешь. Лишь на самое коротенькое мгновение обманешь себя: как будто и замрет тоска.
…Но сейчас же разольется она с новою силою, и — опять зияет ненасытная пустота…
40. Скажут: «Это страсть бежит от холодного света разума». — Верно ли? Не разум ли это развращает жизнь? — Разум высмеивает все, даже себя самого, бесстрастно убивает всякое желание. В царстве разума все распадается, рассеивается; и он один, холодный, скользит, как змей, в облаке праха. Ибо разум и есть тот самый древний змий, который хитрыми и гибкими, как его извивающееся тело, словами обманул светловолосую Еву, а цветущий рай превратил в безводную пустыню. Он не смотрит на небо и не видит неба, хотя небо в нем отражается: он пресмыкается. Ему недоступно живое: все он должен сначала умертвить. Он питается прахом, древо жизни делает деревом познания и смерти.
41. Давно–давно была моя душа раем. Зеленело там древо жизни; росли все другие деревья, цветы и травы; летали и пели птицы; скользили в траве красивые змейки, и лениво ползал неповоротливый, глупый змей. Было там все, что должно быть в раю. Солнце — заходило и всходило; ночь сменялась днем, зиму сменяла весна, а на смену осени приходило лето. Зимою все умирало и наступала тишина: покрывал все пушистый снег — ложилась на землю седая борода Божья. Зато весною все воскресало к новой, хотя и той же жизни, так что и была смерть, и не была, почему и была блаженною жизнь. Играли и резвились мы там с Элените и любили друг друга не философствуя, без всяких теорий. Часто она взапуски бегала с толстым змеем, а я (мне было на семь лет больше) смотрел и смеялся. Впрочем, и плакали мы, и страдали: какая же любовь без слез и какое счастье без горя? Блаженство слагается из смеха и слез… Дикие звери были тогда как бы и дикими. Все живое как бы истребляло друг друга, но любя — так, что никто не убивал другого, а всякий кормил другого своим собственным телом. Один лев не ел ничего, кроме плодов, и даже предварительно смахивал с них хвостом ни в чем не повинных букашек. Элените хлопала в ладоши и говорила: «Посмотри, какой глупый зверь!» А я — уже нравоучительно — ей говорил: «Как жаль, что у тебя нет хвоста!»
42. Но не умею я рассказать о погибшем моем рае. Помню, что словно был он, но ничего о нем толком не помню. Только глядя в светлые глазки ребенка, смутно вспоминаю о чем-то и моем, бесконечно далеком. Себя же ребенком не помню. Впрочем, даже не всякий ребенок об этом напомнит, а — только умытый, приодетый, как дети вокруг Иисуса Христа в книжке, по которой меня учили Священной Истории… Не помню себя самого, ибо сам я был и моею душою, и раем, и толстым змеем (львом-то, но уже бесхвостым, остался), и всем, что должно быть в раю. Чужими словами пытаюсь себе самому рассказать о том, о чем невнятно говорит какое-то смутное чувство. —
43. Не помню, совсем не помню: как это случилось, что смешной, глупый змей, с которым играла Элените, вдруг оказался змием, «хитрейшим из зверей полевых», лукавым моим разумом. Обвился он вокруг древа жизни, и — оно стало деревом познания и смерти, и сладкие плоды его налились ядом. Задушил змий Элените, разрушил мой рай. Теперь ворочается он в моей душе, развивает свои скользкие кольца, злоумышленный, беспощадный. И нет уже солнца. — Лишь зимнее, снежное небо и утомительное мелькание, серая пустота. В ней все растворяется, растворяется и злой змий… Вот он уже не змий, а безвидная бездна… О, если бы он был огнедышащим драконом!
Он — огнедышащий Дракон,
Он — зверь, благословенный Небом.
Немолчно слышен крыльев звон
Над потрясенным им Эребом.
И тень железного крыла
На душу темную легла.
Звенит. Раздвоенный язык
Роняет вниз огонь и серу.
Невыносим, колебля меру,
И шип, и смех, и адский зык.
Свистит, взвивался, Дракон.
И в небе он, и в бездне он.
И, страшным звоном потрясен,
От темных волн поднялся стон.
Дрожит колеблемая мгла.
Горят глаза в ночи беззвездной.
И тень крыла легла над бездной,
На душу скорбную легла.
44. Это было бы легче; но —- если и было, то прошло. Разум совсем не огнедышащий Дракон. Без ярости и без радости, равнодушно и как бы безжизненно умерщвляет и разлагает он всякое желание и высмеивает всякую цель. В его призрачном, зеркальном царстве все распадается и рассеивается колючею ледяною пылью… Удивительно, как еще живет разум, ибо ведь он — я сам, а я-то живу. Живу ли? — Нет желаний, которые бы осуществлялись. Нет веры во что бы то ни было. Порожденное темною душою сомнение вернулось в нее и стало ее безволием. Все бессильно разлагается… — Уныние, тление, которому нет конца; не жизнь и не смерть, а — вечно живущая смерть.
Бессилие
45. В самом деле, как может умереть живущая смерть, раз вечное умирание и есть ее жизнь? Невозможно и представить себе ее конец или начало.
46. «Есть вечная, бессмертная жизнь».
— Что же это за жизнь, если в ней нет умирания? В такой «жизни» ничего не исчезает и, стало быть, ничего и не возникает. В ней нет недосказанного и мимолетного. Любви в ней нет, ибо нечего отдать, нечем пожертвовать: все стоит на месте, неотъемлемое, неизменное. Это не жизнь без смерти, а смерть без жизни: то, чего нет. Трагичен мир, но и прекрасен. — Все убивает и погибает, но из смерти рождается новая жизнь. Неодолим вихрь разрушения; невыносима симфония воплей, проклятий и стонов. «Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, ибо их нет». Но не забывает ли мать о смертных своих родовых муках, «ибо новый человек родился в мир»? Не сияющий ли космос восстает из темного хаоса? Да и в самом хаосе, в разрушении и смерти не бьет ли ключом все та же безумно щедрая жизнь? В бесновании бури не слышна ли Божественная тишина? —
47. «Неужели тебе еще не приелись все эти светлые космосы и темные хаосы, неодолимые вихри и симфонии воплей, вся эта мишура сентиментального «героизма»? Не в них тишина и покой. Вечная тишина и неизменность в тебе. Она — твоя бессмертная душа, пока плененная умирающим телом. Войди внутрь себя, в свою сокровенную келью. Там найдешь свой желанный, вечный покой».
— Не надо мне твоего «вечного покоя», твоей смерти, прикинувшейся бессмертием! О таком ли покое, о такой ли тишине я говорю? — Слышу Божественную тишину мирозданья потому, что меня оглушает его неистовый вопль. Это — вечный покой вечного движения. Иного покоя, иной тишины нет и быть не может… «Войди внутрь себя» — значит: уйди от жизни? «Бессмертная душа» — значит, не тело? До темной кельи не доносится шум моря. В нее не проникают лучи солнца. Из нее не увидишь пестрых лугов, молодой зелени берез. В ней сладковато–затхлый запах ладана, а не живое благоухание Божьих цветов. Бежать от мира, когда, как умирающий за жизнь, хватаешься за все, что выбрасывает на берег безграничный океан?! Не любить милого лица, за которое отдашь душу?! Мать склонилась над колыбелью ребенка; не наглядится на него; не наслушается, как он смеется, вздрагивая маленьким тельцем. А ей предлагают взамен какую-то бесплотную душу! Точно мало издевается над матерью сама жизнь! Ведь вырастет ее ребенок (навряд ли на полное утешение родителям). И никогда уже больше не будет этого беззубого ротика, этого смеха. С грустным умилением станет мать перебирать выцветшие фотографии. И себе самой побоится сознаться, отчего ей так грустно: не посмеет захотеть, чтобы воскресло прошлое. Отучает жизнь хотеть и надеяться, приучает отказываться от самых естественных желаний. —
48. «К чему слащавый образ матери с ребенком? обглоданные поэтами березки? Есть же все-таки бесплотная душа».
— Чем же она смотрит, если у нее нет глаз? чем слышит, дышит, нюхает цветы? Как без тела чувствует и мыслит? Попытайся представить себе свою «бесплотную» душу. Но пусть уж в ней не будет того, что ты видишь, слышишь, обоняешь. Пусть она — точно высохший профессор философии — «мыслит», однако — так, чтобы не дышало и не напрягалось тело, не билось сердце, чтобы не возникало в ней ни звуков, ни образов, ни знаков, чтобы мысль не отделялась от мысли. — Нет, не существует души, которая бы вместе с тем не была и вечно умирающим телом. Тело же твое лишь один из живых центров и образов безграничного мира. Мир образует себя в тебе как твое вечно изменяющееся тело, в нем себя сознавая и страдая. Он становится твоим телом и перестает быть им, когда оно становится другими телами… Мучительно мне умирание милого мира, ибо это — умирание моей души. Не беспомощная ли, обреченная душа моя скорбит о победе смерти в грустных глазах бессловесной собаки? Не душа ли моя, охваченная ужасом, кричит голосом ребенка в затравленном собакою зайце? Не она ли трепещет в его предсмертных судорогах? —
49. «Бесплотная душа, конечно, — только символ. Он означает, что в другом мире облечешься ты в нетленную плоть».
— В другом мире и в другой плоти не может быть этой моей души. Только из этого тела сознаю я этот мир; только в этом моем теле он так сознает себя в страдает. Зачем же мне верить бессвязным сказкам о непонятных бессмертных душах и нелепых эфирных телах? Люблю этот умирающий мир; люблю земное, совсем неэфирное тело… У Элените, как у Габсбургов, немного выдается нижняя губа, а на верхней — маленькая бородавка. Найдется ли этим «недостаткам» место в «совершенном» эфирном теле? —
50. «Если захочешь, будут тебе и габсбургская губа, и бородавка».
— Захочет ли сама Элените?… Да и все равно: не будет чего-нибудь другого. Всего быть не может — тем более что у эфирного тела, надо полагать, и потребности эфирные. В нетленном теле нет изменения. Я же хочу видеть Элените во всех ее изменениях, во все мгновения ее жизни. Разумеется, не стану мешать тому, чтобы она похорошела: недаром покупал ей цветы и подолгу обсуждал с нею фасон ее платьев. Хочу, чтобы она во всем была лучше других (почему иногда и увлекаюсь другими), но хочу, чтобы она осталась и такою, какою была. Придумай-ка подобное тело! При одной мысли о нем смутился даже св. Григорий Нисский. —
51. «Но как же ты тогда сочетаешь отрицание бесплотной души с верой в своей бессмертие?»
—…которое есть вечное умирание. — Да очень просто…
52. «Ты не можешь представить себе, что умрешь. Никто не может себе этого представить. Тем не менее все умирают».
— Я вовсе не утверждаю, что не умру тою смертью, которою умирают все люди. Такую смерть я легко могу вообразить. Не могу лишь представить себе, чтобы при этом не было меня. Конечно, и я умру, как все. Но это еще неполная, не окончательная смерть. —
53. «Значит, останется душа».
— Нет, не душа, а замирающая и беспредельно мучительная жизнь моего тела, сначала неодолимо недвижного, потом неудержимо разлагающегося. — Холодным трупом лежу я в тесном гробу. Сизый дым ладана. Но ладан не заглушает сладковатой вони тлеющего трупа. Черная муха садится на закрытый глаз и медленно ползет. А издали кажется, будто мертвец (т. е. я) широко раскрыл глаз и тихо, не двигая головой, обводит кругом жутким, одноглазым взором…. Темно, сыро, душно в земле. Тело мое пухнет, «плывет». Вздувается живот. Лицо отекает. Мозг уже превратился в скользкую жидковатую массу, в гнойник; и в сознании моем вихрем проносятся какие-то ужасные, нелепые образы. В мозгу уверенно шевелятся и с наслаждением его сосут толстые, мне почему-то кажется — красные черви. Разгорается огонь тления. Не могу его остановить, не могу пошевельнуться, но все чувствую. — Земная жизнь была только чистилищем. Это же — ад, в котором червь не умирает. —
54. «Можно сократить время твоих адских мучений — сжечь твое тело».
— А есть ли в аду такое же время? Если же нет, — лучше ли вечный огонь? — Посмотри в окошечко крематория: от страшного жара сразу же в невероятном ужасе вздымается труп и, корчась, превращается в прах. Хорошо ли придумал человеческий разум? —
55. «Можно сделать из тебя мумию».
— Легче ли мне, если, по земному счислению, мое тело будет гнить не пять, а тысячу лет? Вечности моей этим не сократишь. И чем мерзкая крыса, которая, шлепая хвостом по моим губам, будет грызть кончик моего мумифицированного носа, лучше могильного червя? Быть мощами — особенная мука. Кто знает, легче ли она, чем тление в земле или вечный огонь? —
56. «Кончается жизнь тела на земле. Кончатся и посмертные муки. Преходит образ мира сего».
— В том-то и дело, что ничто не кончается. Того, что было и есть, сам Бог не сделает небывшим, ибо Им все живет. Не живи я–умирающий в Боге, меня бы совсем не было: я бы даже не умирал. В Нем вечно мое тело, это самое тело, сейчас ощущаемое мною только в его меняющемся средоточии, этот самый телесный процесс без конца и начала. Конечно, тело мое распадается, даже кости мои обратятся в прах. Но и останется вместе с тем мое тело, останется всякое мгновение его жизни. Сохранится мое сознательное средоточие мира, хотя уже не буду ограничивать себя им так, как теперь, но: из него охвачу еще и весь мир как мою телесность. Рассеется мое нынешнее тело во всем мире, перемешается, срастворится с другими телами, будет в них жить новыми жизнями. Будет оно без конца дробиться. Одни частицы его будут гореть в огне, другие — страдать в людях, зверях, в крысе, в могильном черве. Но, распятое, разъятое, рассеянное во всем мире, останется оно и моим. Сейчас я только со–страдаю омару, которого живьем кипятят для меня и которого я с удовольствием съем. А «там» или «потом» я действительно страдаю его страданием. Впрочем, наверно, и теперь я лишь потому сострадаю бедному омару, что в нем есть частицы и моего тела. Ведь то, что несколько мгновений назад было моим телом, — уже не «только мое». Может быть, покинувшие мое тело его частицы уже в кипятке, как тело омара. Почему-либо да воображаю я это; и — бессильно ли воображение Бога? — То, что было моим телом, не перестает быть «моим». То, что еще будет моим телом, — уже «мое». —
57. «Боль появляется только у позвоночных. Омар ничего не чувствует и даже не отличает своего тела от внешнего мира. Тебе же дана способность чувствовать боль для того, чтобы и себя ты не съел».
— Тем хуже для меня, если я страдаю в омаре, а он мне даже не сочувствует… Но все это, эту тайну открыл мне Бог устами Авдотьи Ивановны. — Авдотья Ивановна была портниха, подолгу живавшая у нас в семье, — странный, Божий человек. В молодости она много влюблялась — ей много простится, ибо она много любила, — но как-то чудаковато–романтически. Впрочем, ей принадлежит слово, что и «вечерок любви — ничего». Годам к сорока пяти чудаковатость Авдотьи Ивановны превратилась как будто в помешательство (возможно, что это было началом прогрессивного паралича). Так вот, захожу однажды на кухню. Авдотья Ивановна стоит у плиты и задумчиво варит раков. Взглянула на меня немного помешанным взглядом, быстро и рассеянно. Инстинктивно спешу избавиться от жути и довольно бесцельно, даже глупо спрашиваю: «Ну что, Авдотья Ивановна, как?» — «Да вот, варю Вам раков,.. А знаете ли, Лев Платонович? — Варю и думаю. — В Писании сказано: «огнь неугасающий». Я и думаю: вон раки-то кипят, шуршат. Это, значит, мы-то и кипим». А у самой такие странные, жуткие, вещие глаза. В застывшем же лице никакого интереса к окружающему.
58. Сейчас уже мучаюсь я во всем мире. Горю в теле несчастной жидовки, жалобно пищу в придавленной мною черной мухе. И я же давлю муху, огнем сжигаю жидовку; и не могу не давить и не сжигать, собственный свой палач и собственная своя жертва. Знаю все это, но пока — «только–ограничено» мое тело, резко отделено от других, а потому не очень еще чувствую: точно вспоминаю. Умерев же — почувствую.
59. Умру, и будет все как-то сразу: и прожитая уже жизнь, и та, которую изживаю, и та, которую еще проживу, и весь мой телесный процесс, и тление моего тела в земле, и весь мир как мое страдающее тело. Не то что не будет времени: время останется, и все будет по времени различаться; но вместе с тем все будет и сразу. Будет же все сразу и как настоящее, и как прошлое, и как будущее. Вновь станет, наконец, и настоящим признание Элените, а вместе с тем и не будет оно прежним. Ведь будет оно вместе со всею мукою, которою кончилось. Сама же Элените будет сразу, хотя и различаясь по времени, и светловолосою Элените, и разлагающимся трупом… Сейчас мысль о неизбежной гибели всего отравляет всякое желание тайным ядом (впрочем — и обостряет его тоже). А «тогда» сама смерть будет во всяком желании, и — оно останется, но — не знаю: чем будет. Оживет все прошлое, но — для того, чтобы стать средоточием неведомо–ужасной жизни и подлинною вечно–живущею смертью.
60. Вот почему и страшно умереть. Вот почему при одной мысли о смерти — «мгновенно гаснут пятна гнева, жар любострастия бежит». Смерть не конец жизни, а — начало бесконечной адской муки. В смерти все умершее оживает, но как бы только для того, чтобы не исчезло мое сознание, чтобы всецело и подлинно переживал я вечное умирание в бесконечном умирании мира. Разверзается пучина адская; и в ней, как маленькая капля в океане, растворяется бедная моя земная жизнь.
61. Вот он, ад глумливый и смешливый!… А Вы-то, дорогая читательница, так мне и поверили на слово. Ведь Вы мне поверили, когда объяснял я Вам смысл моих, часто неуместных, шуточек? — Конечно, поверили. Иначе бы Вы вообразили, что над Вами я издеваюсь, и, пожалуй, с негодованием бросили чтение. Впрочем, я Вам не лгал и сейчас готов повторить то же самое. Только в шутках моих обнаружился еще и другой, до сих пор — сокровенный от Вас и от меня самого смысл. Они — адский аккомпанемент, которым неугомонные чертенята сопровождают мою поэму. Ведь если есть ад, то должны быть и черти. Пора бросить необоснованное сомнение в их бытии.
62. Не могу Вам сказать с полною уверенностью, но иногда мне, право, кажется, что и сам я — кривоносый чертяка. Правда, у чертяк копытца, рожки, хвостик и совсем нет задней части тела (так все время передом и вертятся перед людьми); у меня же все в порядке. Но вот почему-то не могу стоять так, чтобы на меня смотрели сзади. А потом — очень уж люблю холодный блеск зеркала. Через зеркало же проходит ближайший путь в ад. Ведь даже ученые должны были признать, что отражение Ваше в зеркале находится на таком же расстоянии вглубь от его поверхности, на каком находитесь перед стеклом Вы сами. Вот и поймите! А тут еще симметрия, которой не понимал сам Кант 22. Ах, милая читательница! поменьше смотритесь в зеркало. Даю Вам совет от чистого сердца, так как если я и чертяка, то все же добрый чертяка. Есть бесенята гораздо хуже. Они и мне не дают покоя. Третий уже год безостановочно звенят в ушах. Доктора опять объясняют это склерозом. Но что знают доктора? И зачем мне верить докторам, раз Вы мне не верите?
63. Вы же все еще не верите, что я — чертяка, верно, памятуя, что дьявол — отец лжи, а все черти лгуны. Но знаете ли Вы, что такое ложь? — Подождите, пока я умру, и придите тогда посмотреть на меня в гробу. Вы увидите, как мое, сейчас довольно благообразное, лицо станет так называемым зеркалом души, т. е. — вместо него Вы увидите страшную маску колдуна. Тогда уже не буду я добрым чертякой… Знаете, как у Гоголя. — Подняли чудотворную икону, и молодой, лихой казак вдруг обернулся проклятым колдуном. Подумайте только, что он перечувствовал, когда искажалось его лицо, кривился и нависал над выступившим подбородком нос, прорезывались и лезли изо рта клыки. А стыд-то какой!…
64. Говорю к тому, что и чертей пожалеть надо: и они создания Божьи. Черти гнусны. — Гнусны, конечно; однако же и очень несчастны. — Десять лет слуга верою и правдою служил рыцарю. Все делал и не получал никакого жалованья. Заболела жена рыцаря, и — так опасно, что, по словам доктора, спасти ее можно было только львиным молоком. Но где же возьмешь львиное молоко, когда время не терпит, львы водятся в Африке, а рыцарь с женою жил во Франции? Поведал рыцарь свое горе верному слуге. И вдруг — исчез куда-то слуга, а к вечеру является с бутылкою парного львиного молока. От радости рыцарь сначала даже не подумал, откуда достал его слуга львиное молоко: сразу побежал напоить жену. Однако утром, когда жене полегчало, стал рыцарь сомневаться. Позвал он слугу и велел ему именем Господним сказать, откуда он взял львиное молоко и что он за человек. Под такою клятвою должен был слуга сознаться, что он бес; и сказал он, что великое для него утешение жить с сынами человеческими. Но рыцарь побоялся, как бы от такого слуги не вышло вреда его душе, и отказал ему от места. А чтобы не остаться в долгу перед бесом, дал ему рыцарь за всю его верную службу один червонец. Бес же от червонца решительно отказался и сказал рыцарю: «Купи ты лучше на все мое жалованье колокол и повесь его в твоей церкви на колокольне, чтобы сзывал этот колокол людей на молитву».
65. Хочется бесам хоть немного побыть с людьми, и много некрещеные готовы для этого сделать. Стараются беспятые развеселить людей, хотя им самим совсем невесело. Они все равно что музыканты на балу. Вы, просвещенная читательница, танцуете, веселитесь, музыканты же для Вашего веселья играют, а. иногда даже подтанцовывают и кричат. А им ведь совсем невесело, хотя Вы этого, вероятно, не замечали и только ради хорошего тона не хлопали в ладоши, когда они переставали играть. Так и бесы, и такую же роль играют они в мире. Проказничают же они частью от великой своей скорби, а частью потому, что иначе не будет поэзии. Без чертей поэзия так же невозможна, как Ваши грациозные танцы без музыкантов или джаз–банд без саксофона.
66. Не гоните бесов — тем более что, по самым последним научным изысканиями, особого бесовского мира даже и нет, а бесы — те же люди, хотя и с некоторыми, впрочем — несущественными особенностями. Народная мудрость давно отметила, что у всякого человека иногда в глазах прыгают чертенята, и предпочитает называть беса «шутом». Во всяком случае, величайшее заблуждение — предполагать, будто бесы мучают грешников в аду. Как они будут мучать других, если это — наслаждение, а они сами мучаются? В аду все равны, и бес там уже не бес. В глубине ада бесов не видно и не слышно. Там все заглушено воем бездны. Даже усмешка не искривляет измученного лица. Вечная безысходная скорбь уже не в силах преодолевать себя смехом. Даже не зовешь смерть–утешительницу: все равно — не дозовешься…
Израиль
67. Но кто же обрек меня на вечную муку ада, в котором, как капля в океане, растворяется бедная моя земная жизнь? Кто могучим проклятьем двоим отдал меня в рабство неодолимой необходимости? Бог ли, милосердно меня создавший?
68. Нечего сказать: хорошо милосердие, хороша Божественная любовь! — Создать меня, даже не осведомившись, хочу ли я этого, и потом обречь меня на вечную муку бессмысленного тления! Может быть, и прекрасно, что неизменная Мощь озарена колеблющимся пламенем ада. Может быть, дивною музыкою звучат в ушах Божьих стоны обезумевших от муки и бессильные проклятья вверженных в геенну. Но. при чем тут Любовь? Сотворил Себе Бог живую игрушку и забавляется с нею, как тигр с маленьким мышонком; упивается его муками, чтобы насладиться Своим всемогуществом. — А вот и не насладится! ибо я всемогущества Его не признаю. Вот если бы я вверг Бога в ад, мне было бы чем гордиться. А то — Создавший меня из небытия гордится тем, что может без конца надо мной издеваться. Вот так всемогущество!
69. Справедливым-то такого Бога уж никак не назовешь. Пускай Он безмерно сильнее меня; — я справедливее. Он карает меня за то, что я нарушал Им же изданный закон, да и закон-то пустяшный. Что такое маленькое яблочко или абрикос по сравнению с Божьим величием? Как ни толкуй этот плод — ничего серьезного не получится. И мог ли я удержаться и не согрешить? — Создан я из ничего; сотворен, видимо, не слишком удачно, раз оказался глупым и немощным. Как же мне было не согрешить! Как мало–мальски разумное существо могло предполагать, что буду я со всею точностью соблюдать не мною выдуманные и мне непонятные законы? Мог ли я подозревать, что Бог, говоривший со мною, как старый добрый Отец, из-за маленькой неосторожности сразу же впадет в ярость, выгонит меня из рая, а из всех Своих даров оставит мне вечность, которая для меня будет вечною мукой? Всезнающий должен был это предвидеть. Объявивший Себя Любовью должен был меня пожалеть. А если хотел Он быть только справедливым, так должен сообразить, что кара не пропорциональна вине. — Дал Он мне жизнь, а я согрешил. Ну, отбери ее назад! умертви меня, верни в небытие! Смерть легче Твоей вечности. — Всемогущества не хватает? Или прав Моисей и Ты испугался, что буду я, как Ты, и, позавидовав, сковал меня, чтобы наслаждаться моим бессилием?
70. Не воображаешь ли, Ветхий Денми, что я мог и не согрешить, что согрешил я свободно? Надо было тогда сперва спросить меня: хочу ли я еще ставить на карту свою жизнь против вечной муки? Ты же, не спросясь, вызвал меня из небытия: создал какой-то комочек, вдунул в него душу, и не пускаешь меня назад, да еще называешь меня свободным! Ведь комочек-то каким был, таким и останется, т. е. вечно будет развиваться по необходимым законам своего первозданного естества и никогда свободным не станет.
71. «А ты кто, человек, что споришь с Богом?» — Спорю. К чему мне подобострастное благочестие, раз я все одно в аду? В непризнании такого Бога — предел Его могуществу и моя свобода, единственное мое сокровище. Может быть, Он ухитрится еще увеличить мою муку: так, что уже ничего не посмею ни сказать, ни подумать. Но сейчас еще могу говорить и говорю на веки вечные: не признаю такого Бога… Теперь вынужденное мое молчание уже ничего не будет стоить.
72. Из глубины Твоего ада, из беспредельной необходимости подъемлется моя свобода. И как же, как Ты уничтожишь ее? — Умертвишь меня? Разобьешь, неудачливый горшечник, Тобою же сделанный глиняный сосуд? — Ну, не будет меня. Но того-то, что был я, Ты не уничтожишь. А для Тебя, кажется, то, что было, и всегда есть. Или вспомнишь о Своем «всемогуществе» и на Себя самого накинешь пелену великого неведения? Что станется тогда с Твоею мудростью? Да и как же тогда Ты будешь — Тот, кто всегда есть? Видишь, до чего доводит самовластное и необдуманное «да будет»?
73………………………………
— Как?! Отверг Я тебя, проклял Тебя, а Ты — Ты мне говоришь!… Воет и беснуется ад, Тобою созданный ад, устами моими плюет на Тебя, — Ты же неотвратно на меня глядишь… точно видишь во мне то, чего и сам я не вижу… Проклинаю Тебя, плюю на Тебя, а — Ты мне говоришь!… —
74……………………………..
— Слова Твои — его тишина?!. Нет, Ты лжешь. Это не Твоя тишина. Это море яда и желчи, великое море презренья к Тебе, яростно поднялось и застыло. Это оно, оледенев, гордо молчит и отражает Твой взор, швыряет Тебе назад Твои острые лучи. —
75……………………………..
— Что, что говоришь Ты? Не можешь помочь мне? Ты, всемогущий?… Да Ты просто издеваешься надо мной. Как же это я сам, я хочу жить? Как я сам созидаю себе мою необходимость, адскую муку?…„ Потому только и не могу умереть, говоришь Ты, что не хочу?… Только потому, что люблю Тебя? — Не верю. Ты обманываешь меня, чтобы лучше надо мной посмеяться. Где эта моя любовь? —
76……………………………..
— Да, Ты прав: это все же Твоя тишина… Взор Твой плавит ледяную громаду. Тает она, плачет, сияньем Твоим смеется сквозь слезы… Неужели люблю я Тебя?… Это опять — Твои слезы… Отчего же Ты плачешь?
77……………………………..
— От радости? Оттого, что любишь меня? я? в проклятьях моих услыхал Ты мою любовь к Тебе? Только их Ты и ждал? В них услыхал наконец мой свободный ответ на Твой зов?… Это они-то первый дар моей любви! За них меня сыном Своим называешь!… Так не Тебя я проклинал? —
78……………………………..
— И не проклинал, а любил?.. Но зачем же тогда Ты создал меня таким бессильным?
79………………………………
— Сам я не хотел быть сильнее? Сам не хочу жить всею Твоею жизнью?.. Значит, не без моей воли. Ты создал меня: так — точно и сам я свободно возник. Возник Твоею силою, но сам? Не захотел бы, та^ так и Не возник бы?… Но как же это так? — В этой бездне безвидной, которой не было и нет, мог ли быть я, которого ведь тоже не было? —
80…………………………….
— Да, все Твое, все — Ты. Даже свобода моя, даже любовь моя к Тебе: все — только Ты. Нет у меня ничего своего. Пощади меня! — Боюсь понять Твои слова. Страшно дальше искать себя. Там уже ничего больше нет. Там бездна, которой нет. Я на краю ее… О, я не знал, что небытие так ужасно!.. Ты опять прав: люблю жизнь — люблю Тебя. И боюсь: меня нет. —
81……………………………..
— Конечно! Кто же иначе боится не быть? кто любит Тебя? И можешь ли Ты любить того, кого нет, а ведь я — тот, кого Ты любишь? Но могу ли быть я, если все — только Ты?… Погоди, не отвечай… — Вместе с тобой я владею Твоим Божеством. Оно — Ты, но и — наше общее. И пока владею им, а Ты любишь меня — я не Ты и не погибну. Не так ли? —
82………………………………
— Не потому даже не погибну, что Ты меня любишь, а потому, что я Тебя люблю?.. Но отчего же тогда так я ничтожен? Отчего даже слов Твоих не могу повторить? себе самому рассказать о Тебе? —
83………………………………
— Мало Тебя люблю? Отделен от Тебя? далек? — Но как же далек, если Ты во мне? если владею Тобой, как самим собою? если только Тобою движусь, дышу, живу и хочу? —
84………………………………
— Разделил Тебя? Взял от Тебя лишь малую часть? — Да разве Тебя можно делить? Ты же неучастняем, и часть Твоя — весь Ты… Только часть Твою захотел и хочу? — Но как же хотеть часть того, что не делится на части? Как хотеть небытия и не небытия, а чего-то третьего, когда третьего нет? Это все равно что сразу и хотеть, и не хотеть. — Не понимаю. Ничего не понимаю. Понимаешь ли эту нелепость Ты сам? —
85………………………………
— «Сам не знаю: хочу или не хочу, — хочу и не хочу сразу»… Загадочны Твои слова. Но чувствую, неизъяснимым каким-то знанием и безошибочным знаю правду Твоей Любви. И словно тучи клубятся — встает, вспоминается что-то. —
86. Из бездны безвидной, пустой и небытной звал меня, еще небытного, голос Твой. Ты мечтал обо мне, как девушка мечтает о своем ребенке, не зная, будет ли он у нее. Называет его по имени, говорит ему ласковые слова, а у самой и жениха еще нет. Ты звал меня, мир небытный, жить Твоею Жизнью, быть Плиромой твоей. Ты уступал, Ты дарил мне всю Свою Жизнь; молил меня стать Богом вместо Тебя. Ты хотел умереть полною, страшною Смертью, тою самою — только бы я жил и вместо Тебя сделался Богом. Ужасала Тебя, вечного Бога, вечная Смерть. Но ради меня, ради мира хотел Ты вечно умирать и навеки, совсем умереть, ибо у Тебя все вечно.
87. Ты говоришь, что, не отзовись я, меня бы не было, а Ты бы так и остался один. — Да, остался бы Ты Один со Своей великой неразделенной Любовью. И все бы звал меня из бездны безвидной: и безутешные бы Ты лил обо мне слезы. И уже не Любовью бы Ты был — что за Любовь, когда некого любить? — но Мукою Божественного одиночества.
88. Как я отозвался, как ответил Тебе — не знаю. Но — словно вспоминается что-то.
89. Молчала небытная бездна. Не было мира, не было меня — ничего не было… Но, отзываясь на зов Твой, что-то в небытной бездне как бы зашевелилось или — только как бы захотело шевельнуться. И послышался из нее ответ, не голос, а как бы еле слышный писк.
90. Как-то раз в одном родильном приюте я проходил по коридору мимо общей палаты. И донесся до меня крик новорожденных, мне показалось — крик множества только что родившихся. Однако все тоненькие голосочки сливались в один тихий, мелодичный и нежный голос. Лишь временами, когда он почти замолкал, выделялся какой-нибудь слабенький голосок, но сейчас же увлекал за собой остальные, и все снова сливались. И все звучали, как одна трогательно–беспомощная, однако не грустная песня… Что-то подобное донеслось тогда до Тебя из бездны небытной.
91. Так полюбил меня, еще небытного, Бог, что — кажется мне — веки веков звал и ждал Он меня и все, тоскуя, слушал, не донесется ли из бездны мой голос. Веки веков каждый день творил Он меня, а я все не хотел жить. Слепит Он меня из глины, вдунет в меня дыхание жизни, а оно сейчас же и выйдет назад через одно из отверстий созданного Им тела. И снова принимается Он за бесплодный Свой труд. Но победило наконец Божье терпенье: оказалось, что Бог — Любовь, — немножечко захотел я быть. Обрадовался Бог; забыл о своих неудачах: ликуя и благоухая, сотворил меня.
92. Но так захотел я быть, как быть невозможно. Хотел я чуточку быть, т. е. хотел отрезать себе ничтожный кусочек Бога, а всего Бога не хотел. Иначе: — я сразу и хотел, и не хотел Бога. Ни за что бы не поверил, что мыслима такая нелепость, возможна такая невозможность, если бы и сейчас ее не было. Ведь уже люблю моего Бога, а не могу все же сказать, что очень люблю; Боюсь умереть: жаль всего себя Ему отдать, хотя и знаю, что нет у меня ничего только моего. И все-таки сотворил меня Бог.
93. Как полюбил меня Бог, как полюбил! Невозможное сделал для меня: нелепое мое хотение превратил в бытие. — Он сотворил меня именно таким, каким я хотел быть. Он дал мне ровно столько бытия, сколько я просил: не меньше и не больше. Позволил мне отрезать от Него маленький кусочек, хотя Он и неделим. Он всемогущ и любит меня: хочет всего Себя мне отдать и мог бы это сделать. Но дать мне больше, чем я. хочу, — все равно что сотворить меня против моей воли. Бог же полюбил во мне не автомата, а свободного сына.
94. Да что говорю: «сотворил»! — Бог все еще творит меня и все не может сотворить таким, каким хочет, ибо я все еще сразу и хочу, и не хочу. Все, что во мне, весь «я»: все — Божье и приходит от Бога, как сам Бог. Но во всем я отбираю себе самую малую часть. И это не новое какое-то творение, а то же самое творение. Ибо я — тот же самый во всем моем времени, а для Бога все сразу. Не отступает от меня творческая Божья Любовь; да я-то к ней не приближаюсь. И молча предлагает мне Бог всего Себя, я же отделяю себе кусочек, а от полноты Божьей отворачиваюсь: не требуется. И стоит Он с протянутыми в разъятье тягостном руками, израненный, отверженный мною, оплеванный.
95. Немного понять это можете лишь Вы, чуткая моя читательница. И только Вам расскажу, как обидел я Элените. — Сидели мы на балконе. Виднелись верхушки делеких дерев за рекою. Хотелось мне поцеловать (в первый раз) Элените. Но боялся я и колебался, вспоминал: «твоей святыни не нарушит поэта чистая рука» 25. Чтобы отвлечься, говорю: «Посмотрите, как прекрасны на фоне лазурного неба зеленые березки». А Элените: «Что тут разговаривать! Целовать надо!» Так и сказала: «целовать». Не любила среднего залога: «целоваться»… Удивительная девушка была Элените, властно–нетерпеливая, валькирия! Победила в себе обиду, горькую и справедливую обиду на меня. Но не победила своей любви и — сломила слабую мою волю… А Бог вот ничего такого не сказал и не говорит, ибо дорога Ему моя свобода и больно Ему видеть меня рабом.
96. Горит и сияет на небе полдневное солнце. Озарена земля; но не приять ей всего сияния солнца: обессиленными возвращает она ему его лучи, а сама темнеет и стынет. — Пылает яростное солнце, разят его огненные лучи. И кажется, будто светлое, все животворящее солнце все и умерщвляет, Аполлон Губитель, Небесный Дракон.
97. Безмерна Божья Ярость. «Страшно впасть в руки Бога живого». Невозможно видеть Его и не умереть. В «облаке густом» только еще близится Бог, а уже — «громы и молнии… и трубный глас весьма сильный». Дымится Синай, и восходит от него дым, как дым из печи; и вся гора сильно колеблется. «Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти».
98. «Узришь лишь задняя Моя, а лицо Мое не будет зримо». — Гнев, ярость лишь «задняя Божья», призрак, предносящийся несовершенному естеству. Бог не разрушает созидаемого Им мира и, проходя, покрывает рукою Своею — Моисея. Это мир не выносит видения Божьей Полноты и разрушается при одном приближении Божества. Бог же никого не умерщвляет, Бог живых, а не мертвых, ибо Он — Любовь.
99. Божественная Любовь Бог. Он — вечное рождение Сына в лоне Отчем, т. е. вечное умирание и смерть Его ради Отца, но и вечное Его Духом Святым воскресение. Бог — вечная жизнь чрез вечную саможертвенную Смерть, — единство и покой бесконечного Своего движения.
100. Но Бог — Любовь большая, чем Божественная. Ради того, чего не было и нет, ради мира, ради меня, да — и ради меня, жертвенно умирает и умер Бог. Что перед этим Самозакланием Божества вопли и стоны мира, адские муки, беснование стихий?
101. Невыносима тяжесть земных, безвозвратных утрат… Ты устала, ты ждешь покоя, надеешься хоть перед смертью один раз полною грудью вздохнуть. — Не жди, не надейся. Все будем в аду, все в аду. И земная твоя мука — лишь предчувствие адской вечной. А весь ад — только маленькая огненная капля из великой чаши Божьих страданий.
102. Малую частицу Божьей Любви принял в себя мир. А уже обезумел от муки и страха. Уже считает, что большего страданья и быть не может, хотя его и боится. А разные лжепророки уверяют несчастных людей, что Бог справедливо карает их за грехи. Не хватает человеческих грехов для вечного огня: выдумывают новые, обвиняют потерявших от ужаса голову в грехах их отцов. Хульными устами клевещут на Божью Любовь, и глупостью подменяют Божью Мудрость. — «Потерпите, пострадайте немного на земле, а главное — под нашим руководством себя немного помучайте. Тогда не будет вам никакого ада. Пользуйтесь временем: время — деньги вечности. Разумеется, на земле плоховато. Зато будете без всяких забот вечно жить в селениях райских. Будете до потери сознания созерцать неизменного Бога и время от времени с наслаждением поглядывать вниз, где корчатся в адском огне ваши мучители и вообще все преуспевшие на земле. Подумайте, как неизреченно блаженство Божье! — Сидит Бог на радуге в натопленном солнечными лучами раю, дремлет и смотрит, как возникают, клубятся и рушатся воображаемые Им миры. Вокруг Него вместо птичек летают и весело насвистывают безногие рафаэлевские херувимчики, а поодаль — человекообразные ангелы не женятся и не посягают, но под неумолчное пение Осанны танцуют «Тщетную предосторожность» и ничем-то Себя Бог не утомляет, и ничего-то особенного не делает».
103. Нет! Это нам самим хочется ленивого и сонного покоя, и выдумываем мы себе ленивого Бога. Тяжел Крест Божий. Не по плечу он миру. Не поднять нам его… Не Бог, а мир ничего не делает. Не Бог полусонно мечтает, а мир. В мире, а не в Боге нет любви, жертвенной — какая еще есть другая? И медленно в мире тянется время, день за днем, год за годом, века за веками.
104. О, если бы мир, если бы я захотел наконец жить полнотою Божественной Жизни! Если бы я, если бы мир захотел Божественно умереть! Не тянулось бы лениво время. Неслось бы оно со стремительною быстротою, как дивные Божьи светила, по бесконечному кругу: смыкало бы начало свое со своим концом. Ничего бы не повторялось, но все бы и двигалось, и стояло; различенное было бы сразу. Погибало бы жертвенно все и воскресало, т. е. вечно бы жило блаженною жизнью чрез смерть. А великою силою Жертвы все было бы всем. Всему миру, малюсенькой букашке — с безмерною мукой, но и радуясь безмерно — отдавал бы я всего себя; блаженно бы умирал за всех: и за паука, и за гада, и за черную муху. А они бы все — и ленивый змей, и хлопотливая букашка — все спешили меня воскресить своей жертвенной смертью и воскрешали. Но я бы заранее о том не знал или — как бы не знал: жертвенна ли смерть, если наверно знаешь, что воскреснешь? А как бы радостно встречались мы на нашей, все той же земле! Смеялись бы и плакали от радости: так, что не успевали бы поплакать от горя.. Всех бы, всех я любил. Никто бы мне не был противен. Ведь противное — то же, что и мучительное. А страшна ли мне самая сильная мука, раз я тебя люблю? Смеялся бы я от удивления, что вот: любит меня забавная козявка, на самом же деле не козявка любит, а Бог, и только представился Бог козявкой. И сам бы я — страшно подумать! — был Богом. Как бы удивлялся я! как бы за это любил Бога!
105. Но не захотел, не захочу я всего этого! Не хочет всего этого мир! Тяжела ноша Божья… не по плечу… не поднять…
106. Звал Бог небытный мир из небытной бездны, являя ей, слепой, сиянье свое. И не явственно, но прозрел что то мир. Как в облаке густом увидел он сияние Божье. И такое это было сиянье, такая это было Элените, что устремился к Божьему сиянию мир. Но взглянул еще раз — увидел сияющий Крест и весь от ужаса содрогнулся. Столько было в этой пылающей Любви невыразимой Муки. Хотел мир объять эту страждущую Любовь и — не хотел. И устремился к ней и отпрянул: немного лишь сдвинулся с места… Невыносимая тоска мира о том, что боится, не хочет он приять Бога, сгущалась в черные тучи, остывала и твердела в черную землю. Но верилось, что захочешь и — станет сил объять Божью Любовь: загорались бесчисленные звезды, рассеивалась в них мечта о Божественном Солнце. И больно было, что мало желанья; плакал мир: падал из черных туч светлый дождь, и выбивали из земли чистые реки, сливались в отражавшее звезды великое море. Горько смеялся мир над своим бессилием и страхом: как черные вороны, метались и кружились бедные бесы. Безвольно мечтал мир, что будет наконец с Богом: далёко–далёко в прозрачных небесах, еще дальше: там, где уже нет небес, призрачным светом мерцало бесплотное ангельское царство.
Распятый
107. Не сомневайтесь, светловолосая читательница, не качайте с недоверием головой. Вам кажется странным «жить, чтоб мыслить и страдать»31. Я постарше и хорошо знаю, что и для Вас нет наслажденья без муки. Не стану Вас смущать преждевременным описанием внутренних противоречий брачной жизни. Но ведь мечтаете же Вы иногда о такой любви, что «всё» ради нее вынесете и «сгорит» в ней Ваша жизнь. Попытайтесь выкинуть из грез Ваших «невыносимые» (разумеется — и «красивые») страданья. Сами увидите, какою пресною покажется Вам мечта о любви: просто недостойною Вас покажется. Не стыдитесь этой романтики. Она свойственна и Элените, у которой, по ее собственным словам, «все вполне сознательно». Даже мы, мужчины, не мечтаем о любви без страдания. Недаром в древности, когда хоть в земной любви люди кое-что еще смыслили, Амура изображали со стрелою, а то и с когтями грифона на ногах, а Пеннорожденную считали жестокой богинею.
108. Можно ли вообще наслаждаться, если не страдаешь? — Как следует наслаждаться можно только самим страданьем. Возьмите для примера маркиза де Сада. Он, говорят, наслаждался тем, что мучал других. Но ведь, мучая другого, знал же он, что тот страдает? — Не только знал, а и очень даже чувствовал, т. е. сострадал. Соcтрадая же другому, человек, как это из самого слова видно, страдает его страданьем, хотя, правда, и в малой степени. Таким образом, маркиз наслаждался тем, что сам себя мучал. И оказывается он двойником писателя Захер Мазоха, который в свою очередь наслаждался тем, что его по собственной его настоятельной просьбе мучали женщины. Так даже случай с унтер–офицерской вдовой представляется вполне возможным и совсем несмешным, хотя, как правило, со–страдание создает страдание, а не наоборот. Мир существует страдая только потому, что Христос ему со–страдает.
109. Всякое страдание связано с разъятием или распадом. Оно немного уже и смерть. Совершенно напрасно люди воображают, что они хотят только жить, а умирать вовсе не хотят. Столь велико недомыслие, что не так давно попытались даже Христбво учение исказить, утверждая, будто смысл его в том, чтобы уничтожить смерть 32. Было бы вполне правильно, если бы при этом говорили о победе над смертью же, т. е. о победе Божественной или полной смерти над неполною. Ибо лишь таким путем и достижима проповеданная Христом Жизнь через Смерть или Богобытие. А то думают спастись от всякой смерти, да еще с помощью разных хитроумных приемов. Но и помимо всего этого большинство только из рабьего страха не обвиняет Господа Бога за то, что не дал Он нам какой-то иной жизни: без смерти и страданий. Богу не к чему даже указывать на невозможность подобной нелепости, т. е. все того же противоестественного сочетания «хочу» с «не хочу». — «Чего же, — может Он сказать, — вы еще хотите? Я дал вам именно то, чего вы просили. Хотите жить и наслаждаться еще больше? — Больше страдайте и умирайте. Примите Меня всего».
110. Вне всякого сомнения, хотят люди жизни чрез смерть, наслажденья страданьем или блаженства, но только сами не знают, чего хотят. Разделилися они с Богом, разделили Его и потому всё уже разделяют. Одного и того же — Божьей Жизни чрез Смерть — сразу и хотят они, и не хотят, внутренно разделяясь. А воображают, двуглазые, будто хотят одного: жизни и наслаждений, не хотят же другого: смерти и страданий. Думают они, будто сами, по доброй воле живут и наслаждаются, а смерть и страдание — лишь роковые следствия, уповательно устранимые. И вместо того, чтобы подойти к Богобытию с другого конца: со стороны страданий и смерти, — измышляют они, будто не по доброй воле страдают и умирают, а кто-то их мучает и умерщвляет, Бог или дьявол. Конечно, дьявол, т. е. лукавый змий, — «человеко–убийца искони» зз. Но он убивает в нас настоящего человека, причисляя его к сонму бесплотных ангелов: убивает тем, что лжет нам, выдавая за истинную жизнь вечно живущую смерть. Верно он сказал: «не умрете», — но лукаво умолчал: «и жить не будете»; правильную же мысль: «будете Богом» — извратил, употребив множественное число и не к месту прибавив «как бы» 34, хотя Бог восхотел, чтобы мы были не «как бы Им», а — Им и вместо Него. Солгал змий, а мы-то, дорогая читательница, так ему и поверили на слово… Конечно, поверили или (что — то же самое) сами себя обманули: вместо всего Богобытия взяли лишь малую часть, да и ту надвое делим. И не понимаем, что, приняв часть Божьей Любви, жертвуем уже собою (хотя и мало), т. е. страдаем и умираем. Без понимания же этого нет, строго говоря, и жертвы: есть только жгучая бессмысленная мука. Бедные мы, глупые мы люди!
111. Впрочем, как же человеку и понять нелепость своего существования? — Подслеповатый разум его жалко пресмыкается, а на небо даже не смотрит. В разуме своем человек истинный дьявол, сам себя обманывает и себе самому лжет. Разобью ли мой разум, зеркало мое, о камень?
112. В Себе самом жертвенно умирает Бог ради другого Себя, умирает до конца: так, что и воскресает. Потому вечно живет Бог Своею Жизнью чрез Смерть. Жертвенно умирающий Бог и есть Божественный Разум. Себя, и только Себя, но ради другого Себя приносит в жертву Божественный Разум, разъединяет, разлагает, распыляет до небытия. Не ленив Он, не медлителен. Не питается прахом, ибо другого жизнью Своею питает, подобный пеликану пустынному. Не пресмыкается по земле, но все объемлет: «Ив небе Он, и в бездне Он». И в движении вечном Его, в умирании Его вечном сияет великая Правда Божественной Жертвы.
113. Но, увлеченный бесконечною жалостью к ничтожному миру, ниспал Разум на землю. Обломал и потерял он свои звенящие крылья, угасил пламень свой влажным прахом земли. Змием, истребляющим не себя, но другого себя, стал Разум, холодным, бесстрастным, ленивым, медлительно развивающим кольца вечности в прямую, дурную бесконечность. Если бы мог он безумствовать!
114. Разделяю я смерть и жизнь, страданье и наслажденье, ибо разумничая разделяю себя; разделяю себя, ибо разделяю себя и Бога; разделяю себя и Бога, ибо мало Бога хочу (хочу и не хочу сразу). Если взять настоящее Божье «хочу», каким бы оно должно быть, то — не хочу я Бога. А это маленькое словечко «не» — глубочайшая тайна. В этом маленьком «не» — все мировое зло.
115. Маленькое «не» в моем «не хочу всего Бога» или даже просто в моем «не хочу Бога» (ибо не мое хотение Его разделяет, но сам Он, неделимый, ради меня Себя разделяет), маленькое мое «не» вовсе не обозначает только недостаток моего хотения. Если бы так было, — Бог бы прибавил мне хотения. Он же любит меня и всемогущ. Не значит маленькое «не» и того, что я отвергаю Бога. Как же могу я отвергать Его, если и живу-то лишь тем, что Его хочу? И уже совсем не означает маленькое «не», что вместо Бога я хочу чего-то другого. Ничего, кроме Бога, во всем свете не сыщешь.
116. Вот какое это «не» маленькое! такое маленькое, что кажется: и совсем его нет. Однако чувствую: виноват в том, что пытаюсь уничтожить мое «хочу» этим «не», — и перед самим собой за него отвечаю. А если отвечаю, то должно оно быть. Следовательно, хочу я это маленькое «не» или — как бы хочу. Но все же удивительным образом оно есть. — Пока не сознавал себя за него виноватым, совсем его не было: начал сознавать, и оказывается: не есть, а было оно; сознал, и — его как бы и не было. Непонятным образом живет оно; уж не так ли, как живущая смерть?
117. Бедная моя читательница, боюсь, что помутилась завитая Ваша головка и что ничего–ничего не понимаете Вы в этом маленьком «не», хотя, по моему мнению, нежному женскому сердцу оно ближе, чем мужскому. Умоляю Вас: сделайте все-таки необычное для Вас умственное усилие: подумайте об этом «не». На мужчин я уже не надеюсь. Они признают все законы логики и не любят совпадения противоречий. Вы же как женщина чувствуете тайну нашей сотворенной природы. Вам свойственна «logique du coeur», причиняющая мне столько неприятностей.
118. Какое это хотя и маленькое, а могущественное «не»! — Оно в Вас; а если оно в Вас, то во мне не быть его уже не может. Оно во всякой твари, во всем мирозданьи. И хотя оно «не», а в нем весь мир как бы одно. Иногда, правда, покажется, что стоит лишь как следует захотеть, и сейчас же не будет проклятого «не»: сразу исчезнет оно и в Вас, и везде. И станете Вы Элените, Элените — Евою, а Ева — всем миром. Ведь только «не» всех разъединяет. Но не уничтожишь «не»: сидит оно и в Вас, и я уже не хочу захотеть. И Элените не Ева, а Вы, к огорчению моему, не Элените. Однако совсем без «не» очень уж большое получится смешенье. Верно, надо не уничтожить его, а заменить «настоящим не» или — отыскать в нем это «настоящее не». Настоящее же «не», конечно, не помешает Вам стать Элените, но помешает Элените стать супругой Адама. Но о «настоящем не» пока еще рано говорить, а Вам, простите, не по силам слушать.
119. Маленькое «не» — вольная леность мира. По вольной лени своей мир не возлетел из бездны небытия к Богу, но выполз из нее, как тощий неповоротливый клоп, уселся на покрывший всю бездну мизинец Божьей ноги, сосет Божью кровь и с места не сходит. Оттого в «не» и прячется страх смерти; оттого из «не» и сочится уныние. Но лучше назвать маленькое «не» нашим «общим» или «первородным» грехом.
120. Оно — «первородный» наш грех, ибо не без нашей вины и, стало быть, не без нашего «не» появляемся мы на свет. Только святоши уверяют, будто рождается человек потому, что родители его согрешили. Сами, по доброй воле рождаемся. Но так мы рождаемся, что как бы и раньше нас грех наш. Здесь тоже: сознаем мы, что грех был, но не сознаем, что он есть. Во всяком случае, не потому «не» — первородный грех, что согрешил какой-то индивидуум, наш праотец, а мы за его гортанобесие отвечаем. Существование подобного праотца более чем сомнительно; да и само имя его по–еврейски значит просто «человек», т. е. человечество: все люди вместе и каждый в отдельности. Что же, в самом деле, это за индивидуум, если у него нет родителей? А если — чудо, так уж лучше допустить, что в человечестве нет ни первого индивидуума, ни последнего. Тогда и получится точно соответствующая вечно живущей смерти дурная бесконечность поколений. Иисус же Христос будет и альфою, и омегою. Что же до ответа за чужие грехи перед Богом, так это и совсем неправдоподобно. — Не Бог меня за мой грех осуждает, а я сам: Богочеловек судит. К тому же Бог говорит мне: «не суди», т. е. «не осуждай другого» (себя-то можно). Неужели же Он одною мерою мерит меня, а другою — Себя? выдумывает для меня законы, которых Сам не соблюдает? — Никогда этому не поверю, ибо уже знаю: Бог справедлив. Если же не осуждает Он меня за мои грехи, так станет ли осуждать за чужие? — Конечно, не станет, как и сам я не стану, потому что с меня и собственных моих грехов достаточно.
121. Но в том-то и дело, что чужие грехи для меня не чужие, а мои собственные. Все мы, хотя и каждый по–своему, прибавляем к своему «хочу» одно и то же, незаметное, как тоненькая ниточка, «не». В нем, даже в нем, все мы — один Адам. И если мы как бы и без вины виноваты (ибо лишь «как бы» есть «не»), то все мы друг за друга виноваты. Все грехи — один наш «общий» грех. Во всяком грехе я соучаствую, всяким грешен: во всех и за всех виноват. Яблочко, съеденное Евою, правда, не вполне определенный, но все же и не безобидный плод. До сих пор я его еще жую. Жую вовсе не потому только, что Вы мне его предлагаете и что из чувства куртуазии не могу же я пустить Вас одну блуждать за оградою рая, а и потому, что кажется он мне самым вкусным из земных плодов.
122. Отсюда Вы можете вывести, что, если бы хоть один из нас преодолел маленькое «не», — нигде бы его не осталось, не было бы его даже как бы. Ведь не забудете же Вы, сострадательная читательница, что немного и из-за Вас покинул я рай. Уверен, что когда спасетесь Вы и предстанете пред лицо Божье, то (не в первую и не во вторую очередь, но — все же) поднимете вопрос и о моем спасении. Вы скажете: «На земле остался мой поэт. Он говорил мне много приятного». (О неприятном Вы, став святой, забудете.) «Хочу его видеть здесь». Суровые, убеленные сединами старцы воспротивятся: «Он богохульник и кощун». Попавшие в рай старые девы присовокупят: «Он под предлогом богословия непристойно за Вами волочился» 37. А Вы: «Всем вам несвойственна «logique du coeur». Вернусь на землю, если его не примете». И знаете, вспыльчивая моя читательница: Господь Бог будет на Вашей стороне, старцев припугнет Ваша угроза, со святыми же старицами мы втроем легко справимся.
123. Маленькое, но могущественное «не» и есть зло. Ибо зло или грех не стихийная сила, как умствуют манихеи, а недостаток, вольная немощь. Кажется же зло чем-то потому, что оно недостаток силы или бытия. Смотришь ты на силу, чувствуешь ее недостаток, но не видишь недостатка, которого нет, и путаешь его с самою силою. Потому, пытаясь одолеть зло, ты вместо того, чтобы усилить силу и ею исполниться, бежишь от нее и слабеешь или пытаешься уничтожить силу, которая — добро. Повесил ты злодея, вообразив, что он и есть зло, а зло-то лишь перебралось из него в тебя, и не злодея, но Христа ты повесил. Почему же чувствуем мы недостаток силы, ты и сам далее сообразишь. В Боге же недостатка силы нет: никак не умаляет Он Своего хотения. В Боге либо нет зла, либо оно что-то другое. А в нас во всех зло есть, но — сравнительно.
124. Зло разделяет мир с Богом и разъединяет самый мир. Не совсем разъединен мир. Но единство его во зле особое, не настоящее, а распределительное, и такое малое, что можно его и не заметить. Одна и та же жизнь распылилась во множество как бы и отдельных жизней, как бы и самостоятельных мирков; в каждом же из них она не целостно и даже не в пропорциональном умалении, но словно лишь некоторою своею частью. Всякая тварь живет как бы сама по себе. Связана она со всеми прочими лишь невидимыми ниточками, которые все утоншаются, а не рвутся. Но и не могут они порваться: не может умереть мир. Зло по–особому — распределительно, — разъединяя его, не дает ему умереть. Зло и есть не–хотение умереть. Оно не страдание мира: страдание — причастие мира, хотя и малое, Божьему Состраданию и страдание Бога в мире. Оно и не наслаждение: наслаждается Бог страданьем Своим. Зло — недостаточность страдания и смерти, разъединения, а потому и единства. Ибо мир должен быть не разъединенностью и не единством, но — всеединством в жизни чрез жертвенную смерть.
125. Как бы не хочет распределяющая себя Жизнь жертвенно умирать в несмысленном ягненке и напитать голодного льва, которого давно–давно, а может быть никогда, насытил телом своим мудрый и благочестивый боддисатва. Но эта же жизнь хочет наслаждаться и жить, как бы забыв о муках и смерти, в голодном льве, у которого и на хвосте вырос коготь. Нет мудрого боддисатвы, и лев принужден питаться ягненком. Но такою же нежеланною жалкою смертью погибнет и лев. Может быть, его, уже слепого и старого, подстрелит какой-нибудь Тартарен из Тараскона… Не понять глупому ягненку, что смерть его — жертва, созидающая и его жизнь, которая наслаждается во льве, хвостом заметающем свои следы. Ценою страданий и смерти покупает себе мир жизнь, но не стоит эта жизнь и тридцати Серебреников. Ибо лишь в ничтожной мере мир причастен Божественной Жизни, в коей все становится всем. Но, подобный скрывающему свои следы льву, Христос — мудрый агнец.
126. Не сознает мир своего зла ни в бесчувственном камне, ни в рабствующем тлению звере и как бы безвинен. И боль-то позвоночное ощущает для того, чтобы как-нибудь собой не пожертвовать. Но я, человек, осмысляю в себе страдание мира; и весь мир сознает во мне свое «не», свой грех, свое зло. Правда, и я — зверь, и звериные мои страсти сильнее меня. Но уже сознаю их малость, уже хотел бы отнять у них маленькое «не». Не их хочу уничтожить, но — только их малость. Не ослабить их должен, но — беспредельно усилить. Так отнял ап. Павел у своей ненависти ко Христу ее маленькое «не», и стала она великою ревностью о Христе, Божьей Любовью.
127. Один испанский инквизитор хотел примерно наказать злую еретичку, которая жила в блуде и еще дерзала утверждать, что Бог простил Иуду. А была она крещеной еврейкой. Долго думал инквизитор, как лучше отомстить ей за многообразное оскорбление Бога. Всякая казнь казалось ему слишком легкой и краткой; и немного опасался он, что Бог все-таки спасет ее душу, ибо с милосердием Божьим ничего почти нельзя предвидеть. Ревность же о Боге и ненависть к еретичке все больше разгорались в сердце инквизитора. Наконец решил он погубить не только тело ее, которое представлялось ему хотя и красивым, но тленным, а и бессмертную душу. И замыслил он сделать ее грех никак не извинимым посредством блудного осквернения архиерейского сана. Приобщившись, призвал он ее к себе и, рискуя собственною душою (ибо мог он, как и случилось, умереть внезапно), предался ее соблазнам: только бы умертвить ее душу. Но, когда еретичка в плотском грехе уже почти умертвила ее, воскликнул инквизитор: «О!., милая!..» — и тут же испустил дух и окоченел. Хотя умер он без покаяния, вознесен он был в рай, а там через три дня увидел, что она, которую через ненависть огненно и до жертвы возлюбил он, тоже в раю, ибо несправедливо сожгли ее как ведьму, обольстившую и погубившую испанского инквизитора.
128. Люблю тебя и хочу всего себя тебе отдать, умереть за тебя. А ты вот так же любишь меня и того же хочешь. И говоришь: «целовать надо!» Нельзя не принять твоей жертвы, ибо — хочешь ты ее. Но я не твоей жертвы хочу: хочу собой пожертвовать за тебя. Что же тебе мне отдать, когда в твоей жертве тебя как бы и нет? — Хорошо, отдам тебе самое дорогое мое — любовь мою к тебе: не жертвой твоей, палачом твоим буду… Нет, огненный круг охватил нас. Уже не понять: кто палач, кто жертва. Соединяет нас на миг любовь. Не жертвенная ли любовь к тому, кого еще нет?
129. Но лишь на вершинах любви просветляется темная страсть и мерцает Божественный свет… Не виноват я, что — зверь; виноват, что не очеловечил своего зверства, а купил презерватив. Сознаю свой грех, ибо немного хочу быть человеком; грешен — потому, что немного хочу. Многое могу и с малым хотеньем моим. Волка превратил я в доброго верного пса, приручил дикого быка, обуздал коня и даже из тигра сделал безобидного кота–атеиста. Знаю: еще больше могу, и не вижу границ моей мощи. Могу я только любить, только страдать, ни за что умереть. Могу, могу, конечно, могу, да вот… не хочу, и с этим «не» ничего не поделаешь.
130. Ну, хорошо: я не хочу. Но ведь Бог-то, что во мне, хочет без всякого «не». Как же может весь Бог не всецело хотеть?
131. Хочет Бог вполне умереть: жертвенною Своею Любовью всецело обожить мир. Но ради свободы мира не позволяет Он воле Своей всецело проявиться, стать делом. Хочет Он без всякого «не», а принуждает Себя, как раба, делать лишь то, что хочет мир. Не дает Он Себе излить в мир больше любви, чем мир просит. Страдает Он малостью мировой муки: полуживет без надежды на Смерть, вечно умирает в аду. Невыносимым огнем горит Божье Сердце. Всякая радость мира Богу уже не в радость. А мир этого и не замечает. Так сделался Бог человеком и так тайно пребывает в мире, что не знаешь, есть Бог или нет Его. Хочет в тебе Он и говорит, а ты и не знаешь: Бог ли это или ты сам все выдумываешь.
132. Пред самим собой виноват я. Но сознал я свою вину, сознал в ней, как в малости моей жизни, справедливую кару: приятием кары отвергаю вину. И вот уже нет моей вины: я, искусный арифметик, ее аннулировал. Недостаточно хочу умереть — недостаточно живу; мало страдаю — мало и наслаждаюсь. Кажется, все в порядке и вполне справедливо… А вот и не все в порядке!
133. Трижды отрекся св. Петр. Простил его Христос и необыкновенные сказал ему слова. Но во всю свою жизнь не забыл апостол о своем отреченье. Всегда красны были его глаза от горьких слез. Пострадал он на кресте, умер и вознесен на небо. Но и там он ничего не забыл. Все красны его глаза. Чем лучше ему, тем горше память о былом. Да и было ли оно? — Св. Петр живет в Боге; для Бога же все, становясь прошлым, остается и настоящим… Всякое слово Божие, всякий взгляд Божий источают в душу св. апостола неизреченную любовь. От сладостной этой Любви не знает даже он, на небе ли он или уже на земле, и плачет, безутешно и радостно плачет навзрыд. Видит: Бог его давно простил, да никогда и не сердился. Видит: смотрит на него Бог с улыбкой, как на провинившегося ребенка. И хочется св. Петру повторить свои же слова: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный!». Но не может он их повторить. А Бог не мешает ему плакать, не отнимает у старика памяти, хотя как всемогущий и мог бы это сделать. Бог знает, что так св. Петру лучше. Не сам ли Господь говорил: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся»?
134. Не святой я Петр, да и вообще не святой. А как вспомню о Божьей Любви ко мне… — Ведь Сына за меня отдал; не бесстрастно, не равнодушно отдал, конечно; — это Любовь, а не механика и не комедия, хотя бы и Божественная. Ведь Сын, сам Бог, подъят из-за меня на Крест и, оставленный всеми, Отцу вопиет: «Боже мой, Боже мой, зачем Ты Меня оставил?» Или ты думаешь, что Христос позабыл о земной Своей жизни, о твоих плевках, о Голгофе? Или вспоминаемое Им такал же полумертвая мысль, как твое воспоминание, а не сама Его жизнь? Не воображаешь ли, что Тело Его — призрак? А ведь хлеб, который ты ешь, и вино, которое пьешь, да и сам ты: все — Его Тело. Или ты тоже призрак?
135. Да, как только вспомню все это, так сейчас же почувствую себя виноватым перед Богом. Нет, Он меня не осуждает и не карает. Он все мне простил, да и не прощал даже, ибо никогда не обвинял. Но: «Знаешь ты, — говорила мне Элените, — что прощен, хотя и нельзя тебе простить, а все-таки — кайся». — Хочу снова пережить мою жизнь: не для того, чтобы пережить, а — чтобы выстрадать все ее ничтожество. Это же Бог во мне страдает, Бога я истязаю… Издеваюсь над собой и вдруг — слышу собственный свой голос в толпе на Голгофе: «Других спасал, а Себя не может спасти…»«Пью холодное золотистое вино. Но вино уже не вино, а уксус, и я подымаю на трости намоченную в нем губку и даю Ему пить…
136. Но все прошло: ничего не вернешь. Сделанного не поправишь. Бог оправдывает мир: потому лишь есть кара, что Бог воплотился. Но как же оправдает себя мир пред безвинно страдающим Богом? Смертью ли? Но умру ли Божьею Смертью, если даже Богу запрещаю ею умереть, и Бог меня слушается? Низверг я Христа моего в последнюю, ледяную глубину ада, где слезы, не успевая выступить из глаз, застывают…
137. Ну, что же, Бог мой, Христос мой? — Несчастны мы оба. Не помогли Тебе Твоя мудрость, Твое всемогущество: победила их Твоя любовь ко мне. Сделался Ты моим безответным рабом… Сказал бы я Тебе: «Зачем, зачем полюбил Ты меня?! Уйди от меня: я человек грешный». Но силы не хватит сказать: да и знаю: все равно не уйдешь, не разлюбишь… Любовь Твоя обманула Твою мудрость, и даром пропала Твоя великая жертва. Действительно, неизвестно, зачем Тебя оставил Отец. — Мира, меня Ты не спасешь, не сделаешь Богом… А я — я вижу Твою любовь и плачу над Твоею кротостью; но — мало люблю Тебя и, право, не могу захотеть так же, как Ты хочешь.
138. Что же? — Будем вместе жить этою несовершенною жизнью, вечно томиться в аду, я — за грехи, Ты — только из любви ко мне и безвинно… Ты не оставишь меня. — Всегда смогу услышать Твой ровный и тихий голос, если и не увидеть, то почувствовать кроткий и скорбный Твой взор. Всегда смогу узнать, как бы Ты поступил на моем месте: не надо ни Закона, ни пророков. Конечно, я-то буду от Тебя уходить: снова и снова буду грешить. Но ведь Ты уже все мне простил (хотя это слово и не точно). Ты за все мои грехи пострадал. Не разгневаешься Ты, когда я от Тебя отойду: будешь молча ждать, пока не вернусь к Тебе с опустошенной душою и, рыдая, не припаду к Твоим прободенным ногам.
139. Ты научишь, Ты учишь уже. меня жалеть и любить наш скудный мир. Впрочем, знаю ли я другой? Ты показываешь, как и в нем светится нетленная Твоя красота. И начинаю я любить сами недостатки его, благословлять страдание. Придет смерть — повторю слова Твоего святого: «Добро пожаловать, сестра моя!» «Благословляю и вечную адскую муку. Силою Твоею вынесу и ее. Ты ведь простишь мне, если иногда стану в позу древнеримского героя. — Не такал уж беда немного покрасоваться перед людьми своею мукою, особенно — адскою. Но Ты не осудишь меня, как другие, когда буду кричать и плакать, точно малое дитя. — Сам Ты возопил на Кресте и знаешь: крики и плач не мешают бесконечно страдать и терпеть без конца. И только еле заметно, но светло улыбнешься Ты, увидев, что приятны мне рыданья, судорогою сжимающие горло, а иногда — и немного нарочны.
140. Ты благословляешь и расслабленно–умиленное терпенье, зная, что приходит оно от долгой муки и нелепых метаний. Знаешь, что оно — усталость бессильной жизни. Но зовешь Ты к безмерному усилию — так, как один Ты умеешь звать: не принуждая. И вот, буду я с Тобою не только терпеть, а и жить, — жить всею жизнью, на какую только способен немощный наш мир. Не раз усумнюсь в силе жертвы: недостанет любви, испугаюсь страданья. Но Ты дашь мне силы сделать все, что только захочу. И будет мне иногда казаться — наверно, и в аду есть свои сны, — что во мне пробуждается мир и сотрясаются его ветхие устои. Будет мне сниться, что подымается великая буря… О, я знаю, в Тебе она есть. Ты царь. Только царь может так страдать. Но Ты ее не подымешь, ибо — я ниспаду в расслабленно–умиленное терпенье.
Начало
141. «Послушай, сочинитель. В тщании своем признать зло и диавола не сущими домудровал ты до того, что силу греха считаешь уже и вовсе неодолимою. В поучение тебе сообщу не сказку, а быль. — Однажды привели в обитель одержимого. А надо сказать, что пребывающий в одержимом бес знает грехи других людей и на близком расстоянии может читать в их душе, как в раскрытой напечатанной крупными буквами книге. Как часто случается, собралась вокруг одержимого братия и стала вопрошать беса, ибо по человечеству хотя и страшно это, а весьма занимательно. Сверх того надлежит отметить, что прежде, нежели изгонять беса святою заклинательною молитвою, всегда предпочтительнее дознаться, какого он ангельского чина и, частнее, многое ли ему ведомо, ибо и бесы, подобно людям, различествуют по знаниям. Сим путем удается иногда уличить беса в какой-либо ошибке, а тогда он от великого своего смущения внезапно слабеет и не в силе уже противустать заклинательной молитве св. Василия Великого. Итак, говорю я, в то время когда иноки испытывали беса и дивились обширным его сведениям, нечистый, падкий на людскую хвалу, возьми и возгласи: «А я знаю, — говорит, — какой тяжкий, смертный грех соделал тот чернец, что проходит по двору. Призовите его». И рукою одержимого указал бес на проходившего в некоем отдалении юного чернеца. Однако же последний не утратил присутствия духа и не приблизился, хотя, слыша прореченное о нем, и убоялся стыда ради человеческого. Напротив того, немедленно, со всех, можно сказать, ног бросился он к духовному своему отцу, который не вышел на двор, но продолжал в келий своей окормлять живот свой чтением Священного Писания. Исповедовал ему чернец грех свой и получил отпущение. Засим возвращается, небоязненно подходит к бесу и мужественно ему говорит: «Скажи же теперь, проклятый, какой ты мой грех знаешь!» — «Хоть на небо меня пошли, — ответствует бес, — а не могу возвестить. Сию минуту как бы и знал; теперь же, Бог дай (так богохульствуя часто говорят бесы вместо общечеловеческого «черт возьми»), ровно ничего не вспоминаю. Точно и не было на душе твоей никакого греха». После этого происшествия иноки купными усилиями, но уже без чрезмерного труда изгнали беса за лжесвидетельство. Отсюда хотя и приточным образом, но легко усматривается, какое нестойкое бытие грех, к чему отъинуды и сам ты умозаключаешь. Также от священников многократно я слышал, что, встречаясь с духовным своим сыном, вовсе не помнят они о тех его грехах, в коих он им на духу каялся, и беседуют с ним как ни в чем не бывало».
— Ну, этому-то я не верю. Тогда бы не предписывал им в свое время Святейший Синод доносить по начальству о злых умыслах на царя. Да и вся быль твоя — поповская выдумка. Непонятно, к чему ты ее рассказал. —
142. «А к тому, что грех очень непрочное бытие и что сокрушенное сознание греха в таинстве исповеди с корнем оный уничтожает. Если ты основательно утверждаешь, что грех не может быть вечным бытием, поелику существует он «как бы», вечное же, истинное и Божественное бытие не «как бы» существует, то должен ты и правильно умозаключать. Не следует ли, говорю я, что сам ты сотворяешь свой грех? И Господь, без всякого сомнения, столь же легко может уничтожить твое, сколь и тебя самого, сотворенного Им из небытия. Поэтому после раскаяния предстаешь ты пред Богом омытым, чистым, невинным, подобным только что приявшему св. крещение младенцу. И уже не видится никаких препятствий тому, чтобы усовершил тебя Господь, если только ты опять не нагрешишь, что возможно. Таким образом, миросозерцание твое мрачно и безблагодатно. И слишком много в нем еллинского блудословия. Похабно, но невразумительно».
— Не станет благодать делать меня рабом или вещью. Разве Церковь банкирская контора, а поп — бухгалтер? Как это нет препятствий к тому, чтобы сделал меня бог совершенным, раз я совершенства не хочу, не хочу весь я, глубочайшим и всевременным хотением моим, во веки веков и на веки веков не хочу? Никакая исповедь не может увеличить мое хотение ни на земле, ни за гробом. Только сам я могу вполне захотеть. —
143. «Горделивый помысел, к тому же сопряженный с охулением иерейского сана. Потребна ли тогда тебе, впадающему в лютеранизм, Святая Церковь, которую уже сопоставил ты с полезным, но мирским учреждением?»
— Бог и Церковь могут захотеть для меня и за меня только в моем свободном хотении, только — как я сам. Не в уничтожении грехов дело: они сами собой уничтожаются, как дым от лица огня. При чем тут лютеранство? — В Евангелии говорится не о покаянии, не об исповеди (да и что еще значит «исповедь», «исповедайтеся Господу»?), а о «метании», т. е. «умопремене». И в каком еще контексте говорится! — «Премените ум, ибо приблизилось Царство Божие». В воде крещения человек не омывается, но умирает, чтобы восстать к новой жизни. Так и в таинстве исповеди он весь внутренне перерождается, преобразуется. И только такое свободное самопреобразование превращает «не хочу» в «хочу» и тем обличает небытность «не», греха или зла. Разумеется, грех не Божье бытие: ты прав. Но может ли грех быть и не моим созданием? Могу ли я что-либо сотворить? Как небытная тварь может не то чтобы сотворить, но хоть выдумать что-либо, чего бы уже не было в Боге? Один лишь Бог творит из ничего, да и то — Он творит свободное, т. е. самовозникающее, существо, каким должен быть весь Его мир. И потому не станет Он уничтожать это существо: тебя ли, меня ли или мир. Тварь же из себя или из ничего не может ничего сотворить. Нет, и не мое бытие «не»! —
144. Возникает таинственное «не» в сознании его мною, как бледный призрак того, чего не было, и в этом же сознании исчезает. Не знаешь, есть ли оно или нет или ты сам все выдумываешь. А может быть, оно — что-то совсем другое и все же как-то Божье?.. Странное «не»! Точь–в–точь, как Вы, моя читательница. — Появились Вы просто в качестве литературного приема. Тем не менее сразу же что-то шелохнулось в моем сердце; а очень скоро и совсем ясно стало, что Вы нечто большее, чем прием и моя выдумка. Право, точно не я выдумывал Вас, а либо кто-то другой Вас творил, либо Вы уже были. Не мог даже я удержаться от легкого флирта с Вами и прямо ощущал, как Вы сердитесь, хотя и улыбаясь, на мою слишком уж поэтическую бесцеремонность. Все с большею ясностью представлял я себе Вашу наружность и, как могли Вы заметить, душевные Ваши качества. В конце концов мне становится немного жутко. А вдруг я совсем Вас признаю? Ведь начали Вы уже странным образом сливаться с Элените, которая несомненно была, но в свою очередь как-то «универсализировалась»… Ах, как я наказан! — По замыслу моему, должны Вы были мне помочь; вместо же этого, чем дальше, тем больше мешали. Как маленькое мое «не», Вы неумолимо ограничивали меня, обрывая порывы моего метафизического вдохновения. И теперь как будто выходит, что уже не я командую, а Вы командуете. Я и рад бы в рай, да Вы вопреки светлым моим надеждам меня не пускаете: и подумать-то как следует о рае не даете. Вьетесь вокруг, как — извините за выражение — злоумышленная муха.
Я, отрок, зажигаю свечи,
Огонь священный берегу,
Она, без мысли и без речи,
На том смеется берегу
145. Впрочем, может быть, Вы и в самом деле уже «на том берегу», а я, по обыкновению своему путая прошлое с настоящим, преувеличиваю опасность. Есть признаки, что Ваше загадочное существование приходит к концу; и Ваше место угрожает занять какое-то духовное лицо. Так всегда бывает: грешная природа не терпит пустоты и неудержимо двоится, а слишком быстрый расцвет влечет за собою и быструю гибель. Как бы то ни было, за последнее время я все чаще о Вас и даже (простите это невольно вырвавшееся «даже») об Элените забываю. Думаю как бы и о Вас, а оказывается: совсем о другом. Просто до неприличия не о Вас думаю: до того, что чуть–чуть не заговорил с Вами о «настоящем не».
146. Но как все же удивительно устроено человеческое сердце! — Сейчас только казалось мне желательною разлука с Вами. Но начали Вы уподобляться маленькому «не» и рассеиваться, и мне уже грустно расставаться. Может быть, и этот разговор с Вами затеял я главным образом потому, что боюсь Вашего исчезновения. Мне страшно, что без Вас не смогу окончить поэмы.
147. В самом деле, в начале поэмы только Ваше присутствие позволило мне свободно шутить, и даже (так как сперва считал я Вас лишь плодом своего воображения) шутить вполне свободно. Вы придали значимость и выразительность банальным словам и вознесли мое изложение на высокую ступень объективности и серьезности. Смог ли бы я один устранить все авторское там, где необходимо, поднявшись над собою, переводить возвышенные идеи на язык образов и чувств? Однако дело тут не только в поэтике. — И бесам понятно, что поэтический прием в данном случае не более, чем оболочка факта, который сам по себе обладает величайшим оптическим значением. Шутовство — необходимое свойство «смешливого» ада. Оно облегчает невыносимую муку и утверждает человеческую свободу.
148. Вносят бесы свою вдовью лепту на покупку колоколов. Весь ад принимает живейшее участие в строительстве Царства Божьего. Кроме адского огня, нет силы, которая могла бы уничтожить нечестие и ложь, скрывающиеся под маскою богословского благополучил и религиозной слюнявости. Одна лишь Истина не боится адского глума. И чем же иным мы, адские жители, испытаем Истину? Да и найдутся ли у нас подходящие слова, чтобы говорить о Ней, о Боге? — Одни — слишком тяжеловесны или бледны: такие, что за ними и не увидишь Бога. (Похож ли Он на профессора философии?) Другие — столь возвышенны и непонятны, что, чего доброго, примешь их за самого Бога. Лишь применяя слова совсем непристойные, уже никак их и себя с Богом не спутаешь, других от этого убережешь и все-таки на Него хоть укажешь. Это, дорогая читательница, и называется отрицательным богословием, по–гречески же — апофатическою теологией.
149. Но кто же, кроме шута, способен употреблять такие слова? — Шуту все дозволено. Когда он плачет, ему не верят; и даже кровь его считают клюквенным соком. Когда он говорит серьезно, думают, что он паясничает; и только смех его почему-то принимают всерьез. Вы понимаете, какая благодаря всему этому достигается объективность: ничего шутовского, т. е. человечески тварного, — только Божественное! Блажен шут, из одиночества сделавший общеполезную профессию. — Все его отвергли, все над ним глумятся, а он, как обиженный ребенок, тайком прибежит к Богу, прижмется к Нему и плачет: и от горя, и от радости, — а Бог всякую слезу его отирает. И всех-то насмешников своих шут находит в Боге, только — как бы иными. — Они уже добрые и лишь удивляются: не подозревали даже раньше они, что зовут шута — приходящий в ночи Никодим.
150. Вот почему, погибающая моя читательница, давно соблазняет меня мысль стать Божьим шутом. Но что же мне делать, если все больше одолевает меня необъяснимая серьезность, небогатый запас шуток и выходок истощается, зало опустело, а в довершение всего оставляете меня и Вы, последняя моя надежда?.. Сострадательная читательница, милая и сострадательная читательница! — Обращаюсь к Вам с последнею, может быть, просьбою. — Не погибайте, ради Бога! Сохраните и себя, и образ моей Элените, т. е. весь несовершенный мир, без которого и совершенному не быть. Если заговорю я слишком серьезно и напыщенно (это возможно, так как не раз уже случалось), — напомните обо всем. Многого прошу у Вас — жертвы. Но будьте молчаливым фоном картины, вернитесь к скромной роли литературного приема. И смейтесь, — смейтесь хоть «на том берегу».
151. Моему маленькому «не» в моем «не хочу Бога» говорю я новое, настоящее «не». Остается у меня одно «хочу Бога». Точно ничего я и не отрицал, а лишь сказал наконец «да» полноте своей и Божьей. Не для того ли, чтобы сказать это «да», и вызывал я из небытия мое маленькое «не»? Не мое ли «да» создало его, чтобы его уничтожить? Ибо «да» — то мое наверно есть; и не мое даже оно, а Божье. Им Бог утверждает меня и им, как Своим «Не», Себя самого ради меня отрицает. Не «да» ли мое и Божье — то, что действительно есть в моем «не», как мое настоящее «не»?
152. Мое «не» оказывается моим «да», мое «да» — моим настоящим «не». Не понимаю как следует этой чудесной умопремены. Не безумствую ли я? Не выходит ли мой ум из себя «за» пределы своего естества? Не растут ли у него крылья? Не раскрывает ли он свою Божественную суть? Как море, подымается во мне воля Божья, сливаясь с моею. Но себя еще явственнее от Бога отличаю: рассекает нас невидимый меч.
153. Слышу Его неотступный зов. Нетелесным оком вижу Его Полноту, из коей источается мое «да». А в Его Полноте вижу Его пронизающий взор: так, точно весь Он — взор; однако не уродливо это, ибо взор Его — весь Он. Смотрит Он на меня очами ребенка, светлыми, как ясные звезды, глубокими, как великое море.
154. Вижу Дитя, а в Нем себя самого вижу. Вот наконец я сам как дитя, я сам, мною давно позабытый, а может быть — мною еще и не бывший. Однако внутрь себя я смотрю и слушаю как бы собственную свою глубину.
155. Так прислушивается мать к биению зачинающейся в ней и еще неведомой миру жизни. Внутрь смотрят ее глаза; внутрь слушают ее уши. Ей и страшно, и дивно. А дитя в ней веселится, пальчиком настойчиво толкает в живот и смешно щекочет. И сияет дитя, как еще невидимый земле свет. Но уже светится этим светом преображаемое им лицо матери. Она сама не видит, а ее глаза лучатся нездешнею мудростью, и нездешнюю любовь отражает ее улыбка.
156. Поднялось из моей бездны великое море. Его волны покрыли меня, увлекли в черную глубину и снова выносят наверх, туда, где сияет Звезда Морская, не звезда, а Великая Мать, Облеченная в Солнце. В ней ли или во мне самом родится Дитя?
157. Как ранним утром холодным звон колокольный, слышна на темной земле благая весть о Царстве Господнем. Из глубины моей слышен этот звон… И как же не могу, как же не хочу сказать моего «да»? — Вижу Дитя, а в Нем — себя самого. Вижу Божью Плирому.
158. Но как же могу видеть Божью Полноту и в ней свое совершенство? — Отделен и далек от меня Бог мой, «в свете живет неприступном» 53. Правда, я — часть Бога, а и малая часть Неучастняемого — весь Он. Однако я-то, я не весь. Для меня Бог — только ничтожная Его часть. Весь Он во мне, конечно; но — вмещен Он в мое убожество, окован, сплюснут во мне в малую частицу Свою. Не видать во мне Его Полноты. Как же могу ее видеть?
159. Не знаю уж — как, а вижу. — Сам я–настоящий далёко от меня на Кресте; Крест же, окруженный венком из огненных роз, в пылающем сердце Божьем. Не знаю: когда моя полнота. Не знаю: — была ли она и я ее покинул, или же: только еще будет она. Кажется мне, будто был я совершенным, ибо — так вижу себя на Кресте, точно вспоминаю. Но, наверно, лишь буду совершенным, хотя все это будто уже и есть. Вижу свою полноту далёко–далёко в прозрачных небесах, еще дальше — там, где уже нет небес, где новая и все та же земля.
160. Только потому и хочу Бога, что приблизилось Царство Его и видимо мне. Только потому, что вижу Его и вызываю из небытия, дабы отвергнуть ничтожное «не». Или же потому вижу Бога, что хочу Его? — Верно, сам Бог, ревнуя о моей свободе, думает, будто я вижу Его лишь потому, что хочу Его видеть. А я думаю: потому хочу, что вижу. Мне хочется, чтобы все было от Бога; а Он неизменно хочет всего Себя мне отдать. Но пусть Любовь Твоя, творящая меня, сделает меня Богом на Твое место. Тогда всего себя отдам Тебе и, сам возвратясь в небытие, своею смертью верну Тебя из небытия. А все-таки — Ты первый умираешь и умер за меня, Ты первый вызвал меня из небытия. Без Твоей Любви совсем бы меня не было; Ты же и без меня — Бог высший жизни и смерти. Все приму от Тебя и, раз Ты хочешь, сравняюсь с Тобой. Только оставь меня Своею небытною тварью. Ты понимаешь, что иначе мне не сравняться с Тобою в любви. Не твори новых и страшных чудес! — Ты меня не принудишь, ибо только этим упорством своим могу Тебе отплатить за Твою великую Жертву. Буду бороться с Тобой, и еще посмотрим: кто победит!
161. Да, вижу я, наконец, Божье совершенство…
«Весьма сомневаюсь. Какое же совершенство это, если по дерзкому, больше скажу — кощунственному примыслу твоему Бог страдает и даже умер и если Он разделен, частию же Своею обретается в смрадной твоей плоти? Ежели горделиво полагаешь ты, что возвещаешь неслыханную тайну, то ты жестоко ошибаешься и во тьме пребываешь. Мнимое откровение твое не иное что, как измышленная седою, языческою древностию нечестивая легенда о Дионисе Загревсе. Мыслю, что начитался ты лжехристианских книг, но и в них понял весьма мало, скудное же свое приобретенное сим путем достояние считаешь, тем не меньше, ниспосланным тебе Божественным откровением, хотя праведною жизнью отнюдь не воссиял и благоприличием речи абсолютно не отличаешься. Ты, возлюбивший себя сочинитель, подобно на ветер лающему псу, кричишь на всех торжищах, что тебя особливо возлюбил Бог. Подумаешь! — Бог в тебе нуждается, без тебя, видите ли, жить не может! Но есть ли в тебе, за что тебя возлюбить, если ты даже и по собственному своему признанию червь и ничтожество?»
162. — Ни за что полюбил меня, ни за что исполнит меня Бог. Ты ли Ему запретишь? —
«Возможно ли это? Как же спасет тебя Бог без собственного твоего старания? Отменно удобное нравоучение! — Живи себе в свое удовольствие: Бог тебя все одно спасет! Неужели же не слыхал, что Царство Небесное нудится? 56 — Стяжать его надо!»
163. — Значит: я ничтожество, а у тебя есть какое-то свое старание?! Хочешь, как купец, получить Богобытие в обмен на то бытие, которое в него входит и которое даром дал тебе тот же Бог! Хочешь надуть Бога: Его же деньгами Ему уплатить. Этот мир, Тело Христово, для тебя лишь деньги, чтобы купить Небесное Царство. Ради этого Царства ты отрекаешься от Христа. Уж не ты ли продал Его за тридцать серебреников? Нужно ли тебе искать Бога? — Ступай в Духовную Академию! Там ты узнаешь о выгодном пари. Заключив его, в худшем случае проиграешь годиков шестьдесят, выиграть же можешь целую вечность… н Ты говоришь, что я ничего не делаю для своего спасения. — Зато не присваиваю процентов с Божьего капитала. Ничего не хочу делать для своего спасения? — Да, ничего не хочу. У меня дела поважнее. Строю Божье Царство, силою Божьей созидаю Тело Христово. Плохо, конечно, лениво созидаю и вместо крови Христовой припадаю к вину. Но все же созидаю, и — не для себя, а для Бога. Вот только надо мне по–настоящему захотеть, но — не своего спасения, не блаженства, а того, чтобы смог наконец умереть мой страдающий Бог. Из этого настоящего «хочу» сами собой изольются не мои, а Божьи дела, как бурные потоки из снежной вершины. Знаю, будет тогда и спасенье, и блаженство; знаю и не могу их не хотеть. Но не хочу их хотеть; не хочу хотеть для себя. —
«Во всяком хотении надлежит соблюдать меру, постепенность и скромность. А первее всего прочего не надлежит нечестиво…»
164. — Конечно, лучше мало, чем ничего. Но зачем же «приручать» христианство? зачем делать из него какую-то душегрейку? Конечно, даже Иуда — сын Божий. Тебе же я согласен уступить лучшее место в Царстве Божьем, хотя для меня и пред намечаешь ты пекло. Ведь смертью Своею всех «спасает» страдающий Бог. —
«Если может Бог страдать и умереть, тогда Он уже несовершенен, ибо Всесовершенный пасть не может».
165. — А себя-то зачем ты считаешь павшим, покинувшим райское совершенство? Я думаю, что рай еще будет и только кажется бывшим. Ты же веришь в наивную сказку, что он уже был. —
«Не сказка, а — Священное Предание».
166. — Предание надо понимать… — «Но не по произволу. И ежели бы вник ты в его смысл, ты усмотрел бы, что не равняет оно первоначальной, умилительной жизни праотцев святых наших в раю с полным совершенством. В Божьем же полном совершенстве есть все и ничто не может ни прибывать, ни убывать, поелику оно довлеет себе и, стало быть, неизменно».
167. — Эх ты, философ! «Потек и ослабел, напрягся — изнемог». Движения-то в твоей Божьей полноте и нет. А без него нет ни жизни ни любви; нет и того мира, который один только тебе доподлинно известен. Ведь ты от мира к Богу заключаешь, а не мир познаешь из Бога чрез Разум Христов. Не Бог у тебя, а — бесчувственный, бессмысленный истукан вроде тех, каких чтили, когда еще никаких Дионисов не знали. Эх ты, горе–богослов! Хотелось тебе спасти Божье совершенство (да еще «полное»: точно есть другое), чтобы оно наверняка спасло тебя и помогло твоему глубокомысленному изысканию об ангельских нужниках. Ханжил ты ханжил, и вышло у тебя, что сын Божий разыгрывает комедию, а Бог Отец — рeге denature; даже Сыну Своему не сострадает. Уж не для нас ли с тобой сделает Он исключение?.. Впрочем, что же и знает о Боге только что вылезшая из бездны небытия тварь, будь она хоть богословом иди философом? Всегда и во всем порабощаем и умерщвляем мы Бога Живого, делаем Его недвижным трупом: и даже мертвому телу Его запрещаем тлеть. Мудрено ли, что и совершенство мы строим Ему, как — тюрьму, роем — как могилу? Не такого ли, не точно ли такого «совершенства» ищем мы для себя, мечтая о вечном покое! —
168. Непостижимо совершенство Божье, но — так,, что наученным неведением его и постигаем; и оттого в неизрекомой любви стонет и плавится сердце. Не уменьшается оно оттого, что и перестает быть совершенством, а — увеличивается и еще: становится видимым. Ибо Бог — жертвенно созидает и преодолевает Свое несовершенство, дабы мир был и обожился. И вcе в Боге различенно, но сразу. Боже мой, все в Тебе сразу! Так совершенен Ты, что нет в Тебе даже Божественного одиночества, ибо мой Ты Бог и мой Человек, ибо Ты — Любовь.
169. Помыслишь ли что совершеннее и понятнее Божьего совершенства? — О мире как о сыне Своем, как о новом, свободно восставшем из небытия Боге, обо мне как о Полноте Своей возмечтал Бог. Все было в этой мечте: и вольная немощь небытного, и вечная адская мука, и Божественная мука самого Бога. И бесконечное одинокое ожидание там было, и боязнь, что так и не захочу я быть Богом. Но и совершенен, Божественно совершенен Бог. Что моя мечта, моя немощная мысль? — Бескровный призрак, воспоминание. Как безвидный туман, клубится она над утренним морем, вызывает из бездны лишь небытное «не». Но Божья мечта, Божья мысль о мире — сам мир, такой совершенный, что наш мир перед ним лишь воспоминание и мечта. Мысль у Бога не расходится с делом; это только во мне «я хочу» еще не «я делаю». Бытием Бог мыслит.
170. Как мог Он создать меня–совершенного (ибо не очень-то хочу, но — боюсь быть совершенным) — не знаю. Знаю, что совершил он это, ибо совершенны могущество Его и мудрость. Не замысел только Божий я в Боге, но — сам я свободно совершенный; не образ мой только, но — этот самый я, который и несовершенен; не Бог только, но — и Бог, и я сам.
171. Станет ли ждать Бог, ждал ли и ждет, пока еще я, тощий и неповоротливый клоп, доползу до Него из бездны небытия? — Конечно, и ждал, и ждет, ибо любит меня. И то, что тащусь и томлюсь я, как путник усталый в безводной пустыне, — мое бытие. Значит, Божьим движением движусь: всегда, вечно движется со мною Бог бытия. И для Него самого тоже бесконечен путь, вдвойне бесконечен от полноты Его до небытия и обратно. Но и не ждал, и не ждет меня Бог, ибо — совершенен. — Где-то в самом конце тьмы кромешной, у которой нет конца и которой и самой-то нет, приметил Бог меня, маленькую черную муху. (А ты, увидишь ли черную муху на дне черной бездны?) И расширился Бог, объял всю кромешную тьму, дав ей бытие в Своей Полноте. И оказалась она уже не кромешной и, конечно, даже не тьмою. В Боге же всё — различенно, но сразу и вместе: и путь мой к Нему от небытия, и совершение и совершенство мое, и даже то, что не хочу я этого совершенства, не верю в него, считаю его невозможным.
172. Не может не быть моего несовершенства: познает его Разум Христов, и уже есть оно. Не может оно не быть вечно: обожено оно, и то, что есть и было, всегда будет. Но обожено несовершенство, а потому — как же оно может не усовершиться, не восполниться, не преодолеть себя? Ведь Бог — и Полнота, и не Полнота в Полноте. Сжался Бог в маленькую еврейскую букву «ламед»» и сделался всем безграничным миром; сжался еще и — сделался мною, маленькою козявкою. Но остался Он и тем же самым, так что в козявке оказалась Его Полнота. А потому уже никак не может козявка не вырасти бесконечно и не стать всем Богом; не могу я не стать миром; не может мир не стать Полнотою Божества.
173. Но не обманул ли меня Бог? Не дал ли мне под видом маленького кусочка Своего, которого только и хочу, всего Себя? Не исполнил ли мое нелепое хотение немножко быть лишь для того, чтобы не мог я не быть всем Богом? Не поймал ли Он меня, как лукавый рыбак вылавливает на маленького пескаря очень большую рыбу? Не только левиафана: Себя самого может Бог сделать пескарем. Не принуждает ли хитрыми словами Своей Любви стать всем Богом, чего боюсь? — Нет, не может этого быть! Он — великий хитрец, «небесных и наднебесных художник». Но Он не лукавит. Нужно ли Ему, чтобы я обожился подневольно, стал Его сыном из-под палки? Что же за Бог я тогда буду?
174. Но тогда, значит, не мечтаю только я. — На самом деле: не хочу я Бога, а тем не менее в то же самое время и хочу, может быть, и сам об этом как бы не зная. Как же хочу, если не хочу? Уж не так же ли, как — когда возникаю? И не то же ли это самое, только с другого конца? В творении ли через Сына дело или в сыне чрез творение? Не истинно ли воплотился Сын, чрез Него же все, и в Нем начало и конец всего? и не Его ли сила в моей слабости совершается? Пусть, кто хочет, гадает о творении: мне о рождении и обожении думать довольно. И не о себе уже думаю: думаю о том, как бы спеть моему Богу красивую песню. Для того хочу быть и быть совершенным, чтобы побольше отдать Богу.
175. Все отвергал я свое маленькое «не»; все надеялся предстать перед Богом достойным Его, омытым, чистым, как дети вокруг Христа в книжке, по которой учили меня Священной Истории. Все казалось, будто лишь облепила меня какая-то грязь, а внутри я чист. Правда, не так уж много оставалось на мою долю. Но и довольствовался я немногим: лишь бы поспать у Христа за пазухой. Однако Бог создает меня не для того, чтобы потом у Себя на небе поместить в приют для дефективных детей. Большее Он промыслил обо мне: чтобы я стал вместо Него Богом. Да и сам я во всем своем ничтожестве замыслил то же самое, что и Бог, и только сделал правильный вывод из Божьей идеи, довел ее до логического конца.
176. И вот я сам совершенный смотрю с Креста на себя самого и вижу: весь я свободно, но мало хочу, весь — зло. Но хотя и совершенный я смотрю на себя, хоть и с Креста, из совершенства своего смотрю, вижу-то я несовершенными еще очами. Не одним взором смотрю, а — двумя глазами; и все у меня, как у обессилевшего от Божьего вина, двоится. — Разделил себя с Богом: смотрю на Него правым глазом, а на себя — левым. Взгляну на себя: себя разделяю на зло и якобы–себя; и смотрю на зло левым глазом, а на якобы–себя — правым, хотя лучше бы уж было наоборот. Сам я — мое зло, оно же— только я. Но мерещится мне: оно вовсе не я, а — злоумышленный змий. Загадочно возникает змий и загадочно исчезает, словно приносят и смывают его волны невидимого моря. Призрачнее он, чем я–прошлый во мне–настоящем. Но все же обвивает он меня и душит, не дает пальцем пошевелить. Капает на меня его поганая, ядовитая слюна и жжет, как кипящая сера. Лишь мысленно могу я творить молитву. Влекомый неведомой силой, содрогаясь, открою глаза, посмотрю на него, а он — испустит громоподобный звук, наполнит меня удушающим смрадом и превратится в ледяную пыль. Вместо него уже только множество мелькающих точек на сером, свинцовом, снежном небе. Словно никогда и не было змия. Облегченно вздохнув, опять взгляну на себя, а — из моей глубины снова он выползает; и все начинается сначала.
177. Стало быть, отвергая змия, себя самого отвергал я? — Только мнилось, будто не себя отвергаю, а кого-то другого. Зачем-то я разделял себя на две половинки. Не затем ли, чтобы и перед Богом горделиво (т. е. трусливо) отстоять только–мое бытие? Не потому ли, что все еще не хочу всего себя отдать Богу: не хочу Бога? — И делаю правильный вывод из Божьей идеи, а вывода-то нет. Кажется мне, будто, отделяя от себя змия и умерщвляя, приношу жертву Богу. А дым от моей жертвы, как у Каина, стелется по земле. И не себя приношу Богу, но — отрезанный от себя маленький кусочек, да и то под видом мертвого змия, так что как бы совсем не себя, а что-то другое приношу. Сам же все остаюсь со своим «не хочу Бога». Воображаю, будто себя очистил. Но как же очистил, если только оскопил? А Богу скопцы не нужны. Даже среди людей скопец мало на что годен и — все равно что мертвый. Умертвил я в себе Божий мир, думая, что умерщвляю змия. И подношу Богу смрадный свой труп, который распирает мою душу, пока не окажется все тем же неистребимым змием. Не жертва я, а палач. Вместо того чтобы родить Богу непорочное дитя, самодовольно подношу Ему снесенное мной яйцо скорпиона.
178. Но с Креста, что в пылающем сердце Божьем, сам же я–совершенный себя–несовершенного призываю и за всего себя Богу говорю, хотя и несовершенными словами. Сораспятый Иисусу всего себя приношу в ответную жертву. Что я Тебе, Бог мой, за Твою Жертву отдам? Конечно, в Тебе я искони и во веки веков совершенен и сравнялся с Тобой? Но в себе-то самом и для себя самого я–совершенный лишь буду, лишь ангел бесплотный. Пока, но на веки веков только неполн я; и помутнен светлый мой лик, коснеет язык, и не слышен мой голос в моей неполноте. Нет ее, и — могу отдать Тебе лишь малую свою часть, а не всего себя. Но хоть неполноту мою, хоть то, что есть во мне, а без остатка отдам Тебе. Не попытаюсь оправдаться пред Тобой: весь я зло. Не отделю от себя зла, чтобы Тебя умерщвлять: не дам себе без конца двоиться. Но — соберу себя, чтобы все, что уже есть во мне, Тебе возвратить. Пусть в неполноте своей еще обманываю себя: пугаю себя собою же самим как страшным призраком небытного зла, как черною птицею с душными крыльями. Пусть мерещится мне, будто отвергаю лишь зло, а не себя, хотя только и частью. — Может ли произнести нужное слово коснеющий язык спящего? — Я–совершенный в самом своем несовершенстве всего себя отвергаю, т. е. отвергаю ради Тебя даже и полноту мою. И кажется мне, что совсем тонкою стала когда-то неодолимая ограда моего несовершенства, что превратилось она в пленку змеиного яйца. Кажется: сейчас оно разорвется, и раздастся Твой голос.
179. Но Ты молчишь. Ты все пребываешь во мне тайно. Однако теперь это уже ничего: знаю, отчего молчишь. — Я все еще несовершенно хочу: только на словах, мечтательно. Нет: не я–совершенный в себе–не–совершенном, а наоборот — я–несовершенный в себе–совершенном, и еще ограничен внутри его. Долог еще не крестный мой путь, а мой путь ко Кресту; но — так ли уже безотраден?
180. Разве так же несовершенен я, как мертвое тело? Да не тлеет ли все-таки и оно? А недвижность его не единство ли его, еще несовершенного, измененья? Разве так я очерчен созидаемой мною же преградой, что и податься мне некуда? — Нет, несовершенно, но все же умираю я. Все время порабощаю себя своим «не»; но не затем ли, чтобы освободиться? Созидаю себя — не для того ли, чтобы преодолеть? Создаю себе преграду, но все время и отодвигаю ее дальше и дальше. Не для того ли всякий раз ее создаю, чтобы взобраться на нее и оттуда, как крючок, еще выше закинуть новую? В том смысле я несовершенен, что все время несовершенно преодолеваю мое несовершенство. В этом вся моя жизнь и все творение.
181. Горько плачет на небе св. Петр апостол. Но он вовсе не просто плаксивый старик. Вспоминая свое отреченье, он уже отвергает не грех свой. — Себя самого он отвергает. Ведь еще на земле, умирая крестною смертью, он не грехи свои искупал, не выторговывал у Бога, как хитрый купец, вечную жизнь за краткую муку. Из любви ко Христу умирал: не для того, чтобы себя, но — чтобы Бога спасти. Может быть, на земле и не понимал он, бедный рыбак, зачем он страдает: просто — так любил Бога, что всего себя Ему отдавал. Но потому-то его любовь и была уже Божьей и небесплодною делала Жертву Христа… На земле пугался он Божьей Любви, и — ослабевала его собственная. Но теперь он уже не осуждает себя за слабость своей любви: лишь дивится беспредельности Божьей. Это на земле он каялся, не зная еще, что такое покаяние. На небе же суд над собой и оказался полнотою любви… Восстала перед святым вся его земная жизнь, та же самая малая жизнь. Но и другая уже она — преображенная светом Божьей Любви. Вся она ожила, чтобы, омыв себя неистребимою смертью, и всецело умереть, а потому — подняться над жизнью и смертью. И не хочет св. Петр забыть о малости земной своей жизни, утратить эту жизнь. Не повторяет он земных своих слов, т. е.: «Выйди от меня» и т. д. Ибо как же иначе поймет он всю беспредельность Божьей Любви, превращающей его слезы в благодатную росу? А потому и Бог живых сохраняет св. Петру всю земную его жизнь, в которой, однако, раскаянье оказалось Любовью; но сверх того и совершенным св. Петра делает, ибо он наконец всецело восхотел и полюбил Бога.
182. Но поймешь ли преображение мира, когда лишь начинается оно в видении Божьей Славы, когда и Слава Божия зрима миру только в облаке густом, только зерцалом в гадании?
183. Как жертвы Богу хочу я моей полноты. Но удивительным образом вместе с тем полноты своей я все еще не хочу. Не то чтобы так-таки и не хотел я быть Богом: — хочу немножечко быть Богом, ибо Он так любит меня, что мое «немножечко» на Себя переносит, и оно уже не ничто. И не то чтобы хотел я немножечко быть Богом, и — все тут. — Немножечко быть Богом — значит хотеть быть Богом всецело, а потому — уже превозмогать свое «немножечко», хотя и так, что нет преодоленности, а есть лишь преодолевание, ибо иначе бы совсем не было «немножечко». Конечно, в полноте моей не только преодолевание, а и преодоленность. Но эта преодоленность — «за» пределом, хотя и подвижным, моей неполноты: отделена от нее маленьким «не». Не ясно ли отсюда, не совершенно ли ясно, что наш мир должен быть именно таким, каков он есть? И не только ли чрез не–хотение полноты могу ее хотеть?
184. Вот почему и молчит мой Бог и как бы не принимает моей жертвы, неполной в моей неполноте. Ведь отцы наши козла отпущения «за» ограду изгоняли, мир же становится истиною трагедией лишь «за» пределом своим. В несовершенстве мира можно утешать себя, только сочиняя и разыгрывая трагедии, выдумывая трагические поэмы, которые всегда оборачиваются старомодными мелодрамами. Здесь даже смутный образ Божьей Плиромы ослепляет слабые глаза, а лучи ее — лишь адамантовые нити метафизического узора. Но так неотвратим этот образ, что не распутаешь узора и не разорвешь его адамантовых нитей. Попытайся разорвать или распутать!
185. Нет, лучше и не пытайся. Лучше просто считай все, что утешает, счастливым сном приговоренного к смерти. Ведь и не хочу я все-таки полноты, и надо жить малою жизнью вечного умирания, ей же мешают и вещие сны. Она все та же, эта бедная моя жизнь. Ничего в ней не забываю и ничего не могу вспомнить. Обрекаю в ней себя на бессмертие — вечно тлею, как свой же бессильный труп, питая могильных червей и неугасимый огонь, страдаю мукою безграничного мира. Бегу от Элените и зову ее немощным желаньем… И однако, в уме моем, как в зеркале, отражается некий Божественный Свет, не отражается — светит, а из глубины моей подъемлется Богорожденная воля. Это — Разум Христов и Христова Воля. Это — воля к совершенству, к полноте, к моему Богобытию как Богобытию мира. Но не для себя хочу быть Богом: — для того, чтобы «скорее» из ада извести Бога и, дав Ему вполне за меня умереть, своею жертвенной смертью Его воскресить (может быть, только лучше сказать не: «скорее», а: «полнее»). Знаю, что не осуществить мне этой моей воли. Навсегда останется она лишь напряженным хотеньем, лишь ничтожною частью претворится в несовершенный наш мир. Будет она скована моим же не–хотеньем, которое живет лишь тем, что она хочет, — моим «не»; будет неодолимой свободой в обличье рабыни… Но и в несовершенном мире не светится ли улыбкою Элените нетленной Твоя Красота? Не безобразный ли туман вся Плирома Твоя без этой улыбки? Не живет ли в маленьком «не» настоящее «не»? Совершенной Любовью Своей создал Ты мое несовершенное бытие. — Как же будет во мне Твоя Любовь без него?
186. Уже словно струится моя жизнь в нездешнем, как поэзия, в призрачном, как метафизика, свете. Так ли, как прежде, хочу я жить? — Казалось мне, будто хочу я убежать от бессмысленной муки — только жить, только наслаждаться; и удивлялся, что все выходит не что-то иное, но — только она, только мука. В отчаяньи проклинал я себя, мечтал убежать от самой жизни, умертвить себя, но — горел в пламени костра и сжигал не свою, а чужую жизнь. Мечтал о полноте, но — о какой-то бесцветной, пустой полноте: неизвестно — чего хотел, неизвестно — ради чего отвергал Элените. Думалось мне, будто не хочу муки, распада, вечно живущей смерти. Все это представлялось мне и как бы на самом деле было — каким-то непроизвольным и нежеланным следствием моего (мнимого) хотения жить. Ибо всякое мое хотение бессознательно, но свободно ограничивал я маленьким, небытным «не», ограничивал себя тем, что не хотел себя ничем ограничить, т. е. всего себя пленял, порабощал как бы и существующим «не». Обращал я «не» на Бога, а не на себя. Но не хочу ли уже теперь обратить «не» на себя, а не на Бога? Ведь, кажется, уже не наслаждаться хочу, а — страдать, не жить для себя — умереть ради Бога. Хочу страдать вечною мукою, любить и питать даже могильных червей и — все остальное. Хочу подойти к бытию с другого конца, все перевернуть, переменить: — то, что было роковым следствием, сделать желанною целью. Хочу неполноты бытия: уже не потому, что она все-таки бытие, но потому, что она — неполнота. Не буду ли я тогда жить «вполне сознательно» и свободно? — я, а чрез меня и весь мир? Не будет ли само наше несовершенство не роковым, неодолимым следствием греха, но — справедливою карою за несуществующий грех? Неизъяснимым каким-то знанием и безошибочным знаю, что этим именно путем обличаю небытность моего «не». А кара — лишь не вполне понятное слово; по существу она — самоотверженная, Божья Любовь к Богу, Смертью побеждающая смерть.
187. Все это, конечно, очень неясно. Но не подобным ли образом (только, разумеется, без всякой неясности) рассуждая, творит Бог мое несовершенное бытие, Свой несовершенный мир? Не так же ли Он живет во мне, в этом мире? Не становлюсь ли я сопричастником Его бесконечной творческой силы, ибо ведь сам я свободно возникаю в мире, который самовозникает?_ Бог безвинно страдает за меня и во мне. Не хочу ли я ради Него, ради Его Полноты страдать тоже безвинно? Не сводим ли мы, наконец, счеты нашей взаимной любви? И не скоро ли (впрочем, здесь слово «скоро» уж совсем не годится, ибо вечное умирание как раз и должно остаться вечным), не «скоро» ли умру Его Смертью?