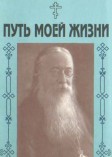Митрополит Евлогий Георгиевский
Путь моей жизни
Воспоминания Митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. Манухиной
ПО ПОВОДУ ВОСПОМИНАНИЙ
В феврале 1935 года И.П.Демидов сообщил мне, что ему удалось уговорить Митрополита Евлогия припомнить все свои автобиографические рассказы, чтобы составить из них книгу, и просил меня, от имени Владыки, обдумать, не согласна ли я изложить их в форме последовательного повествования.
Это задание показалось мне немного сложным, но все же выполнимым. Осуществление его зависело от того, сумею ли я, не пользуясь стенографией, передать не только содержание рассказов Митрополита, изложив их от первого лица, но и запечатлеть его тихую, спокойную и художественно–образную речь, разнообразные оттенки мыслей, тонкую простоту и глубокую правдивость его повествовательного дара. Эти характерные черты рассказов Митрополита я подмечала, и не раз, за годы встреч с ним в Париже и теперь поняла, что мне надо, в меру возможного, приблизить текст к живой речи, чтобы сохранилась свежесть «сказанного» слова. Лишь при соблюдении этого условия воспоминания, не будучи продиктованными записями, не превращаясь и в историко–биографический труд, могли быть названы «автобиографией».
Помню, в ближайший понедельник после беседы с И.П.Демидовым в назначенный мне час я приехала к Митрополиту. В этот день было положено начало тем «понедельникам», которые продолжались в течение трех лет из недели в неделю. Исключения составляли летние каникулы, поездки Митрополита по епархии и какие–нибудь непредвиденные препятствия.
С первых же встреч был выработан порядок занятий. К каждому понедельнику у Владыки в записной книжке уже был готов краткий план очередных рассказов. Живая память Владыки и подлинный талант художественного изображения ярко и легко воссоздавали прошлое, а светлый разум умел вдумчиво и глубоко смысл пережитого изъяснять. Красноречиво–связными его рассказы не были, но, даже немного разрозненные, они давали превосходный материал для последовательного изложения.
После понедельника я вручала Владыке мой текст для просмотра и утверждения. Иногда он добавлял к нему то, что сказать забыл или что я случайно пропустила; вносил более точные детали, а иногда, наоборот, опускал какие–нибудь подробности, считая их лишними.
Когда по ходу автобиографии Митрополит дошел до своей государственной и церковно–административной деятельности, он счел необходимым пользоваться некоторыми историческими и архивными источниками. При описании возникновения в эмиграции храмов и приходов он затребовал из архивов Епархиального управления все необходимые документы и уже по ним подготовлял свои рассказы. К этому отделу Митрополит относился с живейшим вниманием и старался не забыть ни одной церкви, ни одной церковной общины… Возникновение множества церквей и приходов в своей Западноевропейской епархии он считал верным признаком религиозного воодушевления, проявлением соборных усилий русских людей в рассеянии сохранить свое драгоценнейшее достояние — Православную Церковь. Особое место в этом отделе Митрополит отвел Сергиевскому Подворью и Богословскому Институту. Существованию храма–прихода имени Преподобного Сергия и Богословскому Институту, их сочетанию, их духовным взаимоотношениям он придавал огромное значение — видел в них средоточие религиозного просвещения и православной богословской науки в эмиграции, светильник Православия, который удалось возжечь на чужбине среди инославного мира.
Последовательная работа над воспоминаниями окончилась весной 1938 года. Заключительным важным событием была Эдинбургская конференция христианских церквей в августе 1937 года. Прошлое было исчерпано. За два последующих года (1938–1940) текст удалось дополнить еще некоторыми данными преимущественно из области церковно–приходского строительства и Экуменического движения.
Ни мировая война, ни германская оккупация, ни последующие политические и церковные события никакого следа в воспоминаниях не оставили. В этот последний период жизни Митрополит ничего записывать не хотел. В 1938 году он уже считал труд оконченным, и тогда был поднят вопрос о заключительной главе. Я спросила Владыку: не посвятит ли он ее заветам пастве? Мне казалось, что его долгая жизнь, преисполненная самоотверженного служения Церкви, столь исключительная по обилию событий, встреч, наблюдений, давала ему на это право… Владыка ответил уклончиво: «Заветы… какие я могу оставлять заветы!», а потом, помолчав: «Ну, я подумаю, подумаю… я что–нибудь скажу». В следующую встречу он сообщил мне основные мысли своего «Заключения». «Здесь не заветы, — сказал он, — а самое мое заветное о Церкви и о Христовой свободе…» Этими страницами трехлетний труд и закончился. Митрополит тогда же озаглавил его «Путь моей жизни» и просил меня никому до его смерти о воспоминаниях не говорить.
Париж, 1947 Т. МАНУХИНА
Глава 1. ДЕТСТВО (1868–1877)
Родился я 10 апреля в 1868 году на Пасхе в захолустном селе Сомове Одоевского уезда Тульской губернии, расположенном на большаке между Белёвым и Одоевым. При святом крещении я был назван Василием. Отец мой, Семен Иванович Георгиевский, был сельский священник. По натуре веселый, жизнерадостный, общительный, он имел душу добрую, кроткую и поэтическую, любил пение, музыку, стихи… нередко цитировал отрывки из допушкинских поэтов. Когда на душе у него бывало тяжело, он своих переживаний на людях не выявлял, умел их прятать, хотя характера был экспансивного и легко раздражался. По–своему развитой и в общении приятный, он пользовался расположением окрестных помещиков, и его приглашали в помещичьи семьи обучать детей. С течением времени он несколько свою жизнерадостность утратил — тяжесть жизни, нужда его пришибли, но порывы ее остались до конца дней. Зато в практических делах он был легкомыслен, его нетрудно было обмануть, обсчитать: то семена продешевит, то целовальник на телушке обманет… Мать моя нередко укоряла его за излишнюю к людям доверчивость. Я отца очень любил: милая, добрая натура.
Мать моя, Серафима Александровна, по природе своей была глубже отца, но болезненная, несколько нервная, она имела склонность к меланхолии, к подозрительности. Сказалась, быть может, и тяжелая ее жизнь до замужества: она была сирота, воспитывалась в семье старого дяди, который держал ее в черном теле. Печать угнетенности наложила на нее и смерть первых четырех детей, которые умерли в младенчестве: с этой утратой ей было трудно примириться. Потеряв четырех детей в течение восьми лет, она и меня считала обреченным: я родился тоже слабым ребенком. Как утопающий хватается за соломинку, так и она решила поехать со мною в Оптину Пустынь к старцу Амвросию, дабы с помощью его молитв вымолить мне жизнь.
Старец Амвросий был уже известен, а посещение оптинских старцев стало народным явлением. С нами поехала и наша няня, преданнейшая семье безродная старушка. Мне было тогда год и три месяца. Пути от нас до Оптиной 62 версты. Смутно помню я это путешествие — остановку в Белёве, где на постоялом дворе Безчетвертного мы кормили лошадей: шум… музыка… какие–то невиданные люди… — впечатление веселого праздника. Так запечатлело мне сознание остановку на постоялом дворе — толчею в горнице, гармонику и постояльцев в городском, не крестьянском, платье.
Скит Оптиной Пустыни, где проживал старец Амвросий, отстоял от монастыря в полутора верстах. Раскинулся он в сосновом бору, под навесом вековых сосен. Женщин в скит не пускали, но хибарка, или келья, старца была построена в стене так, что она имела для них свой особый вход из бора. В сенях толпилось всегда много женщин, среди них немало белёвских монашек, которые вызывали досаду остальных посетительниц своей привилегией стоять на церковных службах впереди и притязать на внеочередной прием.
Моя мать вошла в приемное зальце о.Амвросия одна, а няню со мной оставила в сенях. Старец ее благословил, молча повернулся и вышел. Мать моя стоит, ждет… Проходят десять, пятнадцать минут, — старца нет. А тут я еще поднял за дверью крик. Что делать? Уйти без наставления не смеет, оставаться — сердце материнское надрывает крик… Она не вытерпела и приоткрыла дверь в сени. «Что ж ты, няня, не можешь его успокоить?..» — «Ничего не могу с ним поделать», — отвечает няня. Какие–то монашенки за меня вступились: «Да вы возьмите его с собой, старец детей любит…» Мать взяла меня — и я сразу затих. Тут и о.Амвросий вышел. Ничего не спросил, а, отвечая на затаенное душевное состояние матери, прямо сказал:
– Ничего, будет жив, будет жив.
Дал просфору, иконку, какую–то книжечку, благословил — и отпустил.
Вернулась домой моя мать ликующая. Верю и я, что молитвами старца дожил до преклонных лет.
Когда я стал уже сознательным мальчиком, мать рассказала мне про старца Амвросия. Она ездила к нему каждые два–три года; его наставления были ей просто необходимы. Жизнь ее была полна забот, тревог и болезней: после меня у нее было еще девять человек детей; трое из них умерли младенцами, шесть выжили: пять братьев и одна сестра. Иногда в эти поездки она брала с собою и меня.
Жили мы в сельском домике, сложенном из цельных некрашеных бревен. В комнатах пахло сосной. Помню большие часы, с боем и с огромным маятником…
В детстве мне все предметы представлялись одушевленными. Лежу, бывало, в постели, и все мне кажется живым. О чем думают бревна? О чем думают часы? — недоумеваю я. Листик ли упадет на землю, — он тоже для меня живой, и мне его жаль, что он, бесприютный, беспомощный, гонимый ветром, куда–то не по своей воле носится…
Уклад нашей жизни был религиозный, патриархальный; отражал характерные черты быта русской крестьянской жизни и положение сельского духовенства. Под его воздействием и слагалась моя духовная личность.
В раннем детстве направление моего развития обусловили два влияния: 1) религиозная вера и ее церковно–бытовые формы благочестия, 2) природа.
Все вокруг меня дышало религиозной верой. Я был как бы погружен в ее стихию. Мать моя, экспансивная, набожная, в простоте сердечной верующая душа, находила смысл жизни лишь в Боге и семье. Обязательства, связанные с необходимостью принимать гостей, поддерживать или заводить знакомства, были ей в тягость. Отец, если и любил общаться с людьми, поговорить, посмеяться, в глубине души был истинный пастырь, с головой уходивший в свою деятельность. Иногда я недоумевал, почему он то шутит, смеется, как все мирские, то вдруг делается строгим, серьезным, и тогда мы, дети, его побаиваемся. Бывало, засыпаешь и в полусне видишь: отец перед иконами молится… Проснешься утром — он уже на молитве, правило свое читает. Был он строг к себе, но строго выговаривал и крестьянам, которые не бывали у исповеди, грозил не исполнять треб, если не одумаются. Случалось мне ребенком быть свидетелем этих строгих выговоров, когда на Пасхе отец ходил с крестным ходом по крестьянским избам и служил молебны.
– Если не придешь и в Петров пост или до него, смотри, не будет для тебя требы, — не приду. Ты тогда не прихожанин мне… — грозил он провинившемуся.
Пасхальные крестные ходы были любимым развлечением для нас, деревенских мальчишек. Обходили до 1000 домов, шли от деревни к деревне, кое–где отстоявших друг от друга на 5–6 верст, пробирались по грязи, по дорогам, когда ни на телеге, ни на санях не проехать. Крестные ходы эти были многолюдны. Нарядные парни несли крест, иконы: Спасителя, Божией Матери, святителя Николая Чудотворца, святого Георгия Победоносца, святых Флора и Лавра, покровителей животных, святого Иоанна Предтечи… зачастую по обету, дабы Бог дал хороших невест. Шли с пением «Христос Воскресе», в домах служили молебны с акафистами (отцу случалось служить в день до 100 молебнов). Мы, мальчишки, следовали всюду за толпой, подпевали, помогали… нам давали по копеечке, по красному яичку, и кое–где на нашу долю перепадало угощенье.
Эти пасхальные крестные ходы я очень любил. Они развивали любовь к церкви, к богослужению, которая возникла во мне в раннем детстве; проспать утреню я всегда боялся, и в 5–6 лет была у меня одна тревога: а вдруг старшие обманут, не разбудят? Стихия церковных служб наполняла душу священной поэзией и радостью сопребывания с людьми. Однажды я опоздал к утрене в Великую Пятницу (это богослужение в деревне совершалось рано утром, кажется, в 5 часов утра); когда я вошел, все стояли с зажженными свечами, слушая Страстное Евангелие; у меня свечи не было, и я готов был разрыдаться от горя; но церковный староста заметил и дал мне свечку с позолотою, к великому моему счастью. Особенно волновался я перед Пасхой, что меня не возьмут к заутрене. В Великую Субботу под вечер окрестные помещики съезжались к нам и от нас уже отправлялись к заутрене (таков уж был местный обычай). Сидят, бывало, на диване в горнице нашей хаты, курят, чай пьют, а я за перегородкой в спальне наблюдаю, слушая, о чем они разговаривают. Лампады, свечи горят… Меня ко сну клонит, — под говор легко уснуть, — но я стараюсь одолеть дремоту…
Когда я стал сознательным мальчиком, но в школу еще не поступил, меня возили на исповедь к соседнему священнику, строгому, суровому старичку. Везли меня к нему зимой, на санках, и ехал я с трепетом, со страхом, под впечатлением наставлений матери, которыми она меня напутствовала. Церковная дисциплина соблюдалась в доме по указаниям Святой Церкви; особенно строго соблюдались правила о посте: весь Великий пост (кроме праздников Благовещения и Вербного воскресенья) мы не вкушали даже рыбы, не говоря уже о молоке; в рождественский сочельник ничего не ели до появления «звезды». Я решал трудную проблему: можно ли накануне Святой Пасхи из приготовленного и вкусно пахнущего кулича изъять и съесть запеченную в него изюминку — скоромная они или нет? Каждое принятие пищи — обед или ужин — было окружено благоговением, молитвенным настроением; ели с молитвою, в молчании; хлеб в нашем понимании это был дар Божий. Сохрани Бог, бросить крошки под стол или оставить кусок хлеба, чтобы он попал в помойную яму.
Если церковь будила и развивала мою душу в раннем детстве, питая ее священной поэзией и насаждая первые ростки сознательной нравственности, — социальное положение моего отца крепко связало меня еще ребенком с народной жизнью. Общение с народом было живое, непосредственное, то, которого ни искать, ни добиваться не надо, так органически оно входило в судьбу семьи сельского священника. Друзьями моими были крестьянские мальчишки, с ними я играл, резвился. Это были детские радости крестьянской жизни. Однако рано познал я и ее горести…
Жили мы бедно, смиренно, в зависимости от людей с достатком, с влиянием. Правда, на пропитание хватало, были у нас свой скот, куры… покос свой был, кое–какое домашнее добро. Но всякий лишний расход оборачивался сущей бедой. Надо платить наше ученье в школу — отец чешет в голове: где добыть 10–15 рублей? Требы отцу давали мало. Ходит–ходит по требам, а дома подсчитает — рубля 2 принес, да из них–то на его долю приходилось 3 части, а остальные 2 — двум псаломщикам. Годовой доход не превышал 600 рублей на весь причт. Много ли оставалось на долю отца? Были еще доходы «натурой» (их тоже делили на 5 частей). Крестьяне давали яйца, сметану, зерно, лен, печеный хлеб (на храмовой праздник и на Пасху), кур (на Святках), но эти поборы с населения были тягостны для обеих сторон. Священнику — унижение материальной зависимости и торга за требы, крестьянам — тягостное, недоброе чувство зависимости от «хищника», посягающего на крестьянское добро
[1]. Бабы норовили дать, что похуже: яйца тухлые, куру старую… Мой дядя, священник, рассказывал случай, когда баба, пользуясь темнотой в клети, подсунула ему в мешок вместо курицы ворону. Теперь это похоже на анекдот, а тогда подобный поступок был весьма характерным для взаимоотношений священника и прихожан.
Вопрос о государственном жалованье духовенству был поднят лишь при Александре III и решен поначалу в пользу беднейших приходов; положено было жалованье духовенству этих приходов от 50 до 150 рублей, причем годовой бюджет Синода был установлен в размере 500000 рублей с тем, чтобы в дальнейшем увеличивать его ежегодно на 1/2 миллиона. Приходов в России было около 72000. При таком их количестве судьба беднейшего духовенства, которое переходило на государственное жалованье, оставалась надолго завидной долей для остальных. Победоносцев был против этой реформы: содержание духовенства за счет прихожан, по его мнению, обеспечивало его слияние с народом и не превращало в чиновников. Но если бы сам он попробовал жить в тех условиях, на которые обрекал рядовое духовенство!
Необходимость доставать нужные деньги детям на школу заставляла отца прибегать к крайней мере — займу у целовальника, у кулака. Приходилось соглашаться на огромные бесчеловечные проценты. За 10–15 рублей займа кулак требовал 1/5 урожая! Мать упрекала отца, зачем он скоро согласился, зачем неискусно торговался. Но было нечто и похуже этих бессовестных процентов — переговоры с кулаком о займе. Я бывал их свидетелем, многое запало в мое сердце…
Когда наступало время ехать нам в школу, отец ходил грустный и озабоченный, потом скрепя сердце приглашал кулака, приготовляли чай, водку и угощенье — и для отца начиналась пытка. С тем, кого следовало обличать, приходилось говорить ласково, оказывая ему знаки внимания и доброжелательного гостеприимства. Отец унижался, старался кулака задобрить, заискивал — и наконец с усилием высказывал просьбу. Кулак ломался, делал вид, что ничего не может дать, и лишь постепенно склонялся на заем, предъявляя неслыханные свои условия. Отец мучительно переживал эти встречи: душа у него была тонкая.
Как ни тягостны были ежегодные переговоры с кулаком, они не могли сравниться с той бедой, которая вдруг свалилась на нашу семью. Мне было тогда 11 лет. Случилось это на Пасхе, в ночь со среды на четверг. В тот день мы ходили по приходу с крестным ходом, была грязь, мы измучились, пришли домой усталые и заснули мертвым сном. Вдруг среди ночи отец меня будит: «Идем в сарай спать на сено…» — «Как на сено? И подушку взять?» — «Да…» — «И одеяло?» — «Да…» Выхожу… — сени в огне. Я схватил сапоги и побежал будить псаломщиков, — а уже крыша горит. Крики… шум… Отец бросился спасать скот. Но спасти было невозможно: с ворот, через которые выгоняли скот, пожар и начался. Коровы ревели, лошади взвивались… Я видел, как огненные языки лизали докрасна раскаленные стены, слышал рев коров (и сейчас его помню)… Погибло все наше добро, весь скот, буквально все, до нитки.
Этот пожар — одно из самых сильных впечатлений моего детства. Я был нервный, впечатлительный мальчик, и ужас, в ту ночь пережитый, потряс меня до глубины души.
Нас подпалил мужик: он выкрал что–то из закромов соседней помещицы, старой девы. Его судили. Отбыв наказание в тюрьме, он решил отомстить. Потерпевшая помещица отвела от себя его злобу, оговорив моего отца: «На тебя поп донес». Мужик поджег ворота нашего скотного двора. Отец стал нищим. Правда, кое–кто из крестьян отозвался на беду: привели свинью, пригнали корову… Помещица, оклеветавшая отца, — может быть, совесть ее замучила, — приняла в нас участие, но все это не могло вернуть нам того самого скромного благополучия, которым наша семья пользовалась. Это бедствие отца подкосило.
Тяжелые впечатления раннего моего детства заставили меня еще ребенком почувствовать, что такое социальная неправда. Впоследствии я понял, откуда в семинариях революционная настроенность молодежи: она развивалась из ощущений социальной несправедливости, воспринятых в детстве. Забитость, униженное положение отцов сказывались бунтарским протестом в детях. Общение с народом привело меня с детских лет к сознанию, что интересы его и наши связаны.
Не менее глубокое влияние, чем церковь и быт, оказывала на мое детское сознание наша русская природа. Неизъяснимое чувство прелести простора, полей, лугов… волновало и радовало душу. Какое было наслажденье — весной, после надоевшего снега, выбраться на проталинку и побегать босиком взапуски с мальчишками! Потом дома кашель… мать сердится: «Опять ты гонял босиком?!» Какое приволье на нашей речке Мисгее! Какое удовольствие ловить рыбу на мельнице! Ходить гурьбой в лес за грибами, за ягодами… Весной полоть луг — драть плевелы… А еще лучше ездить с отцом на покос! Отец созывал на деревне косцов за выпивку. Их набиралось человек тридцать–сорок, и они в час–два скашивали наш луг. Какая красота! Косцы идут рядами; впереди пускают молодых парней лет семнадцати–восемнадцати, наших деревенских «женихов», кто постарше — сзади. Над неловким или слабым все насмехаются: «Куда ему жениться, — ишь, рубашка мокрая!» Меряются друг с другом силою, хвастаются ловкостью. Косцам привозили на покос обещанное угощенье. Рано утром, на росе, отец нагружал телегу. Солонина, хлеб, огурцы, 1/2 ведра водки… — и вот мы с ним везем все это добро… Я умел косить, и участие в общей работе было мне очень приятно. Вместе с мужиками я и косил, и сгребал, и свозил сено.
Летом по ночам я с братьями сторожил яблоки. Лежишь, бывало, в шалаше: звезды, луна, ночная свежесть… Мальчишки нас боялись и уже в те ночи воровать не осмеливались. А если б смельчак и нашелся, мы бы его проучили — решено было посечь его крапивой или крыжовником.
Жизнь на лоне природы была полна для нас такого очарования, что мы унывали всякий раз, когда приходилось с нею расставаться, и ехали в город, в школу, повеся головы, точно нас везли в тюрьму.
Ранний период детства я провел в родной семье, никогда с ней не разлучаясь. Наши родственники непосредственного влияния на нас, детей, не имели, и я упомяну лишь дядю, брата моей матери, — Кузьму Александровича Глаголева.
Он учился в семинарии вместе с моим отцом, и благодаря его посредничеству, кажется, и состоялся брак моих родителей. Кузьма Александрович в молодости придерживался направления либерального, а времена были строгие; по окончании семинарии он приехал к сестре, и случилось ему войти в церковь с палкой: набалдашник был у нее в виде собачьей головы. Какая–то помещица эту подробность приметила и написала жалобу в консисторию: семинарист вносит в церковь собачью голову. На Кузьму Александровича была наложена епитимья — 10 поклонов в церкви перед богослужением. Этому строгому постановлению он покориться не хотел, а тут один мелкий помещик ему посоветовал: «Плюньте вы на консисторию и поедемте со мною в Западный край». Так дядя и сделал — стал учителем в семье этого помещика; потом уехал за границу — и пропал. Памятью о нем осталась песня, которую мой отец, сидя вечером на крылечке, любил напевать. Кто ее автор, неизвестно. Ее можно назвать «Песнь эмигранта»:
Ночь тихая… Прелестью полны…
И горы, и миртовый лес,
И месяц в лазурные волны
Глядится с высоких небес.
Порою мелькает гондола,
Блестя серебристой струей,
И лишь вдалеке баркаролла
Ночной нарушает покой…
Все так… но зачем же невольно
Сердце сжимает печаль?
И бьется оно как–то больно,
И просится будто бы в даль?
На север печальный, угрюмый,
Печальный, но сердцу родной.
Туда же несутся и думы,
Туда я стремлюся душой…
Туда, где не мирт расцветает,
Но ель одиноко растет,
И, серый гранит омывая,
Балтийское море ревет…
Глава 2. ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ (1877–1882)
Грамоте я хорошо выучился еще в дошкольном возрасте: нас, детей, обучал отец. Когда же пришла пора отдать меня в школу, меня отвезли в духовное училище в Белёв, соседний уездный город, расположенный на высоком берегу Оки. Мне было 9 лет.
«Бурса» была бедная, простая, помещалась в старом, пыльном монастырском здании, со стертыми полами. Но мы, ученики, жили не в училище, а на вольных квартирах, иногда по нескольку человек у одних хозяев. Меня отец водворил к одному диакону. Нас проживала у него целая «коммуна» — несколько мальчиков от 9 до 14 лет. Заботиться о пропитании надо было самим; мы устраивали складчину, выбирали казначея и по очереди ездили за покупками. Остатки от бюджета тратили на угощенье. Ели в меру наших материальных возможностей, но соображаясь с постами, в заговенье обычно наедались втрое. Спали мы, одни — на койках, а другие, по 2–3 человека, — на нарах. Жили бедно, патриархально, вне всяких формальных правил поведения, но весьма самостоятельно. Это имело, может быть, и свою хорошую сторону, но, несомненно, имело и дурную. За отсутствием правильного педагогического наблюдения мы своевольничали и подчас от последствий нашего своеволия жестоко страдали.
Как–то раз мы, все 8–9 человек, после бани напились воды прямо из бочки, что стояла под водосточной трубой, — и все поголовно заболели тифом. Нас свезли в больницу. Я был на волосок от смерти, долго не мог оправиться, даже разучился ходить. Рождественские каникулы для нас пропали. Лежим мы — в городе праздник, колокола звонят… — и нет для нас ни рождественских радостей, ни святочных забав. Если никто попечительно от беды нас не уберег, зато много мы видели во время болезни доброй отеческой заботы со стороны учителя М.И.Успенского, заведующего больницей, и самоотверженной сиделки, которая, выходив всех нас, от нас же заразилась тифом и умерла.
Случилась с одним учеником беда и похуже тифа. На берегу Оки пекли на жаровне оладьи на постном масле, и продавались они по копейке за пару. Мальчик вздумал с торговкой держать пари: «20 штук съем, и тогда оладьи даром, а нет — заплачу». Съел все 20 — и умер от заворота кишок.
А я едва не утонул. Ока река опасная. Нам позволяли купаться в присутствии надзирателя, но мы, пользуясь свободой беспризорности, бегали на реку и купались иногда по нескольку раз в день. Я уже шел ко дну. Журчанье воды… на миг сознание, что гибну… потом — состояние равнодушия и ощущение слияния с природой… Только самоотверженная энергия одного старшего ученика, отличного пловца, спасла меня: он бросился ко мне, я уцепился за него мертвой хваткой, он с силой оттолкнулся от бревна, случайно нащупав его ногой на дне, и подтянул меня к берегу. Всех нас, участников купанья, в тот день наказали — поставили на колени — и, хотя я был хороший ученик, ко мне отнеслись, как и ко всем, без снисхождения.
Наша вольная жизнь вне стен училища давала немало поводов для проявления нашей распущенности. Мы любили травить собак, бегали по городу босиком, играли на улицах в бабки… благопристойностью и воспитанностью не отличались. Была в нас и просто дикость. Проявлялась она в непримиримой вражде к гимназистам и к ученикам Белёвского технического училища имени Василия Андреевича Жуковского. Они нас называли «кутейниками», мы их — «селедками». Ежедневно враждебное чувство находило исход в буйных столкновениях на мосту. Мы запасались камнями, палками, те тоже, и обе стороны нещадно избивали друг друга. Как–то раз я попался в плен и вернулся весь покрытый синяками. На эти побоища старые учителя смотрели сквозь пальцы, даже не без интереса относились к проявлениям нашей удали; лишь впоследствии начальство разъяснило нам всю дикость подобных схваток.
Бывали у нас развлечения и иного — мирного свойства. В часы досуга, собравшись все вместе, мы пели песни. Голоса у нас были свежие, хорошие, но репертуар очень небогатый; более всего пели песни военные и вообще патриотические: «Славься ты, славься, наш Русский Царь», «Мать Россия, Мать Российская земля», «Было дело под Полтавой» и др.; особенно любили песню про освобождение крестьян: «Ах ты, воля, моя воля, золотая ты моя». Это был отголосок духовного переживания народом недавно совершившейся крестьянской освободительной реформы. Теперь я вспоминаю, как глубоко переживалась в народе эта реформа, как захватила она его душу… По России ходила легенда о «Золотой грамоте», которую Царь дал народу. Эта грамота была окружена светлым ореолом; ее изучали в школе с первыми начатками грамотности, о ней горячо, с необыкновенным волнением, говорили, спорили в семье и школе. Отражение этого настроения мы находим в чудном стихотворении А.Н.Майкова, где говорится, как при свете огонька в деревенской избе, при всеобщем напряженном внимании «с трудом от слова к слову, пальчиком водя, по–печатному читает мужикам дитя… про желанную свободу дорогую весть», т. е. читает манифест 19 февраля. Как известно, этим настроением воспользовались революционеры; переодевшись в генеральское платье, они разъезжали по деревням и под видом царской «Золотой грамоты» распространяли свои прокламации о «черном переделе» земли и проч.
Учителя нашего училища по своему образованию делились на «семинаристов» и «академиков». «Семинаристы» были проще, доступнее, лучше к нам относились, «академики» смотрели сверху вниз. Среди учителей было распространено пьянство. В приготовительном классе учитель наш был талантлив и имел на нас хорошее влияние, потом он спился. Учитель греческого языка страдал алкоголизмом. Пили и другие. Подтянул училище новый смотритель М.А.Глаголев. Питомец Киевской Академии, франт и крикун, он подтягивал и учителей, и учеников, и квартирных хозяев. За провинности сажал нас в карцер (телесные наказания в училище не применялись), но учебная наша жизнь, в общем, оставалась прежней.
Из учителей помню учителя чистописания Ивана Андреевича Сытина, старичка диакона, в совершенстве писавшего прописью гусиными перьями. Я учился хорошо, а писал плохо, и добрый о.диакон позвал меня (и еще одного ученика) к себе на дом подучиться. Жил он с диаконицей на редкость опрятно: полы всюду тщательно вымыты, везде чистенькие половички… Диаконица, не полагаясь на чистоту наших сапог, велела нам в сенях разуться. Но каково было ее негодование, когда обнаружилось, что мы, стараясь преуспеть в каллиграфии, усердно чистили наши перья, по привычке отряхивая чернила прямо на пол! Провинность была столь серьезна, что уроки прекратились.
Помню учителя пения о.диакона Бимберекова. Мы сложили о нем песенку и распевали ее, поджидая его в класс:
Ут, ут, — козел тут…
Ре, ре, — на дворе…
Ми, ми, — за дверьми…
Учитель русского языка дал мне первый толчок к ознакомлению с русской литературой. Вне уроков мы зачитывались «Задушевным словом», «Семейными вечерами», «Детским чтением» — прекрасными детскими журналами, а также Майн Ридом, Купером… Учитель мне дал «Мертвые души». «Что же — понравилось? Понял, какие души?» — спросил меня учитель. Идею я не понял, но отдельные эпизоды, все смешное: Селифан, тарантас, Коробочка… мне очень понравились. По–настоящему, глубоко и с разуменьем, я полюбил русскую литературу лишь в семинарии.
Упомяну и про сторожа, старого николаевского солдата, которого мы прозвали «Зиверко» («Сиверко»). Он был в некотором роде нашим благодетелем. Мы устраивали складчину, подкупали его за 2–3 копейки, и он в воскресенье, когда учителей в школе не было, открывал учительскую, а мы подглядывали в журнал, дабы узнать наши отметки (отметки от нас скрывали). Кончилось плохо: один ученик не только свою отметку подглядел, но ее и подправил… Это обнаружилось — произошел скандал.
Состав учеников был пестрый. Были мальчики и хорошие и дурные. Мне случилось жить на квартире с сыном состоятельного священника; он крал у хозяйки по мелочам, а как–то раз ночью выкрал у хозяйкиного брата из бумажника 5 рублей. Поначалу вора не могли найти, началось строгое расследование, и мне пришлось пережить испытание: вместе со всеми я, примерный ученик, был подвергнут допросу. После долгого запирательства мальчик сознался. Его очень строго наказали, но воровать он продолжал. За ним так и установилась кличка: вор! вор! Психологически непонятна была его склонность к воровству: он не нуждался, как многие другие ученики.
Если пребывание в духовном училище бедно светлыми воспоминаниями, все же они у меня есть. Таким воспоминанием остались «маевки». Мы отправлялись с учителями в дальнюю прогулку за город, например в село Мишенское, где родился и жил В.А.Жуковский. После осмотра дома мы играли в лапту в парке, на лужке; нас угощали калачами; набегавшись вволю, мы возвращались довольные дальней и приятной прогулкой. Эти «маевки» завел у нас новый смотритель М.А.Глаголев, за что мы с благодарностью его вспоминали.
Самое светлое воспоминанье тех школьных лет — наша ежегодная весенняя радость, ожидавшая нас по окончании учебного года. Возвращение домой, в родные семьи, на летние каникулы… Что могло с этой радостью сравниться! Мы шли босиком, веселой компанией, пробираясь по зеленеющим заливным лугам Оки… Чувство природы, воли, радости существованья наполняло наши души какой–то особой, чудной поэзией. «Тюрьма» с ее учебой и сердитыми (хотя и добрыми по природе) учителями забывалась, летний отдых казался бесконечным, и мы шли домой, словно спешили на веселый, светлый праздник…
Когда я вернулся после первого учебного года на лето домой, моя мать сказала мне: «Едем к старцу!» С этого лета и до кончины старца Амвросия я побывал в Оптиной Пустыни раз пять. Эти поездки с матерью я очень любил. Поля, луга, цветы, монастырская гостиница… все меня развлекало. Когда я приезжал к о.Амвросию девятилетним мальчиком, старец со мной шутил: поставит на колени и, бывало, скажет: «Ну, рассказывай грехи». Меня это смущало. А когда я стал постарше, старец Амвросий сам меня исповедовал.
Лишь эти светлые воспоминания и освещают школьный период моей жизни. Я окончил духовное училище в 1882 году первым учеником. Мне было 14 лет.
Глава 3. СЕМИНАРИЯ (1882–1888)
По окончании Белёвского духовного училища я поступил в Тульскую семинарию. В ней я пробыл с 14 до 20 лет. Эти годы имели важное значение для моего духовного развития. Насколько условия семинарской жизни мне помогали или мешали, будет видно из последующего моего рассказа.
Жили семинаристы по квартирам на окраинах города, в темных улочках, где грязи по колено (лишь стипендиаты, а поначалу я к ним не принадлежал, жили в интернате). Свободой они пользовались полной, но зачастую пользовались дурно: нередко обманывали начальство, прибегая ко всяким уловкам, чтобы не приходить на уроки, устраивали попойки, шумели, распевая песни…
Петь мы все очень любили и умели петь удивительно. Церковные службы семинарский хор пел отлично, пел и в своей церкви, и по приходам. Мы много и охотно тратили время на спевки. Сочные, звучные семинарские басы приглашались в городе на свадьбы, дабы оглушительно прогреметь: «Жена да убоится мужа своего». Я пел средне: на правый клирос меня не пускали.
Попойки, к сожалению, были явлением довольно распространенным, не только на вольных квартирах, но и в интернате. Пили по разному поводу: праздновение именин, счастливые события, добрые вести, просто какая–нибудь удача… были достаточным основанием, чтобы выпить. Старшие семинаристы устраивали попойку даже по случаю посвящения в стихарь (это называлось «омыть стихарь»). Вино губило многих. Сколько опустилось, спилось, потеряв из–за пагубной этой страсти охоту и способность учиться!
Распущенность проявлялась не только в пьянстве, но и в неуважительном отношении к учительскому персоналу. Заглазно учителей именовали: «Филька», «Ванька», «Николка»… искали случая над ними безнаказанно поиздеваться. Например, ученики 4–го класса поставили учителю на край кафедры стул с тем расчетом, чтобы он, сев на стул, полетел на пол. Так и случилось. Класс разразился хохотом, «Учитель упал, а вы смеетесь? Какое хамство!» Ученики смутились…
К вере и церкви семинаристы (за некоторыми исключениями) относились, в общем, довольно равнодушно, а иногда и вызывающе небрежно. К обедне, ко всенощной ходили, но в задних рядах, в углу, иногда читали романы; нередко своим юным атеизмом бравировали. Не пойти на исповедь или к причастию, обманно получить записку, что говел, — такие случаи бывали. Один семинарист предпочел пролежать в пыли и грязи под партой всю обедню, лишь бы не пойти в церковь. К церковным книгам относились без малейшей бережливости: ими швырялись, на них спали…
Таковы были нравы семинаристов. Они объяснялись беспризорностью, в которой молодежь пребывала, той полной свободой, которой она злоупотребляла, и, конечно, отсутствием благотворного воспитательного влияния учителей и начальствующих лиц.
Начальство было не хорошее и не плохое, просто оно было далеко от нас. Мы были сами по себе, оно тоже само по себе. Судить никого не хочу. Среди наших руководителей люди были и добрые, но вся их забота была лишь в том, чтобы в семинарии не происходило скандалов. Провинившегося в буйном пьянстве сажали в карцер и выгоняли из семинарии. Реакция на зло была только внешняя.
Ректор семинарии, важный, заслуженный, маститый протоиерей, жил во дворе семинарии, в саду. Он любил свой сад, поливал цветы. У нас появлялся редко. Свои обязанности понимал так: «Мое дело, — говорил он, — лишь подать идею». Применять его идеи должны были другие: инспектор и его помощники. От нас он был слишком далек и, по–видимому, нас презирал. Когда впоследствии, уже будучи назначен инспектором Владимирской семинарии, я зашел к нему проститься и просил дать наставление, он сказал: «Семинаристы — это сволочь», — и спохватился: «Ну, конечно, не все…» К сельскому духовенству он относился свысока, третировал, как низшую расу («попишки»). От него мы не слышали ни одной проповеди, тогда как семинаристы в последнем классе обязаны были обучаться проповедничеству, и посвященные в стихарь произносили в церкви «слово». Обычно это «слово» вызывало иронию слушателей–товарищей.
Инспектор был светский человек, помещик, и часто уезжал в свою усадьбу. За ним приезжал кабриолет. Стоило нам издали его экипаж приметить (последние годы я был стипендиатом и жил в интернате), — и мы ликовали: сейчас уедет! К нам он относился тоже формально, не шел дальше наблюдений за внешней дисциплиной; живого, искреннего слова у него для нас не находилось.
Начальство преследовало семинаристов за усы (разрешалось одно из двух: либо быть бритым, либо небритым, а усы без бороды не допускались), но каковы были наши умственные и душевные запросы и как складывалась судьба каждого из нас, этим никто не интересовался.
Кормили нас хорошо, но не всегда досыта. Нашей мечтой был обычно кусок мяса, так малы были его порции, так жадно мы делили кусочек отсутствующего ученика. Белый (пшеничный) хлеб был лакомством.
Сочетание всех этих условий семинарской жизни обрекало молодежь на тяжкое испытание: мы обладали свободой при полном неумении ею пользоваться. Многие, особенно в начале семинарского курса, в возрасте 14–17 лет, вынести этого не могли и погибали. Из 15 человек, окончивших курс Белёвского училища, до 6–го класса семинарии дошло только 3 ученика. Кто отстал, кто выскочил из семинарии, кто опустился, забросил учение и уже не мог выкарабкаться из трясины «двоек». Жизнь была серенькая. Из казенной учебы ничего возвышающего душу семинаристы не выносили. От учителей дружеской помощи ожидать было нечего. Юноши нравственно покрепче, поустойчивей, шли ощупью, цепляясь за что попало, и, как умели, удовлетворяли свои идеалистические запросы. Отсутствие стеснений при благоприятных душевных данных развивало инициативу, закаляло, вырабатывало ту внутреннюю стойкость, которую не достичь ни муштрой, ни дисциплиной, но для многих свобода оборачивалась пагубой. При таких условиях ни для кого семинария «аlma mater» быть не могла. Кто кончал, — отрясал ее прах. Грустно вспомнить, что один мой товарищ, студент–медик Томского университета, через год по окончании семинарии приехал в Тулу и, встретившись со своими товарищами, сказал: «Пойдем в семинарию поплевать на все ее четыре угла!»
Такова была семинария, в которую я попал.
Первые годы были для меня какие–то пустые. Жил я жизнью глупой, пошлой, рассеянной в соответствии с бытом и нравами, которые царили вокруг меня. Я вырвался на полный простор и поначалу, как и многие мои товарищи, плохо использовал свою свободу.
Прежде всего стал учиться курить, но втянуться в курение не мог: оно мне было противно. Из удали раза два–три напился, чтобы доказать, что не хуже других могу осушить чайный стакан водки, играл иногда в карты, ученье забросил, распустился… При переходе во 2–й класс едва не провалился на экзамене по истории. Кто бы узнал во мне первого ученика Белёвского училища!
Во 2–м классе казенной наукой я по–прежнему мало занимался, зато страстно полюбил читать книжки. Записался в городскую библиотеку и читал все без разбора: Шпильгагена, Вальтер Скотта, Шекспира, Диккенса, Золя, русских классиков… Несмотря на это хаотическое чтение, у меня образовался инстинкт к хорошей книге — литературный вкус. Иностранную литературу я воспринимал плохо, а русскую литературу горячо полюбил. Помню, «Обрыв» Гончарова, «Дворянское гнездо» Тургенева, «Рыбаки» Григоровича произвели на меня прекрасное, сильное впечатление. Я стал усердно относиться к урокам русской литературы, и, если остальные предметы казались мне по–прежнему скучными, русской словесностью я стал заниматься с увлечением. Преподаватель литературы был живой, интересный человек, и я значительно ему обязан тем, что он укрепил во мне любовь к русской поэзии и прозе. При всей моей бедности я купил дешевое издание Пушкина, так велико было мое восхищение пушкинской поэзией. На экзамене во 2–м классе мне попался Пушкин, и я отлично сдал «Евгения Онегина». Чтение стало моей страстью. Зайдешь, бывало куда–нибудь в сад, в малину, — и читаешь… Воспитательное значение литературы для молодежи огромно. Трудно даже учесть меру ее благотворного влияния. Она повышала самосознание, спасала от грубости, распущенности, безобразия поступков, питала склонность юношеской души к идеализму. Я стал выправляться, хорошо учиться. У меня появились умственные запросы, более серьезные интересы. В этом состоянии душевного просветления я перешел в 3–й класс.
Мое увлечение литературой во 2–м классе подготовило почву для дальнейшего душевного развития; в 3–м классе на нее пали семена тех политических учений, которые стали проникать в нашу среду. Это была пора царствования Александра III после убийства Александра II. В подполье развивался политический протест, возникали нелегальные организации. Местные тульские революционеры завербовывали юнцов из учащейся молодежи и охотились на семинаристов. Вождем этого социалистического движения был секретарь консистории В. Поначалу молодежь собиралась на невинные литературные вечера по субботам, перед всенощной. Читали доклады о Достоевском, о Пушкине… издавали журнальчик, мальчишки писали стихи. Никому в голову не могло прийти, что во главе кружка социал–революционная организация. Власти ее накрыли. В. и многих членов кружка арестовали (среди них были и гимназисты). Некоторые семинаристы оказались под подозрением. В семинарию нагрянули с обыском, кое–кого перехватили, кое–кого повыгнали или лишили казенного содержания. Мой товарищ Пятницкий, сын бедного диакона, талантливый юноша, музыкант, поклонник Шекспира, — застрелился. В ночь перед смертью он написал следующие стихи:
Когда холодное дуло
К виску горячему приставлю,
Что думать я себя заставлю?
Когда ж гашетку револьвера
Рука нажмет сама собой,
Что станется тогда со мной?..
Пятницкий старался бравировать своим атеизмом и революционными идеями. Но если судить по этим стихам, сколько религиозных сомнений таилось в его юной душе! И какой религиозный человек из него мог бы выйти, когда бы в нем перебродили юношеские незрелые настроения!
Литературные собрания я посещал, был лишь наблюдателем, нагрянувшая гроза меня не коснулась. След все же на многих из нас она оставила. Мы сделались сознательней, невольно стали сопоставлять революционные политические чаяния с опытом социальной неправды, которую сами наблюдали, — и в нас возникал бесформенный протест, образовывалась накипь…
В первых двух классах я учился посредственно; «тройка» — этот балл «душевного равновесия», как выражался один наш учитель, — была довольно обычной моей отметкой. В 3–м классе я подтянулся настолько, что перешел в 4–й класс первым учеником.
Во время моей отроческой беспризорности главное, что меня спасло, это духовное влияние и руководство старца о.Амвросия. Теперь, когда я, будучи семинаристом, приезжал в Оптину Пустынь, я каялся о.Амвросию в семинарских грехах, а он меня журил и ставил на поклоны. Его благодетельная рука хранила меня от дурных путей, чудесно оберегала от всякой нечистоты… да и до сих пор я живу его святыми молитвами. Я в это верю.
Летние каникулы, которые я ежегодно проводил дома, в родном с.Сомове, а затем в с.Апухтине, куда перевели моего отца, в кругу моей семьи, оказывали на меня тоже самое благотворное влияние. Благодаря мистической настроенности моей матери жизнь в нашем семейном гнезде дышала простой, но горячей верой, упованием на Промысл Божий, на Божье милосердие… О такой вере не спорят, ее не обсуждают — ею живут. В обстановке крепкого, благочестивого строя с меня быстро сбегало все наносное, налипшее за зиму в семинарии, и я возвращался к бесхитростной, живой вере моего детства.
В первых двух классах семинарии преподавали множество предметов, которые определялись одним наименованием: «словесность»; в 3–м и в 4–м — «философию», обнимавшую логику, психологию и обзор философских учений; в 5–м и в 6–м — богословие.
В 4–м классе я серьезно увлекся философией, но и литературы не оставлял, — по собственной инициативе принялся за Белинского. Преподаватель философии, старый, опытный педагог, читал свой предмет увлекательно, с ясностью и простотой. Он поручил мне ответственную работу: я должен был записывать каждый его урок и давать ему записки на просмотр. По этим запискам класс и учился. Эта работа была хорошим упражнением. Я научился систематической мысли, логическому построению доказательств, приобрел навык ясно и кратко излагать то, что продумал, стал понимать значение точного и стройного мышления. Я научился рассуждать. Сухую логическую схему мысли я не любил, но рассуждения на свободные литературные темы мне очень нравились.
Имел влияние на наше развитие и преподаватель Священного Писания, магистр богословия; он учил нас правильно говорить и писать; но у него была маленькая слабость: он любил подпустить красивой фразеологии иногда и без особой попечительности об ее соответствии с глубиной содержания.
Упомяну еще о молодом образованном учителе истории. Он окончил Петербургскую Духовную Академию; всегда мягкий, спокойный, он внес в нашу среду какой–то новый дух, не сразу нами понятый. Помню, что на его деликатный вопрос одному моему товарищу: «Не угодно ли вам ответить?» — последовал спокойный ответ: «Нет, не угодно». Учитель страшно сконфузился от этой грубости.
В 4–м классе мы стали увлекаться театром и бегали тайком в Кремлевский сад на спектакли (посещать театр нам было запрещено). Потом решили поставить любительский спектакль, сыграть в семинарии своими силами «Трудовой хлеб» Островского. Целый месяц тайно от начальства шла подготовка. Мне дали роль старого чиновника, лысого, в парике. Для спектакля выбрали день именин архиерея, когда вся семинарская корпорация отправлялась к нему на дачу. Пользуясь этим счастливым обстоятельством, мы вечером благополучно сыграли нашу пьесу. Узнал об этом стороной только инспектор (попалась ему в руки наша афиша), но он, поиздевавшись над нами, особенно над исполнителями женских ролей, все же официально в правление не донес, и наше театральное увлечение никаких неприятных последствий не имело.
Общеобразовательный отдел предметов заканчивался в 4–м классе, и некоторые ученики семинарию покидали. Одни, поспособнее, держали экзамены на «аттестат зрелости» и поступали в университет; другие, к науке не склонные и мечтавшие о мундирах и шашках, шли в военные училища. В семинарии оставались лишь ученики, приуготовлявшие себя к религиозно–церковному пути.
В 5–м и в 6–м классах нам читали теоретические богословские предметы: догматическое богословие, нравственное богословие, истолкование Священного Писания Нового Завета, церковную историю; и практические: гомилетику, литургику, практическое руководство для пастырей.
Хотя никто над нами не работал и нас не развивал, само собой в эти годы начинали к нам прививаться пастырские интересы, которые иногда переплетались с юношескими народническими мечтами о служении меньшему брату. Многие из нас вынесли из своих семей, из сел и деревень, где протекало детство в непосредственном общении с народом, смутные чаяния, мечтанья, а также запас воспоминаний о горьких обидах и унижениях. Сочетание богословских занятий, приуготовлявших нас к пастырству, и социальных идей породило то своеобразное «народничество», к которому и я тяготел тогда всей душой. Народ вызывал во мне глубокую жалость. Меня тревожило, что он пропадает в грязи, темноте и бедности. Это настроение разделяли и другие семинаристы. В нашей семинарии учились Глеб и Николай Успенские. «Народничество» в произведениях Глеба Успенского, вероятно, связано с теми настроениями, которые он воспринял в семинарской среде. С Николаем мы были даже знакомы — он встречался с семинаристами, был женат на дочери нашего сельского священника. Судьба его грустная: он впоследствии опустился, спился, бродил по ярмаркам с дочерью своей и каким–то крокодилом, девочка плясала и собирала медяки в шляпу отца…
Своеобразная идеология «народничества» внушала горячее желание послужить народу, помочь его культурному и хозяйственному развитию, хотелось поскорей стать сельским священником и приняться за духовно–просветительную работу. К сожалению, в этих наших запросах мы были предоставлены самим себе, наши воспитатели и преподаватели мало нам помогали, чтобы не сказать больше…
Преподаватель практических предметов по пастырству хотя и добрый, религиозный человек, но как светский не внушал нам большого доверия. Когда он в вицмундире иногда горячо говорил нам о задачах пастырства или учил церковному проповедничеству, невольно в душе возникал искусительный вопрос: почему же он, так просто трактующий о пастырстве, сам не идет по этому пути? Когда один из наших преподавателей на наших глазах сделался священником, мы почувствовали к нему особое уважение, которым он дотоле у нас не пользовался.
При таких условиях, естественно, в наших планах о будущем был значительный разброд. Одни думали о Духовной Академии, другие — об университете, третьи — о священстве и, наконец, четвертые не задавались идеальными стремлениями, а мечтали о личном благополучии.
Последние два года я усердно занимался. Изучение Слова Божьего — Священного Писания, вопросы морали, пастырства глубоко меня интересовали. Помимо официальных занятий я с любовью читал сочинения епископа Феофана Затворника, протопресвитера И.Л.Янышева, духовно–богословские журналы. Складывалось православное церковное мировоззрение и загоралось желание служить именно Святой Церкви и через Церковь нести свет православной веры нашему народу.
Приближалась пора окончания семинарии, и я стал более определенно думать о будущем. Мне хотелось служить народу, но как свое желание лучше осуществить, я не знал. Избрать ли скромную долю сельского пастыря, идти по стопам отца? Поступить ли в Академию, дабы впоследствии во всеоружии высшего образования служить той же цели? Я колебался. В этом состоянии раздумья я и кончил семинарию в 1888 году первым в нашем выпуске.
Глава 4. АКАДЕМИЯ (1888–1892)
Лето по окончании семинарии я провел, как всегда, в родной семье. В течение ближайших летних месяцев мне предстояло решить свою дальнейшую судьбу. Академия меня влекла, но отсрочивала осуществление моих народнических стремлений. Идиллическая мечта — стать сельским священником, создать свою семью и служить народу — исключала высшее образование. Мать моя академическим планам моим не сочувствовала.
– Захиреешь ты там, здоровья ты слабого — зачем тебе идти в Академию? Архиерей даст приход, женишься, и наладится твоя жизнь… — убеждала она меня.
Я не знал, что мне делать, и решил съездить в Оптину Пустынь посоветоваться со старцем Амвросием.
К о.Амвросию приходили за духовной помощью люди всех классов, профессий и состояний. Он нес в своем роде подвиг народнический. Знал народ и умел с ним беседовать. Не высокими поучениями, не прописями отвлеченной морали назидал и ободрял он людей — меткая загадка, притча, которая оставалась в памяти темой для размышления, шутка, крепкое народное словцо… — вот были средства его воздействия на души. Выйдет, бывало, в белом подряснике с кожаным поясом, в шапочке — мягкой камилавочке, — все бросаются к нему. Тут и барыни, и монахи, и бабы… Подчас бабам приходилось стоять позади — где ж им в первые ряды пробиться! — а старец, бывало, прямо в толпу — и к ним, сквозь тесноту палочкой дорогу себе прокладывает… Поговорит, пошутит, — смотришь, все оживятся, повеселеют. Всегда был веселый, всегда с улыбкой. А то сядет на табуреточку у крыльца, выслушивает всевозможные просьбы, вопросы и недоумения. И с какими только житейскими делами, даже пустяками, к нему не приходили! Каких только ответов и советов ему не доводилось давать! Спрашивают его и о замужестве, и о детях, и можно ли после ранней обедни чай пить? И где в хате лучше печку поставить? Он участливо спросит: «А какая хата–то у тебя?» А потом скажет: «Ну, поставь печку там–то…»
Мне все это очень нравилось.
Я поведал старцу мое желание послужить народу, а также и мое сомнение: на правильный ли я путь вступаю, порываясь в Академию?
– Да, хорошо служить народу, — сказал о.Амвросий, — но вот была купчиха, сын стремился учиться в высшем учебном заведении, а мать удерживала: «Обучайся, мол, у отца торговле, ему помогать будешь, привыкнешь, в дело войдешь…» Что же? Захирел он в торговле, затосковал и помер от чахотки.
Старец ничего больше не добавил, но смысл слов я понял и сказал матери, что ехать в Академию мне надо.
Неизвестно, что меня ожидало, если бы я не последовал указанию о.Амвросия. С молодыми либеральными батюшками тогда не стеснялись, впоследствии многие оказались со сломанными душами, случалось, попадали под суд и, не выдержав тяжелых испытаний, кончали идеалисты пьяницами, погибали… Мое решение поступить в Академию было теперь бесповоротно, и я стал готовиться к конкурсным экзаменам.
В Московскую Духовную Академию нас съехалось на конкурс человек 75. Приняли 50. Когда после экзаменов пришел инспектор с листом и стал перечислять принятых в Академию и я расслышал свою фамилию — какое это было радостное потрясение! Какая блаженная минута! Я студент! Передо мной открывается широкая жизненная дорога…
Поначалу в Академии я не знал, за что взяться. Все меня влекло, все казалось интересным. Лишь постепенно я стал разбираться в разнообразии предметов и их соответствии с моими склонностями. Академическая наука пришлась мне по сердцу. Я душевно расцвел.
В Академии предметы делились на 2 группы: 1) предметы общебогословского содержания (общеобязательные); 2) предметы специальные; они распадались на 2 отделения: историческое и литературное. Студентам предоставлялся выбор одного из них. Я выбрал литературное отделение: мне хотелось впоследствии стать преподавателем словесности. Из языков выбрал греческий и немецкий, последний потому, что для изучения богословия при современном состоянии богословской науки, по мнению наших профессоров, немецкий был необходим.
В занятиях наших самое важное были сочинения. Отметки за сочинения считались в четыре раза выше отметок за устные экзамены. Это различие правильно. В сочинениях студент обнаруживает весь свой научный багаж и всю меру своего развития. Первое сочинение было мной написано на следующую тему: «Изменение идеалов искусства под влиянием начал, внесенных в мир христианством». Тема широкая, литературная. Я работал над ней с подъемом, с наслаждением. Мне пришлось ознакомиться с разными образцами дохристианского языческого искусства, проследить, как преобразился идеал красоты земной в идеал красоты небесной, как Афродита небесная восторжествовала над Афродитой земной. Для христианской эры искусства мне пришлось прочитать произведения многих великих поэтов и писателей: «Потерянный рай» Мильтона, «Мессиаду» Клопштока и др…. Мой труд увенчался успехом, за сочинение я получил 5.
В первый год специально богословских вопросов у меня не возникало, а запросы общего характера, умственные и душевные, я имел полную возможность удовлетворять.
Академия помещалась в Троице–Сергиевской Лавре. Тихая обитель, мощи Преподобного Сергия, монахи, паломники, колокольный звон… Чувствовалось, что в Лавре, как в фокусе, собраны лучи русского благочестия. Все кругом было овеяно религиозной красотой. Образ Преподобного, казалось, витает над Лаврой… Я знал студентов и профессоров, которые ежедневно перед началом занятий молились у святых мощей. Атеистической похвальбе уже здесь не было места.
Снова меня окружала атмосфера религиозной веры, молитвенной настроенности, тишины, народного благочестия. Чудесные праздничные службы, несметные толпы богомольцев… Как я любил забраться в самую их гущу, в самую–то давку. Несет, бывало, тебя волна людская, и ты плывешь с нею по течению в такой тесноте, что ноги земли не касаются. Я любил ощущать общность, совместность, чувство людского единства. Что приобрел я в этой сермяжной массе — не учесть и словами не определить. Точно какие–то флюиды исходили от этих толп… Соучастие в религиозном порыве народа к святыне оставляло неизгладимое впечатление на тех из нас, кто его воспринять хотел, кто внимательно присматривался к тому, что вокруг происходит.
Великое преимущество Московской Академии именно в том и заключалось, что она помещалась в Сергиевской Лавре. Сколько раз ее ни собирались перевести в Москву, митрополит Филарет этому противился. Петербургская Академия давала чиновников синодального ведомства. Протекция, карьеризм, светский столичный дух… — характерные ее черты. Наша Академия — «деревенская», несколько грубоватая — была лишена благородных развлечений столичного центра и светских городских интересов, зато научно стояла высоко: лучшие научные труды вышли из нашей Академии. Этому способствовала ее уединенность, досуги, которые в Сергиевом Посаде было тратить негде, отсутствие городской суеты. Однако наша уединенность не мешала притоку разнообразных впечатлений (благодаря близости Лавры к Москве). Мы ездили в театр: в драму, в оперу. Не забыть мне первого моего посещения Большого театра! Это было 30 августа, в день именин Государя. Давали «Жизнь за Царя». Впечатление чудесной волшебной сказки… Мы любили театр. Ради него отказывали себе в последнем. При полном содержании нам еще полагалось от Академии 3 рубля «чаевых» на мелкие расходы, но мы предпочитали не пить чаю, лишь бы пойти в театр. Знакомые студенты Московского университета и семинарии помогали нам доставать билеты, простаивая в очередях, дабы получить дешевые, на галерею. Оперу я очень любил, но еще больше меня привлекал Малый театр, и я нередко посещал его, хотя и ценою некоторых жертв. Мы были вынуждены возвращаться из Москвы с последним поездом, а ворота в Лавре запирались в 11 часов. Кто не попадал к сроку, — ночуй, где хочешь. Приедешь, бывало, в полночь и до 3,5 часа дремлешь где–нибудь близ Лавры на скамеечке. Но все тогда было хорошо, все было весело… Однажды в театре у меня украли обратный железнодорожный билет, и я, не имея копейки в кармане, всю ночь проходил по улицам Москвы, чтобы утром занять у товарища денег.
В Москву мы ездили не только в театр. У нас завязались знакомства со студентами Московского университета разных факультетов. Моими приятелями были студенты–медики. Они водили меня в анатомический театр. Трупный запах, вид распластанных, разрезанных тел… ужасное зрелище! Я не мог его вынести, а приятели надо мною потешались.
Любили мы ездить и на университетские диспуты, и на защиту диссертаций. Были любознательны, образованность весьма ценили, и, хотя сами еще стояли на первых ее ступенях, мы уже были не прочь покичиться при случае своими скороспелыми познаниями.
Помню, вкусив премудрости научной психологии, мы вздумали посмеяться над нашим старым служителем — истопником Андреем. Однажды вечером, когда он пришел посмотреть, как топится печь, мы с некоторой важностью задаем ему вопрос: «Скажи, Андрей, в чем превосходство человека над собакой?», а он, подумав, говорит: «Да ведь, господа, смотря по тому, какой человек и какая собака…» Этот остроумный ответ простого человека так нас озадачил, что мы не нашлись, что ему ответить, и это отбило у нас охоту кичиться своею «образованностью».
Полная новых впечатлений жизнь в сочетании с интересной научной работой раздвигала умственные горизонты. Началась работа мысли над выработкой миросозерцания, инстинктивные поиски его гармонии, его единства. Материалистический позитивизм меня органически отталкивал, но этого было мало, хотелось найти серьезные доводы для его опровержения. На первом курсе я взял темой у профессора В.Д.Кудрявцева: «О самопроизвольном зарождении». Я был ею захвачен. Как этот тезис опровергнуть? Как объяснить многозначительный факт: в закупоренной бутылке самопроизвольно возникает жизнь? Теорий существовало много. Это был 1888 год — период жгучих споров об открытии микроорганизмов Пастером. В научных кружках кипели дебаты за и против его открытия. Сторонником механического происхождения жизни я не был. Из мертвой материи живой клеточки не создать. Это положение я считал истиной. Все мои усилия были направлены к тому, чтобы его философски обосновать, и я усердно занимался у профессора В.Д.Кудрявцева.
На 1–м курсе я освоился с Академией и стал настоящим студентом. Однако новое состояние меня до дна еще не захватило. На первые Рождественские каникулы я решил поехать на родину, чтобы повидаться с родителями и показаться впервые среди родных и знакомых в звании студента. Не скрою, что это звание льстило моему самолюбию. В Туле пришлось встретиться со своими прежними товарищами по семинарии, приехавшими из Киевской Духовной Академии, а также и с теми, кто не поехал в высшие учебные заведения, а остался в епархии, поступив на службу псаломщиками или учителями. Это была приятная, радостная встреча; бесконечны были беседы, в которых мы делились впечатлениями своей новой жизни; конечно, оставшиеся на епархиальной службе с некоторою завистью, даже почтением, смотрели на нас, юных студентов высших учебных заведений. После нескольких дней, проведенных в Туле, я уехал в деревню к родителям. И здесь повышенное, горделивое ощущение своего студенчества переживалось еще в большей степени, чем в Туле. Все окружающие священники (не исключая даже и моего отца) с оттенком какой–то почтительности встречали меня; уездные и сельские девицы и их мамаши нашего духовного круга проявляли ко мне особое внимание, быть может, видели во мне завидного жениха. Я чувствовал себя как–то легко, весело, жизнерадостно… Отец совещался со мною по служебным делам. У него создались неприятные отношения с церковным старостою, местным огородником и кулаком, который за большие проценты давал ссуду крестьянам и держал их в своих руках. Староста вел агитацию против моего отца среди прихожан, подстрекнул их написать жалобу епархиальному начальству: пришлось давать объяснения консистории. Отец жаловался, как иногда трудно бывает священнику ладить со старостами, особенно если на эту должность попадает такой зазнавшийся «мироед». В доказательство он рассказал мне очень интересный в бытовом отношении случай в соседнем селе.
Местный священник, любитель родной старины, хотел при ремонте храма поместить в иконостасе образ святого священномученика Кукши, просветителя вятичей, живших по р.Оке, ибо приход этот был расположен на притоке Оки, р.Уне. Староста, не имевший, разумеется, никакого понятия ни о Кукше, ни о вятичах, ни за что не хотел помещать в церкви этого образа: ему не нравилось и казалось неблагозвучным самое имя Кукши. «Какую такую кукшу выдумал наш поп?» — говорил он прихожанам. Дабы разрешить спор, священник вместе со старостой поехал к местному архиерею. Престарелый архиепископ Никандр стал вразумлять несговорчивого старосту: «Почему ты не хочешь поставить в церкви икону святого Кукши? Ведь он просветил верой Христовой вятичей, наших предков; ведь мы происходим от вятичей». Староста очень обиделся и говорит: «Не знаю, может быть, Вы, Ваше Высокопреосвященство, вятич, а я, слава Богу, православный русский человек!» Что было делать: пришлось любознательному священнику отказаться от мысли иметь в своем храме икону священномученика Кукши…
Среди этого беззаботного студенческого веселья меня подстерегало тяжелое семейное горе. Я заболел скарлатиной, хотя форма заболевания была легкая, и скоро поправился, но я заразил ею свою маленькую сестру, 9–летнюю Машу. Это была очень добрая, ласковая, кроткая девочка, общая наша любимица. Особенно нежно ее любила мать как самую младшую и единственную дочь среди остальных пятерых сыновей. Я видел, как Маша, вся красная от жара, задыхалась, стонала, изнемогая в борьбе с ужасною болезнью. В таком состоянии я простился с нею и уехал в Академию. Через неделю Маша скончалась… Невыразимо жалко было мне нашей милой малютки… Можно себе представить, какой это был огромный удар для наших бедных и уже стареющих родителей, особенно для матери…
В конце первого учебного года, когда я уехал на летние каникулы, меня начали тревожить сомнения. Не бросить ли Академию? Стоит ли отдаваться науке? Какой я ученый! Мне казалось, что я лишен нужных дарований, что я к научному пути не предназначен. Твердой уверенности в себе у меня вообще никогда не было, я всегда сомневался в соответствии моих природных данных с моими стремлениями. Тут вмешались и переживания лирического свойства. У моего товарища К. была сестра. Она мне была приятна, я любил с ней беседовать. Отношения наши были чистые, целомудренные. Однажды я осмелился поцеловать ей руку — и потом ужасался своей дерзости. Так я идеализировал женский образ… Невольно возникал передо мной вопрос: не жениться ли? Не лучше ли соединить свою жизнь с прекрасной девушкой, основать с ней семью? Однако порвать с Академией и сделать бесповоротный шаг я все же не решался. Нашел выход в отсрочке решения. Подожду еще год, она кончит епархиальное училище, а я перейду на 3–й курс — там видно будет…
Эта отсрочка имела неожиданные последствия. В Академии в ту зиму произошли перемены, которые повлияли на судьбу многих студентов, в том числе и на мою. Прежний ректор епископ Христофор был смещен, его место занял молодой архимандрит Антоний (Храповицкий).
Ректор епископ Христофор и инспектор архимандрит Антоний, наше высшее начальство, — и мы, студенты, до той поры были два разных мира. Ни близости, ни общего у нас не было. Ректор был сухой и бессердечный человек. Его квартира была для нас недоступна. Всегда к нему нельзя, все он чем–то занят — словом, его, бывало, не добьешься. Недоступность внешняя сочеталась со склонностью к строгому формализму. Помню нашу первую с ним встречу. Мы, туляки, приехали держать конкурсные экзамены; предварительно мы должны были вручить ему наши документы (жили мы в Академии); видим, ректор по саду ходит, мы попросту и поспешили к нему. «Что вам угодно?» — сухо спросил он. «Прошения…» — «Да кто же в саду подает прошения?..» — повернулся и пошел. Так же холодно, формально относился он и к провинностям студентов. Например, однажды в Академии, на 4–м курсе, произошла подлинная катастрофа. Студенты выпили, пошумели, но в свое время, правда тоже с шумом, пошли спать. Ректор услышал шум и послал помощника инспектора иеромонаха Макария узнать, в чем дело. Студент Глубоковский (крупное сейчас богословское имя) кричит товарищам: «Макар пришел!» (не «о.Макарий», как бы следовало). Иеромонах Макарий — к ректору с жалобой. Тот велел вызвать к себе 4–5 студентов, которые оказались в тот вечер навеселе, и приказал без пощады: «Завтра вы все подадите прошение об увольнении» (среди изгнанных оказался и Глубоковский). Никакие доводы, никакие оправдания не подействовали — студентов выгнали. (Через год их приняли обратно.)
Был нам чужд и инспектор о.Антоний (он был не из духовного звания). Человек мелко придирчивый, тоже узкоформальный, он старался ввести в Академию дисциплину кадетского корпуса, допекал нас инструкциями. Мы не имели права даже выйти за ворота. Студенты, конечно, это постановление нарушали. Возникали скандалы. Вздумал он также проверять, все ли студенты посещают лекции. Этой мелочной строгостью он нас раздражал. Бывали иногда до того скучные лекции (мы их называли лекциями «о библейских клопах»), что студенты всячески их избегали, предпочитая работать над своими курсовыми сочинениями. Инспектор разыскивал ослушников и сгонял их в аудиторию. Как–то раз он накрыл нас небольшую группу. Мы спохватились: «Идем, идем на лекцию»… — и вдруг в шкафу — скрип… Инспектор — к шкафу. Отворил дверцу… а в шкафу — огромный, весь красный от смущения студент Петр Полянский
[2] (впоследствии митрополит Крутицкий). Хохот… Даже инспектор рассмеялся.
Перед началом лекций в аудиториях инспектор тоже завел проверку. Войдет, бывало, нервный, раздраженный, и кричит: «Встаньте, — кого нет!» Встать, конечно, некому, — и мы потешаемся над нелепым окриком. А он вновь в запальчивости: «Встаньте, — кого нет!»
Его досадительные преследования привели к прискорбному концу. Как–то раз, под Покров, студенты, проходя навеселе под окнами его квартиры, перебили камнями все стекла. На следующий день его квартира представляла картину разрушения. С этой дикой выходкой связаны стишки, из которых можно привести лишь первые строчки:
Набил карман камнями туго
И думал: угощу я друга…
Инспектор куда–то временно скрылся, но в полночь, когда участники буйства, уже пьяные, лежали по кроватям, он нагрянул с фонарем, в сопровождении помощников, сторожей, — и стал смотреть, кто из студентов в каком виде. Угар у многих еще не прошел, инспекторский обход лишь сильнее их озлобил. Кое–кто готов был броситься и избить начальство…
Расправа с виновниками беспорядка была короткая: около 20 студентов выгнали. (Их приняли потом другие академии.) Вскоре после этой печальной истории ректора епископа Христофора и инспектора убрали; вот тогда–то нам и назначили нового ректора — архимандрита Антония (Храповицкого).
Можно сказать без преувеличения: для Московской Духовной Академии начался какой–то новый период существования. Влияние архимандрита Антония на нас было огромно.
Молодой, высокообразованный, талантливый и обаятельный, с десятилетнего возраста мечтавший стать монахом, — архимандрит Антоний был фанатиком монашества. Его пламенный монашеский дух заражал, увлекал, зажигал сердца… Монашество в нашем представлении благодаря ему возвысилось до идеала сплоченного крепкого братства, ордена, рати Христовой, которая должна спасти Церковь от прокуратуры, вернуть подобающее ей место независимой воспитательницы и духовной руководительницы русского народа. Перед нашим взором развертывались грандиозные перспективы: восстановление патриаршества, введение новых церковных начал, переустройство Академии в строго церковном духе…
Мы были замкнуты, знали одни книжки, лекции, экзамены, а к общественной деятельности были равнодушны. Архимандрит Антоний нас всколыхнул, возжег в сердцах рвение к церковно–общественной работе, пробудил сознание долга служить Церкви и обществу, идти с церковным знаменем на арену общественной жизни.
Идею монашества архимандрит Антоний пропагандировал среди нас поистине фанатически. В нем она сочеталась с женоненавистничеством. Он рисовал нам картины семейной жизни и супружеских отношений в мрачных, даже грязных, тонах, — и его пропаганда имела успех. Ей способствовала и душевная близость, установившаяся между ним и студентами.
В противоположность предшественнику епископу Христофору, архимандрит Антоний широко открыл нам двери ректорской квартиры, располагал нас к себе простотой обхождения и доступностью. Он устраивал у себя собрания для студентов, гостеприимно угощал чаем: на столе появлялся самовар (его называли: «самовар пропаганды»), всевозможные варенья, бублики, булки… Целый вечер велись горячие беседы о монашестве. Речи принимали порой оттенок цинизма. Вряд ли кто–либо из женщин мог выслушать все, что тогда говорилось. Одна игуменья случайно оказалась среди нас — и поспешила исчезнуть… После собрания расходились не сразу. Некоторые его участники еще долго прогуливались группами и парами по ректорским залам. Тут говорили уже интимно, обсуждая личные судьбы и волнующие душевные переживания.
Не одни собрания сближали нас с архимандритом Антонием, — он входил в наши дела, интересовался нашими занятиями, спрашивал: «Что вы пишете? Что вы делаете?..» Создавалась какая–то семейная атмосфера. Высоко поднял он и богослужение в нашем академическом храме, который он, на пожертвованные московскими купцами средства, обновил, расширил и украсил; завелось прекрасное пение, всегда была живая проповедь; вне богослужений — беседы.
Следствием этого нового духа в Академии была волна пострижений. С именами Антония Храповицкого и Антония Вадковского (Петербургского митрополита) связано возрождение монашества в России. В академиях на лучших студентов и раньше смотрели как на будущих монахов, но монашеский путь уже давно перестал привлекать молодежь, а отдельные постриги движения не создавали. Теперь на этот путь устремилась 23–24–летняя молодежь. Архимандрит Антоний постригал неразборчиво и исковеркал не одну судьбу и душу… Некоторые из его постриженников потом спились. Мой товарищ по курсу о.Иоанн Рахманов вследствие неудачного пострига окончил жизнь босяком. Иеромонах Тарасий, даровитый идеалист, блестяще кончивший Казанскую Академию, отверг карьеру и уехал в Зарентуйскую тюрьму; жизнерадостный, веселый, он окончил жизнь трагически: стал пить, и его нашли мертвым (от угара) в его комнате, когда он был смотрителем Заиконоспасского духовного училища в Москве. «Случалось, что и у меня на плече плакали последователи архимандрита Антония», — говорил Петербургский митрополит Антоний Вадковский. Один из видных петербургских протопресвитеров отозвался с насмешливой укоризной о постриге студента (Тимофеева), до того еще юного, что ему можно было дать прозвище «красной девицы»: «Отец Антоний, вы до сих пор постригали мальчиков, а теперь уже девочек стали постригать…»
Очень импонировала нам высокодаровитая личность архимандрита Антония, его широкое богословское и философское образование, в частности и его дружественные отношения с Владимиром Соловьевым, Гротом, Лопатиным, с группой мыслителей и философов, объединившихся вокруг журнала «Вопросы философии и психологии». Через него мы как бы тоже соединялись с ними.
Помню, высокий, неуклюжий, беспомощный В.Соловьев и маленький, юркий Грот приехали к нам говеть. Им прислуживал молодой монах на квартире архимандрита Антония. Потом он подтрунивал над студентами, поклонниками Соловьева, и, шутки ради, раздавал им пузырьки с мыльной водой, которой умывался В.Соловьев. Впоследствии архимандрит Антоний разошелся с В.Соловьевым и отзывался о нем отрицательно и притом весьма резко, не доверяя его аскетизму и по–своему толкуя его учение о Софии. А Соловьев укорял его в измене либерализму и переходе в стан консерваторов: с архимандритом Антонием якобы произошло то же самое, что произошло со славянофилами, когда светлое течение Киреевского, Аксакова, Хомякова, Самарина сменила реакционная идеология Каткова. «Исповедание истины должно быть одинаково дорого и философу и священнику, — писал впоследствии архимандриту Антонию профессор Грот, — а вы испугались насупленных бровей К.П.Победоносцева» (который, кстати, очень не любил архимандрита Антония).
В нашей среде архимандрит Антоний вызывал к себе два противоположных отношения. Одни подпадали под его влияние и им восхищались, другие его ненавидели. Некоторые не доверяли ни его ласке, ни его интересу к судьбе каждого из нас, ни даже его монашеской ревности. «Он играет на юношеском идеализме», — возмущались они. Сторонников ректора они брали под подозрение, даже считали шпионами.
Горячей молодежи нравилось в архимандрите Антонии его неуважение к авторитетам, даже столь бесспорным, как Филарет митрополит Московский, не говоря уже о современных профессорах, которых он честил самыми грубыми эпитетами; молодежью считалось это смелой независимостью в суждениях. Хлесткие, неразборчивые словечки передавались из уст в уста, и студенты привыкли бесцеремонно отзываться о профессорах. Об этом знали сами профессора и, конечно, очень недолюбливали своего не сдержанного на язык молодого ректора и, в свою очередь, жестоко его критиковали.
Если дух учебного заведения в какой–то мере зависит от личности главного начальствующего лица, то личность преподавателей воздействует на учащихся независимо от предметов, которые они преподают. В Академии были преподаватели, которые запомнились не только как лекторы — специалисты своего предмета, но и как люди.
Прежде всего упомяну профессора Виктора Дмитриевича Кудрявцева. Он был один из тех ученых, которые оказывают на своих учеников всесторонне благотворное влияние, хотя, быть может, в годы учения оно для их сознания и неуловимо. Из профессоров он был старейший. В русской философии В.Д.Кудрявцеву по праву принадлежит почетное место защитника христианских основ в философии. В его сочинениях разработана целая религиозно–философская система, целое мировоззрение. Его ученость, его знаменитость нам импонировали. Сочетание учености с глубокой религиозностью, с практикой благочестия свидетельствовало о том, что наука и вера не противоположны. Мы внимательно прислушивались ко всему, что он говорит, и верили в необманность его слов. Как был он не похож на тех духовных лекторов, которые говорили: «Нас обманывали, и мы обманываем…» Он был не только назидателен, но и обворожителен. Что–то было прелестное в этом старике. Помню, когда впервые нам предстояло говорить с ним, мы шли к нему со страхом: как–то он нас примет? И вдруг нам навстречу спешит старичок в белом пиджачке — и приветливо: «Пожалуйте, пожалуйте…» За всякой службой мы могли наблюдать, как он со своей супругой–старушкой, войдя в храм, ставят свои две свечки, а потом усердно молятся у правого клироса.
В.Д.Кудрявцев умер, когда я был на 3–м курсе. Дня 3–4 он лежал без признаков тления. Жена его не могла поверить, что он действительно умер, и, кажется, настояла, чтобы наш доктор перед погребеньем проколол ему сердце.
Замечательный человек был и профессор Дмитрий Федорович Голубинский (сын знаменитого философа протоиерея Ф.А.Голубинского). Он читал естественнонаучную апологетику — предмет, который ему было поручено читать пожизненно. Это был живой святой. Он напоминал юродивого. Одевался плохо, носил костюм фасона прошлого века; был другом всей нищей братии в Сергиевском Посаде, которая ходила за ним толпой. Каждое утро он молился у гроба Преподобного Сергия. Смирением он отличался необычайным.
Один студент приехал впервые в Академию, вошел в ворота и видит: невзрачный старичок… Студент ему и крикнул: «Сторож, донеси–ка мои чемоданы!» Старичок донес. А потом на экзамене — о ужас! — он за экзаменационным столом…
Был Д.Ф.Голубинский большой любитель астрономии. В морозную, звездную ночь, весь завернутый в платки, уставит, бывало, на дворе телескоп и зовет нас: «Идите, идите смотреть, луна видна, горы на ней…»
Помню, показывал он нам волшебный фонарь — портреты знаменитых людей: профессоров, ученых, святителей… а потом показал Малешота, Карла Фогта, Штрауса… и при этом сделал заключение: «Смотрите, как неверие и соединенная с ним безнравственная жизнь искажает лицо человека». Студентам это показалось убедительным, и они разразились аплодисментами.
Все над ним подсмеивались, а благотворное влияние он все же оказывал. Когда он умер, вся посадская беднота его оплакивала.
Были профессора, которые не столько влияли своею личностью, сколько пробуждали всеобщий интерес к своему предмету умением талантливо, даже блистательно, его читать. К ним надо отнести профессора В.О.Ключевского. Аудитория у него была всегда битком набита. На его лекции шли все. Читал он у нас свободнее, чем в Московском университете, где ему приходилось несколько умерять либерализм своих историко–политических воззрений. Он был осторожный и умел всегда учитывать обстановку. Приезжал он еженедельно из Москвы на понедельник и вторник: ночевал в монастырской гостинице. Наша профессура любила выпить, и Ключевский вдали от Москвы и строгой пожилой своей жены подвергался искушению Бахуса. Впоследствии он один уже не приезжал, его сопровождала жена.
В нашей Академии преподавал Алексей Иванович Введенский, даровитый профессор. Он читал историю философии. Молодой ученый, только что приехавший из Германии, он не приобрел еще той меры лекторской опытности, когда лектор умеет, когда надо, несколько затянуть или сократить свою лекцию. Обычно наши профессора читали не 1 час, а 1/2 часа, и это считалось в порядке вещей. Но вот к нам приехал строгий митрополит Московский Иоанникий. В его присутствии Введенский прочел положенные полчаса — и умолк. «Ваше Высокопреосвященство, я истощился…» — пояснил он. Митрополит разнес его при нас в пух и прах: «Это недопустимо! Вы должны готовиться!»
Были и другие выдающиеся профессора, завоевавшие себе по всей справедливости почетное положение в богословской науке, доктора богословия, одни — популярные, как, например, профессор общей церковной истории А.П.Лебедев; другие — замкнутые, всецело погруженные в свою науку, отшельники, как, например, знаменитый профессор истории Русской Церкви академик Е.Е.Голубинский, профессор М.Д.Муретов. С ними входили в общение отдельные, наиболее серьезные студенты, получавшие от них руководство в своих научных работах; но на общую массу студенчества они имели мало влияния.
Литературное отделение, на которое я записался, не имело выдающихся профессоров. Профессор русской литературы Воскресенский читал палеографию скучно, сухо и развить в слушателях любовь к литературе ему было трудно. Доцент иностранной литературы Татарский в жизни был легкомысленный человек, любитель выпить, поиграть на бильярде, побалагурить. Он примыкал к той группе наших молодых доцентов, которые водили компанию со студентами и не прочь были пойти с ними развлечься в трактир.
Как я уже сказал, я был на 3–м курсе, когда ректором стал архимандрит Антоний и в Академии повеяло каким–то новым духом. Я восчувствовал его, как и многие мои товарищи, и в моей душе началась большая внутренняя работа. Мечты о невесте, о деревенской идиллической жизни семейного сельского священника стали постепенно терять свою пленительность, побледнели, потускнели от противопоставления им идеала монашества, но, и поблекшие, они в душе моей жили…
Серьезный перелом в пользу монашества произошел во мне при переходе с 3–го курса на 4–й. Стыдно признаться, но на меня потрясающее впечатление произвела «Крейцерова соната». Она ходила по рукам в рукописи, мы читали ее из–под полы. Все мои юные мечты разлетелись прахом… Боже мой, за красивым фасадом — какая грязь! Как подойти к чистой девушке? Высота, чистота семейной жизни — и пошлый ее реализм… Я ужасался. Мне представлялась трагедия, мрачная безысходность. О темных сторонах брака, не только в «Крейцеровой сонате», но и вообще в русской литературе, написано много, и нигде — ни в ней, ни в себе — я не находил разрешения этого вопроса. С одной стороны, Лиза Калитина, с другой — грубая действительность. И чем выше идеал, тем конфликт ужаснее. Будучи не в состоянии сочетать эти две противоположности, я отошел от самой проблемы с сознанием, что я моего идеала не достоин… Что–то надломилось тогда в моей душе, и я стал серьезно думать о монашестве. Мысль эта у меня не соединялась с отрицательным взглядом на семью и брак; врагом семейной жизни я не был. Меня коробило, когда о ней говорили цинично, с хохотом; от подобных разговоров я уходил: они мне казались поношением святыни брака, его таинства. Нетерпение, презрительное отношение архимандрита Антония к проблеме брака мне было чуждо.
Зимой на 3–м курсе я впервые поделился своими сокровенными думами о монашестве с двумя верными семинарскими друзьями: Петром Павловичем Кудрявцевым
[3] и Константином Марковичем Аггеевым
[4]. Оба они учились в Киевской Академии. Я им написал. В ответ получил разнос. Они меня молили: «Не спеши с решением, ради Христа, — хоть до каникул подожди, до нашего с тобой свидания». Это письмо не могло мне помочь ни решиться на бесповоротный шаг, ни от него отказаться; оно лишь увеличивало мою муку. Архимандрит Антоний между тем меня навинчивал. Я узнал от товарищей–студентов, что он настаивает на моем постриге безотлагательно. А мне казалось, что лучше его оттянуть. Может быть, во мне говорило чувство благоразумия; может быть, желание посмотреть мир, а то, может быть, и грустный пример скороспелых постригов меня удерживал. По совету Кудрявцева и Аггеева я до летних каникул отсрочил обсуждение этого вопроса.
Летом мы свиделись. Мои друзья горячо меня отговаривали, но разубедить не могли. Думаю, наше разномыслие объяснялось неодинаковым взглядом на монашество. У меня не было, строго говоря, созерцательно–аскетического к нему подхода. Я видел порабощенное состояние Церкви, и мне казалось монашеским подвигом, забыв себя, свою личную жизнь, и жертвуя собой во имя Христа, отдать себя на беззаветное служение Святой Церкви и ближним. Уход в монашество для борьбы со страстями, для богомыслия и созерцания — это одно; другое — церковно–общественное делание. Настоящими, строгими монахами–аскетами мы, воспитанники Академии, быть и не могли. Наши академические ученые длительного аскетического подвизанья в монастырях не проходили. Обычный путь был таков: со школьной скамьи сразу в духовно–учебное дело. Не все понимали, что церковно–общественная работа есть лишь разновидность монашеского подвизания.
Не встретив сочувствия у моих друзей («архиереем хочешь быть, в омут лезешь») и не находя исхода из душевной раздвоенности, я решил вновь съездить в Оптину Пустынь к старцу Амвросию.
Он жил тогда в основанном им женском монастыре, в Шамардине, в 15 верстах от Оптиной Пустыни. Я побывал у него в августе, а 18 октября он скончался. Старец был уже совсем больной. У него всегда была какая–то мучительная болезнь ног. Сидит, бывало, на кровати, принимает посетителей и все подбинтовывает больные ноги. А теперь он уже лежал в полном изнеможении.
Я высказал ему все, что у меня лежало на сердце. Старец выслушал и промолвил помертвелыми губами:
– Путь благословенный… путь благословенный…
Мне было совестно его, больного, расспрашивать, добиваться более точного ответа. В его словах было принципиальное признание благословенности монашеского пути, но прямого веления я не чувствовал и вернулся в Академию после каникул, не приняв никакого решения. Архимандриту Антонию я не сказал, что побывал у о.Амвросия.
В октябре старец умер. Из Московской Академии на похороны была послана делегация. В нее вошли: мой земляк архимандрит Григорий Борисоглебский, стипендиат Академии; студент иеромонах Трифон (князь Туркестанов) и о.Евдоким, впоследствии глава «Живой церкви».
После смерти старца Амвросия у меня было ощущение какого–то освобождения. Может быть, старец вообще так о монашеском пути отозвался? Может быть, вовсе не имел в виду меня. Дабы наконец выяснить, призван я к монашеству или нет, я написал о.Иоанну Кронштадтскому.
«От всей души благословляю исполнение прекрасного намерения, но прежде испытайте себя…» — ответил он.
На 4–м курсе духовную поддержку я обрел не в окружающих людях, а в великой личности того святого, жизнь и творчество которого я избрал темой моей диссертации, — в святом Тихоне Задонском. Свобода в выборе тем у нас была полная. Сами находили тему, сами выбирали профессора. Он лишь тему одобрял или отклонял. Я писал диссертацию у профессора Воскресенского. Избранная мною тема совпала со внутренней работой, которая в душе моей тогда шла, и отвечала моим литературным запросам. Святой Тихон Задонский был не только святитель, подвижник, но и духовный писатель, его творенья — образец духовной литературы века Екатерины. Мне казалось, что изучение его жития и трудов укрепит мое намерение избрать иноческий путь. И верно, — работа над диссертацией принесла мне не только большую пользу, но имела и громадное значение для всей моей последующей жизни.
В личности святого Тихона Задонского я находил знакомые черты Оптинского старчества: то же служение народу, то же расхождение с духом времени. Оптинская Пустынь как бы восприняла и хранила религиозное народничество святого Тихона Задонского. Он также шел по пути духовно–учебной службы, а не аскетическим путем. «Святитель–народолюбец» — вот точное определение его личности. О нем с восторгом писали наши светские писатели–народники: Достоевский, Ечеб Успенский… Поверхностное вольтерианство века Екатерины, безверие, лоск, наведенный просвещением энциклопедистов на русское светское общество, ничего не меняли в горькой судьбе народа. Свободные идеи не препятствовали помещикам пороть крестьян, даже священников. Этого противоречия святой Тихон вынести не мог и ушел в Задонский монастырь служить народу (ему еще не было тогда и 50 лет). Дорого стоил ему этот шаг… Какая мука первые годы его затвора! Тоска, уныние, борьба с диаволом… Как томило его раскаяние в самочинии! Монастырская жизнь была ему близка, дорога, сродна, а душа скорбела. Умиротворилась лишь через несколько лет, и лишь тогда открылись ему богомыслие, созерцание, — и он просиял святостью. Своей многострадальной жизнью он как бы оставил потомству завет: непоколебимое, вечное послушание Святой Церкви, чего бы это душе ни стоило.
Работа над диссертацией окончательно утвердила меня в намерении стать монахом и идти по стезям святого Тихона Задонского.
Целый год я писал диссертацию и написал ее хорошо. Окончил Академию успешно (5–м или 6–м) — магистрантом.
За четыре года учения я Академию полюбил, и расставаться с нею было грустно. И не мне одному, — мы, студенты, были к ней привязаны, как к подлинной «аlma mater». Прилежная, развивающая работа под руководством прекрасных профессоров, атмосфера напряженной духовной и умственной жизни, скромные развлечения в часы досуга… — обо всем мы потом вспоминали с теплым и благодарным чувством. Один товарищ оттянул подачу диссертации, только бы с Академией еще один год не расставаться. Некоторые ее питомцы (в том числе и я) через несколько лет по окончании приезжали погостить, дабы вновь подышать ее воздухом. Воспоминания о студенческих годах навсегда остались моему сердцу дорогими. Памятно все серьезное, что было тогда пережито, но памятны и наши веселые беседы после ужина в небольшой аудитории, когда оживленные разговоры сменяло пение… Памятны даже милые пустяки: мелочная студенческая лавочка, куда мы бегали за чаем, сахаром, папиросами… — и та запомнилась.
При расставании мы, студенты, обменивались фотографическими карточками, сопровождая их посвящениями, краткой характеристикой того лица, которому свою карточку предназначали. Я любил посмеяться, любил друзей, природу… — и эта любовь к жизни как–то непонятно сливалась в моей душе с влечением к монашеству. Один студент дал мне свою фотографию со следующей надписью: «Стороннику двух миров. Посмотрим, что из этого выйдет…»
Глава 5. В МИРУ (1892–1894)
Выпускные экзамены окончились в июне, затем последовало представление в Петербурге (в Учебный комитет при Святейшем Синоде) списков кандидатов и — томительное ожидание вакансий. Многих из нас тревожила мысль: скоро ли найдется подходящая вакансия? Протекция имела большое значение, но у меня никакой протекции не было. А чем жить до поступления на службу? Неужели бедному отцу сесть на шею? Я уехал в Тулу и решил найти урок.
Мне помог знакомый учитель — указал, что в семье товарища прокурора Сергея Алексеевича Лопухина есть место живущего учителя. Я должность эту и принял.
Семья Лопухиных была дворянская, родовитая, богатая, культурная семья либерального уклона типа «Вестника Европы» или «Русской Мысли». Круг знакомств и родственных связей был сановный, но в доме бывала и интеллигенция. Жили Лопухины широко, по–барски, жизнью привольной и беспечальной. Семья была большая (10 человек детей), крепкая, с устоями — прекрасная семья. Дети учились дома. Гувернеры, гувернантки, учителя, учительницы… — целое учебное заведение. С утра во всех комнатах шли уроки.
Я преподавал старшим детям Закон Божий, географию и историю, с младшими готовил вечером уроки, гулял, читал им вслух (помню, мы вместе читали «Каштанку»), укладывал их спать. Мои обязанности я исполнял с увлечением, с желанием быть добросовестным. Дети ко мне привязались. Мы стали приятелями. О судьбе моих учеников мне известно, что Рафаил, доблестный мальчик, был убит на войне, а Мишу поймали большевики. «Дайте нам слово, что вы не будете против нас, и мы вас выпустим», — сказали они. — «Не могу…» И Мишу расстреляли…
У Лопухиных меня любили, к семье я прижился. Житейски мне было у них очень хорошо. С детьми не трудно, а к жизни взрослых я присматривался не без интереса.
За столом велись оживленные беседы. Обсуждались текущие вопросы русской общественной и политической жизни, но уделяли внимание и европейским политическим событиям, о которых были хорошо осведомлены, — так, например, следили за борьбой политических партий во французском парламенте по французской газете, которую получали. В семье Лопухиных мне довелось встретить Л.Н.Толстого, его друга Николая Васильевича Давыдова, князя Георгия Евгеньевича Львова и Михаила Александровича Стаховича… Как–то раз Толстой со Стаховичем пришли из Москвы в Тулу пешком в лаптях и наследили лаптями на коврах; лакеи потом ворчали: «Дурят господа…»
С.А.Лопухин был человек прекрасной души, но немного ленивый. Любил играть со мной в игру, которая называлась «хальма», и так ею увлекался, что способен был забыть о каком–нибудь нужном деле.
Пребывание у Лопухиных, несомненно, дало мне некоторое общественное развитие, равно как и расширило круг моего познания русского общества. Я попал в новый, неведомый мне мир. Богатство, комфорт, самоублажение, культ земного благополучия… Духовное мое воспитание определяло угол зрения, под которым все окружающее я рассматривал. Меня удивляло, когда какое–нибудь подгорелое блюдо могло быть событием, о котором говорят; что внешнее благоустройство — предмет культа; что к практике церковного благочестия относятся как–то вольно и с соблюдением привычного комфорта: накануне больших праздников устраивали всенощные у себя в доме, чтобы не затруднять себя поездкой в церковь… Помню, как удивило меня, когда С.А.Лопухин и гувернантка–француженка, постояв 5 минут на заутрени, ушли (голова закружилась), а когда мы вернулись, они уже разговелись. Церковь не отвергалась, но в обиходе жизни занимала очень скромное, незаметное место.
Как на барских «хлебах» после академических «харчей» мне приятно ни было, но душа тревожилась, чуя в новых условиях жизни опасность — незаметно растерять все духовные стремления, обмирщиться, стать любителем бифштексов, уклониться от намеченного пути… Удобная, благополучная жизнь, культ земного я воспринял, как искушение: стал бояться, что окружающее довольство меня засосет и я пропаду. О своих опасениях я писал архимандриту Антонию.
Долгожданное извещение о назначении в г.Ефремов на должность помощника смотрителя духовного училища я принял с большой радостью. Лопухины удерживали меня, уговаривали остаться в Туле, обещая использовать связи и устроить меня либо в суде, либо в гимназии преподавателем литературы. Я с благодарностью их предложение отклонил и стал собираться в Ефремов: заказал вицмундир с серебряными пуговицами, приобрел фуражку с кокардой… Лопухинские мальчики, увидав на мне впервые этот наряд, приветствовали меня веселым «ура!».
Я расстался с Лопухиными в самых добрых отношениях и впоследствии приезжал к ним в деревню навещать моих маленьких приятелей, мы вместе гуляли, ловили рыбу… Лопухина, когда я уезжал, старалась рассеять мои опасения, что я, быть может, не сумею справиться со школьной детворой: «Справитесь, видите, как мои вас полюбили…»
У Лопухиных я пробыл 6 месяцев: с октября 1892 по март 1893 года.
Пребывание в Ефремовском духовном училище в должности помощника смотрителя — содержательный период в моей жизни. Это было время напряженной борьбы двух начал, двух стремлений в моей душе: к Богу и к миру. Моя мысль о том, что, прежде чем стать монахом, надо посмотреть мир, получила решительное опровержение. Я опытно пришел к убеждению, что молодым людям, призванным к монашеству, надо постригаться, в мир не уходя, а по окончании образования.
Первое время по вступлении в должность (12 марта 1893г.) я был вполне удовлетворен своей судьбой и упивался новой ролью. Для меня началось вполне самостоятельное существование: ответственная педагогическая работа; сознание, что принадлежу благодаря академическому образованию к тому составу воспитателей, на который тогда возлагали надежды как на культурную силу, которая может обновить «бурсу»; досуги, которыми я мог располагать безотчетно; наконец — своя комната! Это обстоятельство, хоть оно и кажется незначительным, имело для меня большое значение и меня очень радовало. Правда, радость была эгоистического порядка, а психологически она все же понятная. Я жил из года в год на казенном содержании, в общежитии, без своего угла, в казарменной обстановке, — и это было тяжко. В Академии в комнате нас проживало 8–12 человек; в ней всегда был базар: все на глазах, постоянно на людях, письма спокойно не написать… Теперь у меня был свой угол.
Совсем новая область переживаний открылась мне в общении с детьми. Пребывание у Лопухиных было лишь кратким к этому приуготовлением.
Курс духовного училища был пятилетний (4 класса и приготовительный). Дети поступали — крошки, 9–летние мальчики. Их привозили из теплого семейного гнезда — в казарму. Какую бурю они, бедные, переживали! Их распределяли по койкам (в одном дортуаре человек по сорок). Иной малыш и с хозяйством–то своим — с бельем, тетрадками, книжками — не умеет управляться и спать не умеет, не чувствуя под боком стенки, и среди ночи вываливается с криком: «Мама!«… Старшие ученики проходу ему потом не дают: «Девчонка! Девчонка!» Где же такому малышу дать отпор насмешке! Приезжали они нежные, сентиментальные, доверчивые — и переживали, каждый по–своему, настоящую драму. Смятение их испуганных детских сердец я понимал, и мне хотелось их приласкать.
Не забыть мне одного мальчика — Колю Михайловского, умного, нежного, ласкового. Через две недели по поступлении он ночью пропал, хотя в дортуаре спало с детьми два надзирателя. Я испугался. Что случилось? Устройство уборных было примитивно — не в яму ли провалился? А потом другая мысль: не домой ли, в село за 35 верст, убежал? Я нанял верхового и послал его вдогонку — не настигнет ли он мальчика с книжками… (Мальчуган предусмотрительно захватил с собой новые сапоги и книжки.) Верховой его настиг в 5–6 верстах от города, но, чтобы заработать прогонные за 35 верст, проскакал мимо и оповестил родителей. Мать была в ужасе, отец–священник запряг лошадь и помчался сынишке навстречу: встретил его уже на 15–й версте. Объяснил мальчик свой побег просто: «Там нехорошо, обратно не хочу, а все новое я взял с собой…» Из расспросов выяснилось, что он шел голодный, но дорогой какая–то старушка помогла ему и, узнав, что он убежал из школы и пробирается домой, его поощрила и попоила молочком…
Никакие уговоры домашних вернуться в школу, ни устрашение навсегда остаться пастухом… — ничего не помогло. В ответ — слезы, рев, истерика… В конце концов все же отец его привез и сдал мне. Мои увещания оказались тоже бессильными. «У вас скверно, дома лучше…» — твердил мальчик. Стоило отцу встать, он вцеплялся в его рясу — и опять рев, истерика… Так длилось целый день. К вечеру он обессилел и заснул на моей койке. Наутро проснулся, огляделся… побледнел — и молчит. В тот день надо было вести детей в соседнюю церковь к обедне. «Пойдем, Коля, в церковь», — сказал я. «Пойдем…» — покорно проговорил он. Я поставил его на дворе в ряды, и мы пошли в церковь. В дальнейшем понемногу обошлось.
Смотритель училища был старик чуть ли не николаевских времен. Больной, мрачный, без улыбки, мундир на все пуговицы застегнут… Он стоял во главе всего учебно–воспитательного дела. Дети его боялись и, бывало, при нем как мыши. Преподавал он катехизис. Что–нибудь ученик не так ответит, смотритель мрачно: «Скажи отцу, чтобы он тебя на осине повесил. Так скажешь отцу?» Малыш глотает слезы: «Скажу…» Или постучит по столу: «Вот твой родной брат!» Неприветливый тон главного начальствующего лица создавал в училище тягостную атмосферу.
Учителя тоже не находили с детьми контакта.
Учитель русского языка Дмитрий Иванович Прозоровский, аскет, маньяк, спирит, немного философ, был предметом их детских шуток и шаловливых насмешек.
По обязанности библиотекаря он выдавал книги. Положит шляпу, палку и записывает выданные книги. Дети его вещи спрячут. Он их хватится, а они кричат: «Дмитрий Иванович, это духи унесли!» — «Духи такими глупостями не занимаются», — поясняет он.
Подшучивали они и над его зябкостью (его всегда лихорадило). Если термометр в классе показывал 10–12 градусов, он начинал урок, шубы не снимая. В классе тепло, а дети натрут термометр снегом и ждут: что будет? Дмитрий Иванович обливается потом, а затем, видя, что ртуть поднимается, начинает разоблачаться. Дети к нему гурьбой: снимают с него шубу и тащат ее на окно, забавляясь, ерошат ее мех. А потом от Дмитрия Ивановича донесение: «Такой–то ученик щипал мою доху…»
Его мелочность, придирчивость, маниакальная точность в пустяках походили на анекдот. Купленная им доха показалась ему недостаточно теплой, — он подал в суд на купца, что ему продали «негреющую шубу». Кто–то посоветовал ему обмотаться куском фланели (он страдал катаром желудка), — он пришел на экзамен, намотав на себя целый многоаршинный фланелевый кусок. Стоило в церкви сторожу снять огарок его свечки — он бежал за ним через всю церковь: «Где моя свечка? Поставить обратно!» Хозяйке–мещанке он выговаривал: «Почему картофель пахнет пяткой?» Хозяйка объясняла: «Извините, когда готовила, почесала пятку…» Удовлетворенный объяснением, он принимался за картофель.
Когда ко мне приехал погостить товарищ, приват–доцент Московской Академии Тихомиров, Дмитрий Иванович стал безо всяких оснований подозревать, что тот стремится занять его место. Рапорты он подавал по самому ничтожному поводу: «Такой–то ученик ерзал по полу… такой–то кричал: 4, 4, 4!..» Если ответа на рапорт не следовало, он докучал запросами: «Какое последствие имело мое донесение? Какое наказание?»
В младших классах преподавал молодой семинарист, способный, образованный, мой товарищ по семинарии, настоящий Диоген: нечищеный, неприглядный, грязный — сапоги о ваксе забыли… Он безжалостно допекал детей единицами. (Скоро ушел в университет и был математиком.)
Учитель арифметики Дмитрий Матвеевич Волкобой, академик, щеголь, любитель клубной картежной игры, к ученикам относился пренебрежительно.
Был еще латинист. Обхождение его с детьми было неровное: то — «Детки, детки…», то вдруг: «Ну и сукины же вы дети!»
Суровая школа была. Скромной детской радостью были только прогулки и гимнастика.
Я старался хоть чем–нибудь скрасить детям их пребывание в училище, войти в их положение, отдавался им всей душой. Когда вспыхнула скарлатина (она была в тяжелой форме и скосила многих), я постоянно навещал их в больнице, забросил свою личную жизнь совершенно. Отношения у нас были прекрасные. Смотритель нередко упрекал меня, что я «нарушаю дисциплину». Может быть, я ее иногда и нарушал… Смотритель в наказание оставлял учеников на неделю без обеда; все — за столом, а провинившийся — у стенки: стоит, плачет, слюнки у него текут… Товарищи ему откладывали от своих порций и потихоньку подкармливали. Я смотрел на это сквозь пальцы, а про себя думал: «Молодцы! Доброе в них товарищеское чувство…» Дети ко мне привязались, а родители приходили благодарить.
Помню такой случай. Вдова псаломщика, выражая мне благодарность, неожиданно извлекла из–под полы своего черного салопа лукошко с яйцами. Я растерялся, кровь хлынула к лицу… «Что вы делаете! Вы обижаете!..» Теперь бы я иначе отнесся к ее подарку, а тогда возмутился. Молодость чего–то не понимает. Бедная вдова ушла обиженная.
О монашестве о ту пору я забыл, но мысль о нем все же иногда просыпалась. Вне службы я ходил в гости, на вечера, играл в карты, вел жизнь рассеянную, безотчетную. Мне казалось, что я живу, как надо, но бывали минуты, когда сжималось сердце… Так вот к чему свелась моя мысль о пребывании до пострига в миру! К обывательщине… Тогда я шел к детям. Пойду, бывало, к ним, посижу с ними, рассказываю что–нибудь из истории или на религиозные темы. Дети, наши чудные отношения, были в то время моим верным утешением. Забыть о монашестве начисто я все же не мог. Весной меня потянуло на богомолье к святому Тихону Задонскому.
Отправились мы вдвоем — мой приятель, студент Речкин, и я. Доехали поездом до Ельца, а оттуда 40 верст пешком. Шли весенней ночью, на заре завернули передохнуть в какую–то избу; здесь нам дали молока; в избе роились тучи мух — и хозяйка препроводила нас в погреб, но тут был такой пронизывающий холод, что мы выскочили и пошли дальше. Поспели в монастырь к вечерне. Собор… монастырское пение… мощи святителя… Что–то дорогое, заветное воскресло в душе. И тут же укор совести: я — изменник, предатель… (потом я еще несколько раз сюда ездил).
По возвращении из Задонска жизнь, однако, потекла по–старому. У меня было много знакомых. Семьи священников в уезде полюбили меня и приглашали в гости. У некоторых были дочери–девицы. Снова вставал вопрос: не жениться ли? Но он уже был неотделим от чувства неловкости, греха и измены… Семья профессора Кудрявцева оказалась в уезде. Отец его был прекрасный, идеальный сельский священник, но не допускавший мысли, чтобы кто–нибудь из его сыновей последовал его примеру и принял священство, так тяжела была в его сознании доля священника. Я возобновил знакомство и несколько раз ездил к ним. Повеселишься, бывало, развлечешься, а домой вернешься — и опять разлад, раздвоение, сознание, что погрязаю в провинциальном болоте все глубже и глубже… Удивительно, что даже во время одного из моих паломничеств в Задонск одна женщина едва не увлекла меня в свои сети, но Господь меня хранил среди всех искушений и козней диавольских…
Так длилось с марта 1893 по октябрь 1894 года. В ту осень, в год смерти Александра III, пришло в училище письмо от местного архиерея: в Тульскую семинарию требуется преподаватель греческого языка при условии, чтобы он был монах. Смотритель принес письмо в учительскую, мы должны были расписаться, что его прочли.
Я прочел письмо — и стрела пронзила мне сердце… Письмо — для меня! Это — зов… Бог меня не забыл, хотя я закопал уже глубоко мысль о монашестве. Божий глас! Довольно глупостей! Колебания бесчестны… С Богом шутить нельзя… Я был потрясен, был сам не свой. Моя жизнь представилась мне в столь неприглядном виде, что показались пошлыми даже вицмундир и фуражка с кокардой. Не сказав никому ни слова, я написал архиерею ответ о своем согласии на его предложение и 21 сентября, в день святого Дмитрия Ростовского, опустил его в почтовый ящик.
Проходит месяц, второй… — никакого ответа. Я недоумевал. Значит, я ошибся, зова Божьего не было. Я–то готов, а Господь не хочет… В душе был даже доволен: монашество миновало…
Но оно не миновало, а бумага моя пролежала долго без движения — и вот почему так случилось.
Епископ Ириней замешкался с моим представлением, а тем временем из Петербурга прислали иеромонаха Викторина. 4 декабря, на святую Варвару, епископ должен был служить, в сослужение ему вписали и иеромонаха Викторина. Утром все духовенство в сборе, а о.Викторина нет. За ним послали. Келья его оказалась пустой. На столе лежала записка: «Я ухожу, прошу меня не искать». Общее смятение. Сразу у всех возникло предположение: о.Викторин покончил с собой. Вызвали полицию, бросились к прорубям, но все поиски были тщетны… Оказалось, что бедный иеромонах Викторин самовольно покинул Тулу и уехал к своему брату, сельскому священнику Владимирской губернии. Причина его исчезновения была та, что он давно мучился тоскою одиночества, а открыться архиерею побоялся. Епископ Ириней был человек суховатый, несколько формальный, киевской академической традиции, так сказать, «могилянской складки». У брата своего о.Викторин тоже сочувствия не нашел, брат испугался, укорял его в непослушании церковному начальству и потребовал, чтобы о.Викторин немедленно у епископа просил прощенья. Викторин письменно принес повинную, но ответ был строг, неумолим: «Не трудитесь возвращаться, я вас не приму».
Тут и дали ход моему прошению.
Указ о моем назначении в Тульскую семинарию пришел в декабре. Все были изумлены, выражали сожаленье. Прощание было трогательно. Подношения, речи… Ученики — каждый класс отдельно — поднесли мне иконы. Расставаться было тяжело. Плакали и я, и дети…
Перед праздником Рождества я покинул Ефремов и направился в Тулу. Дорогой заехал в родителям. Отец принял известие молча, но после моего отъезда плакал. Мать верила, что Господь руководит моей судьбой по молитвам старца о.Амвросия, и отпускала меня в монашество, точно провожала в некий светлый край…
Я приехал в Тулу на второй день праздника и явился к архиерею. Начиналась новая глава моей еще молодой жизни: мне шел 27–й год.
Глава 6. ПОСТРИГ (1895)
Епископ Ириней встретил меня озабоченный и с недоумением: «Как мне с вами быть? Как вас постригать? Вы и ступить в монашестве не умеете. Надо вас послать в какой–нибудь общежительный монастырь. Под Киев… в Выдубицкий монастырь. Нет, лучше под Тулой. Я вам дам отпуск. Неудобно вступать в должность в светском виде, чтобы через несколько дней явиться монахом. Когда пострижетесь, тогда и войдете в класс».
Несколько дней до моего отъезда в Щегловский Богородицкий монастырь, куда преосвященный Ириней меня направил, я провел в Туле, навещая знакомые тульские семьи, которые гостеприимно звали меня к себе. От этих встреч в голове была одна муть. Всюду меня жалели, разубеждали, увещевали от своего решения отказаться: «За отказ архиерей с земного шара вас не сбросит…» Я был рад, когда мой отъезд этим бесполезным разговорам положил конец.
Щегловский Богородицкий монастырь находился в 3–4 верстах от Тулы: там же была и архиерейская дача. Один из епископов тульских выписал несколько монахов Глинской Пустыни (Курской губернии), дабы они укоренили в новой обители дух и традиции их славного родного монастыря. Глинская Пустынь хранила духовные заветы основоположника старчества Паисия Величковского и дала русскому монашеству много великих подвижников.
Щегловский монастырь был небольшой, но довольно благоустроенный. Скромность, бедность, простота, какая–то непритязательность, добрые, ласковые монахи… — вот отличительные его черты. Мне было полезно пожить в хорошем монастыре.
В коридорах пахнет щами, капустой… Поскрипывают лестницы, некрашеные, давно неремонтированные половицы… Я — в келье. Все ново, все непривычно. И немало затруднений. Как помыться? Как усвоить режим?
Заутреня в 3–4 часа утра. По коридору — звонок… Звонит он пронзительно. Учиненный брат (послушник) стучит в дверь. Проснешься — тьма и холод. За дверью возглас: «Пенью время, молитве час, Господи Иисусе Христе, помилуй нас!» Крикнешь: «Аминь!», но будилыцик не уходит. Надо вскочить и свою свечу зажечь от его свечки, а если потом ее задуть, то будет большая неприятность с благочинным. Я старался все делать, как положено. В келье холодно: на дворе мороз… Идти надо куда–то далеко по коридору в умывальню. С непривычки все кажется неудобным, а устройство — примитивным.
Гляжу в окно. Луна светит… сугробы… деревья в снегу… По прокопанным среди сугробов дорожкам спешат в церковь монахи: мантии ловко через левую руку перекинуты… Я наблюдаю, как в лунном свете торопливо пробираются по снегу черные фигуры, и невольно любуюсь тем, что вижу… «Точно летучие мыши…» — говорил я потом монахам; они добродушно смеялись…
В храме тихо, темно. Кое–где мерцают лампады, свечи. Монахов немного. Читают кафизмы. Монотонное чтение сливается в сплошное та–та–та… та–та–та… В ушах у меня шорохи… Я дремлю. Подходит монашек — и сострадательно: «Вам непривычно, — посидите, посидите, вот табуреточка…»
За полунощницей следует утреня, часы и ранняя обедня. Ночная служба кончается лишь к рассвету. Теперь можно и чаю выпить. Меня подзывает монах–старец:
– Трапеза у нас сегодня скудная… будний день, без рыбы… Заходи, заходи ко мне, закуси…
(По монашескому уставу в большие праздники полагается — две рыбы; в малые — одна рыба; в будни — без рыбы.)
Он угощает меня чаем, булкой и достает из шкапика, вделанного в стене, селедочку с лучком; к поздней обедне идешь уже подкрепившись.
И другие монахи тоже радушно меня угощали по своим кельям. Кажется, поначалу они предполагали, что я под епитимьей, и жалели меня. Хорошие они были, добрые.
С теплой попечительностью относился ко мне и старый купец Николай Федорович Муратов, живший при монастыре, подготовляясь к монашеству. У него при монастыре был свой домик, слуга–послушник, и стол у него был тоже свой. Он меня полюбил, охотно со мной беседовал и старался повкуснее угостить.
Помню ласкового старца Дометиана, монастырского духовника. Увидит меня — и радушно: «Чайку! чайку! Идите ко мне…» Беседы с ним были назидательны, хотя он никогда прямо не назидал, а либо совет какой–нибудь даст, либо что–нибудь из монашеского быта расскажет. Давал он мне и книжки читать, приоткрывал тайну монашеской жизни и учил молиться.
В монастыре я пробыл около месяца. Монахи научили меня многому. Мечтать о монашестве — это одно, реальность его — другое. Монахи показали мне внутреннюю, скрытую красоту монашества, ту тонкую красоту духовных состояний, которая раскрывается лишь на путях духовных. Этим они меня успокоили и привели к гармонии противоречие мечты и реальности.
В конце января, в морозный, ясный день, подкатили к монастырю санки: архиерейский эконом за мной приехал.
– Владыка благословил вас на пострижение…
Поехали в город по морозцу, по скрипучему снегу, в тех же санках, на хорошей лошадке.
Преосвященный Ириней встретил меня вопросом: «Ну что — пожили в монастыре?» И тут же сразу: «Готовьтесь…»
Поселили меня в архиерейском доме. В женском монастыре начали мне шить рясы, изготовлять клобук… Одна дама, родственница моя, взялась сшить мне «власяницу» — сорочку до полу, которую надевают для пострига (в ней монахов и хоронят). Дама эта шила и плакала. Пропадает парень!
Духовное мое приуготовление к постригу было возложено на иеромонаха о.Илариона. Он был духовником епископа и всех «ставленников», т. е. лиц, ищущих священства. Ему они исповедовались за всю жизнь, и от него зависело заключение: «Никаких канонических препятствий к рукоположению нет». В молодости он был учителем духовного училища, женился, «породил дочь по образу своему и подобию» (по его выражению). Жена и дочь умерли, наступило одиночество. В таких случаях — окончить Академию и принять монашество было традицией, и он поехал в Петербург подавать прошение. Ректором Петербургской Академии был тогда преосвященный Иоанн Соколов, замечательный ученый и канонист (впоследствии он был епископом Смоленским). Человек суровый, он встретил неприветливо о.Илариона, скромного провинциального учителя.
– Хочешь богословскую науку изучать? — строго спросил его ректор. И дальше уже грозно: — А ты знаешь, что для этого нужно? Надо для этого распять себя, жизнь отдать! Есть ли у тебя такая готовность?
– Да нет, я так… — смутился смиренный искатель науки и, забрав документы, поспешил исчезнуть.
Проездом через Тулу он обратился к своему земляку–рязанцу, епископу Димитрию (Муретову), впоследствии знаменитому архиепископу Одессы, который принял в нем участие. Преосвященный Димитрий взял его к себе в архиерейский дом послушником и возложил на него секретарские обязанности, потом послушник Мажаров (такова была его мирская фамилия) был пострижен и рукоположен в иеромонахи. Участливое отношение епископа Димитрия было лишь очередным проявлением необыкновенной доброты этого святителя. Любовь, смирение, кротость и беспредельная доброта — вот его духовный облик. Преосвященный Димитрий раздавал все, что имел, а когда не хватало, закладывал свою митру и панагии; когда ему дали новую епархию, он перед отъездом из Тулы роздал все прогонные.
Такова была его проповедь делом; проповедовать живым словом ему было трудно от крайней застенчивости. Он смущался говорить перед толпой. Был случай, когда, будучи инспектором Киевской Духовной Академии, он вышел в Великую Пятницу сказать «слово», растерялся, покраснел — и ничего сказать не мог; потом он выходил уже с тетрадкой.
О.Иларион пробыл в архиерейском доме много лет, пережил несколько архиереев; особенно был близок к архиепископу Никандру, у которого также был секретарем. Владыка не очень любил заниматься консисторскими делами. «Принесу, бывало, ему большой портфель с бумагами, — рассказывал о.Иларион, — а он стоит с газетой и внимательно смотрит на стенную карту Европы. «Что ты, Иларион, каждый день таскаешь мне бумаги?» и потом: «Вот, Галицию бы нам!», а я ему: «Владыка, там мужички пришли». — «Ну вот, твои мужички, а архиерея тебе совсем не жалко…» Я ему сочиняю: семинаристы смеются, что «нашему архиерею подай прошение и иди на заработки в Астрахань». — «Во грехах ты, Иларион, родился и ты ли нас учишь?», а потом: «Ну давай, давай; неужели семинаристы так говорят?» В другой раз жалуется: «Эх, Иларион, беззвездие, беззвездие… (отсутствие орденов); впрочем, если бы не наш земляк в Петербурге митрополит Исидор, нас с тобой давно бы прогнали…» Когда впоследствии кафедру занял епископ Питирим, о.Иларион стал томиться в атмосфере двуличности, интриг, лицеприятия и политиканства. Стоило приехать какому–либо сановнику синодскому, — в архиерейской церкви службы были долгие, а без него — краткие и т. д. Все это было ему невыносимо. В то время я уже был ректором семинарии в Холме и я взял его в духовники семинарии. Молодежь его любила. Встретят семинаристы его, бывало, в коридоре после лекции, и затеется у них оживленный спор по какому–нибудь религиозному вопросу, все его окружат, не отпускают. Его мудрая простота привлекала их юные души.
О.Иларион имел огромное значение для моего монашеского формирования. Добрый, ласковый, склонный к юмору, он был чужд ложного аскетического пафоса или мистического надрыва, любил прямоту, простоту, искренность, предостерегал от неестественности, от соблазна корчить из себя святого. Был он начитан, умен и человека понимал сразу. Это не мешало ему быть беспомощным в практических делах. Когда решили дать ему повышение и сделать настоятелем Жабынского (преподобного Макария) монастыря, он не мог разобраться в докладах монастырского казначея, все путал и оказался неспособным к административным обязанностям. Главное значение о.Иларион придавал внутренним душевным состояниям и намерениям человека, — не формальному исполнению моральных предписаний. Помню, уже после пострига, я сокрушался, что люблю покушать. «А ты покушай да и укори себя», — просто сказал он, тем самым поучая, что слабость в смирении — меньшее зло, чем ее преодоление в гордыне. Или еще другое, как будто даже соблазнительное, наставление: «Не будь вельми правдив», которым он предостерегал меня от увлечения внешней формальной правдой, которая легко переходит в фарисейское законничество.
Зайдешь, бывало, в его келью — пахнет лампадным маслом, одеколоном (он считал одеколон верным лечебным средством от всяких недугов). Много книг… Аскетическая литература: «Добротолюбие» и др. И всегда знаешь, когда к нему можно и когда нельзя. О.Иларион очень просто разрешал этот щепетильный для посетителя вопрос: «Есть ключ (в двери) — докучь, нет ключа — не докучай». Принимал он посетителей охотно, хотя весьма ценил уединение, полагая, что на монаха оно действует благотворно. «Монах всегда из кельи выходит лучше, чем возвращается», — говорил он.
Иногда о.Иларион сам заходил ко мне. Придет веселый, жизнерадостный: «Ну что? Как дела? Я книжку принес…» Поднимет какой–нибудь богословский спор, ободрит, успокоит, укрепит. Мне это было необходимо.
Переживания мои в те дни — спутанные и смутные состояния. Воспоминания светской жизни ефремовского периода еще были свежи, душе близки, еще манили прелестью… Свобода, беспрепятственное взаимообщение с людьми, образы минувших идеалистических моих мечтаний… — все это от сердца с легкостью не отдерешь. И чем ближе к постригу, тем воспоминания становились ярче. Их пронизывало какое–то особое, острое прощальное чувство: вот это — навсегда… вот этого уже не будет… этого уже нельзя… Припоминалось все, до мелочей. И кусочка мяса больше нельзя. Со стороны это может показаться пустяком, а между тем, если человек к чему–то привык и это стало его житейской потребностью, отказаться от этого ему труднее, чем он предполагает. О.эконом рассказывал мне, как он 10 лет тщетно пытался принять постриг. Жил он белым священником в монастыре в отделении непостриженных, где монашеский пост обязателен не был; стоило ему ощутить запах мясных щей — он вновь постриг откладывал…
Смутное душевное мое состояние сопровождалось тревожным чувством приближения какой–то неизведанности, точно мне предстоит пережить смерть…
Я исповедался о.Илариону за целую жизнь. Он все понимал, делал свои замечания. Я совсем после исповеди успокоился.
Незадолго до пострига возник вопрос о моем монашеском имени. Мне хотелось носить имя «Тихона», и я попросил эконома сказать об этом преосвященному Иринею (сказать сам я боялся). «Ну и подвели же вы меня! — пояснял мне потом о.эконом. — Изругал меня владыка: «Не в свое дело лезешь! Монашество — второе крещение, ребенка разве об имени спрашивают?»
Постриг был назначен на пятницу 3 февраля, вечером. В этот день служили парастас накануне Родительской субботы перед масленицей. Меня отвели в архиерейскую моленную при церкви. По уставу мне надлежало быть в одной «власянице», но по случаю зимнего времени мне разрешили надеть белье.
Я стою в моленной. Чувство одиночества, оставленности… Я иду к Богу, а люди отдалились, я на расстоянии от них. Стройно и торжественно идет богослужение. Льются звуки заупокойных песнопений… И вдруг издали — веселая музыка.
[5] Кто–то бойко играет на рояле… Музыка того мира врывается в этот, вливается в церковные напевы, мешает, искушает… Хоть бы кто–нибудь догадался сказать, чтобы перестали играть!..
Духовная помощь пришла внезапно. Раскрылась дверь, и на пороге — весь овеянный свежестью мороза, с прекрасной иконой Преподобного Сергия в руках — иеродиакон Никон… Это наш ректор архимандрит Антоний (Храповицкий) послал из Московской Духовной Академии делегата от братии ученых монахов на мой постриг. Как я ему обрадовался! Один из «своих», из тех, с которыми вместе в Академии мечтали о монашестве…
Запели «Слава в вышних Богу…» (после этого песнопения обычно постриг). Двумя рядами грядут монахи с зажженными свечами, посреди — духовник с крестом. Я приложился ко кресту и последовал за ними… Хор запел: «Объятия Отча отверсти ми потщися…» — трогательнейший кондак недели «Блудного Сына»: исповедание перед Богом, перед Святой Церковью покаяние, содержало «богатства неизживаемые» и моление о принятии меня, «блудного сына», в Отчий дом… Много раз потом я слышал это чудное песнопение, многих монахов сам постригал, но никогда не могу слышать эту песнь без глубокого волнения… Минута пострижения — незабываемое, исключительное по напряженности душевное состояние. Колебаний как не бывало, — одно радостное чувство жертвоприношения, отдания себя в «объятия Отча…». И вот я впервые слышу троекратно: «Возьми ножницы и подаждь ми я», а затем: «Брат наш Евлогий постригает власы главы своея». Я?.. Я — Евлогий?..
[6] Новое имя слуху чуждо, а сознанию мгновенно не усвоить символики того, что со мною происходит…
Постриг сопровождается «словом». Некоторые его фразы запомнились навсегда. «Ты будешь идти по узкой, крутой тропинке… Справа скалы, слева бездна, иди прямо, благословенный сын мой. Поведет тебя Мать Церковь, ей будешь служить, согласно с учением святоотеческих писаний…»
Пострижение окончено. Церковь полна народу. Постриг преподавателя семинарии — целое событие в провинциальном городе. В полумраке колышется толпа. Меня окружают знакомые и незнакомые лица, на меня со всех сторон наседают поздравители, обнимают, приветствуют. Наконец поздравления окончены, и меня уводят. По монашескому уставу я дней пять должен был провести в церкви, но преосвященный Ириней позволил мне удалиться в келью. «Прочти монашеское правило и ложись спать».
В ту ночь я заснул мирно, безмятежно. Наутро пробудился — и сразу понял: проснулся новый человек… На вешалке мой вицмундир с серебряными пуговицами, еще какое–то штатское платье, но точно и вицмундир и вещи не мои, а кого–то другого. Между прошлым и настоящим — стена…
Я оделся и пошел в церковь. Меня сопровождал о.Никон. В душе была спокойная, тихая радость. Чувство полного удовлетворения. Колебания отошли в отдаленное прошлое, даже вспоминать о них не хотелось. Душа была полна настоящим…
Вся суббота прошла в подъеме. Вечером за всенощной меня заставили читать шестопсалмие. Я привык читать его с детства. «Умеет, умеет читать…» — одобрительно отозвались монахи.
На следующее утро, в воскресенье, за обедней, я был рукоположен в диаконы. Преосвященный Ириней пригласил о.Никона и меня к трапезе, а вечером позвал к себе побеседовать, а одновременно, по–видимому, и поэкзаменовать.
Как я уже сказал, епископ Ириней был ученым «киевской складки», до тонкости осведомленный в схоластике, а мы, питомцы Московской Академии, этих тонкостей не изучали. Когда владыка спросил нас, чем отличаются заповеди Божии от заповедей церковных и какие заповеди церковные, — ответить мы не сумели.
На сырной неделе я уже принимал участие в богослужениях. Один семинарист был рукоположен в священники в тот же день, когда меня рукоположили в диаконы, и теперь нас обоих о.Иларион учил служить.
Всю неделю я никуда не выходил. Занятый службами, я в часы досуга усердно читал святых отцов и занимался греческим языком, освежая в памяти свои познания в греческой грамматике.
В Прощеное воскресенье, 12 февраля, я был рукоположен в иеромонахи в кафедральном соборе. Когда священнослужители вышли из алтаря и народ бросился под благословение, я пережил странное состояние: чувство неловкости, смущения, что мне 27–летнему молодому человеку, целуют руку. И одновременно новое восприятие людей и ощущение, что отношения мои к ним стали иными. Таинство священства дало мне душевную крепость, сознание ответственности, внутренней устойчивости, чувство помазанности, обязывающее к крайней строгости к себе.
Помню первое таинство Евхаристии. Величайшее потрясение… Недостойной, нечистой руке дается сила Божия, ею совершается величайшая тайна спасения мира… Я служил в архиерейской церкви. Голосовые средства у меня были большие, и возгласы мои раздавались на весь храм. Епископ Ириней так отозвался о моем служении: «Слышал, слышал, как вы кричите: «Приложи, Господи, зла славным земли»… А что это значит?» Я объяснил. Эконому обо мне он сказал: «Ничего, славный парень».
Светлое состояние — медовый месяц монашества. Действительно, оно «второе крещение»: человеку дается новое сознание, раскрывается новое восприятие мира. Не надо, однако, думать, что монашество какой–то особый идеал, предназначенный только для монахов; и для монахов и не для монахов идеал один — Христос и жизнь во Христе; иночество есть лишь путь покаяния, который ведет человека в светлую отчизну — в дом Отчий и обители Христовы. Пострижение есть обет доброй христианской жизни, бесповоротного и ревностного устремления воли и утверждения на этом пути. Обеты, данные монахами, и самые одежды — вспомогательные средства для достижения этой цели. Однако новый путь жизни меняет не только всю психологию человека, но и формы его внешнего поведения. В ранние годы моего монашества мне не раз припоминались слова преосвященного Иринея, который мне говорил, что монах, даже в житейских мелочах, проявляет себя иначе, чем прежде, когда он был человеком светским. Мое новое имя лишь символизировало глубокое изменение всего моего существа. И невольно с грустной улыбкой вспоминал я, как в ранней юности монастыри (особенно почему–то женские) мне представлялись чем–то вроде кладбищ, где обитают заживо погребенные; не понимал я тогда, что смерть светского человека есть духовное рождение в новую жизнь, воскресение.
После пострига я спросил епископа Иринея, почему мне дали имя Евлогий, и от него узнал, что на этом имени он остановился, вспомнив своего доброго приятеля — настоятеля Выдубицкого монастыря, под Киевом, архимандрита Евлогия. Это был монах строгой и подвижнической жизни, сорок лет не выезжавший за пределы Киева; только один раз вместе с Киевским митрополитом Иоанникием и по его предложению он ездил в Чернигов на открытие мощей святителя Феодосия Черниговского. Он любил науку и занимался астрономией. Когда я спросил епископа Иринея, какого «Евлогия» мне праздновать, он мне предоставил свободу выбора, и я решил праздновать ближайшего к постригу — святого Евлогия архиепископа Александрийского (память его 13 февраля).
Глава 7. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СЕМИНАРИИ (1895)
В большом волнении шел я по Никитской улице от архиерейского дома к семинарии, направляясь впервые на службу… Я возвращался монахом, преподавателем греческого языка, в ту самую семинарию, где протекли годы моего отрочества и ранней юности. Ректор и учителя были прежние, только учитель греческого языка, тот самый, который пострадал от жестокой шутки учеников и упал со стула, занял место инспектора.
Меня тревожила неизвестность. Как примет меня учительская корпорация? Как встретят ученики? Как в клобуке и в рясе я войду в класс?
Учителя отнеслись ко мне с легкой иронией, я сразу почувствовал средостение. Правда, в учительской все меня поздравляли, но когда я обмолвился, что с монашеской одеждой еще не освоился и клобук тянет назад, — один из преподавателей усмехнулся: «Ну, потом потянет вперед…» Я понял, что мои сотоварищи видят в моем монашестве лишь путь для карьеры, а себя считают обреченными на пребывание в рядах незаметных преподавателей. Однако открытой враждебности я не почувствовал. Инспектор (бывший преподаватель греческого языка) любезно показал и объяснил мне все, что было нужно, и тем самым помог мне освоиться с новым положением.
Семинаристы ожидали моего появления с нетерпением. Одни присутствовали на моем постриге; другие — о нем слышали; многих просто интересовало посмотреть на нового учителя.
С первого же урока ученики взяли меня «под обстрел» — задавали вопросы, которые, по их убеждению, должны были привести меня в замешательство. Я сразу понял, что они меня экзаменуют. У меня не было той меры самолюбия, когда человек считает себя непогрешимым, и потому, когда мне было трудно ответить сразу на какой–нибудь вопрос, я, не смущаясь, спокойно отвечал, что справлюсь в пособии. Увидав, что я не теряюсь и не робею, ученики скоро «экзамен» прекратили. Готовили они уроки плохо, часто манкировали, и вообще мой монашеский сан вселял в них, кажется, уверенность, что у меня можно учиться спустя рукава, потому что требовательным и строгим монах быть не может.
К своим обязанностям я относился добросовестно. Вне семинарии (я жил по–прежнему в архиерейском доме) я замыкался в своей келье и усердно готовился к урокам. Изредка меня навещал мой духовник о.Иларион. Он приносил мне аскетические книги, поучал монашеству, рассказывая что–нибудь из прошлого епархии или из жизни архиерейского дома. Мы пили чай и в беседах приятно проводили время. Однако досуга у меня оставалось очень мало: я был занят с утра до ночи. Преподавание, подготовка уроков, чтение… Но этим мои занятия не исчерпывались.
Архиерей дал мне работу для «Епархиальных Ведомостей», поручив мне библиографической отдел. Епископ Ириней был любознателен и выписывал все новые издания из местного склада Пантелеева. Свои отзывы я докладывал епископу Иринею либо устно, либо представлял в письменной форме, и тогда он, исправив мою рукопись, отсылал ее в редакцию. Впоследствии он стал мне поручать и журналы епархиальных духовных училищ. Я должен был давать свое заключение по поводу постановлений педагогических правлений. Иногда преосвященный Ириней моей работой пользовался, а иногда написанное рвал.
Часто я служил в архиерейской церкви и нередко сослужил архиерею в городском соборе. Мне было еще поручено по воскресеньям служить вечерню, а потом вести «беседу» в часовне святителя Николая при маленьком монастыре (там было лишь 3–4 монаха). Если мне случалось говорить проповедь, я по требованию епископа Иринея предварительно ее писал.
Работы у меня было столько, что я иногда ложился спать в 2 часа ночи. Но это было хорошо: у меня не оставалось времени ни для мечтаний, ни для воспоминаний.
Епископ Ириней зорко наблюдал за мной. О доброй и мудрой его попечительности я вспоминаю с глубокой благодарностью. Постучится, бывало, ко мне его келейник: «Владыка вас зовет…» Преосвященный Ириней приглашал меня к чаю, а то и просто так посидеть, побеседовать.
На дворе весна… окна открыты… тихий теплый вечер… из Кремлевского сада доносится музыка… — а я сижу у архиерея, и у нас идет серьезная, наставительная беседа, подчас экзаменационного характера.
Помню первую Пасху в монашестве. Я знал «мирскую» Пасху: визиты, гости, встречи, праздничное веселье… Теперь я себя почувствовал отрезанным ломтем. В первый день праздника я был приглашен одним преподавателем, женатым человеком (он был моим совоспитанником по Московской Духовной Академии), — провести у него вечер. Приглашение я охотно принял. Не успел я выйти за ворота, как меня из окна увидел преосвященный Ириней, и, дабы я узнал, что мое отсутствие замечено, велел вызвать меня из кельи. Когда я вернулся, мне сообщили, что архиерей за мною посылал. Дня через два последовало внушение.
– Я не знал, — недовольным тоном сказал архиерей, — что теперь иеромонахи вечером ходят по знакомым. В наше время они по гостям не ходили…
Я не очень оправдывался, я просто рассказал, где был. Замечание епископа Иринея принял к сведению, и, когда меня позвала к себе одна родственница (жена священника, которая сшила мне «власяницу»), я уже принять приглашение не решился. Добрый о.Иларион все же уговорил меня навестить ее и предложил пойти вместе с ним. Больше на праздниках я ни у кого не был.
Как–то раз на Святой, перед обедней, я заметил, что ризничий на меня таинственно посматривает. Потом выяснилось, что в тот день архиерей решил наградить меня набедренником. «Вот с учеными–то как, не то, что с нами… — добродушно вздыхал ризничий, — трубишь–трубишь, когда–то чего–нибудь дождешься…»
На Пасхальной неделе неожиданно последовало и приглашение к о.эконому — на трапезу. Оказалось, что епископ Ириней осведомился у него, как меня кормят, и дал распоряжение устроить угощенье, созвав всю монашескую братию архиерейского дома. Мы все собрались; разнообразие и изобилие вкусных яств нас удивило, и мы недоумевали, чем все это объяснить. О.эконом многозначительно поднял палец кверху (наверху были архиерейские покои) и сказал, обращаясь ко мне: «Все это из–за вас…»
После праздников жизнь вновь потекла в непрерывной работе. Меня она не только не пугала, но я был ей рад: она охраняла мой душевный мир. Я боялся праздников: было жутко, что на досуге пробудятся воспоминания… К счастью, прибой прежней жизни был слабый, хотя и бывали минуты, когда приходилось брать себя в руки.
Окна моей кельи выходили в архиерейский сад. По вечерам в городе гремела музыка. Под моими окнами бегала и резвилась молодежь — две юные дочери и сын архиерея, гостившие у отца. Звонкий смех, веселые возгласы, музыка в Кремлевском саду… — это немножко задевало. Я затворял окна, чтобы ничего не видеть и не слышать…
В мае в семинарии начались экзамены. Помню экзамен греческого языка в 3–м классе. Ассистентом у меня был инспектор (бывший преподаватель греческого языка). Ученики разбирали речи Демосфена. Вдруг открылась дверь — и вошел архиерей. Преподаватели боялись его как огня. Успехи или неудачи учеников отражались на их педагогической репутации. Я понял, что мне предстоит экзамен.
Преосвященный Ириней стал спрашивать учеников; отвечали они довольно слабо. Архиерей был недоволен, но свое неудовольствие высказал не мне, а обращаясь к инспектору: «Я не ставлю это на вид молодому преподавателю — он служит без году неделю, — но почему они так плохо у вас разбираются в грамматике? Как у вас поставлено преподавание!»
Когда после отъезда архиерея учителя собрались в учительской и стали обсуждать результаты экзаменационного дня, мне дали понять, что у моего предшественника никогда столь неудачного экзамена не бывало.
Помню еще экзамен в 5–м классе. Предметом его были «Отцы Церкви». Ассистентом моим оказался преподаватель, который когда–то читал нам «Практическое руководство по пастырству». Ученики не подготовились и отвечали плохо. Я наставил несколько двоек и тем самым обрек группу учеников на переэкзаменовки осенью. Когда я их спросил, почему они не подготовились, они сказали, что считали предмет «не важным». Двойки вызвали негодование и озлобление. «Так вот он какой!» — возмущались семинаристы и решили после каникул встретить меня «демонстрацией».
«Демонстрация» заключалась в следующем. У нас был очень длинный коридор, по обеим его сторонам были расположены классы. Когда приговоренный к «демонстрации» преподаватель шел по коридору, изо всех дверей раздавался пронзительный свист. Семинаристов было 500 человек, — где же дознаться, кто свистел? Одних преподавателей эти проявления враждебных настроений очень волновали, другие проходили по коридору улыбаясь и даже раскланиваясь и тем лишали «демонстрацию» ее смысла.
Педагогический опыт того года мне показал, что для пользы самих учеников я должен в будущем быть требовательней.
По окончании экзаменов все стали разъезжаться на каникулы, а я решил остаться в Туле. Ну, думаю, теперь на досуге займусь своим внутренним миром… Но меня неудержимо потянуло в родную Академию, к архимандриту Антонию, к старым профессорам, к товарищам, к их веселому, жизнерадостному монашеству… — и я попросил у архиерея позволения уехать туда.
Было еще одно важное обстоятельство, побуждавшее меня к этой поездке. Нашего ректора архимандрита Антония переводили на ту же должность в Казанскую Духовную Академию. Это невольное перемещение было результатом нерасположения к архимандриту Антонию нового Московского митрополита Сергия (Ляпидевского). Митрополит Сергий был человеком старой Филаретовской школы, с ее сухой и суровой дисциплиной, и, естественно, ему был не по душе новый дух в педагогике архимандрита Антония; невзлюбил он и нового «антониевского» монашества, которое он презрительно называл «антониевской сворой». После некоторых столкновений в официальных делах состоялось, по представлению митрополита Сергия, перемещение архимандрита Антония из Московской Духовной Академии в окраинную Казанскую, что было, конечно, его служебным понижением. Архимандрит Антоний принял этот перевод довольно спокойно, по крайней мере с внешней стороны. Мне хотелось повидать его, чтобы выразить ему сочувствие.
Он встретил меня со свойственным ему радушием и любовью.
Нас съехалось человек пять–шесть молодых монахов. Мы участвовали в прощальном богослужении нашего бывшего ректора, присутствовали на прощальном обеде, который давала ему академическая корпорация, говорили застольные речи. Наши профессора впервые увидали меня в монашеском одеянии; они любезно беседовали со мною, может быть, не без оттенка некоторой иронии по поводу моего неожиданного для них иночества. Вообще наше молодое академическое монашество не встречало сочувствия не только у наших профессоров, но и в других широких церковных кругах. Быстрое продвижение по службе молодых монахов, часто не по достоинству и не по их заслугам, всегда давало пищу к подозрению, что мы шли в монашество не по идейному побуждению, а ради карьеры (будущее архиерейство!). Доля правды в этом подозрении, несомненно, была: не следовало нас так быстро тащить по ступеням служебной иерархии. Я скоро на себе испытал большую трудность от такого быстрого возвышения.
Связанные единством церковного духа и идейного направления, встретившиеся после долгой разлуки под сенью любимой «alma mater», — мы, молодые монахи, наслаждались нашей взаимной братской близостью, мы делились впечатлениями, обсуждали интересующие нас вопросы; ездили в «Вифанию», катались на лодке на прудах… При этих условиях какой отрадой был для нас летний отдых! Тут подоспело событие, которое решило мою дальнейшую судьбу.
В Академию приехал ректор Петербургской семинарии архиепископ Иннокентий (Фигуровский), впоследствии начальник миссии в Пекине; у него возникли недоразумения с Петербургским митрополитом Палладием, и его назначили в Москву в Покровский монастырь. Он привез из столицы много всяких новостей, в числе их была одна, для меня очень важная.
– Какого–то иеромонаха Евлогия назначили инспектором Владимирской семинарии, — вскользь сказал не знавший меня ректор.
– Как — Евлогия? — удивились все присутствующие.
Известие было столь неожиданно и невероятно, что в него поверили лишь через два–три дня, когда о моем назначении было напечатано в газетах.
Оказалось, преосвященный Ириней по окончании учебного года отправил свое очень благоприятное для меня донесение о моей деятельности в Тульской семинарии, и вот в результате мне дали такое высокое и ответственное назначение.
Я вернулся в Тулу и стал ждать указа.
Глава 8. ИНСПЕКТОР СЕМИНАРИИ (1895–1897)
Мое назначение инспектором во Владимирскую семинарию меня очень удивило. Не только удивило избрание меня, молодого неопытного педагога — мне было 27 лет — на ответственную должность, но назначение именно во Владимирскую семинарию, которая только что пережила бурные и тяжелые события.
Семинария была огромная (500 человек семинаристов). Дух в ней был «бурсацкий» и в то же время крайне либеральный. Дисциплину начальство поддерживало строжайшую, но это не мешало распущенности семинарских нравов и распространению в среде учащихся революционных идей. У семинаристов была своя нелегальная библиотека, которой они пользовались в течение многих лет. Прятали они ее где–то в городе, а когда ей грозила опасность, перевозили в более надежное место; о том, где она находится, знали всегда лишь два семинариста–библиотекаря. Каждый ученик после летних каникул делал свой взнос и пользовался весь учебный год запретными плодами. Писарев, Чернышевский, Златовратский, Решетников, Ключевский (лекции его были запрещены), социал–революционная «Земля и Воля»… ходили по рукам. Начальство перехватывало отдельные экземпляры, конфисковало их, обрушивалось репрессиями на провинившихся, лишая их стипендий, но зла искоренить не могло. Отнятые экземпляры заменялись новыми, тем дело и кончалось. Семинаристы проявляли редкую товарищескую дисциплину, друг друга никогда не выдавали, и библиотека оставалась неуловимой.
Во главе семинарии стоял архимандрит Никон (из вдовых священников). Это был красивый, здоровый, могучий человек, монашества не любивший. «Мне бы не монахом, а крючником на Волге быть…» — говорил он. О.Никон принял постриг не по влечению, а по необходимости, дабы как–нибудь устроить свою горемычную судьбу вдового священника. Вдовство бездетного священника — подлинная трагедия. Люди, склонные к семейной жизни, обрекались на безысходное одиночество. Сколько вдовых священников не могли его вынести — и спивались! Сколько поневоле принимали постриг! О.Никон тоже мучительно переживал навязанное ему внешними обстоятельствами монашество и периодами впадал в мрачное уныние, близкое к отчаянию… Он сам сознавал, что в монахи он не годится. «Из попа да из солдата хорошего монаха не выкроишь», — говорил он. Архимандрит Антоний (Храповицкий) был того же мнения о монахах из белого духовенства и отзывался о них с насмешкой: «Сразу их узнаешь: уши наружу — значит, из попов
[7]. А соберутся такие монахи вместе, сейчас же начинается: «Вот покойница Анна Ивановна говорила то–то…»
Тяжелая участь о.Никона наложила на него след. Честный, умный, способный (хорошо окончил Петербургскую Академию), он замкнулся в рамках строгой законности, чуждой любви и идеализма. Дисциплину он поддерживал жестокими мерами: устрашением и беспощадными репрессиями. В семинарии создалась тяжелая атмосфера, столь насыщенная злобой, страхом и ненавистью по отношению к начальству, что весной 1895 года (за полгода до моего приезда) произошел взрыв давно уже клокотавшего негодования.
В Николин день, 9 мая, великовозрастный ученик 2–го класса, 17–летний С. выждал, когда о.Никон после обедни ушел в свой цветник (о.ректор очень любил цветы и сам за ними ухаживал); воспользовавшись мгновением, когда тот наклонился над клумбой, подбежал — и с размаху ударил его топором по голове… Размахнулся вторично: топор сорвался, в руке осталось топорище… Клобук оказался «шлемом спасения», о.Никон отделался сравнительно легкой раной — задеты были лишь внешние покровы головы; но все же из–под клобука хлынула кровь. Он упал… Приподнявшись, успел еще крикнуть: «За что ты меня?..» — «Простите, Христа ради»… — пролепетал С. Со всех сторон сбежались семинаристы и схватили преступника. Прибыл доктор, нагрянула полиция, собралась большая толпа народу, поднялся крик… Одни ругали начальство, другие — семинаристов. Кто–то кричал «бей!». Возбуждение росло… Пришлось пригнать солдат, жандармов… Приехала прокуратура.
Вид крови и зловещие признаки предстоящей расправы ожесточили семинаристов: они озверели и на следующую ночь чуть было не закололи вилами помощника инспектора…
Семинарию спешно закрыли.
Ректору было предложено уйти, но он заявил, что уйдет лишь по постановлению суда. Началось следствие. Из Петербурга приехал В.К.Саблер. В квартире местного архиепископа преосвященного Сергия шло разбирательство дела. Расследование установило, что между ректором и инспектором был раздор; выяснилась роль молодой жены старого многодетного инспектора; она вела себя бестактно, пользовалась казенным выездом для своих личных надобностей, натравливала мужа на ректора, впутывалась не в свое дело. Инспектора уволили, ректора оставили, хотя архиепископ Сергий его недолюбливал и высказался за его удаление: о.Никона защитила сильная протекция в Петербурге.
Расправа с семинаристами была суровая. Убийцу посадили в сумасшедший дом (через несколько месяцев его выпустили), 75 семинаристов исключили: одних — без права поступления в какое–либо учебное заведение («волчий паспорт»); других — с правом поступить в другую семинарию (в их числе был ныне блаженнейший Дионисий, митрополит Православной Церкви в Польше); третьих — с правом вернуться через год экстерном, т. е. выдержав соответствующие экзамены.
На суде ректор доказывал, что подсудимые — «революционная банда», составившая против него заговор. Был заговор или нет, но из показаний убийцы выяснилось, что он был озлоблен против ректора: дня за два–три до преступления о.Никон не пустил его в отпуск; накануне рокового дня мальчишка напился, купил топор и совершил злодеяние, по–видимому, еще не протрезвившись. Его умственная неразвитость (17–ти лет во 2 классе!) тоже скорей свидетельствовала о поступке неуравновешенного субъекта, нежели о покушении заговорщика.
Такова была семинария, куда меня назначили. О том, что там произошло, было известно далеко за пределами г.Владимира; я тоже знал об этом и своему назначению ужасался… Неужели не могли найти более подходящего человека? Какой же я руководитель молодежи — 27–летний, только что постриженный монах! И какую молодежь мне предстояло воспитывать! 500 юношей, разъяренных суровым режимом и репрессиями… Будущая служба казалась мне погибелью.
Я вернулся в Тулу. Епископ Ириней мое назначение приветствовал.
– Поздравляю. Я очень рад. Это я вас расхвалил…
– Но у меня нет опыта, мне не справиться… — волновался я.
– Ничего, ничего… — успокаивал меня епископ Ириней..
Я узнал, что уволенный инспектор его приятель, что он духовный писатель и неплохой администратор.
– Я надеюсь, вы из квартиры его семью пока не выселите… — вскользь заметил владыка.
К Успенью пришел указ о моем назначении. Я сделал прощальные визиты. Большинство лиц — в том числе и ректор семинарии, тот самый, который так резко отозвался о семинаристах
[8], — поздравляли меня с улыбочкой, смысл ее был ясен: во мне видели удачливого карьериста.
Я съездил проститься с родителями. Благорасположение ко мне преосвященного Иринея сказалось и на положении моего отца — ему дали приход получше. Семья моя жила теперь под г.Серпуховом (Каширского уезда) в селе Никольском, на родине известного Санкт–Петербургского митрополита Исидора.
Отец и мать были в ужасе от моего назначения.
Во Владимир я ехал через Москву и воспользовался этим обстоятельством, чтобы повидаться с братом–священником (он тоже окончил Московскую Духовную Академию).
Всю дорогу до самого Владимира меня не покидала гнетущая мысль: на мои плечи взвалена непосильная тяжесть…
И вот — я во Владимире… Внешний вид семинарии мрачный, унылый. Три огромных корпуса казарменной архитектуры–старые, обветшалые постройки
[9]. Даже благоустроенного сада нет, который хоть немного скрашивал бы эти неприглядные строения.
Инспекторская квартира оказалась большая (6–7 комнат), а мебели было мало. Например, в огромном зале, настоящей «бальной» зале пар на двадцать, — лишь несколько стульев. Впоследствии, когда в семинарию приехал Саблер, он обратил внимание на недостаток мебели.
– Ну и пустыня же у вас… — заметил он.
С непривычки я терялся в этих просторных покоях. Семья инспектора ютилась теперь в двух комнатах и впредь до устройства ее судьбы я разрешил ей остаться.
По приезде я тотчас отправился к ректору. Предполагал, что встречу либо поникшего, раздавленного пережитой катастрофой человека, либо мрачного, возмущенного учиненной над ним расправой, озлобленного начальника. Вхожу, подымаюсь во второй этаж… и вдруг слышу раскаты хохота. Открываю дверь — и мне навстречу идет веселый, красивый архимандрит — и приветливо:
– А… отец инспектор! Пожалуйте!..
Тут же и его собеседник, какой–то священник.
Встретить ректора в столь благодушном настроении я никак не ожидал. Завязалась беседа. Я узнал, что он уже успел побывать в Петербурге и решил по отношению к семинарии взять курс решительный и крутой.
Мне хотелось знать, чем он объясняет трагическое событие: был ли это акт безумия или проявление коллективного недовольства. О.Никон мне доказывал, что всему виной старая, скверная закваска, гниль, которая проела семинарские порядки; он обвинял жену инспектора, которая поселила раздор между главными начальствующими лицами, что отразилось и на настроении семинаристов. По мнению о.Никона, надлежало приняться без промедления за выкорчевывание зла. Исключение 75 семинаристов и было началом этого «выкорчевывания».
Суд над «бунтовщиками» состоялся до моего приезда, и это было большим для меня облегчением. Тяжесть соучастия в нем Господь от меня отвел, но все же мне предстояло пережить мучительное испытание — объявлять осужденным семинаристам состоявшиеся о них приговоры. С этого испытания моя инспекторская служба и началась.
Я приехал 16 августа, 17–18–го стали съезжаться семинаристы. Проскрипционные списки у меня в руках… Ученики вручают мне свои отпускные билеты. Я заглядываю в списки…
– Вы уже не состоите…
От этих слов одни бледнеют, другие краснеют… У всех вид затравленных зайцев.
– За что? Почему?..
– Я новый человек. Я ничего не знаю, — говорю я.
Некоторые семинаристы уходят, с озлоблением хлопнув дверью.
Не найдешь фамилии в списках, скажешь «идите», — и просияет юноша, за минуту до того дрожавший от страха.
За этой пыткой моей последовала другая: просьбы, слезы, рыдания родителей, провинившихся учеников. Знаешь, что исключение из семинарии для семьи ужас, слезы… — и в растерянности недоумеваешь, что сказать какой–нибудь бедной диаконице, издалека притащившейся в город, когда все ее мольбы и плач напрасны…
Хотя я был лишь исполнителем чужих постановлении, а недоброе чувство ко мне у родителей и учеников все же возникало.
Городское общество тоже меня встретило недоброжелательно. Виною всех трагических событий оно считало монашеское начало в системе управления. Если бы во главе семинарии стоял семейный протоиерей, ничего бы не случилось! А тут — еще один монах… Мало нам ректора!
Такова была «теснота», в которой я поначалу очутился. Сознавал, что детям и обществу я лицо чуждое, враждебное, и этим мучился. «Ах, как трудно! как мне трудно…» — писал я епископу Иринею.
Молодой, неопытный педагог, я сначала не знал, как к моим воспитанникам и подойти, и, признаюсь, их побаивался. Потом увидал, что они, запуганные строгой расправой, меня тоже боятся. Тогда я поставил себе задачей найти путь сближения. Мне хотелось понять их юные души.
Пошутишь, бывало, поговоришь с ними, скажешь ласковое слово — сначала смотрят волчатами, а потом, убедившись, что ничего страшного их не ждет, понемногу робко идут навстречу. Молодежь поддается, когда к ней подходишь с добрым чувством. Были трудности, но не столько ученики их создавали, сколько установившиеся формы семинарского режима. Очень скоро я убедился, что одной строгостью и страхом воспитывать юношество нельзя. В этом основном вопросе метода воспитания сразу обнаружились несогласованность и расхождение с теми лицами, от которых зависело направление всей педагогической работы.
Общий контроль над семинарией был в ведении местного архиепископа — преосвященного Сергия (Спасского). Это был муж умнейший, ученейший, доктор богословия, иерарх Филаретовской формации. Он пошел в монахи, тоже потеряв жену, и в молодости, кажется, страдал нервным расстройством; последствиями болезни остались странности, неуравновешенность, крайняя недоверчивость. Его долго продержали в архимандритах Знаменского монастыря, прежде чем дать ответственную должность. Не злой, но ненормально подозрительный, он считал железную дисциплину единственно действенным педагогическим методом и причину всех бед видел в недостатке строгости.
– Не распустите мне семинарию. Будьте строги! — говорил он мне и заканчивал тоже строгим предупреждением: — Если вы мне ее распустите, вы потеряете службу.
Он никому не доверял — ни дальним, ни близким, ни начальству, ни подчиненным. Всюду видел злой умысел, козни, тайное недоброжелательство. Этим объяснялась, вероятно, и его нелюдимость.
В день его именин (5 июля) едет ректор его поздравлять и в недоумении возвращается обратно: поперек дороги, при въезде к архиерейскому дому, бревно — знак, что владыка поздравителей не принимает.
Коридоры его дома были загромождены сухими дровами. Он боялся, что злоумышленники забьют взрывчатое вещество в какое–нибудь полено, и потому сам осматривал все поленья перед топкой. Его подозрительность граничила с манией.
К нам он приезжал 1–2 раза в неделю. Вся семинария, бывало, трепещет, узнав, что подъехала его карета. Войдет — и сразу ко мне:
– Инспектор, ведите меня… (туда–то).
Список уроков, на которых он хотел присутствовать, он составлял дома. По его требованию учителя должны были полчаса спрашивать учеников и полчаса давать урок. Это им не всегда удавалось с точностью выполнить, а главное, они робели, чувствуя себя перед ним школьниками: его ученость подавляла. Но какова была растерянность учителя, когда либо он сам, либо кто–нибудь из учеников… начинал кашлять! Кашля архиепископ Сергий не выносил, потому что сам постоянно покерхивал и подозревал, что его передразнивают. Возникали смешные, а иногда и грустные инциденты.
У одного преподавателя, пристрастного к вину, постоянно в горле першило, откашляться в присутствии архиерея он не смел, сдержаться — не мог. И вот он срывается со стула и бежит из класса вон… Архиепископ в недоумении: «Что случилось?» Ему объясняют. Он одобрительно: «Вот это вежливый человек».
Другой преподаватель, давая урок, несколько раз откашлялся. Архиепископ почел это дерзким издевательством, никакого движения по службе с тех пор не давал, и учителю пришлось уйти в податные инспектора.
По той же причине архиепископ Сергий не разрешал семинаристам ходить в Успенский собор, где сам служил. «Семинаристы керхают, не смейте их пускать в собор…» Это распоряжение ставило меня в трудное положение. Случалось, что в соборе посвящают брата или родственника ученика; он упрашивает меня пустить его на посвящение, а я недоумеваю, что мне делать. Спрашиваю: «Ты не будешь кашлять?» Мальчик уверяет, что не будет, и я его отпускаю, оставаясь сам под дамокловым мечом обвинения в неподчинении начальству.
Помню неудовольствие архиепископа Сергия по поводу одного моего урока. Я объяснял ученикам Евангелие о Рождестве Христовом и говорил о поклонении волхвов, Вифлеемской звезде… Мне хотелось блеснуть своими академическими познаниями, и я избрал из числа теорий, объясняющих яркий блеск звезды, астрономическую теорию сочетания трех планет на одной прямой.
– А что говорит Иоанн Златоуст? — после урока спросил меня владыка.
Слава Богу, на этот вопрос я мог ответить.
– Ну вот видите, какие там теории! — сказал он. — Ангел вел, вот и все…
Потом в разговоре с ректором он обвинил меня в рационализме и велел меня вызвать для объяснения.
– Вы рационализм разводите! — упрекнул он меня.
– Я священник и монах, какой же может быть у меня рационализм… — возразил я.
– Ну, я сам когда–то в молодости дураком был.
О.ректор и я говорили проповеди в соборе. За неделю я подавал ее текст на просмотр архиепископу Сергию. Одна моя проповедь ему понравилась (в подобных случаях проповедь могла быть напечатана в «Епархиальных Ведомостях»), однако на рукописи оказалась его надпись: «Печатать не рекомендую». Потом мне было сказано: «Когда ректор печатает, инспектор должен молчать».
Я чувствовал, что архиепископ Сергий ко мне не благоволит, считая меня недостаточно строгим инспектором, но так как в семинарии никаких серьезных скандалов не возникало, его неблаговоление неприятных последствий пока для меня не имело. Однако весной 1896 года я дал ему повод быть мною весьма недовольным.
Ученик Д. упросил меня отпустить его в собор на посвящение его зятя, а оттуда к нему на семейную трапезу. Прихожу к ужину, спрашиваю Д.: «Ну, как пировали?» — и вижу — он пьянехонек… При новых порядках во Владимирской семинарии не только выгоняли семинаристов, появившихся в нетрезвом виде, но достаточно было одного запаха водки для обвинения в пьянстве. Мои помощники — их было у меня 4–5 человек — необыкновенно искусно умели улавливать этот запах. В данном случае вина была столь очевидна для всех 200 семинаристов, собравшихся в столовой, что она не могла не получить огласки на всю семинарию.
– После ужина приходите ко мне, — сказал я Д.
Мое положение было трудное. Скрыть проступок Д. было невозможно, довести его до сведения ректора — Д. безоговорочно подлежал исключению, а до окончания семинарии ему оставалось лишь несколько месяцев. Мое объяснение с Д. было кратким. Несмотря на его просьбы о прощении, я ему сказал, что подам рапорт в Правление, а ему советую просить о.ректора о снисхождении; быть может, ректор, приняв во внимание, что он скоро кончает семинарию, сочтет возможным его пожалеть. Через несколько дней приехала его мать–диаконица, кланялась мне в ноги и горько плакала.
– Своего голоса за увольнение вашего сына я не подам, — сказал я. — Идите к ректору, его просите.
Ректор был этим крайне недоволен.
– Вы все сваливаете на меня! — возмущался он. — Вы меня подводите, а сами ни при чем… Я доложу Правлению!
Действительно, доклад Правлению он начал с обвинения меня в безответственности: я взваливаю всю тяжесть репрессий на чужие плечи, а сам остаюсь в стороне и т. д. В Правлении кроме преподавателей состояли и представители епархиального духовенства. Священники оказались мягче, они заступились и за меня, и за Д.; было решено его не исключать, а в аттестате поставить ему за поведение низкий балл. Эта мера была равносильна окончанию учебного заведения с «волчьим паспортом», но все же самое ужасное — исключение — миновало. Бедный Д. очень мучился. «Неужели мне дадут «волчий билет»? — в отчаянии спрашивал он меня. По натуре добрый малый, он вряд ли заслуживал общественной отверженности. Мне было его очень жаль, но я ему ничего не обещал. Окончились выпускные экзамены. Инспектор должен давать сводку отметок всех семинаристов и свой отзыв о каждом из них. В ту весну (14 мая) была коронация, она–то мне и помогла. Я написал обстоятельный доклад и закончил отзывом о Д. приблизительно в следующих выражениях: «Если бы вы знали, как он страдал, как мучился! Нынешний выпуск совпал с коронацией. Милостивые манифесты, амнистии… Раскрылись двери для многих. Неужели для Д. нет амнистии? Ознаменуем коронацию актом милосердия!..» Ректор сидит весь красный, многие преподаватели растеряны, но никто не смеет возразить. А священники рады, что я хоть и схитрил, а Д. все же отстоял. Записали постановление в журнал. Оно было действительно лишь при условии, если архиерей скрепит его подписью «Утверждается». Узнав о постановлении, архиепископ Сергий был вне себя, он позвал меня и очень резко говорил со мной.
– Вы все испортите! Вы не понимаете, что вы делаете! Я могу написать, и вас в двадцать четыре часа вон из семинарии!
– Как хотите… Я действовал по велению моей совести.
Тон его разговора со мной был таков, что я думал: мне — конец!
Не знаю, осуществил он свою угрозу или нет, а «Утверждается» в журнале скрепя сердце все же написал.
С архиепископом Сергием мне было тяжело. Отношения с ректором тоже не налаживались. Мое сближение с воспитанниками он толковал превратно: я потакаю их слабостям, ищу популярности.. Мое стремление приручить молодежь, добиться каких–то человеческих взаимоотношений он не только не поддерживал, но, по–видимому, видел в нем одно пагубное умаление авторитета начальства.
В ноябре 1896 года у меня уже не было сомнений: оба мои начальника — архиепископ и ректор — мною недовольны.
В первых числах ноября неожиданно из Петербурга прибыл ревизор, важный петербургский чиновник (Докучаев). Ревизия должна была выяснить, насколько к лучшему изменился дух Владимирской семинарии после «чистки» и каких благих результатов добился новый инспектор.
Ректор и сейчас отзывался о семинарии дурно, а я представил ревизору ее состояние несколько в ином освещении. Ревизор выслушал меня и недоверчиво улыбнулся: молодой монах…
– Вы в Петербурге были? — спросил он меня.
– Нет. Зачем?
– Ну так… себя показать, людей посмотреть.
Я понял, что вопрос не праздный, а поставлен сознательно, дабы выяснить, имею ли я в Петербурге связи, а также чтобы пощупать, нет ли у меня относительно Петербурга каких–нибудь честолюбивых планов. Было ясно, что ректор дал обо мне неблагоприятный отзыв: я инспектор мягкий, слабый, либерального уклона, склонный скорей ученикам мирволить, нежели их подтягивать.
Ревизор пришел на мой урок. Я был в тот день в нервном состоянии: накануне у меня засела в горле рыбья кость, и хоть доктор и вытащил ее щипцами, но я провел бессонную ночь, и у меня все еще болело горло.
После уроков ревизор пожелал посмотреть, чем семинаристов кормят, и попросил провести его в столовые.
Они помещались под моей квартирой — мрачное помещение, соединенное с лестницей длинными, неприглядными коридорами. Пищу семинаристы получали однообразную: круглый год по будням щи и каша с маслом, по праздникам мясной суп и иногда кусочек жареного мяса. Хлеб выпекался в семинарии. Два семинариста старших классов дежурили на кухне, это был единственный способ предупреждать кражи продуктов служащими, а также избегать нареканий семинаристов на недоброкачественность пищи. Дежурные могли жаловаться эконому или мне, если находили непорядки или были недовольны продуктами. От однообразия пищи у мальчиков развивался особо изощренный вкус: чуть мясо было не совсем свежее или горчило масло — они отказывались есть. Масло доставляли в липовых кадках, а потому иногда оно имело привкус древесины.
В тот день в столовой собрался весь ареопаг: ревизор, ректор, я. Первое блюдо прошло благополучно. Порядок подачи блюд был таков: суп разливали всем по тарелкам, а кашу подавали в эмалированных чашках, по одной на четыре едока; ученики сами ее солили и замешивали масло. Это обычно сопровождалось громким стуком ложек.
Стук ревизору не понравился.
– Как, отец инспектор, ваши нервы этот стук выносят! — заметил он.
Но тут произошло нечто похуже стука… Ребята попробовали кашу… — и положили ложки. Я это мгновенно заметил. Иду в другую столовую — та же история.
– В чем дело?
– Масло скверное!
– Что ж дежурные вовремя не предупредили?
Я стараюсь их потихоньку образумить, обещаю к чаю дать булок, напоминаю о важности момента: приехал ревизор, надо исправить репутацию семинарии, надо, чтобы все сошло гладко. Ученики как будто соглашаются. Однако после молитвы, когда, накинув свои шинельки (они в них походили на почтовых чиновников), они направились по коридору к лестнице, вдруг чей–то бас на весь коридор:
– Мы голодны!..
Ревизор испугался:
– Что это… — бунт?
Ему объяснили: они не ели кашу.
– Как не ели?
– Масло плохое…
Ревизор вернулся в столовую и попробовал недоеденную кашу.
– Чудное масло! В Петербурге такое — за обе щеки…
Я стараюсь заступиться, ссылаюсь на однообразие пищи, на изощренный вкус: может быть, масло отдает кадкой?..
Я собрал потом семинаристов и долго их отчитывал: неужели они не понимают, что я хотел их поднять в глазах ревизора? Почему они все испортили?..
Семинаристы растерялись.
– Что делать?
– Наделаете глупостей, а потом «что делать?»
Я посоветовал отправить к ректору делегацию — просить прощенье за глупую выходку.
Неприятность как–то улеглась, но неблагоприятное впечатление обо мне у ревизора, вероятно, осталось. Отзывы архиепископа Сергия и о.Никона тоже не могли быть в мою пользу. Как это отразится на моей судьбе, я еще не знал: ревизор уехал на ревизию в Муромский уезд и должен был вернуться лишь через месяц. Но еще до его возвращения произошло событие, определившее мою дальнейшую судьбу. Об этом я расскажу после.
Владимирский период моей жизни был тяжел и труден. Я изнемогал под бременем возложенной на меня ответственности, не знал, как и справиться со сложной задачей воспитания молодежи.
Мне хотелось внести в юные души луч света, их согреть, возбудить любовь к добру. Приходилось действовать осторожно: дети чутки к малейшей несправедливости, их обижает пристрастность. Надо было внимательно относиться к каждому своему шагу, каждому слову; быть щепетильно справедливым; выработать в себе такт. Иногда случалось, что грубому прощаешь больше, дабы его приручить, а кроткого, нежного мальчика, если и приласкаешь, то крайне сдержанно во избежание нареканий, что у тебя есть «любимчики». Нужно было находить какую–то меру и в строгости, и в мягкости. Я отнимал водку у семинаристов и строго им выговаривал, но без огласки. Когда в епархиальном общежитии сторожа, передвигая столы, обнаружили подделанную снизу полку (оттуда вывалилась охапка запрещенных книг)
[10], я дело расследовал в частном порядке. Бывало, вечером обходишь в туфлях дортуары и вдруг слышишь: «Ах, если бы я тебе туза подсунул!» Явно — семинаристы потихоньку играют в карты. А я и окликну их: «Да, да, хороший ход!» Смятение…
Если была возможность за мальчиков заступиться, отвести жестокую репрессивную меру, я это делал. Популярности я не искал, говорю это вполне сознательно, а только молодежь очень жалел.
Под влиянием тяжелых воспоминаний детства озлобленные сердца, исковерканные характеры, страстный, слепой протест против окружающей жизни — вот с какими душами приходилось иметь дело. Случалось, в семинарию поступали неиспорченные, хорошие мальчики, но как быстро они подпадали под влияние старших товарищей, усваивали их вкусы и нравы, заражались революционными идеями… И все же в глубине их юных душ таилось стремление к добру. Я понимал, почему они хватаются за Успенского, Златовратского… В нелегальной литературе они находили удовлетворение потребности, хоть в воображении, прикоснуться к какой–то справедливой, светлой жизни. Скрытую сложную причину их настроений я улавливал, моя жалость ею и объяснялась.
Через несколько месяцев по приезде во Владимир мне довелось встретиться по долгу службы с тем самым С., который чуть было не зарубил ректора топором.
Однажды вечером сижу у себя, что–то читаю — и вдруг звонок. Открываю дверь — на пороге незнакомый человек.
– Я — С….Меня выпустили, мне нужен документ из семинарии, где я учился…
Сначала мне было с ним жутко, а потом вижу — ничего злого в нем нет. Я выдал документ. В рубрике «Поведение» было написано, как в таких случаях полагается: «Без поведения».
Была коренная фальшь в участи моих воспитанников. Молодежь, в большинстве своем стремившаяся на простор светской школы, втискивалась в учебное заведение, весь строй которого был церковный. Придешь, бывало, на молитву — в огромном зале стоят человек триста–четыреста, и знаешь, что 1/2 или 1/3 ничего общего с семинарией не имеют: ни интереса, ни симпатии к духовному призванию. Поют хором молитвы, а мне слышится, что поют не с религиозным настроением, а со злым чувством; если бы могли, разнесли бы всю семинарию…
Дети, забота о них, были единственным смыслом моей жизни. Постепенно я с ними сживался, мы сближались, они заменили мне семью. Чувствуя мою заботу, стремление их защитить, им помочь, некоторые юноши поддавались влиянию, выпрямлялись. Когда случалось видеть, что наши добрые взаимоотношения приносят хорошие плоды, я испытывал радость нравственного удовлетворения.
Вне этих проблесков моя жизнь была непрерывным, всепоглощающим трудом. Бесконечные, серенькие будни…
Проснешься, бывало, — торопишься к утренней молитве (в 7 часов утра); потом наблюдаешь за утренним чаепитием, сам наскоро пьешь; после чая надо давать уроки или выяснять, кто не пришел и почему; заменяешь отсутствующего преподавателя, а там обед — и краткий роздых; с 4–х часов, смотришь, снова завертелась машина: приготовление семинаристами уроков… нужно осведомиться, кто какое сочинение пишет… выслушать помощников, дать им распоряжения… Потом ужин, вечерняя молитва, обход дортуаров… Так изо дня в день.
К концу года я совсем измотался. Даже архиерей мое состояние заметил и посоветовал:
– Ешьте больше рису. Прекрасная пища и варится один час.
Наш доктор настоял, чтобы я съездил в Москву к профессору А.А.Остроухову; тот нашел крайнее переутомление и предписал отдых. Я едва до каникул дотянул.
Второй год моего инспекторства был значительно легче. С семинаристами установились, в общем, доброжелательные отношения. Они мне доверяли и, кажется, любили. Сошелся я ближе и с преподавателями; с некоторыми из них даже завязалась дружба. Помню одного преподавателя математики Рудольфа (из русских немцев, окончивших русский университет), он все меня утешал и успокаивал, советуя не бояться гнева архиепископа Сергия и уверяя, что он и на него наскакивал, «как Чингисхан»; вскоре мне пришлось хоронить этого свободолюбивого преподавателя. Познакомился я и с некоторыми представителями владимирского духовенства. Иногда вечером я выезжал в город к какому–нибудь протоиерею или преподавателю чайку попить. Но это случалось очень редко: трудно было оторваться от семинарии.
Инспекторская служба во Владимире — первые годы моего монашества. Наслаждаться его ароматом приходилось мало. И углубляться душою в монашеский идеал тоже не удавалось. Не хватало ни времени, ни сил, чтобы прийти в себя, подумать, сосредоточиться. Со своим монашеством наедине я оставался лишь перед сном. Придешь, бывало, подумаешь, но усталой, не свежей, мыслью; начнешь молиться — сказывается утомление. Может быть, я чрезмерно усердствовал в работе, мог кое–что поручить и помощникам, чтобы иметь часы досуга, но уж очень мне хотелось семинарию поднять…
Обстановка была не монашеская, хотя внешний уклад был церковный. Ректор — монах поневоле — духовно помочь мне не мог. Оставалось одно богослужение. Церковные службы давали мне много, они оживляли самое чувство духовного единства со Святой Церковью, укрепляли, утешали… Как я скорбел, когда в самые–то страстные дни тяжко занемог! Лежу в 40–градусном жару, внизу спевка, поют «Чертог…», «Благообразный Иосиф…», «Се жених грядет в полуночи…», а я лишен единственной моей радости… Я даже всплакнул. Умолил доктора позволить мне встать к заутрене. Служил весь в испарине от слабости, едва держась на ногах. После службы в изнеможении дотащился к себе и опять слег. Проболел всю Пасхальную неделю.
Казенный уклад жизни томил меня и физически и нравственно, зато когда случайно мне удавалось из него вырваться, — какой это был светлый праздник!
Таким чудным днем оказались как–то раз мои именины (13 февраля). Накануне ректор спросил меня:
– Будете именины справлять?
– Отпустите меня на этот день в Боголюбов монастырь… — попросил я.
И вот я еду на семинарской лошадке. Чувствую себя вольной птицей, дышу полной грудью… Тяжелую ношу точно кто–то с плеч снял!
Боголюбов монастырь (в 10 верстах от Владимира) большой, богатый, благообразный. Настоятелем его был епископ Платон, викарий преосвященного Сергия. Простой, добрый человек, он так боялся архиерея, что не смел и шагу ступить без его благословения.
Я пробыл в монастыре два дня. Сразу слился с монастырской жизнью, погрузился в любимую религиозную стихию. Я чувствовал себя в раю…
Летом 1896 года я воспользовался каникулами (мне полагался 1 месяц) и побывал на Всероссийской выставке в Нижнем и в Киеве. Мне хотелось познакомиться с киевскими монастырями и встретиться с моим тезкой, архимандритом Евлогием, настоятелем Выдубицкого монастыря. В Киеве я никогда не был, а в то лето прожил там две недели. Чудный край! Чудные монастыри!
Архимандрит Евлогий, осведомленный, что я назван в его память, встретил меня радушно. Жил я в Киево–Печерской Лавре. Меня в ней поразило необычайное разнообразие проявлений монастырской жизни. Монашество с золотыми крестами, важное, заслуженное, занимало административные посты, заведовало типографией и издательством, а подлинные подвижники — цвет киево–печерского монашества — трудились в пещерах. Они приводили в порядок подземные ходы, протирали и промывали стены: на них постоянно проступала вода, заводилась плесень. Тяжелый подвиг несли пещерные монахи…
В Лавре были прекрасные духовники–старцы; с ними приезжие спешили побеседовать.
Киев и киевские монастыри оставили на мне глубокий след.
Закончил я каникулы поездкой по Днепру, в Чернигов. В тот год (1896) были открыты мощи святителя Феодосия Черниговского, и мне захотелось побывать у его гробницы.
Это летнее паломничество по монастырям показало мне, что живая струя монашества в душе моей не иссякла. Я чувствовал себя плохим монахом — монахом в миру, без подвигов созерцания, но все же за четки я держался и монашеский идеал в душе своей хранил…
В те годы все мое монашеское служение сводилось к отречению от личной воли, личной жизни, к самоотдаче порученному мне делу.
Случалось мне принимать некоторое участие и в культурно–просветительной деятельности города. Предубеждение против меня городского общества со временем исчезло. Ко мне приехала губернаторша и просила меня вести «душеспасительные беседы» в Доме трудолюбия. Аудиторией моей там были волжские грузчики. После закрытия навигации они разбредались по ближайшим к Волге городам и эту буйную вольницу, праздную и гулливую, губернская администрация старалась привлечь в Дома трудолюбия. Слушатели мои на «беседах» дремали, и скоро я убедился, что душеспасительным словом их не проймешь.
После отъезда ревизора (в первых числах ноября 1896г.) потянулась обычная будничная жизнь. Доклад о ревизии еще закончен не был, и какие она будет иметь для меня последствия, предугадать было трудно.
Ранней осенью я получил письмо от преподавателя Холмской семинарии иеромонаха Антонина, которому не придал никакого значения. «Ваше назначение в ректоры Холмской семинарии состоялось 8 сентября…» — писал он. Далее он рассказывал, что на праздник Рождества Богородицы в Холм приехали Саблер и архиепископ Варшавский Флавиан и было решено сделать ректора архимандрита Тихона
[11] епископом Люблинским, викарием Холмско–Варшавской епархии, а на освободившееся место назначить меня. Саблер и архиепископ Флавиан якобы высказались за мою кандидатуру. Так как Саблер видел меня всего один раз (правда, при посещении нашей семинарии он отнесся ко мне доброжелательно и ласково), а архиепископ Флавиан никогда меня не встречал, — письмо показалось мне несерьезным. Я решил, что о.Антонин надо мной подшутил, и про письмо совсем позабыл.
Каково было мое удивление, когда 22 ноября в 8 часов утра я вдруг получаю телеграмму от Саблера: «Поздравляю ректором Холмской семинарии». Тут только вспомнилось письмо о.Антонина.
В полдень все мы, преподаватели, собрались в учительской — обсуждаем необычайную новость. Меня спрашивают: где же Холм? А я, инспектор семинарии, сам не знаю, где он. Мой помощник уверяет, что в телеграмме опечатка: надо читать не «Холмской», а «Ковенской». Кто–то принес географическую карту, и мы принялись разыскивать неизвестный город. В эту минуту вошел ректор с бумагой в руке.
– Отец инспектор, я к вам с новостью… Вы назначаетесь ректором Холмской семинарии.
Одновременно узнаю, что по распоряжению архиепископа Сергия завтра в Рождественском монастыре
[12] меня посвящают в архимандриты.
У меня нет ни креста, ни митры. Я еду в Рождественский монастырь примерять старые митры; нашел более или менее по голове, но тяжеленнейшую. А крест мне продал настоятель Боголюбского монастыря епископ Платон.
Архиепископ Сергий, по–видимому, хотел от меня как можно скорей отделаться и поторопился с посвящением. Назначением моим был недоволен.
– Мальчишку — в ректоры!
Прощание с семинарией было трогательное. Семинаристы плакали… поднесли икону, Евангелие на четырех языках, умоляли перед отъездом навестить их товарищей в больнице… Преподаватели устроили большой обед. Было много теплых речей. Вскоре вернулся во Владимир после обозрения уездных духовных училищ ревизор. Встретить меня архимандритом, да еще ректором Холмской семинарии он никак не ожидал и говорил со мною с холодком, с легкой усмешкой…
Ректор о.Никон, ко мне не благоволивший, теперь стал жалеть, что я покидаю семинарию.
– Не лучше ли было бы вам остаться, а придет время — меня бы заменили?
[13]Я к делу своему привык, к детям привязался, расставаться с ними было тяжело, но в Холм мне ехать было нужно, впоследствии я это понял ясно.
Перед отъездом я сказал семинаристам в церкви «слово». Вот основная его мысль: они — моя семья, мои друзья; одинокий человек, без семьи и знакомств, я лишь в них находил смысл и полноту моей монашеской жизни… — Так это и было, упрекнуть себя в рисовке не могу.
Я сделал прощальные визиты преподавателям и духовенству — и выехал через Москву в Петербург.
Глава 9. РЕКТОР СЕМИНАРИИ (1897–1902)
В Москве я свиделся с братом и купил дешевую митру. К родителям не поехал — спешил в Петербург.
По приезде в столицу я прежде всего сделал визит В.К.Саблеру: мое назначение состоялось не без его участия.
В.К.Саблер принимал с 8 часов утра. В приемной я застал уже много посетителей, тут были архимандриты, простые монахи, монахини, странники, священники… Сидят и терпеливо ждут выхода важного сановника. Ко мне подошел какой–то архимандрит. Разговорились. Он оказался бывшим наместником Почаевской Лавры, осужденным на ссылку в дальний монастырь. Провинность его заключалось в следующей беде.
Почаевская Успенская Лавра — бывшее униатское гнездо — досталась России по второму разделу Польши в царствование Екатерины II. Она красиво расположена на высокой горе, а собор ее построен над крутым обрывом, на самом его краю. Император Николай I определил его положение метким словом: «Дерзкая постройка». Перед Лаврой — терраса, оттуда открываются широкие дали вплоть до пределов Галиции и виден униатский галицийский монастырь «Подкаменье». Этот монастырь был основан после утраты униатами Почаевской Лавры. Им хотелось возместить потерю, они даже попытались скопировать Почаевскую Святыню. В Лавре на скале есть выемка в форме ступни левой ноги, в ней всегда скапливается вода, и население считает ее целебной. Местная легенда гласит, что Почаев посетила Богородица: выемка — след ее ноги.
«Пасли пастыри овцы на гори,
Где стояла Божья Мати;
Там воду берут?
Всем людям дают…»
Так, в своем безыскусственном творчестве, поет народ, прославляя свою великую народную святыню — святую гору Почаевскую.
Униаты в «Подкаменье» тоже выдолбили выемку, придав ей форму ступни правой ноги, и связали с той же легендой.
Близость Почаевской Лавры к Галиции имела ту хорошую сторону, что галичане–униаты, всегда тяготевшие к вере своих отцов — к православию, легко перебегали через границу на поклонение Почаевской Святыне. После изгнания униатов в народе стали ходить слухи, что, уходя, они зарыли под колокольней клад. Этот слух с течением времени приобрел стойкость убеждения и продержался многие десятилетия. Кто–то вздумал напомнить о зарытом кладе архиепископу Модесту и было решено под колокольню подкопаться. Под руководством наместника начались работы. Вскоре возникла опасность, что колокольня может рухнуть. В Лавру наехали инженеры — и замыслу ужаснулись… Епископ Подольский Ириней (бывший Тульский, постригавший и рукополагавший меня) по указу Святейшего Синода приехал производить следствие — наместника Лавры обвинили в пассивности: ему следовало проявить инициативу, протестовать против неразумного плана… — словом, виноватым оказался стрелочник, и бедного архимандрита решили сослать в дальний монастырь.
Все свои беды он мне поведал в приемной, ожидая выхода товарища обер–прокурора.
Тут появился Саблер… Приметив меня в толпе, он радушно меня приветствовал и повлек в свой кабинет. Стал говорить о Холмщине, о Варшавском архиепископе Флавиане, о его викарии — епископе Тихоне, бывшем ректоре, который семинарию отлично поставил. Разговор с Саблером меня окрылил. Затем он пожелал мне представить целибатного священника–галичанина о.Димитрия Гебея, желавшего принять православие, и поручил иметь в будущем его в виду для Холмской семинарии.
Другой неотложный визит был к Петербургскому митрополиту Палладию. Доступ к нему оказался труден: чтобы попасть на прием, надо было прождать несколько дней. Секретарь его Тихомиров, бритый, добрый, расторопный старец, посоветовал мне приема не дожидаться, а прийти в указанный им час и посидеть в канцелярии: митрополит через эту комнату проследует, тут я ему и представлюсь.
Сижу, жду… Вдруг слышу шуршанье шелка, вижу белый клобук, блеск, сияние… — и я бух в ноги!
– Вы кто? — спросил митрополит.
– Я вновь назначенный ректор Холмской семинарии…
– Вы собираетесь ехать? В час добрый…
И митрополит проплыл дальше.
Пользуясь пребыванием в Петербурге, я зашел в семинарию для информации, как она поставлена. Все мне показалось культурно, чисто, благоустроенно. Инспектор, иеромонах Сергий, осведомил меня о ее порядках и постановке учебного дела. С достопримечательностями Петербурга я не очень знакомился. На извозчике проехался по Невскому, зашел в Казанский собор, в Исаакиевский, побывал у Спасителя… Провел в Петербурге дня 3–4 и направился в Холм через Варшаву, где мне нужно было представиться архиепископу Флавиану.
Уже в вагоне, подъезжая к Варшаве, нахлынули первые впечатления новизны и чуждости. Моя спутница, дама с ребенком, выходила на какой–то станции, я помог ей открыть дверь, она поблагодарила меня по–польски. Приехал в Варшаву — извозчики, упряжь, говор, люди какой–то особой складки… — все иное, все по–другому, чем у нас. Новый, неведомый мне край. Своего рода «заграница».
Я добрался до архиерейского дома и сказал швейцару, чтобы он меня провел к архиерейскому эконому (с чемоданами прямо к архиерею я побоялся). Эконом засуетился, стал угощать чаем. Прослышав о моем приезде, меня пригласил к себе смотритель местного духовного училища (В.Н.Щеголев). Встретил в вицмундире, принял с той особой почтительной любезностью, которая подчеркивает неравные служебные положения. От него я узнал, что архиепископ Флавиан поехал поздравлять супругу генерал–губернатора княгиню Анну Александровну Имеретинскую со днем ангела и мне придется подождать его возвращения.
Встреча с высокопреосвященным Флавианом оставила во мне самое благоприятное впечатление. Он был необычайно со мной ласков.
– А мы все вас заждались… Я очень рад. Наконец–то вы приехали… Преосвященный Тихон все меня запрашивал: когда же отец ректор приедет?
Он пригласил меня к завтраку. Тон его разговора, приветливый, ласковый, непринужденный, искреннее доброжелательство, которое в нем чувствовалось, были для меня приятной неожиданностью, — я воспрянул духом. Вот что значит доброе отношение!
После завтрака я был приглашен к смотрителю. Он созвал учителей, друзей, устроил ужин. Потом все меня проводили на вокзал. Владыка Флавиан приказал отвезти меня в своей карете. Прощаясь со мной, пригласил приехать к нему на несколько дней на Рождестве.
– Тогда вы расскажете ваши впечатления о семинарии.
Как мимолетно мое пребывание в Варшаве ни было, я успел почувствовать нечто для меня новое в отношениях людей. Очевидно, положение ректора Холмской семинарии считалось здесь высоким, и я в их глазах был «важной персоной».
В Холм я прибыл утром, часов в восемь. На перроне меня встретил инспектор о.Игнатий со своим помощником и экономом. Со всех сторон: «Отец ректор!.. Отец ректор!..» На лицах улыбки, на устах приветствия… У подъезда вокзала пара лошадей — отныне мой собственный ректорский выезд.
Подкатили меня к семинарии. Новенькая, чистенькая, вокруг огромный сад–парк для семинаристов; отдельный ректорский сад с фруктовыми деревьями, с особым садовником…
Ввели меня в ректорскую квартиру. Она оказалась большой (5 комнат) и прекрасно обставленной. Как мало напоминала она владимирскую мою «пустыню»! Явился эконом. «Прикажете чаю? кофе?»
В первый же перерыв между уроками ко мне пожаловала учебная корпорация в застегнутых мундирах. О.инспектор представил всех преподавателей по очереди. Я сказал им несколько слов приблизительно в следующих выражениях: «Я очень рад вас видеть, господа… Моим девизом будут слова псалма: как хорошо и как приятно жить братьям вместе…» Потом о.инспектор сказал, что надо съездить к преосвященному Тихону, который предложил мне приехать прямо к обеду.
Епископ Тихон, добрый, веселый, приветливый, встретил меня радушно.
– Я так вам рад…
Завязалась беседа, мы хорошо поговорили. Я почувствовал себя в той братской атмосфере, в которой нет и тени покровительственной ласки. Я понял, что всякую официальность в отношениях, к которой я привык во Владимире, надо отбросить и к моему новому начальству надо относиться попросту, с открытой душой.
Вечером я присутствовал на молитве семинаристов. Первая с ними встреча… О.инспектор обратился к ученикам:
– Вот новый ректор… Надеюсь, вы оставите доброе впечатление.
Я тоже сказал несколько слов. Этим заключился день моего приезда в Холм.
Прежде чем говорить о моей ректорской службе в семинарии, я скажу несколько слов о Холме и Холмщине.
Холм — скромный уездный городок Люблинской губернии, с польско–еврейским населением, с налетом польской культуры и на русских горожанах. Расположен он в низине, а над ним, на высокой горе, белый кафедральный собор, видный еще издали, когда подъезжаешь к городу.
Историческое предание связывает основание Холма с именем князя Владимира. На охоте в лесах он заблудился и набрел на место, которое ему так понравилось, что он решил основать город, построить церковь и пожертвовать ей икону Божией Матери, одну из того богатства икон, которым его снабдили греки при крещении. Она написана на полотне, наклеенном на доску. По мнению академика Соболевского, письмо этой иконы несомненно греческое — IX–X века. Икона эта явилась историческим знаменем Холмщины. С нею связана была вся ее горькая судьба на протяжении многих веков; она пережила нашествие татар: они сорвали с нее золотую ризу и нанесли удар каким–то острым оружием, от которого на лике остался большой шрам; несколько раз икону забирали католики; не раз ее скрывали от похитителей, закапывая в землю; и все же она сохранилась до настоящего времени… С грустной лаской взирает Богоматерь на свой страдальческий народ…
«Пречистая Дево, Мати Холмского краю,
Яко на небе, так на земле Тя я величаю», трогательно поют люди православные свои простые, безыскусственные, но из глубины наболевшей души льющиеся песни. Или:
«Мати милосердия, море щедротами,
Буди милостива к бедным сиротам…»
К историческим памятникам прошлого относится и насыпной холм, где когда–то стоял дворец князя Даниила Романовича Галицкого. Археологические раскопки обнаружили мозаичные полы, предметы домашнего обихода и проч. Когда город посетили генерал–губернатор Гурко, славный герой славянской войны, и Варшавский архиепископ Леонтий, они обратили внимание на этот холм.
– Эх, поставить бы там пушку! — сказал Гурко.
– Солдат по–солдатски рассуждает, — заметил архиепископ, — а я бы там колокольню построил!
– А пономарь по–пономарски думает, — возразил Гурко.
На вершине этой горы стояла небольшая, но очень красивая, как бомбоньерка, церковь, во имя св.равноапостольных Кирилла и Мефодия, построенная в память воссоединения Холмских униатов с православием в 1875 году. Увы, уже в самые последние годы, когда образовалась новая Польша, она почему–то полякам помешала, и они (говорят, в четверг Страстной недели) взорвали ее динамитом, как и много других храмов в Холмщине.
Холмщина примыкала к этнографической польской границе. Население ее были малороссы. По мере расширения пределов Польского королевства усиливалась и полонизация Холмского края. Одним из могущественных факторов польской национальной политики была католическая Церковь. В XVII веке помещичьи и дворянские фамилии из–за государственных выгод переходили в католичество (Шептицкие, Пузины, Потоцкие, Четвертинские и др.). Верными православию оставались лишь «хлоп да поп». Тогда начали морально обессиливать высшее православное духовенство в расчете, что оно увлечет за собой и простой народ. Брестская уния 1596 года, подписанная епископами, изменившими православию, — Кириллом Терлецким, Игнатием Поцей и др., — постановила переход Холмщины в унию. XVI–XVII века — тяжелые времена для народа: его веру беспощадно преследовали; он долго боролся за свою религиозную свободу, за православие. Однако два века гнета не прошли бесследно для народной души. Гонение на веру и крепостное право (панщина), которое проявлялось в формах более жестоких, нежели в Великороссии, превратили народ в забитого раба, который ломает шапку перед каждым паном, унижается, готов целовать ему руки…
После первого раздела Польши (1773) постепенно поднимается обратная волна. Сначала Подолия, потом Литва (1839) и наконец Холмщина — потянулись к своему исконному родному православию. А в 1875 году православные приходы Холмщины уже подали императору Александру II петицию о воссоединении с Православной Церковью.
При воссоединении допущено было много ошибок. Не посчитались с народной душой. Вмешалась администрация: губернаторы, полиция… стали народ загонять в православие. Многие приходы переходили фиктивно; появились так называемые «упорствующие» — лишь на бумаге православные люди, а по существу те же униаты. В условиях фиктивного воссоединения с Православной Церковью они лишь дичали, тянулись к католическому зарубежью, а с местными православными духовными властями ладили путем хитрых уловок. Иногда из Галиции перебегали к ним униатские священники и тайно, по ночам, их «окормляли».
Религиозная и народная жизнь Холмщины была сложная. В ней скрещивались и переплетались разнородные религиозные течения, воздействия разных культурных наслоений, обусловленные всем историческим прошлым этого края: Русь и православие — как исторический фундамент; Польша и католичество в виде унии — как дальнейшее наслоение, заглушавшее первоначальную стихию народной жизни и изломавшее душу народа, его язык, быт и весь уклад. Население Холмщины — прекрасный народ, с сильным религиозным чувством, но, как я уже сказал, с изломанной душой: сначала (в XVI–XVII вв.) насильно загоняли его в унию, потом в 1875 году он возвратился к старому прадедовскому православию. К сожалению, наше духовенство не всегда отличалось умением поставить на должную высоту задачи миссионерства. Первый после унии Варшавский митрополит Иоанникий, прямолинейный митрополит Леонтий, викарий его Маркел Пепель (бывший галичанин–униат) и, наконец, епископ Флавиан, впоследствии митрополит Киевский, — очень ревновали о чистоте православного обряда, но не всегда такая ревность была уместна. Правда, униаты исковеркали наше богослужение и обряды настолько, что еще десяток–другой лет — и от их первоначальных форм не осталось бы и следа. Правительство в лице графа Милютина и князя Черкасского вовремя спохватилось. Но нужна была широкая терпимость, отличающая важное от второстепенного, дабы понапрасну не возникало серьезных конфликтов. Примером подобного рода столкновений может служить распря из–за направления крестных ходов: православные из униатов ходили слева направо («посолонь»), а наши — справа налево; обе волны сталкивались, — дело доходило до жестоких схваток, до драк крестами… Тогда начальство запретило крестные ходы вообще. В народе подняли ропот: как быть без крестных ходов, у католиков они есть, а нам не позволяют… и т. д.
С этими своеобразными проявлениями религиозной жизни в Холмщине я познакомился впоследствии, а поначалу весь отдался ректорским обязанностям.
Холмская семинария отличалась многими особенностями. Процентной нормы для детей лиц духовного звания здесь не существовало, как это было в коренных русских епархиях, где 90 процентов семинаристов были сыновья духовенства; в Холме же до 75 процентов были дети мелких чиновников, зажиточных крестьян, учителей… Местные священники имели достаток и обычно отдавали своих сыновей в гимназии; только псаломщики держались семинарии. Одна Холмская семинария была в России не кастовая. Она отвечала ясно поставленной властью задаче — привлечь в духовное звание детей из народа, чтобы священник был ему «свой». Наши семинаристы внутри России страдали от обособленности, оставались «бурсаками», «поповскими детьми», и свою отчужденность от общества часто переживали как тяжкое ограничение своих человеческих прав и озлоблялись. Этого настроения в Холмской семинарии не было, по духу она была иная — несколько светская, с особым миссионерским заданием привлекать эти светские элементы к церковному служению.
С первой встречи, в день приезда, я заметил, что семинаристы внешне не похожи на наших, великорусских. Подобранные, причесанные, чисто, даже щеголевато, одетые, они произвели на меня хорошее впечатление. Впоследствии я узнал их ближе. Веяние Запада на них сказывалось. Чувствовалась внешняя культура: учтивость, разборчивость на слово, сдержанность. Ни пьянства, ни разгула. Празднуют чьи–либо именины — выпьют, но умеренно: не стаканами, как у нас; захотят развлечься — наденут новенький, хоть и дешевенький галстучек, крахмальный воротничок — и пойдут в город потанцевать, погулять, благопристойно поухаживать за городскими девицами. Но я замечал не раз, что эти благонравные «полячки» вспыхивали, стыдились своих родителей, когда те их навещали. Приедет, бывало, какой–нибудь мужик в кожухе или бедный псаломщик, — а сыновья от них прячутся либо стараются встретиться в закоулке… Я их строго обличал и бранил за это.
Семинаристы внутри России были грубы, так сказать, непричесаны, но зато глубже, искреннее, с более сложными душевными запросами, более широким душевным размахом. Этим чистеньким парнишкам и в голову не пришла бы тайная библиотека с оппозиционным политическим направлением.
Налет польской культуры чувствовался во вкусах, в нравах семинаристов. В 60–х годах XIX столетия все духовенство этого края еще говорило по–польски. Русский язык и теперь считался «холопским» (мужицким), языком образованного общества, «панским», был язык польский. Мне, русаку, казалось это обидным, и я стал выправлять эту линию — старался юношеству разъяснить судьбу России, православия, дать им понятие о «святой Руси» — словом, взял линию не только церковного, но и национального воспитания. Иногда я даже чувствовал некоторый протест себе как «кацапу», но ничего… Я встал твердой ногой на свою позицию. Мое служебное положение было очень прочно; даже с внешней стороны я должен был поставить себя так, чтобы производить впечатление авторитетного представителя Русской Православной Церкви. Хотя я лично любил всяческую простоту, но для престижа нужно было подтягиваться: прекрасный выезд, шелковые рясы… Тут я лишь продолжал политику моего предшественника, архимандрита Тихона; он сумел высоко поднять значение ректора в глазах населения.
Вообще от него досталось мне хорошее наследие. Холмская семинария была небольшая (175 учеников), чистая и внутренне благоустроенная.
Архимандрит Тихон обладал большою житейскою мудростью, был человек такта и чувства меры; несмотря на свойственную ему мягкость и добродушие, умел настойчиво проводить полезные мероприятия. Вот, например, как он лишил преподавателей казенных квартир.
Нигде в России, кроме Холма, квартир преподавателям в семинарии не полагалось. Холмская епархия была маленькая; семинарию построили на 75 воспитанников, а число их с течением времени стало больше чем вдвое. Стало тесно. Архиепископ Флавиан и ректор о. Тихон решили преподавателей выселить из казенных квартир. Квартиры их были все на одном коридоре. Жены, кухарки… свара на чердаках из–за сушки белья… непрестанные мелкие ссоры хозяек, обычные в такого рода общежитиях. Атмосфера создалась столь неприятная, что некоторые жены стали уговаривать своих мужей: переедем в город! Выехал один преподаватель, за ним — второй… Архимандрит Тихон повел так, что постепенно все жильцы выехали. Сами себя высекли… вздыхали они потом.
За пятилетие ректорской службы архимандрит Тихон поставил учебно–воспитательное дело отлично. В память открытия святых мощей святителя Феодосия Черниговского он устроил в семинарии второй храм во имя этого новоявленного угодника Божия, пожертвовав для сего семинарским залом. В этом новом храме совершалось ежедневное богослужение, причем каждый из шести классов имел свой день, когда он мог там самостоятельно нести клиросное послушание; а в праздники туда собирались для богослужения дети семинарской образцовой церковноприходской школы. Совершало будничное богослужение, также по очереди, семинарское духовенство: ректор, инспектор, духовник и преподаватели, носившие духовный сан.
Архимандрит Тихон был очень популярен и в семинарии и среди народа. Местные священники приглашали его на храмовые праздники. Милый и обаятельный, он всюду был желанным гостем, всех располагал к себе, оживлял любое собрание, в его обществе всем было весело, приятно, легко. Будучи ректором, он сумел завязать живые и прочные отношения с народом, — и этот же путь он указал и мне. В сане епископа он еще больше углубил и расширил свою связь с народом и стал, действительно, для Холмщины «своим» архиереем. Мне постоянно во время поездок по епархии приходилось слышать самые сердечные отзывы о нем духовенства и народа.
С преосвященным Тихоном мы были добрые друзья. Я у него часто бывал, летом ездил к нему на дачку. К сожалению, епископскую кафедру в Холме он занимал недолго: в сентябре 1898 года его назначили епископом в Америку.
Тяжело, горько было Холмщине с ним расставаться. Все любили его единодушно. Провожали с подношениями, с изъявлениями искренней, теплой благодарности.
После отъезда преосвященного Тихона мои с ним отношения на протяжении многих лет оставались близкими. Когда он приезжал из Америки, — а возвращался преосвященный Тихон на родину дважды, — он всякий раз навещал меня.
Когда я начал мою службу в Холмщине, инспектором семинарии был о. иеромонах Игнатий (в миру Иерофей Иваницкий). Мы были совоспитанниками по Московской Духовной Академии, но разных курсов: я был на первом курсе, когда он был на четвертом. Студент Иваницкий был одним из неисправимых: к вину пристрастный, на язык несдержанный, он наговорил дерзостей инспектору архимандриту Антонию (Коржавину) и кончил Академию с четверкой за поведение. С такой отметкой рассчитывать на священство было трудно. Он отправился на родину, на Волынь, к своему епископу и просился в священники.
– 4 за поведение? Не посвящу!
«Ах — так? Пойду в монахи, лучше тебя буду», — решил Иваницкий.
Но в монахи он попал нескоро, сперва пристроился в канцелярию губернатора. Работал он отлично, предвиделась хорошая карьера, он метил стать управителем канцелярии. И вдруг — все рухнуло. Оказался другой кандидат, который перебил ему дорогу. Иваницкий обозлился, не явился на службу — и пропал. Оказалось, он горько запил, опустился, стал босяком… Его встретил в Варшаве, на улице, его товарищ по семинарии, священник–законоучитель. Привел к себе, обул, одел, поднял со дна. Иерофей пришел немного в себя — и махнул в Киево–Печерскую Лавру. Здесь он попросился на самое грязное «послушание»: он чистил отхожие места, жил под лестницей; стал юродствовать: смешивал всю пищу в одно месиво и эту кашу ел; занялся и борьбой со злыми духами. В Лавре бывало множество кликуш. «А я помолюсь, перекрещусь и крикну: — вон! Они и выходили. За это злые духи на меня ополчились…» — рассказывал он.
Киевский митрополит Иоанникий его заметил и осведомился: «Кто это?» — «Кандидат Московской Духовной Академии». — «Почему же его держат в черном теле? Дайте ему интеллигентную работу хотя бы по ревизии лаврской типографии…»
С порученной ему работой послушник Иваницкий справился отлично. Митрополит Иоанникий был в восторге, допустил к постригу и рукоположил в иеромонахи, а когда ему случилось быть в Петербурге, замолвил слово за новопосвященного, и о. Игнатия назначили инспектором Холмской семинарии.
Его внешний вид меня озадачил, когда я впервые его увидел на платформе вокзала. Смазные сапоги, грязноватый вид, красное лицо… И с первых слов — простодушное восклицание: «По почерку, по почерку видел — хороший, хороший едет ректор!..»
Впоследствии я узнал ближе этого странного человека. Чудак он был и в должности инспектора вряд ли оказался на месте. Простодушный, откровенный, доверчивый, со странностями, он был любим семинаристами, хоть они над ним и подсмеивались. Относились они к нему запанибрата. Мне довелось увидать такую картину: по семинарскому коридору вскачь мчалась тройка — о. Игнатий в середине, а по бокам два воспитанника…
Крайней его доверчивостью часто злоупотребляли многие. Прежде всего его келейник Васька. Инспектор собирал с семинаристов денежные взносы за пансион. Деньги о. Игнатий прятал в свой стол, но его не запирал; при сдаче денежных сумм они с квитанционными книжками часто не сходились.
– Вас обкрадывают, — сказал я.
– Исследую. — Он положил на стол золотой и стал ждать, украдут его или нет. Потом заявил: «Украли!» Ваську он изругал, — может быть, побил, но не выгнал.
Семинаристов он распустил, а если иногда и пытался надзирать за дисциплиной, то формы его педагогического воздействия вызывали невольную улыбку. Увидит он, что воспитанники под окном подглядывают за дочками духовника — и отгоняет мальчишек, замахиваясь на них четками: «Ах, окаянные! ах, окаянные!..» Этими же четками он загонял их в церковь.
Не прекращалась его старая борьба с бесами, начавшаяся еще в Киево–Печерской Лавре. Смотришь, в церкви о. Игнатий плачет… — «Что с тобой?» — «Они меня во всю ночь мучили…» И далее следовал рассказ о ночных злоключениях: вместо иконы ему привиделась женщина… на него напали бесы, стащили с кровати, избили… Иногда засмеешься, а он серьезно: «Не смейся, не смейся…» Как–то раз келейник померещился ему бесом, и он чуть было не хватил его поленом. Испуганного «беса» поспешил утешить — купил ему колбасы.
О. Игнатий страдал какой–то желудочно–кишечной болезнью. Когда его мучили боли, он уходил в сад и лежал под кустами, представляя любопытное зрелище для учеников, которые окружали его и тут же заявляли свои просьбы об отпуске и проч. Архиепископ Флавиан его недолюбливал, и о. Игнатий — тоже; в его присутствии он сурово молчал. Ожидаем мы, бывало, приезда владыки, а он хмурится: «Опять начнется «соловецкое сидение»…»
В 1898 году о. Игнатий покинул семинарию. Его назначили настоятелем Заиконоспасского монастыря в Москве
[14].
Ему на смену приехал иеромонах Вениамин
[15], преподаватель Рижской семинарии, где он прослужил лишь год после окончания Петербургской Духовной Академии.
Это был молоденький, скромный, кроткий, улыбающийся монах, а дело повел крепкой рукой и достигал добрых результатов. Между нами установились дружественные отношения, с ним мы шли рука об руку. Хороший он был человек. Семинаристы чувствовали наше единодушие, и это на них благотворно влияло: молодежь обычно спекулирует на разногласиях главных начальствующих лиц. К сожалению, о. Вениамин пробыл у нас лишь полтора года. После святок 1899 года дошла до меня весть, что его назначают инспектором Петербургской семинарии, а к нам переводят петербургского инспектора иеромонаха Филиппа.
Пребывание о. Филиппа в Холмщине было кратковременным: он страдал туберкулезом, болезнь в нашем климате обострилась, он едва дотянул до каникул, а осенью его свезли в Варшаву, в клинику, где он и скончался.
Место его занял игумен Сергий (Титов). С ним возникли у меня осложнения. Человек он был неглупый, волевой, с большим самомнением, крестьянского происхождения — типичный крепкий вологодский мужичок. Он стал отстаивать свои прерогативы, интриговал, хотел распоряжаться самостоятельно, давал указания эконому, которые тот не считал возможным выполнить и приходил ко мне с жалобами. В вопросах довольствия о. инспектор, играя на популярности, держал всегда сторону семинаристов против эконома — словом, начался разлад. А тут еще вспыхнула эпидемия брюшного тифа.
В неделю заболело 10–12 мальчиков, а там все хуже и хуже… Двое–трое учеников умерло. Поднялась тревога, а потом и ропот: всему виной пища! Ребята отказываются есть, в семьях паника… Я отправил в Петербург донесение, настаивал на немедленном роспуске семинарии «впредь до выяснения причин эпидемии». Приехала медицинская комиссия; исследовали нашу питьевую воду — и обнаружили тифозные бациллы. Призвали компетентных лиц для осмотра нашего колодца. Оказалось, что стены его обветшали и из отхожих мест просачивались нечистоты. Слухи об этом добежали до Варшавы, в епархиальных кругах настроились против меня: как я мог такие недочеты проглядеть! Мы сейчас же составили проект новых отхожих мест, с земляными фильтрами, с дальним отводом и во время каникул привели санитарную часть в полный порядок. Однако и теперь о. инспектор продолжал настраивать семинаристов против меня.
Вследствие эпидемии экзамены были отложены на осень, — и вот перед началом экзаменационной сессии воспитанники вдруг заявили требование: экзамены в этом году отменить. И мотивировали его: «Мы от волнения еще не оправились». Назначили первый письменный экзамен, учителя пришли, — а в классах… никого! Все ученики разбежались. Я — к инспектору: «В чем дело?» А он держит их сторону. Я собрал экстренное заседание Правления и внес предложение — дать знать в Петербург, семинарию закрыть, а зачинщиков выгнать. Инспектор струхнул.
– Я учеников уговорю… я сейчас съезжу… — И помчался на казенной лошади в лес; а там, на полянке, расселись семинаристы — и курят.
Я призвал эконома и распорядился обеда нынче не готовить: зачем — если все разбежались?
Вскоре пришла ко мне делегация от учеников с повинной, оправдываются: «Мы только прогулялись…» — просят разрешить им обедать. Я их простил, но предупредил, что подобное поведение прощаю в последний раз. Преподавателям предложил проводить экзамены, отбросив все сентиментальности. Зачинщиков — некоторые были известны — приструнили, наиболее виновных — со строгостью.
Эта неприятная история была единственным облачком за весь период моей ректорской службы. Уладив дело, я съездил в Варшаву к архиепископу Иерониму (к тому времени он занял Варшавскую кафедру после архиепископа Флавиана); он меня благодарил за самостоятельное, без донесения в Петербург, разрешение конфликта. Когда зашла речь об инспекторе, я сказал, что с ним работать трудно.
Через полгода его перевели в Ардонскую осетинскую семинарию (Владикавказской губернии). Эта семинария ставила себе задачей готовить священников–миссионеров для проповеди христианства среди кавказских мусульман.
К Пасхе мне прислали нового инспектора — преподавателя Таврической семинарии иеромонаха Дионисия
[16]. Как я уже сказал
[17], он был припутан к скандалу во Владимирской семинарии, ему пришлось покинуть Владимир и искать пристанища в другой семинарии. Он отлично окончил образование в Уфе, где епископом был его родственник; потом он учился в Казанской Духовной Академии и был пострижен архимандритом Антонием (Храповицким). Когда я оставил должность ректора в Холме, он занял мое место.
С преподавателями я сошелся, и у нас установились добрые отношения. Некоторые из них были сыновьями униатских священников и в них, а также и в их семьях, сохранился польский отпечаток на домашнем укладе жизни; «кацапов» они не очень–то дружественно у себя принимали. Другие, хотя по происхождению были такие же, наоборот, не в меру подчеркивали свое православие, увлекаясь идеей русификации, и в некоторых отношениях были «plus papistes que le Pape». В общем, состав учителей был довольно бледный. При наших добрых взаимоотношениях работа с ними шла хорошо.
Еще при ректоре архимандрите Тихоне в семинарии еженедельно (по воскресеньям после обеда) бывали литературные вечера. Сначала выступал наш семинарский хор с песнопениями, потом бывали доклады: о католичестве, о православии (обычно эту часть брал на себя преподаватель обличительного богословия); их сменяли рефераты на вольные литературные темы. Преподаватели охотно принимали участие в программе вечера. На собрания допускалась и публика. Съезжалось городское общество. По окончании докладов ректор устраивал у себя «чай». В Холме было много учебных заведений: кроме семинарии были гимназия мужская и женская, железнодорожное училище, духовное училище, учительская семинария, женское Мариинское шестиклассное училище с интернатом, устроенное главным образом для дочерей духовенства. Стояли два полка 17–й пехотной дивизии: Московский Его Величества и Бутырский. Интеллигенции эти вечера нравились. Зал был полон, а «чай» у меня многолюден. Тогда я еще был молодой, живой, и мне удавалось среди собравшихся поддерживать тон оживленного и приятного общения.
Помню, как обиделись две городские дамы на нашего чудаковатого инспектора о. Игнатия, который не разделял общего благодушного настроения. Спешат они по коридору в зал, встречают его на пути — и приветливо:
– Вот мы и пришли!..
А он в ответ:
– Ну что ж, пришли — так пришли…
– Какой нелюбезный ваш инспектор, — пожаловались мне дамы.
В числе новопоступивших при мне преподавателей оказался Константин Семенович Богданов, тот самый студент, мой товарищ и земляк, — туляк, который подарил мне при выпуске свою фотографию с памятной надписью
[18]. Как внешне изменились наши судьбы! Он все еще семинарский преподаватель (читал гомилетику), я — уже архимандрит, ректор.
Явился он ко мне в вицмундире и церемонно приветствовал:
– Имею честь представиться, отец ректор…
Я принял его без всякой официальности, просто, в соответствии с общим нашим прошлым.
Был он человек неглупый, развитой, но сухой, по натуре чиновник. Его карьера закончилась должностью инспектора народных училищ.
На общем бледноватом фоне преподавательского состава выделялась одна лишь фигура — мрачная, жуткая, всех отталкивающая, — иеромонах Антонин. Что–то в этом человеке было роковое, демоническое, нравственно–преступное с юных лет. Он был один из лучших студентов Киевской Духовной Академии, но клобук надел только из крайнего честолюбия, в душе издеваясь над монашеством. Мой товарищ о.К.Аггеев (тоже Киевской Духовной Академии) рассказал мне, как Антонин вечером уходил потихоньку из Академии и, швырнув обратно в комнату через открытую форточку клобук, рясу и четки, пропадал невесть где… Впоследствии он проявлял странности, похожие на ненормальность.
В Донском московском монастыре, где он одно время жил, будучи смотрителем духовного училища, завел медвежонка; от него монахам житья не было: медведь залезал в трапезную, опустошал горшки с кашей и пр. Но мало этого, Антонин вздумал делать в Новый год визиты в сопровождении медведя. Заехал к управляющему Синодальной конторой, не застал его дома и оставил карточку: «Иеромонах Антонин с медведем». Возмущенный сановник пожаловался К.П.Победоносцеву. Началось расследование. Но Антонину многое прощалось за его незаурядные умственные способности. Он был назначен инспектором моей родной Тульской семинарии. В этой должности он проявил странное сочетание распущенности и жандармских наклонностей. Завел в семинарии невыносимый режим, держал ее в терроре; глубокой ночью на окраинах города врывался ураганом в квартиры семинаристов, чтоб узнать, все ли ночуют дома, делал обыски в сундуках, дознавался, какие книги они читают, и т. д. И в то же время его келейник устроил в городе что–то предосудительное вроде «танцкласса», где собиралась молодежь обоего пола. Семинаристы не выдержали и решили с Антонином покончить. Набили пороху в полено — и ему в печку. Но взорвало одну печку: Антонин куда–то ушел обедать, это его спасло. Началось дознание, приехал ревизор, темные дела инспектора раскрылись… Его бы следовало сослать в какой–нибудь глухой монастырь на покаяние, а его назначили преподавателем в Холмскую семинарию…
Огромный, черный, неуклюжий, он производил тяжелое впечатление. Инспектор, наш добрый о.Игнатий, говорил о нем:
– Смотрите, злобой, злобой от него смердит!
И верно, к ученикам он относился с какой–то холодной жестокостью, беспощадно осыпая их «единицами». (Он преподавал Священное Писание Ветхого Завета.) Чувствовалось в нем что–то трагическое, безысходная душевная мука. Помню, уйдет вечером к себе и, не зажигая лампы, часами лежит в темноте, а я слышу через стену его громкие стенанья: ооо–ох… ооо–ох… ооо–ох… Мы за него боялись, приходили проведать. Заставали в темноте на койке, расспрашивали, утешали; он упорно стонал…
Когда к нам приехал В.К.Саблер, Антонин повеселел и даже добродушно пожаловался на нашего воителя с бесами о.Игнатия:
– Скажите, Владимир Карлович, отцу Игнатию, чтобы он бесов не посылал ко мне. Они к нему запросто ходят…
Саблер смеялся.
Как–то отошел и повеселел Антонин тоже, когда мы гостили на святках у архиепископа Флавиана в Варшаве (это было в первый год моего приезда в Холм). Прожили там одну неделю, в архиерейских покоях; вместе с владыкой обедали, потом в гостиной пили кофе и в совместной дружеской беседе проводили вечер. Душою общества был молодой викарный епископ Тихон. Восхитительные вечера! И до того не похожа была их теплая, родственная, веселая атмосфера на ледяную температуру во владимирском архиерейском доме! Я не знал, как мне за эти светлые дни Бога благодарить… Архиепископ Флавиан ласково говорил с Антонином, и это, по–видимому, его обрадовало: он как–то встрепенулся, повеселел.
Впоследствии он отпросился у архиепископа Флавиана в отпуск и поехал в Рим. Владыка очень за него боялся и жалел, что отпустил. Антонин всем казался человеком, за которого поручиться нельзя. Но из Рима он благополучно вернулся.
Помню странную выходку Антонина на прощальном обеде в клубе, по случаю отъезда архиепископа Флавиана, назначенного Экзархом Грузии. Дело было Великим постом. За столом велись оживленные беседы, были речи… Антонин сидел сумрачный, и вдруг — его бас на весь стол: «А котлетки–то были телячьи…» Неловкое молчание. Архиепископ Флавиан, устроители, гости… — все сконфузились.
Летом 1898 года незадолго до отъезда епископа Тихона в Америку Антонина возвели в сан архимандрита и назначили ректором Благовещенской семинарии. На Пасхе там случайно не было архиерея, и следовательно, высшим духовным лицом в городе был ректор. Заменяя архиерея, он служил в соборе. Возникла у него какая–то ссора с губернатором, которую, однако, тот желал поскорей уладить. После обедни губернатор подошел ко кресту, но Антонин передал крест сослужащему священнику — и ускользнул из храма. Губернатор — к нему на квартиру. Антонин его не принял. Начались объяснения, переписка… Все это Антонину надоело, и он, внезапно бросив семинарию, уехал в Петербург; явился к Саблеру и заявил: «Я больше не хочу!» Его назначили в цензурный комитет. Жил он в Александро–Невской Лавре, написал исследование о «Книге Варуха», бывал на собраниях в «религиозно–философском обществе», водил знакомство с Розановым, который ему подарил свои сочинения с надписью: «Нашему Левиафану». Потом Петербургский митрополит Антоний, во внимание к его таланту и ученым трудам, сделал его своим викарием, епископом Нарвским. Все его за это назначение порицали, — и не без основания. В 1905 году Антонин самочинно выкинул из богослужения слово «самодержавнейшего» и стал писать в «Новом Времени» о конституционном соотношении законодательной, исполнительной и судебной власти как о подобии Божественной конституции во Святой Троице. Святейший Синод и особенно Обер–Прокурор возмутились, и Антонина уволили в заштат, в Сергиевскую Пустынь, с запрещением выезда за ее пределы. Эта репрессия его озлобила. Митрополит Антоний над ним сжалился: он снова появляется в Петербурге, а затем назначается епископом Владикавказским. Там он заболел белокровием. Мне, на Волынь, пришел указ — отправить в помощь больному моего викария, преосвященного Фаддея. Это было в конце февраля 1917 года, перед самым началом революции; преосвященный Фаддей едва смог добраться: на железных дорогах уже шли забастовки. Прямо с вокзала он приехал в собор, а после обедни направился к болящему епископу. Позавтракали. И вдруг — келейник с докладом:
– В приемной повесился священник…
Антонина по болезни уволили на покой в Богоявленский монастырь (в Москве). Во время Церковного Собора я его навестил. Он ходил в рваном подряснике, подчеркивал свое униженное заштатное положение и мне жаловался: «Меня забыли… меня все бросили…» Я узнал, что он иногда бродит по улицам Москвы и, как бездомный, валяется на скамейках перед монастырем. Когда у нас с ним зашла речь о митрополите Тихоне, нашем сослуживце по Холму, он высказывался против него. Потом митрополит Тихон мне говорил, что Антонин ничего слушать не хочет, что с ним не знаешь что и делать… Дальнейшее известно: Антонин порвал с Православной Церковью и возглавил какое–то объединение, именовавшее себя «церковью» (кажется, «церковью возрождения»); вскоре он скончался.
Жуткая, мрачная фигура…
Моим высшим начальством по приезде в Холм, как я не раз об этом упоминал, был архиепископ Флавиан, к которому у меня сохранилось хорошее, благодарное чувство. Он покинул Варшавскую кафедру если и по своей воле, то все же принужденный к тому трениями, которые возникли в его отношениях с генерал–губернатором князем Имеретинским, Он часто жаловался на некорректное отношение к нему генерал–губернатора, доходившее до того, что его переписку перлюстрировали. Долго терпел это старец, пока наконец его не перевели на Кавказ Экзархом Грузии. Вся паства его оплакивала, за исключением священников–галичан, которые его не любили и, говорят, своеобразно выразили ему свою антипатию. Среди прощальных подношений была с почтой прислана посылка: «Слова и речи архиепископа Флавиана» — переплет, а в нем листы чистой бумаги…
Владыка Флавиан был необычайно внимателен к духовенству: знал имя–отчество жены, имена детей, всю биографию. Впоследствии в архиерейском письменном столе я нашел подробные списки. Своим вниманием он удивлял и располагал к себе подчиненных. Его отъезд мы все переживали как утрату.
Его место занял архиепископ Иероним (Экземплярский). Он был вдовец, семейный, занимал в свое время должность законоучителя в аристократическом учебном заведении — коллегии Павла Галагана (в Киеве). Большой барин, чудный певец, он жил с некоторою роскошью. О богатстве его облачений, о драгоценных камнях, неслыханно дорогих рясах и роскошном выезде… ходила громкая молва, иногда подкрашенная фантазиею. Ходили и слухи, что к монашеству он не благоволит. Мы, холмские монахи, приуныли.
Преосвященный Тихон полушутливо пугал нас новым архиереем.
Я вместе с ним отправился в Варшаву встречать новое начальство. Первое впечатление было благоприятное, хотя, конечно, не могло быть той близости и теплоты, к которым мы привыкли…
– Вскоре, на Пасхальной неделе, я к вам приеду, — с первых слов заявил мне архиепископ.
И верно — приехал. Я встретил его по чину, в семинарском храме, с «цветами красноречия». Епископ Тихон устроил ему завтрак, сказал приветственную речь. Архиепископ Иероним, мягкий, деликатный, тонкий в обхождении, тоже ответил речью, а потом спросил епископа Тихона прямо, без обиняков:
– Ваше Преосвященство, откуда вам известно, что новый архиерей враждебно относится к монашеству?
– Это болтовня… — смутился преосвященный Тихон.
– Прошу судить по фактам — не по сплетням.
Про меня кому–то из свиты тоже сказал то, что подумал:
– У ректора на голове митра в виде лукошка, — намекая на мою дешевенькую митру.
Впоследствии архиепископ Иероним меня очень полюбил, часто приглашал к себе в Варшаву, с моим мнением считался, и мои служебные отношения наладились с ним, так же как и с архиепископом Флавианом.
Вскоре после его приезда состоялось назначение епископа Тихона в Америку, а его место занял настоятель Яблочинского монастыря архимандрит Герман. Все решилось в Петербурге без ведома архиепископа Иеронима, который был этим обижен и к навязанному ему викарию относился потом холодновато. Он не скрывал от приближенных, что хотел иметь викарием меня.
Архимандрит Герман был обязан своим назначением хлопотам игумений местных женских монастырей (о них потом я скажу особо), в частности — настоятельнице Леснинской обители матушке Екатерине: она расхвалила его в Петербурге. Архимандрит Герман умел ладить с женскими монастырями и пользовался большим расположением, нежели епископ Тихон, которого монашенки недолюбливали. Эта женская протекция дала повод владыке Иерониму к ироническому замечанию:
– Архимандрит Герман на монашеских юбках, как на парусах, выезжает.
Епископ Герман был человек неуравновешенный, но веселый, остроумный, неглупый, мастер рассказывать анекдоты. Об аскетических подвигах он мало ревновал. Нервный и неровный в обращении, он с народом и с духовенством бывал часто груб. Семинаристов терпеть не мог, ибо из–за них не удалась его духовно–учебная служба, когда его из инспекторов семинарии послали в монастырь, — «Вы их жмите! Вы не улыбайтесь, а слушайте меня…» — говорил он мне.
К нам в Холм, на обратном пути из Японии, заехал архимандрит Сергий (Страгородский)
[19]. Он был назначен в Японскую миссию к известному апостолу православия архиепископу Николаю, не выдержал сурового режима и должен был вернуться в Россию. Епископ Герман и архимандрит Сергий были приятелями; они одновременно приняли постриг и были названы «Сергием» и «Германом» в память преподобных Сергия и Германа, подвижников Валаамских. Я тоже был с архимандритом Сергием добрых отношениях. Пригласил его служить в нашем семинарском храме вместе с епископом Германом; богослужение, помню, совершалось на греческом языке, в котором все мы были не очень сильны: «Ходили, как по тонкому льду», по остроумному замечанию присутствовавшей на богослужении м.игуменьи Екатерины. Настроение у архимандрита Сергия было невеселое — он был в большом смущении от своей неудавшейся миссии в Японии.
В другой раз архимандрит Сергий посетил Холм будучи уже епископом и ректором Петербургской Академии.
Епископ Герман увез своего друга в Яблочинскии монастырь. Однажды они решили съездить на монастырское Белое озеро — поудить рыбу. Сели в шарабан: епископ Герман — за кучера. Дорогой лошадь понесла, шарабанчик опрокинулся, вожжи запутались… — и оба седока чувствительно пострадали: Сергий вывихнул руку, а у Германа все лицо — в ссадинах. Беда была бы все же не столь серьезна, если бы не извещение, что через неделю в Холм прибудет Государь и что архиепископ Иероним, по преклонности возраста и недомоганию, из Варшавы не приедет. Это значило, что встречать Государя должен епископ Герман. А как в таком виде встречать? Сергия увезли в Брест — вправлять руку, епископ Герман стал спешно залечивать обезображенное лицо. С помощью всяких присыпок и примочек он, к счастью, приобрел через неделю сравнительно благообразный вид — и отлично, красивою речью, встретил Государя. Все обошлось так хорошо (Государь пробыл два дня), что епископ Герман удостоился «высочайшей» награды — ему пожаловали огромную дорогую панагию, тем самым отметив неудовольствие, вызванное отсутствием архиепископа Иеронима.
С ректорской службой я совмещал должность благочинного женских монастырей.
Женские монастыри в Холмщине имели огромное значение для местной народной жизни. Их было несколько, но монастырем–колыбелью всех остальных была Леснинская обитель.
Она была основана в 1884 году игуменьей Екатериной (в миру графиня Ефимовская). В молодости основательница увлекалась народническими и либеральными течениями, вращаясь в передовых интеллигентских кругах, переписывалась и спорила с В.Соловьевым, с философски образованным иеромонахом Михаилом Грибановским, инспектором Петербургской Академии (впоследствии епископ Таврический); была хорошо осведомлена в вопросах философии, богословия — вообще была очень образованная женщина. Она довольно долго жила за границей и больше других стран полюбила Англию. Не раз с увлечением рассказывала она мне об английском духовенстве, о быте епископов, чистоте их общественных и семейных нравов. Вскоре по возвращении в Россию она пережила глубокий душевный переворот — и приняла монашество, оставаясь, однако, верной своей горячей любви к народу. «Я стала монахиней скорей из любви к народу, чем к Богу», — признавалась она. Варшавский архиепископ Леонтий предложил ей основать женскую обитель в Лесной. Прежде это был католический монастырь «паулинов», но монахи скомпрометировали себя в польском восстании, и их удалили. Монастырь стоял пустой. Не решаясь взять на себя столь ответственное дело, матушка Екатерина отправилась к Оптинскому старцу Амвросию за советом и благословением; рассказала ему, что деятельность будущего монастыря представляется ей несколько в ином виде, чем обычно: широкая просветительная работа, культурное воздействие на население — школы, больницы, приюты… а на это новшество она самовольно не решается.
– Новый монастырь по–новому и устрой… — сказал старец, — а теперь я тебя поисповедаю.
У матушки Екатерины не было с собой мантии, о.Амвросий надел на нее свою и стал исповедовать…
Благословение старца Амвросия укрепило матушку Екатерину, и она без колебаний уехала в Лесную. Руководство старца Амвросия «окормляло» и меня в решающих судьбу жизненных вопросах — это и было тем общим, заветным, что нас с матушкой Екатериной навсегда связало.
Леснинский монастырь находился недалеко от г.Белы Седлецкой губернии, в 5–6 часах езды от Холма. С течением времени он стал, действительно, тем культурно–просветительным центром, который матушка Екатерина задумала создать. Она основала приюты для сирот, школы для младшего, среднего и старшего возраста, высшее сельскохозяйственное женское училище, церковно–учительскую школу (церковно–учительскую семинарию). В школах ее обучалось до тысячи детей. Можно смело сказать, что весь народ холмский проходил через ее приюты и школы, вся сельская интеллигенция: учителя, учительницы, волостные писаря, агрономы, псаломщики… — в большинстве были ее воспитанниками. Мало этого, она развела ботанический фармацевтический сад с лабораторией, которой заведовал специальный фармацевт; устроила паровую мельницу; отлично поставила рыбоводство на леснинских прудах посредством сложной системы сообщения между ними.
В Леснинском монастыре создалась какая–то особая культурная атмосфера. Характерными его чертами были: разумный, неослабный труд и духовное воодушевление. Душою обители несомненно надо признать матушку Екатерину. Это была святая душа. К себе строгая, подвижница–молитвенница и постница, к другим снисходительная, всегда веселая, — она была общительна, любила пошутить, пофилософствовать, побогословствовать, имея для этого данные. Духовный подвиг несла сокровенно, заметая следы, и лишь приближенные сестры догадывались, что она по ночам подолгу молится…
Матушка Екатерина возлюбила казначею мать Нину. В ней души не чаяла и хотела, чтобы она была назначена игуменьей. Мать Нина умная, дельная, но по натуре сухая, могла бывать и неприятной: она страдала хронической болезнью (туберкулезом спинного хребта с поражением нескольких позвонков) и перенесла более 10 операций на удивление врачам, которые такой живучести не видывали. Закованная в сложный корсет, она казалась не способна ни к какой деятельности, связанной с передвижением, — однако появлялась всюду, где требовался хозяйский глаз. Едет, бывало, по полям в шарабанчике, сидит в нем неподвижно, как богдыхан, и сама правит понькой. Сестры обожали матушку Екатерину, а мать казначею недолюбливали. Просьбу матушки Екатерины о назначении игуменьей матери Нины я всячески отклонял и требовал выборов. Сестры избрали мать Нину и принесли ее, больную, в церковь на руках. Мать Нина жива и поныне
[20]; несмотря на физическую немощь, полна энергии и в данное время поставила себе дерзкую цель — предъявить (претензии) польскому правительству, которое отобрало когда–то купленные Леснинским монастырем земли, и требовать за них выкупа…
Народ отвечал Леснинской обители благодарной любовью — тянулся к ней за просвещением, за моральной помощью, за материальной поддержкой. Матушка Екатерина входила в его нужды, запросы, даже в семейные дела. Любила женить и выдавать замуж, шила приданое, заботилась о молодых матерях… Случалось ей в роли свахи попадать и в комическое положение.
У епископа Германа был келейник, человек довольно ветреный; он сообщил матушке Екатерине, что владыка Герман хочет его женить и велел сыскать ему невесту среди ее воспитанниц. Матушка охотно за это дело взялась и вскоре написала преосвященному Герману: «Иван Петрович понравился, мы нашли ему невесту…» Епископ Герман заподозрил неладное и телеграфировал ей: «Ни о чем не просил, берегитесь обмана». Тем временем сватовство уже состоялось, жениху купили новые сапоги, невеста стала шить приданое. Но вот слух о какой–то неприятной телеграмме добежал до Ивана Петровича… Он забрал сапоги — и скрылся. Потом оказалось, что он поехал по окрестным деревням, оповещая местных батюшек: «Готовьтесь к ревизии, архиерей скоро приедет…» За предуведомление священники его благодарят, угощают, возят от села к селу на своих лошадках. Кончилось тем, что Ивана Петровича арестовали. «Вчера на лошадках ездил, а сегодня везут, як арестанта», — говорили местные крестьяне.
Великое церковное культурно–просветительное значение Леснинского монастыря по достоинству оценивалось и в высших сферах. Однажды во время пребывания царской семьи в Спале вся она во главе с Государем на тройках приехала познакомиться с обителью. Епископ Герман как местный архиерей, опять вместо болящего старца, архиепископа Иеронима, и я как благочинный монастыря участвовали в этой встрече Высочайших Особ. Они прослушали Божественную Литургию, подробно осмотрели все монастырские учреждения; скромно, по–монастырски, позавтракали. Непринужденная беседа продолжалась несколько часов. Несомненно, картина монастырской жизни в ее разнообразных проявлениях оставила глубокое и светлое впечатление у Высоких гостей. Могу об этом судить по тому, что гораздо позднее, когда по званию члена Государственной думы я со своими думскими коллегами представлялся Государю и Императрице, она, здороваясь со мной, сказала: «Вы помните наше посещение Леснинского монастыря? Не правда ли, какой там чудный детский мир…»
Матушка Екатерина любила свой родной великорусский народ, хотела ему послужить, а Бог привел трудиться среди иного народа, душевно изломанного долголетней борьбою за свою веру и народность, но этому бедному народу она сумела послужить с великим усердием. Различие психологического склада великороссов и малороссов она чувствовала тонко и не раз делилась со мной своими наблюдениями.
Матушка выписала из Великороссии плотника. Мастер своего дела изумительный. Но и выпить тоже мастер. Любимое его удовольствие было — в праздник насадить в телегу девок, баб и с гиком мчаться через деревню. Беда, если какой–нибудь парень подвернется на дороге: хлестнет кнутом… А после угощает его водкой. Вряд ли среди холмских парней нашелся бы такой своенравный молодец…
Леснинский монастырь был не только духовным центром народной жизни, но и рассадником женского монашества в Холмщине. Приток постриженниц не прекращался. Стоило матушке Екатерине побывать в Петербурге, — непременно привезет с собой несколько девиц, взыскующих монашества. Обаятельная, умная и образованная, она имела дар духовного воздействия на женскую молодежь, ее воодушевляла, будила, увлекала за собой на подвиг… С течением времени из Леснинского гнезда стали вылетать выводки и вить гнезда на стороне. Уходили 10–12 сестер под водительством более опытной и устраивали новый монастырь, который, в свою очередь, развивался на основах леснинских традиций.
Таким путем возникло 5 монастырей.
1) Вировский монастырь, основанный матушкой Анной (Потто), самоотверженной, ревностной монахиней.
2) Теолинский монастырь. — Настоятельницей его была мать Людмила.
3) Радочницкий монастырь. — Во главе его стояла матушка Афанасия (Громеко), умнейшая, образованнейшая монахиня с литературными способностями. Ее брат был близок Страхову и известен как один из первых серьезных критиков Толстого. Обитель эта возникла на месте мужского монастыря. Монахи влачили жалкое существование, бездельничали, выпивали. Архиепископ его и отнял.
4) Красностокский монастырь. — Настоятельницей его была мать Елена, большая ревнительница монашеской жизни и широко развившая ее в своей обители в духе и направлении своей родоначальницы — м.игуменьи Екатерины.
и 5) Турковицкий монастырь. — Он был основан уже при мне, т. е. когда я стал епископом. Настоятельницей его была высокообразованная мать Магдалина (Горчакова).
Все, что я сказал о культурно–просветительной деятельности Леснинского монастыря, относится и к остальным женским обителям. Всюду вокруг обителей возникали приюты, школы, больницы… Сестры распространяли свою деятельность и за пределы этих учреждений; ходили по деревням — к роженицам, к больным, к старушкам, погребали безродных, оказывали самую разнообразную помощь местному населению.
Вот одна из картин, иллюстрирующая подвижнический труд Вировского монастыря.
Пасха… На реке (Западном Буге) ледоход. Дождь, ветер… Ночь… Две сестры с риском переправились через реку и докладывают настоятельнице матушке Анне, что в деревне, откуда вернулись, померла старушка.
Матушка дает распоряжение:
– Сейчас же поезжайте, чтобы все приготовить к погребению…
Сестры волнуются:
– Матушка, как же ехать! Ветер… ледоход… как мы поедем?
– Ну, тогда я сама!
Сестры в ужасе:
– Нет–нет, мы поедем…
В женских монастырях Холмщины установилась внутренняя дисциплина: каждая монахиня сознательно относилась к своему долгу, понимая всю серьезность своего призвания. Монастыри были обвеяны одним духом, связаны единством духовно–просветительных методов монашеского труда — и стали для холмского народа необходимой и крепкой опорой.
Конечно, многочисленные монастырские учреждения не могли обходиться без правительственной поддержки. К.П.Победоносцев, бывало, за голову хватается: «Ах, опять монахини за деньгами приехали!» и всегда отсылал их к своему товарищу В.К.Саблеру, неизменному их защитнику и покровителю. И редко они возвращались с пустыми руками. Увидя м.Анну в приемной, он восклицал: «Ах, милая мать, опять носящая «дух сокрушения», яко же древле пророчица Анна! Ну ничего… мы Давыдку «беспечально сотворим» (он чудно знал богослужебный устав и язык), т. е. заплатим долг местному поставщику–еврею, не раз в трудные времена выручавшему Вировский монастырь, хоть и сбывавшему туда залежавшиеся продукты. По этому поводу Победоносцев добродушно подшучивал над нашими игуменьями. «Вот соберутся они у Владимира Карловича, — говорил он, — и поют ему в унисон: «Мой Ратмир, любовь и мир…»
У меня возникло живое духовное общение с настоятельницами, с монахинями, с приуготовляющимися к рясофору сестрами. Завелась переписка по вопросам духовной жизни, ко мне обращались за советами, за разъяснением религиозных недоумений, делились мыслями, проектами, просили руководства… О значении для моей духовной жизни холмских монастырей я еще буду говорить, здесь же упомяну лишь о том, что за годы ректуры я постриг около пятидесяти монахинь.
К моим поездкам в монастыри архиепископ Иероним относился сдержанно. Помню, собрался я как–то раз туда на храмовый праздник Святой Троицы. Владыка выслушал мою просьбу об отпуске холодно.
– Зачем вам туда?
Но все же отпустил. А при встрече на вокзале, когда после Троицы он прибыл к нам на экзамены, заметил с усмешечкой:
– Отец ректор, здравствуйте, здравствуйте! А я думал вы там в монастыре и останетесь…
В монастыри я обычно ездил на монастырские праздники. Особенно торжественны и многолюдны они были в Леснинской обители. Там была древняя икона Божией Матери, вырезанная на камне. По преданию, ее нашли в лесу. Население эту икону очень почитало и стекалось на ее празднование огромными толпами. В других монастырях подобные торжества тоже носили народный характер. Прибывали со всех сторон тысячными крестными ходами, каждый со своим церковным причтом, с иконами, с хоругвями, с пением духовных стихов по «богогласникам» (так назывались книжечки–сборники этих духовных песен). Случалось, что собиралось до 25000 народу. И при этом множестве — полный порядок: ни одного непристойного слова, ни одного пьяного лица. Приходили с вечера и многотысячным лагерем располагались вокруг монастыря. Всю ночь, бывало, льются духовные песни, мерцают огоньки свечей… под каждым кустом идет исповедь… Святая толпа! Часто приезжал из Петербурга на эти праздники В.К.Саблер, и любили мы с ним в теплые летние ночи обходить эти удивительные лагеря, слушать воодушевленное пение и вступать в беседу с народом, которому высокий синодский сановник раздавал подарки — иногда крестики, а иногда и рубашки детям. В простоте сердца народ не знал, как его назвать, и, привыкши иметь дело с духовными лицами, обращался к нему: отец псаломщик!.. Саблер смеялся и умилялся этому господству церковных образов и понятий в лексиконе народа. А наутро во всех храмах обедня и причащение. Всем попасть невозможно, — и толпа на дворе становится рядами, стоит на коленях, тихо, смиренно, пока священники не обойдут всех со Святыми Дарами… Часто бабы, по обету, на коленях обходят вокруг монастырского храма иногда по 3–5 раз. Очень благочестивый, набожный народ. После Литургии, когда все в радости и душевном умиротворении — крестный ход вокруг храма и проповедь на площади. Среди холмских священников встречались замечательные проповедники, опытнейшие народные ораторы, которые умели потрясать сердца. (Я им позволял говорить на местном наречии.) Через 10–15 минут в толпе слезы, рыдания… Преосвященный Флавиан, благословляя такого проповедника на проповедь, говорил с улыбкой:
– Говорите не больше пятнадцати минут, но чтобы все плакали…
– Слушаю… — отвечал священник и часто в точности исполнял волю своего архиерея.
Помню такую картину. Идем мы крестным ходом в кольце стражников (на празднике присутствовал Саблер). На столе под деревом стоит проповедник — ждет очереди. Начал — с двух слов захватил толпу. Смотрю, стражник одной рукой наводит порядок — бабу фуражкой бьет по голове, чтобы не напирала, а другой — глаза прикрыл: слезы прячет…
На празднике в Турковицком монастыре довелось мне тоже слышать прекрасного проповедника. Отслужили мы заключительный молебен у целебного колодца — и началась проповедь. Помню ее вступление: «Зачем вы сюда пришли? Чего вы ищете?» Пауза… И вдруг голос из толпы: «Царства небесного, батюшка!» — «Святое слышу слово!..» — подхватывает восклицание проповедник и умело переходит к назиданию: «Но поучитесь, как надо его искать»… и т. д. И эта превосходная вдохновенная проповедь была сказана простым сельским священником о.Петром Товаровым!
Я узнал и полюбил народ на этих чудных монастырских торжествах. Случалось мне бывать и на храмовых сельских праздниках. Епископ Тихон завел такой порядок: если он сам ехать не мог, село приглашало архимандрита–ректора. Присутствие «золотой шапки» что–то для населения значило. Я ездил охотно, говорил проповеди, общался с народом, наблюдал, знакомился…
Так я в те годы и жил — полной, деятельной жизнью. Физических сил было тогда достаточно, и я со всем справлялся. Хотелось даже каникулы использовать со смыслом, дабы они не проходили в одном физическом отдыхе, но и способствовали расширению кругозора.
Я любил путешествовать, любил заехать и к матери. Много радости доставляло ей видеть меня на церковных службах в митре…
Удалось мне за летние каникулы побывать и в Соловецком монастыре, и в Казани.
Поездка на север была чудная. Путешествовали мы вдвоем: мой приятель–лесничий и я. Через Москву и Сергиевскую Лавру добрались мы до Ростова; слышали здесь знаменитый колокольный звон по нотам, заведенный протоиереем Израилевым. Колокола вызванивали разные церковные напевы. Оттуда поехали в Ярославль, где я впервые увидел Волгу, переправились через нее на пароходе, а купцы — спутники наши — на лодочке. На вокзале подскочили к нам носильщики ярославцы: ловкие, проворные, сметливые: кто чемодан взял, кто — зонтик, кто — дорожный мешок, не успели оглянуться — уж и места в вагоне готовы, и все уложено, и нас усаживают. Только всей компании и «на чай» надо… В тот год открылся железнодорожный путь «Ярославль — Вологда».
Вологда город старый, деревянный, с дощатыми тротуарами, со старинным пригородным монастырем преподобного Дмитрия Прилуцкого, ученика Преподобного Сергия Радонежского. На улице повстречался пьяненький монашек: обносил икону — и наугощался… Я, молодой архимандрит, к такому непорядку критически: «Что смотрит архиерей!»
В Вологде сели на пароход и поплыли по Сухоне, а потом по Северной Двине. Мелькают деревни с двухэтажными избами, церковки особой «северной», бревенчатой, архитектуры… И какие леса! Какая красота — эта царственно–широкая глубокая река!..
Плыли–плыли и наконец пристали к прекрасному Тотемскому (преподобного Феодосия) монастырю. Тут помолились — и дальше до Архангельска.
Город этот приморский, старинный, тоже весь деревянный. Мы прежде всего хотели попасть в монастырь Михаила Архангела. Однако хотя дело было днем, едва достучались. Сонное царство… Вышел заспанный, недовольный монашек и заявил: «Никаких замечательностей у нас нет…»
Тогда мы — в архиерейский дом. Неприглядное строение, большой сад, луг, корова пасется… Ни фруктовых деревьев, ни клумб — ничего… Владыки мы не видели.
Сели на соловецкий монастырский пароход и направились в монастырь. На пароходе капитан и матросы — монахи. Дорогой у самых Соловков попали в мертвую зыбь, в густой туман. Всю ночь ревели сирены. Меня укачало, а потом –ничего, заснул. А на утро солнышко разогнало туман.
В Соловецком монастыре нас приняли с почетом. Мне отвели отличное помещение; настоятель пригласил к завтраку, просил служить и сказать братии поучение. (Тут как раз подходил день святителя Филиппа, знаменитого Московского митрополита, обличителя царя Иоанна Грозного; святитель Филипп был до своего архиерейства настоятелем Соловецкого монастыря.)
В храме кроме монахов — толпа богомольцев: паломники со всех концов России. Начал я «слово» не без волнения: «Что влечет сюда этот простой, верующий народ? С котомками, иногда без копейки денег, пешком, в непогоду…» И вдруг бабий возглас (какая–то странница в черном платке впереди стояла):
– Не для вас — не для монахов! Мы к угодникам, к угодникам пришли!..
Подскочили к ней монахи. Московские купцы, наши спутники, под руки ее подхватили — и потащили к выходу. Я стою весь красный… Хотел блеснуть, сказать что–то назидательное — и вот… Потом смеялись.
После обедни настоятель пригласил к обеду, гостеприимно и обильно угощал, а по окончании трапезы предложил проехаться на весельном катере к островам.
Жара стояла парная, тяжелая. Я в белом подряснике и удивляюсь, почему лодочник тюленьи шубы в катер укладывает. Выехали на взморье — и потянуло таким холодом, что шубы пригодились. Мы прибыли на остров «Секирная гора»; на нем устроена «Голгофа»
[21]. Назначение острова печальное: сюда ссылали предерзостных монахов на тяжелые послушания. Нам повстречался какой–то монах. Разговорились.
– Погибаю я тут, — жаловался он. — Я южанин, екатеринославец…
– Что же с вами?
Он нам поведал горькую свою долю.
Умирала купчиха и перед смертью просила: постриги меня… Он ее и постриг, без надлежащего разрешения церковной власти. Тем самым она лишилась всех имущественных прав. Купчиха неожиданно выздоровела, о содеянном пожалела — и стала обвинять монаха в насильном постриге, в подкупе родственниками. Кончилось запрещением служить и ссылкой на «Секирную гору».
Гуляя на острове по лесу, я впервые видел, как заря с зарею сходятся. Не успели найти сумерки — смотрю, опять восход солнца; ночи не было: чуть помрачнело — и снова день.
Необыкновенны здесь космические явления, необыкновенна и природа. Деревья, обращенные к северу, — голые без сучьев; а к югу — в зеленых ветвях.
Возвратившись в Соловецкий монастырь, мы его подробно осмотрели. Хозяйство было поставлено чудно, и размеры его грандиозны. Скотный двор, верфь, кожевенное дело, швальни, сапожная мастерская, пекарни… — целое государство, которое могло обходиться без посторонней поддержки; только своего хлеба нет. В низине — пчельник. Там тучи комаров; приходилось накрывать голову сеткой. Основатели обители преподобные Зосима и Савватий почитаются как покровители пчеловодства. Особенность Соловецкого монастыря — чайки. Монахи их не только не трогали, но охраняли, и развелось их на острове несметное количество. Не они — людей, а люди их боялись. При дороге яйца выводят, проходишь мимо — шипят. Единственные враги чаек — лисицы. Но монахи, оберегая своих любимых птиц, ставили для лисиц капканы.
Всем монастырским хозяйством распоряжался настоятель архимандрит Иоанникий — прекрасный администратор, внушительной внешности: большой, рыжий, сильный тверяк.
Мое внимание привлекли молодые люди в синих халатах, сновавшие по монастырю. Мне объяснили: «Это наши трудники». Оказывается, крестьянская молодежь с прибрежных местностей, по обету, 1–2 года перед женитьбой работает в святой обители бесплатно. Придет дикий, сиволапый, неуклюжий парень, — его определят либо в швальню, либо в кожевенную мастерскую, — смотришь, через полгода он стал отличным ремесленником или ловким работником. В Архангельской губернии считается за честь и благословение поработать святым Зосиме и Савватию Соловецким Чудотворцам. Культурное значение монастыря для северного края огромно. Соловецкая обитель — мужицкое царство. Интеллигенции почти нет, сплошь мужики.
На следующий год я поехал в Казань. Сел в Нижнем Новгороде на пароход и до самой Казани не мог налюбоваться красотой волжского раздолья. Сидишь на палубе, дышишь вольной грудью, и перед глазами развертываются панорамы одна другой краше. И нет им конца!
В Казани я прямо с пристани проехал в Академию, к ректору преосвященному Антонию (Храповицкому). Теперь он был епископом Чебоксарским, викарным Казанского архиепископа.
Было предпразднество Казанской Божией Матери, и преосвященный Антоний посоветовал мне съездить с визитом к Казанскому архиепископу Арсению.
Нас поехало двое: архимандрит Гавриил и я. Архиепископ жил на своей даче на озере, за городом. Застали мы его в белом подряснике, в гостиной. На нас он глядел, как на мышей, и говорил с высоты величия. Пробыли мы у него не больше пяти минут.
Про архиепископа Арсения рассказывали один эпизод, характерный для свойственного ему сознания своего величия. Будучи уже архиепископом, украшенный звездами и орденами, приехал он на родину, в Смоленск, и здесь встретился с матушкой кафедрального протоиерея, к которой в молодости безуспешно сватался.
– Ишь, глупая какая, — попенял он, — посмотри, какой я теперь молодец! Звезды… отличия…
– Если бы я за вас замуж вышла, — заметила матушка, — и звезд бы не было.
– А ты бы вовремя померла, — нашелся владыка Арсений.
Осмотреть Казань мне не удалось — надо было готовиться к богослужению в Казанском женском монастыре, том самом, где хранилась знаменитая икона Казанской Божией Матери (впоследствии украденная Чайкиным).
Служили всенощную под праздник. Была страшная жара. Архиепископ Арсений покрикивал на сослужащих. Среди нас был архимандрит Экзакустодиан (сокращенно его звали Кустей). Это был добродушный монах, любитель поугощать молодых монахов и среди них популярный. Архиепископ кричит: «Экзакустодиан! Читай шестопсалмие…» Старик хочет вздохнуть, посидеть, он изнемогает от жары, но делать нечего, и он идет на средину церкви — читает.
Литургию тоже служил владыка Арсений. Из Семиезерской Пустыни прибыла в собор чудотворная икона. К концу обедни из монастыря принесли икону Казанской Божией Матери, а «Семиезерскую» вынесли из собора. Тут обе иконы встретились.
– Две сестры повидаться пришли, — говорил архиепископ Арсений.
Народу собралось видимо–невидимо. Начался молебен. Нас, старших архимандритов, сослужащих архиерею, было двое: ректор Петербургской Духовной Академии архимандрит Сергий (Страгородский)
[22] и я. После молебна архиепископ должен был поднять икону Казанской Божией Матери и благословить народ на четыре стороны. Тяжелую икону мы помогали поднимать. Справа архимандрит Сергий поддерживал ее левой рукой, а я слева — правой рукой.
– Что ты одной–то рукой? Одной рукой полдела делают… — сказал мне архиепископ Арсений.
Праздник Казанской Божией Матери самое яркое впечатление за все время моего пребывания в Казани. Ознакомиться с городскими достопримечательностями мне не удалось, не удалось и познакомиться с профессорами Казанской Духовной Академии.
Годы моей ректорской службы были связаны с разнообразной административной деятельностью. Я посвящал ей время и силы до полной самоотдачи. Заботы о семинарии, интересы церковной жизни Холмского края, церковного устроения его народа развивали во мне чувство пастырской любви, но ставили в жизненные условия, мало способствовавшие движению вперед на монашеском пути. И все же моя жизнь этого периода в какой–то мере с этим путем совпадала и его обетам не противоречила. Я отдавался делу безраздельно, себе не принадлежал. Личным интересам места не было. Сознание, что я лишь орудие церковных надобностей, убивало эгоизм и эгоцентризм, а некоторая доля самоотречения и самоотвержения давала пищу моим духовным запросам.
Очень помогало мне и общение с женскими монастырями, когда я стал «благочинным». Монастыри, как я уже сказал, были прекрасные, культурные; в них поддерживался высокий уровень духовной жизни; монахини с воодушевлением, ревностно служили Богу и народу. Такие игуменьи, как матушка Екатерина или мать Анна, м.Афанасия, Елена, Магдалина, были большие величины, души необыкновенной духовной одаренности, общение с ними могло оказать лишь благотворное влияние. Но и самые обязанности благочинного помогали мне. Я проникался интересами монашеской жизни. Настоятельницы ездили ко мне, я — к ним; мы совещались, обсуждали, решали вопросы монастырского устроения или управления, беседовали на духовные темы… Каждый новый постриг заставлял меня вновь передумать и перечувствовать идеал монашества. Приходилось не раз на протяжении нескольких месяцев беседовать с каждой приуготовляющейся к постригу сестрой, спрашивать ее, почему она хочет вступить на иноческий путь, знает ли его цель, имеет ли представление о его трудностях… Надо было выслушивать и ее вопросы, вникать в ее сомнения и недоумения — словом, стараться понять и почуять ее душу, как свою. Это оживляло во мне монашескую настроенность души. Каждый постриг был и мне напоминанием. Говоришь речь перед постригом и невольно спрашиваешь себя: «А сам–то ты таков ли, как ей говоришь?» Уча других, я тоже поучался. Я назидал и руководил монахинями, а они мне помогали своим духовным горением. Молодые постриженницы делались как бы моими духовными дочерьми. Между нами возникала переписка чисто аскетического содержания, завязывались отношения духовно–родственные. Некоторые из сестер делались настоятельницами и тоже под моим руководством устраивали или управляли монастырями. Во мне они находили единомышленника и идейного защитника культурно–просветительного направления их общественного труда. Некоторые епископы смотрели на наши холмские монастыри косо. «Школы, приюты, лечебницы… — при чем тут монашество?» — говорили они. А я стоял за них, потому что сущность монашества — самоотверженная любовь и служение Христу. Общественная деятельность холмских обителей была лишь особой формой проявления любви к Богу и ближнему в соответствии с духом времени и нуждами местного населения.
Общение с женскими монастырями поддерживало во мне необходимый уровень духовной жизни, отрезвляло, не позволяло расплываться в одной внешней административной деятельности. Летние мои поездки — посещение Соловков и других монастырей — тоже давали мне многое. Там я воспринимал монашеский идеал в конкретных образах, перед моими глазами проходили живые и яркие его типы.
Случалось мне время от времени выезжать и в мужской Яблочинский монастырь. Ничем замечательным он не отличался, кроме славного прошлого: он хранил нерушимую верность православию в течение пятисот лет, несмотря на все исторические бури и натиски католичества. При мне состав монахов был малокультурный. Один монах, например, никогда не мылся; одержимый страстью сребролюбия, он не расставался со своим сокровищем — зашитыми в тряпочку деньгами, которые он прятал на груди. Физическая его неопрятность давала себя чувствовать обонянию окружающих, и богомольцы избегали у него исповедоваться. Никакие уговоры братии на него не действовали, и настоятель велел его вымыть силой. Послушники схватили его и потащили в баню. Старик отбивался, кричал и плакал. Тем временем скребли, мыли и проветривали его келью. Там нашли кучу сгнивших селедочных головок, всевозможные отбросы, объедки и неописуемую грязь. Больше всего волновала старика судьба его сокровища. «Где мой кошелек?» — рыдал он в бане. Его успокаивали, говорили, что он цел, у настоятеля, что его отдадут… Вымытый и одетый в чистое белье, монах продолжал горько плакать. Деньги ему вернули и уговорили съездить с казначеем в Холм и сдать их в сберегательную кассу. Однако там его сбережений не приняли: от грязи и сырости в тряпочке завелась плесень, а бумажки издавали нестерпимое зловоние. Потом пришлось бумажки оттирать, отмывать и сушить на солнышке.
В Яблочинском монастыре я служил, мог пользоваться уединением, и тут тоже меня обвевал монашеский фимиам… Я гостил у настоятеля архимандрита Германа.
Такова была моя духовная жизнь периода ректорской службы. Должен сказать, что чувство любви к народу за эти годы у меня развилось, но духовной жизни мне приходилось уделять мало времени. Монашество требует либо уединения, либо корпорации. Ни того ни другого не было. Не было и столь необходимых для молодых монахов периодических съездов в каком–нибудь монастыре для говенья, для внутреннего самоуглубления и взаимного религиозно–просветительного общения. Митрополит Дионисий, глава Православной Церкви в Польше, в настоящее время
[23] хочет реализовать эту мысль и сделать один из монастырей таким прибежищем для молодых образованных монахов, дабы они проводили там 1–3 года после пострига; впоследствии такой монастырь должен стать тем «Отчим домом», куда периодически могли бы приезжать монахи, чтобы набираться новых духовных сил для дальнейшего служения.
Благоприятные воздействия, о которых я сейчас рассказал, не дали совсем заглохнуть во мне монашеской прививке. Не могу тут не упомянуть и о добром влиянии духовника Холмской семинарии о.Илариона, который когда–то, в Туле, приуготовлял меня к постригу
[24]. Он и теперь меня цукал, неодобрительно, хоть и снисходительно, качал головой, глядя на мои шелковые рясы, и зорко следил, чтобы у меня не засиживались монахини. Как–то раз приехала ко мне по делу мать Елена, настоятельница Красностокской обители. Большая ревнительница духовной жизни, она всегда мне задавала множество вопросов, требовавших обсуждения и решений: то ей хотелось, чтобы я написал новый устав для монастыря, то высказал свое суждение по поводу той или иной сестры и т. д. По духу она мне близка. В тот вечер беседа затянулась, и мать Елена засиделась. Смотрю, о.Иларион подозрительно поглядывает, сидит, ждет, не уходит. Лишь только настоятельница вышла, нравоучительно сказал мне:
– Хоть она и игуменья, а нечего ей так долго сидеть. Поговорила — и прощай…
О.Иларион умер в 1901 году. Я его в Холме и похоронил.
В нем была редкая монашеская красота — какая–то необычайная гармония во всем существе, которую его простота только оттеняла. Все, кто с ним общался, невольно эту красоту чувствовали; определить ее словами трудно; лишь сравнение с ароматом цветка может дать о ней хоть некоторое понятие… Люди к о.Илариону влеклись, его любили. Епископ Герман, присмотревшись к нему, полюбил его тоже.
В 1902 году преосвященный Герман занемог. У него появилась астма, боязнь пространства и другие нервные явления. Во время служб иподиаконы должны были его поддерживать. Болезнь развивалась, в ноябре 1902 году его уволили на покой и увезли лечиться в Петербург, где в больнице он и умер.
В Холме пошли толки: кто будет его преемником? Упоминали мое имя. Архиепископ Иероним энергично представил меня на эту должность, однако из Петербурга полтора месяца ответа не было. Наконец оттуда приехала мать Афанасия и привезла весть, что о моем назначении там говорят как о вопросе решенном. Действительно, через два дня пришла поздравительная телеграмма от Саблера, из которой я узнал, что меня назначили епископом Люблинским, викарием Холмско–Варшавской епархии. Это было 5 декабря 1902 года.
Глава 10. ВИКАРНЫЙ ЕПИСКОП (1903–1905)
Нареченного во епископы вызывали обычно в Петербург. Хиротония совершалась в Казанском соборе или в Исаакиевском, иногда в Александро–Невской Лавре. Бывали они и в Киеве и в Москве — словом, в одном из митрополичьих центров. Меня решили посвятить в Холме. Исключение из общего правила объясняется тем, что торжеству хотели придать характер большого церковно–народного события в нашей епархии; оно должно было произойти на глазах холмского народа и тем самым сроднить его с новым епископом, а также — нравоучительно подействовать на недавних униатов.
В Холме была древняя святыня: чудотворная икона Божией Матери [
[25]]. Пребывала икона в городском кафедральном соборе; висела над царскими вратами и на винтах спускалась для молебнов и поклонения (по субботам служили акафисты, а по воскресеньям после обедни — простые молебны). Вся местная церковная жизнь имела своим средоточием эту замечательную икону. Моя хиротония в Холмском соборе перед народной святыней должна была иметь и символическое значение: я получаю омофор из рук Холмской Божией Матери. Я очень этому радовался.
Вместе с синодальным указом пришло и распоряжение архиепископа Варшавского Иеронима готовиться к посвящению, которое должно было состояться через неделю в его присутствии. Архиепископ Иероним, как я уже сказал, ходатайствовал в Петербурге о моем назначении, победив сопротивление в Синоде, где епископ Маркелл, бывший Холмский епископ–галичанин, воссоединившийся из унии, высказался против меня на том основании, что меня якобы местное духовенство недолюбливает. Очевидно, на него воздействовали через переписку священники–галичане; они были вольного духа и меня боялись, потому что я стоял за дисциплину. «Но его любят архиепископы и епископы…» — возразил епископу Маркеллу Петербургский митрополит Антоний (Вадковский). Я получил предложение владыки Иеронима о хиротонии в половине декабря, за неделю до роспуска семинарии на Рождественские каникулы. Подготовить все к посвящению в столь короткий срок мне было трудно. Надо было пригласить 3–4 епископов, которые вряд ли так скоро могли бы приехать; достать все им необходимое для священнослужения; надо было и самому подготовиться. А главное, мои семинаристы разъезжались на каникулы, и торжество состоялось бы в их отсутствии. Я написал архиепископу Иерониму — просил отложить посвящение до конца каникул, просил и о разрешении тем временем съездить к родителям за благословением. Архиепископ Иероним на все согласился.
Отслужив по просьбе духовенства всенощную и Литургию как «нареченный во епископы» и приняв поздравления, я на другой день выехал на родину. В Москве ко мне присоединились брат с женой, и мы направились под Новый год через г. Серпухов в село Никольское. Помню, ехали от станции до села на санях, в большой мороз, в шубах…
Моя мать была в восторге, узнав о моем назначении; отец — тоже. Иметь сына–епископа большая честь для семьи сельского священника. Я пробыл дня два–три — торопился в Холм на Крещенское водосвятие, которое совершалось у нас очень торжественно: с крестным ходом от собора на реку в присутствии высших военных и гражданских властей. Мне хотелось на пути заехать в Орел к епископу Иринею, который меня постриг, но заехать не успел и написал ему письмо.
Судьба епископа Иринея сложилась под влиянием его прямолинейного характера. В Петербурге владыку Иринея не любили за резкость и в течение 5–6 лет ему пришлось сменить четыре кафедры. После Могилева его перевели в Тулу, потом в Каменец–Подольск, потом в Екатеринбург и наконец в Орел. Тут он и умер. Смерть его была трагическая. В Японскую войну, когда наша эскадра чувствительно пострадала от неприятеля и в морском бою погиб адмирал Макаров (это произошло в Великую Субботу, 31 марта 1904 г.), по всем городам были разосланы телеграммы с приказом служить панихиды. По церковному уставу, до вторника на Фоминой, до «радоницы», панихид служить нельзя, и епископ Ириней указа решил не выполнять. Явились губернские представители, стали его уговаривать, но он категорически: «Это невозможно, я этого сделать не могу…» В Петербург полетели жалобы. В ответ — телеграмма епископу Иринею от Обер–Прокурора: «Исполнить». Преосвященный Ириней что–то ему ответил; Победоносцев снова к нему с неотступным требованием… Тогда владыка позвал секретаря и сказал ему: слушай, что я сейчас скажу, и повтори мои слова: «Меня убил Обер–Прокурор…» Секретарь растерялся, подумал, что епископ сошел с ума. Но преосвященный Ириней настаивал: «Говори за мной, повтори…» и опять произнес непонятную трагическую фразу. Когда немного времени спустя секретарь вошел в комнату, — владыка лежал мертвый у письменного стола…
По возвращении в Холм я переселился в архиерейский дом и начал спешно готовиться к посвящению. На хиротонию я пригласил трех епископов: 1) Волынского епископа преосвященного Антония (Храповицкого), 2) Гродненского епископа преосвященного Иоакима и 3) Владимиро–Волынского епископа преосвященного Арсения. Во главе иерархов прибыл из Варшавы архиепископ Иероним. Надо было подумать о размещении моих гостей, о хозяйственной стороне приема и об угощении в день торжества — словом, так много было у меня хозяйственных забот и хлопот, что внутренним приуготовлением заниматься было трудно: не хватало времени, чтобы сосредоточиться.
Архиепископа Иеронима и епископа Иоакима я устроил у себя в архиерейском доме; остальных — в моей старой ректорской квартире. Преосвященный Антоний приехал в сопровождении студента Петербургской Духовной Академии Т. А. Аметистова и преподавателя Уфимской семинарии иеромонаха Тарасия. От двух моих гостей я получил подарки: архиепископ Иероним подарил мне чудную панагию, а епископ Антоний — голубую бархатную рясу со своего плеча.
Посвящение во епископы состоит из двух моментов: наречения и хиротонии. Наречение было 11 января, в субботу. Литургия была совершена преосвященным Арсением. Проповедь сказал иеромонах Тарасий и столь проникновенную, что, по словам матушки Екатерины, вся церковь плакала. После Литургии все архипастыри в сослужении многочисленного духовенства служили молебен Божией Матери перед чудотворной иконой. В соборе присутствовали учащиеся всех учебных заведений (на этот день их освободили от занятий) и множество народа. По окончании молебна был прочитан по установленной форме указ о моем назначении, архипастыри пропели краткое молебное пение Святому Духу и, по возглашении многолетия, я произнес следующую речь: «С трепетным сердцем и смятенной душою предстою я ныне пред вашим освященным собором. Это трепетное чувство не перестает волновать мою душу с того самого момента, когда до слуха моего коснулся божественный глагол, призывающий меня к служению святительскому, а в настоящее для меня «нареченные и святые» дни оно достигает своего высшего напряжения. «Услышах, Господи, слух Твой и убояхся», — взываю я с пророком Аввакумом (Авв. 3, 1).
Живо предносится моему мысленному взору вся моя прошедшая жизнь. Путь иноческий, приведший меня ныне к святительству, не всегда представлялся мне моею жизненною дорогою — тем путем «в он же пойду» (Пс. 142, 8), но служение пастырское от ранней юности было близко и дорого моему сердцу. Впервые указал мне духовную красоту иночества и его высокое нравственно–просветительное значение известный всей православной России Оптинский старец Амвросий, к которому с детства привык я притекать за благословением, молитвой и назиданием. То, что «насадил» великий старец, «напоил» другой приснопамятный наставник моей юности, которого я ныне имею утешение видеть в сонме архипастырей, моих рукоположителей. В золотую пору, когда в горячих молодых головах решались основные вопросы жизни, намечались жизненные цели и задачи, определялось сознательное отношение к окружающей действительности, а юные сердца горели пламенным желанием посвятить себя беззаветному служению высоким христианским идеалам, он уяснил нам чудное сочетание идеи иноческой и пастырской. И понял я тогда, что пастырство, как высочайшее служение любви Христовой, требует прежде всего от своих служителей самоотречения; что аскетизм является существенным, важнейшим свойством пастырского настроения и главнейшею основою пастырской деятельности, что служить делу духовного возрождения и спасения можно не иначе, как через умерщвление в себе личной себялюбивой жизни, как о сем говорит святой апостол Коринфских христиан: «Смерть действует в нас, а жизнь в вас» (2 Кор. 4, 12). Ясно стало мне и то, что жизнь инока–пастыря, обрученного с «Девою чистою» (2 Кор. 11, 2) — Святою Церковью и окруженного светообразными чадами церковными, полна таким богатством внутреннего содержания, которое изгоняет из сердца чувство духовного одиночества и с избытком восполняет отсутствие радостей жизни семейной. Живым и убедительнейшим подтверждением этих взглядов явился для меня в то время дивный святой образ угодника Божия и великого русского иерарха–народолюбца Тихона Задонского, изучением подвигов и творений которого я завершал свое богословское образование. Однако не сразу и не без тяжелых сомнений и мучительных колебаний совершился этот переворот в моей жизни; прошло немало времени упорной душевной борьбы, прежде чем моя колеблющаяся и мятущаяся воля склонилась под благое иго Христово и я воспринял чин иноческий и первые степени иерархического служения от руки одного глубокопочитаемого мною старца–святителя.
Отселе начинается моя пастырская педагогическая деятельность сначала в центре России, а потом здесь, на ее окраине. В какой мере я осуществил заветы моих великих наставников, Бог весть, мне же ведомы лишь многие немощи души моей и в настоящие минуты более, чем когда–либо, «беззакония моя аз знаю» (Пс. 50, 5), но то драгоценное убеждение юности, что пастырское делание может созидаться лишь на почве самоотречения и распятия в себе «ветхого» себялюбивого человека, — это убеждение, прошедшее чрез горнило жизненного опыта, навсегда осталось для меня основным руководящим началом моего пастырства.
И теперь, когда Господу Богу, по неизреченному его милосердию, угодно вложить в мой немощный, скудельный сосуд великое сокровище благодати архиерейства, когда я со страхом и трепетом взираю на предлежащий мне подвиг, я именно это жизненное правило привожу себя на память и с особенною силою запечатлеваю в своем сердце.
Недосягаемо высок идеал святительства, явленный нам в примере нашего небесного Первосвященника и начертанный в книге божественных словес Его. Бесконечно велика и страшна ответственность, лежащая на совести святительской. В самом деле, если по непреложным судьбам Божиим Церкви Христовой в период странствования завещана борьба с греховным миром, с князем мира сего и со всеми вратами адовыми; если она утверждается на крови мучеников и исповедников и украшается этою кровью, аки «багряницею» и «виссоном», то, конечно, епископ, которому небесным Кормчим вверено управление кораблем церковным, должен быть не только передовым ратоборцем, но и вождем в этой борьбе. По свидетельству святого Игнатия Богоносца, он должен быть тою наковальнею, на которую прежде всего обрушивается молот врагов. «Злопостражди, яко добр воин Иисус Христов» (2 Тим.2,3), — отечески внушает своему возлюбленному ученику — юному епископу Тимофею — великий апостол языков.
И конечно, нужда в этом добром воинствовании, даже до злострадания, до исповедничества, отнюдь не умалилась в наши дни видимого внешнего покоя церковной жизни. Кто не знает, как обуревается теперь корабль церковный волнами неверия и суемудрия, как тело Христово терзается волками хищными, не щадящими стада. Кому неизвестно, как часто люди, гордые мудростью мира сего, не только не хотят материнского голоса Церкви, но и поднимают на нее свою святотатственную руку, или же, как в последнее время, надевая на себя личину друзей Церкви, вносят в нее такие воззрения, которые извращают основы церковной истины и жизни. Не ново стало уже и то, что непризванные глашатаи лжеименного разума стараются похитить у нашего бедного прекрасного народа самое драгоценное и священное его сокровище — святую веру православную и подменить ее разными безумными измышлениями сектантскими. А наша многострадальная западнорусская, и в частности Холмская, Церковь вот уже много веков терпит тяжкие удары от своих отпавших братьев. С глубокою скорбью и тугою сердечною смотрит она на целые тысячи несчастных жертв злополучной унии, которые и доселе пребывают в своем темном упорстве, ибо лежащее на сердцах покрывало вековых заблуждений не позволяет воссиять в них свету истины Христовой.
Где же смиренному служителю Церкви Православной взять сил, чтобы бороться с такими многочисленными и разнообразными врагами, чтобы и «омраченные просветити и собрати расточенные» и в соединение веры и любви призвать и возвратить к единому Пастырю и Епископу душ наших (1 Петр.2,25)? Взять ли в руки меч, вооружиться ли всеми средствами борьбы, к которым прибегают инославные учения, кичащиеся громадными количественными успехами своей пропаганды? Но слышится грозное слово Пастыреначальника нашего: «Взявшие меч, мечом погибнут» (Мф.26,52). Нет, не в этом сила истинного пастырства по духу Христову — не в стройности и крепости внешней организации деятелей, не в широте их проникновения во все общественные сферы, не в обилии материальных средств, даже «не в препретельных человеческие мудрости словесах» (1 Кор.2,4), — нет, мы, говорит святой апостол, «не по плоти воинствуем; оружия бо воинства нашего не плотская, но сильны Богови» (2 Кор.10,3–4), это «оружия правды» (2 Кор.6,7), те оружия Божии, в которые облекает тот же святой апостол своего духовного воина — подвижника для победоносной борьбы с врагами спасения. Это — «броня правды, щит веры, шлем спасения, меч духовный, иже есть глагол Божий, и молитва» (Ефес.6,11 –18). Вот какими доспехами должен вооружаться пастырь церкви, исходя на делание свое: яркий пламень святой веры, внутренняя чистота сердца, неустанная ревность о спасении, внимательное поучение в законе Господнем и благоухающий фимиам молитвы — вот что сообщает пастырю несокрушимую нравственную мощь на низложение их замыслов и всякого превозношения, взимающегося на разум Божий и на пленение всякого помышления в послушание Христово (2 Кор.10,4–5); вот где источник силы и залог успеха его деятельности.
И ныне со смирением и покорностью преклоняясь пред изволением Духа Святого (Деян.20,28) о мне недостойном, я о том всего более молитвенно взываю ко Господу Богу моему, да облечет меня сугубо Его всесильная благодать теми оружиями «доброго воинствования», которыми он научил слабые руки мои на ополчение и персты мои на брань (Пс.143,1) еще при первом вступлении на путь иноческий; высота архипастырская да сочетается в сердце моем со смирением иноческим.
Вас же, святители Божии, молю Господом Иисусом Христом и любовью Духа, споспешествуйте мне в молитвах моих к Богу (Рим.15,30), да не вотще приму благодать (2 Кор.6,1) архиерейства, да поможет мне Господь быть добрым делателем на ниве Его, «тщанием не ленивым, духом горящим, Господеви работающим» (Рим.17,11). Особенно же Тебя молю, Владыко и Отче мой, воспринявший меня в лоно любви своей и избравший своим сотрудником. Уже много лет светильник Твой стоит на свешнице западной Русской Церкви, разливая крутом кроткое сияние мира, благости и любви. Животворными лучами любви этой не преставай согревать мое сердце и Твоею мудрою, опытною рукою веди меня, Твоего покорного послушника и соработника, к осуществлению благих Твоих начинаний и забот о благоустройстве местной церковной жизни; для меня не будет большей радости, как исполнять Твои предначертания и, хоть отчасти, облегчать бремя архипастырских трудов Твоих.
Пресвятая Дево, небес и земли Царице, града и страны нашея Холмския всемогущая Заступнице! Ты призываешь меня служить в крае, судьбы которого издревле вверены покрову Твоего чудотворного образа. Помоги же мне рассеянных братьев наших собрать во единое стадо Христово, заблудших на путь правый наставить и всех просветить к зрению спасения вечного, да сподоблюсь и я услышать на страшном суде Сына Твоего блаженный и вожделенный глас: «Рабе благий и верный… вниде в радость Господа Твоего» (Мф.25,21). Аминь».
Настроение, в котором я приступал к хиротонии, напоминало то состояние, в котором я был при рукоположении во священство. Чувство неподготовленности к служению, большой трепет перед трудностью архипастырского долга, сознание тяжелой ответственности. Эти душевные состояния я и старался выразить в моей речи.
День моего посвящения, 12 января, был морозный. Посвящение во епископы — торжество глубокое по своему значению. Преосвященный Леонтий называл его «монашеской свадьбой», «обручением пастве». Народу собралось множество: чувствовалось, что это торжество всей Холмщины. Со всех концов съехалось духовенство; некоторые священники, оставив свои приходы, прибыли в сопровождении группы прихожан; приехали крестьяне; собрались «братчики»… Всем хотелось посмотреть на небывалое и невиданное в Холмщине зрелище.
Я был в каком–то полузабытьи: видел все, что вокруг меня творилось, и точно и не видел… Меня подвели к престолу, и я склонился перед ним в трепетном благоговении; над головой епископы держали раскрытое Евангелие; прочтя тайнодейственные молитвы, стали облачать меня в архиерейские одежды. Незабываемые минуты… Я почувствовал себя архипастырем — духовным вождем многострадального холмского народа, Между мною и толпою, взаимно, словно побежал ток… Сладостное ощущение родственной близости с паствой: я — и мои дети, Господом мне дарованные, за которых мне держать ответ перед Богом и историей. И тут же трепетное смущение: справлюсь ли? сумею ли поднять, улучшить душу моего народа — или своими ошибками лишь принесу ему вред? Еще думал: вот святыня — Холмская Богоматерь — свидетельница всех слез и стонов Холмщины… если меня выбрали в духовные руководители всего края, мне оказана великая милость и надо ее оправдать, достойно Господу послужить… Богоматерь со мною, Она поможет в устроении судьбы моего народа. — Вот мысли и молитвы этих минут.
Торжественно совершалась Литургия с моим участием уже в сане епископа. Я осенил народ благословением и мне пели «Ис полла эти деспота…». По окончании Литургии, по церковному чину, первенствующий епископ говорит поучение и вручает новому епископу жезл. Архиепископ Иероним сказал трогательнейшее «слово»:
Преосвященный епископ Евлогий,
С чувством живой радости и благодарности к Богу приветствую тебя как возлюбленного брата во Христе. Радуюсь я о тебе, что ныне ты получаешь жребий высшего служения; радуюсь я о Церкви Русско–Православной, что она в твоем лице находит достойного иерарха; радуюсь и о себе самом, о том, что наше почти пятилетнее совместное служение должно продолжаться и отныне, что жребий твоего служения соединяется с моим и что мне, возлюбившему тебя как сына, судил Бог приветствовать как брата… Чин церковный повелевает мне в настоящий великий и единственный день твоей жизни сказать тебе последнее архипастырское поучение… Весь чин твоего исповедания и посвящения явился лучшим поучением для тебя, и ты сам преподал себе истинно христианское наставление, когда дал обет хранить веру в Бога Живого и Истинного и вверенное тебе стадо… Исполни, что обещал; поучай людей в том, что исповедал, — и совершишь с помощью Божьей неосужденно свое великое дело. Ныне ты все уже воспринял, сделался вне Церкви, по воле и силе Духа Святого, причастником архиерейской благодати; ты уже облечен в образ Христа всеми священными архиерейскими одеждами… одного недостает еще тебе, что дается после всего, — епископского жезла, символа величайшей в Церкви духовной власти. Менялись и доселе меняются в Церкви орудия мирского владычества. Ум человеческий измышляет все новые и новые средства для господства и истребления врагов; только наша архиерейская власть как власть не от мира сего имеет неизменно одно орудие — скромный жезл мирного пастыря… И ныне я вручаю тебе такой жезл как символ твоего архипастырского служения Церкви. Иди с ним в мир, выводи на пажить добрую овец нашей паствы, укрепляя немощных в вере… Пусть не смущается сердце твое, что тебе дается власть не к разорению, а к созиданию, — орудие не для истребления врагов и покорения их силою, но символ мира и пастырской любви. И в этом мирном орудии кроется великая сила… Сила эта — вера наша в божественную благодать, восполняющую недостающее, врачующую немощное, действующую могущественно в самой нашей немощи. Сила эта, наконец, в надежде на то, что скоро или не скоро все придут ко Христу; что придет час, когда будет «едино стадо и Един Пастырь». Содействовать по мере сил скорейшему наступлению этого великого часа — вот первый радостный долг каждого из нас. Иди без смущения и колебания, но в мире и радости на дело твое. Собирай с Божьей помощью расточенных и приводи всех ко Христу, дабы в день, когда явится, по слову апостола, Пастыреначальник, чтобы даровать неувядающий венец славы пастырям верным, ты мог дерзновенно сказать Ему: «Се аз и дети, яже ми дал есть Бог». Ныне же явись людям Божиим и преподай им благословение во имя Господне.
Епископы удалились из храма, а я с жезлом в руке благословлял народ. Бесконечной чредой все подходили и подходили молящиеся под благословение… По окончании этого обряда меня ввели в архиерейский дом; мне пропели «Ис полла эти деспота…».
Я приготовил обед на 70–80 персон. Столы были накрыты не только во всех приемных комнатах архиерейских покоев, но и в помещении нижнего этажа — для «братчиков», для певчих… Весь дом превратился в ресторан. За главным столом заняли места высшее духовенство и почетные гражданские и военные лица; тут были и генералы из Люблина, и корпусный командир, и начальник дивизии… У нас, в Западном крае, мясо монашествующим было позволено, в России — нет. Архиепископ Иероним и Гродненский епископ Иоаким его вкушали, а преосвященный Антоний от мясного воздерживался. Я дал распоряжение эконому, чтобы за главным столом подавали рыбное. Эконом схитрил — в мясной бульон пустил карасиков. Преосвященный Антоний попробовал и говорит: «Суп–то стервый…» А архиепископ Иероним мягко: «Не углубляйтесь…» Обед прошел с подъемом, с изобилием речей. Длился он так долго и так утомил престарелого архиепископа Иеронима, что его в изнеможении увели отдохнуть и давали капли. После обеда я развел усталых архиереев по комнатам, но остальные гости еще долго не расходились и, кто в столовой, кто в гостиной, продолжали оживленно беседовать. Мне облили новую рясу ликером: семинарский доктор, по случаю праздника наугощавшийся, расплескал на меня всю рюмку, изливая мне свои добрые чувства.
Вечером был чай; собрались все мои друзья, люблинские, варшавские и холмские. Должен отметить единодушное участие в празднике преподавателей семинарии, их старание разъяснить населению значение торжества: один из них Ф.В.Кораллов издал ко дню моего посвящения специальную брошюру.
Моя хиротония, вероятно, потому, что она была в Холмщине первой, действительно обратилась в народное торжество. Многие потом этот день вспоминали с чувством духовной радости. Думаю, что идея моего посвящения в Холме принадлежала Саблеру. Благодаря соучастию народа между мною и паствой возникла мистическая связь, которая должна была остаться до конца. В те времена применялась система переброски архипастырей: опала или благоволение проявлялись часто в перемещениях с одной кафедры на другую. Эта система — неканоническая и вредная во всех отношениях. Моим горячим желанием было связаться с Холмщиной пастырскими узами до конца жизни. Быть всю жизнь епископом Холмским, как епископ Николай был — Японским; мне этого хотелось всей душой.
Наутро после хиротонии я, согласно правилу, должен был служить обедню в Крестовой церкви (имени святителя Михаила, первого митрополита Киевского) при архиерейском доме. Домовые церкви в архиерейских домах были устроены так, что они либо непосредственно примыкали к столовой, либо имели вход из моленной. К Литургии собрались все епископы. Мне много приходилось служить с архиереями, порядок архиерейской службы я усвоил, и обедня прошла благополучно, без ошибок.
Днем я поехал на «чай» в семинарию. Там вновь поздравления, речи…
После пережитых волнений наступила реакция — мне хотелось остаться одному, обдумать все впечатления, разобраться в них. Гости скоро все разъехались.
Вскоре после хиротонии архиепископ Иероним пригласил меня к себе. «Я хочу вас представить Варшаве», — писал он. (Ректора семинарии архимандрита Дионисия он пригласил тоже.) За мной был прислан особый салон–вагон; владыка Иероним устроил мне торжественную встречу, собрал видных представителей гражданских, военных и учебных русских властей, со всеми меня знакомил, предложил служить в соборе… Его отеческая любовь проявлялась в стремлении мне содействовать, меня опекать и награждать: в этот приезд он мне подарил рясу и посох. Я провел в Варшаве дня три–четыре и, сделав необходимые официальные визиты высшим гражданским и военным чинам, вернулся в Холм под впечатлением варшавских дней, которые дали мне почувствовать, что я в Западном крае «важная особа».
Трудовые будни моей епископской жизни начались с ознакомления с новой сферой деятельности.
Консистории в Холмщине не было, холмский викариат зависел от Варшавского Епархиального управления, но ввиду особого характера местной народной жизни ему дана была некоторая, хоть и ограниченная, самостоятельность, и существовало свое Духовное правление. В противоположность Холмщине, паства Варшавской епархии состояла не из местного, коренного населения, а пришлого из России: служащих всех ведомств государственного аппарата, войсковых частей и проч. — словом, из людей «перелетных». Наше Духовное правление рассматривало местные церковные дела; викарий с его заключениями соглашался (или не соглашался), а окончательное утверждение они получали лишь в Варшавской консистории, куда все дела и отсылались. Там нас варшавские отцы иногда поправляли, а иногда наши решения отклоняли. Случалось, возникали недоразумения. Особого самолюбия у меня не было, но я не мог не дать себе отчета, что в некоторых делах, главным образом униатских, было уже много напутано; что решения выносились не в свободном духе веры, а иногда и по соображениям бюрократическим. Чиновники решали дела согласно букве закона, приказа, правила, не считаясь с народом, лишь бы только послать донесение в Петербург, что с православием в Холмщине все обстоит благополучно. В действительности с Православной Церковью обстояло совсем не благополучно. До 100000 «православных» в душе оставались униатами… Официально уния была упразднена в 1875 году государственным законом, но веру в душах закон упразднить не мог, и в некоторых местностях православные храмы пустовали, и к священнику народ за требами не обращался. Были приходы, где до 90 процентов населения бойкотировало православные церкви и, не имея своих, униатских, оставалось без церкви. Этих непримиримых называли «упорствующими». Они были подлинной язвой на теле Холмщины. Беду эту я сознавал и очень скорбел. А что предпринять? Как эту язву лечить? Свободы вероисповедания в России тогда еще не было, уния была упразднена 28 лет тому назад, а время ничего не изменило, конфликт не разрешался, православие по всей линии не торжествовало. Наоборот, чем дальше, тем все чаще и чаще поступали прошения об отпуске в лоно католичества. Наша канцелярия была завалена подобными прошениями. Правила, которыми надо было руководствоваться при их рассмотрении, были формальные: кто были предки? Если они были католики, разрешить просителю вернуться в католичество можно; если униаты — нельзя. Прочитаю, бывало, прошение и не знаю, что ответить на основании формальных вопросов: ходил дед в костел — не ходил? а где отец бывал на богослужениях? и т. д. Мучительно–тягостно было это бюрократическое дознание, решавшее судьбу верующей души… А тут еще вскрылось, что консисторские чиновники за отпуск в католичество брали взятки. Это уж окончательно запутывало дело.
Одновременно с церковно–административными делами мне приходилось знакомиться с учебными заведениями и с полками местного гарнизона. Везде надо было появляться, везде надо было что–нибудь сказать, вникая в разнообразные нужды паствы. А там подошел и Великий пост с соответствующими покаянным дням проповедями.
После Пасхи я решил начать епископский объезд приходов. Справился, какая часть Холмщины дольше всего не видела епископа, и направился в Замостский уезд. Я выехал после посевов, но до сенокоса и до праздника святителя Николая Чудотворца, — в те пасхальные дни, когда праздничное настроение еще не угасло.
Замостский уезд считался одним из наиболее ополяченных — в нем было много «упорствующих». Почти весь уезд принадлежал графу Замойскому. Великолепные «латифундии» польского магната. Культурные, чудные имения, охоты, заповедные рощи, замок… — все было поставлено на широкую ногу. «Латифундии» обрабатывались рабочими, которых помещичья администрация расселяла на хуторах (фольварках). Тысячи народа материально зависели от могущественного работодателя, и, разумеется, окормлять в польском духе людей материально зависимых непосильной задачи не представляло. В уезде были прекрасные, богато устроенные костелы, а православные церкви систематически приводились в состояние полного упадка. Запущенные, развалившиеся, с соломенными крышами, на которых иногда аисты вили себе гнезда, — вот какую печальную картину являли в уезде православные храмы… Тут проводилась уж не уния, а шел планомерный и непрерывный натиск католичества и неразрывно связанная с ним полонизация.
В Западном крае крестьян освободили в 1863–1864 годах и освободили без земельного выкупа, т. е. условия освобождения были лучше, чем в России. Мало того, учитывая католические и полонизаторские посягательства помещиков на крестьянство, русское правительство старалось ему помочь и обложило «панов» сервитутом, своего рода данью в пользу народа. Эта помещичья повинность была источником бесчисленных пререканий между обеими сторонами. Виды сервитута были разные: 1) лесной — ежегодно на ремонт церквей помещик обязан был давать 1–2 дерева, согласно исконной традиции, по которой местные «паны» считались попечителями (прокураторами) окрестных церквей. Эту повинность помещики старались обойти: назначит на сруб дерево за 10 верст, — кто за ним поедет! 2) дровяной сервитут — давал крестьянам право вывозить из помещичьих лесов сухостой и валежник. Дабы оградить помещиков от злоупотреблений, закон разрешал крестьянам отправляться в леса за дровами «без топора». Крестьяне роптали: «Без топора! Что мы, медведи? Как же нам без топора?» Но как было их пускать с топором? Они подрубали деревья, дабы на следующий год иметь побольше сухостоя… Их обвиняли в плутовстве — они оправдывались: «Да нет… да это не мы… разве мы стали бы…» и т. д. 3) пастбищный сервитут — обязывал помещиков предоставлять крестьянам, для пастбищ их скота, свободные от посевов луга и жнитво; но этот закон они старались обойти и окапывали свои луга широкими канавами: скотине и не перескочить.
Все эти виды сервитута давали повод к бесчисленным недоразумениям и взаимной неприязни; возникали ссоры, даже драки с помещичьими сторожами, подавались жалобы в разные инстанции… — словом, неурядица была безысходная. Дабы положить этому конец, помещики откупались от сервитута и отдавали во владение крестьянам участок леса или луга. Комиссары по крестьянским делам такого рода сделки всячески поощряли, даже уговаривали крестьян на обмен соглашаться. На деле (иногда, увы, за взятки!) — держали руку помещика. Такого рода замена была не в интересах крестьян: за 4–5 лет свой лесной участок они успевали свести, и у них не оставалось ни леса, ни сервитута.
В бытность мою епископом мне не раз приходилось выслушивать крестьянские жалобы. Помещики меня недолюбливали, мужики, наоборот, любили и доверяли мне свои нужды и недоумения. Приедут на базар в Холм, посовещаются о своих делах — и зовут друг друга: «Пойдем к Евлогию!» Ввалятся, бывало, ко мне в кожухах, с кнутовищами… Келейник ропщет: «Грязи нанесли…» Я принимал их в задней комнате, выслушивал их, советы давал. Когда дело шло о ликвидации сервитутных повинностей, всегда им говорил: «Никогда на обмен не соглашайтесь, если хотите, чтобы помещики были в ваших руках». Иногда крестьяне доверчиво совету следовали.
Итак, я отправился в Замостский уезд. Мою «свиту» составляли благочинный, ключарь и два диакона. Встречали меня в селах — и духовенство и крестьяне — очень радушно, торжественно, по всем правилам своих необыкновенно красивых народных обычаев.
Девушки в цветах и венках, в национальных костюмах толпой выходили мне навстречу. Деревенские парни, с национальными флагами в руках, гарцуя на разубранных цветами конях, хоть и без седел, кавалькадой окружали мой открытый экипаж. Такую, бывало, поднимут вокруг меня пыль, что я весь белый. Келейники негодуют, кнутами отгоняют всадников, а я беды в облаках пыли не видел. «Как вас запылили!..» — сокрушается потом какая–нибудь матушка сельского священника, глядя на меня. А я в ответ: «Мы сами пыль и прах… ведь пыль–то эта пшеничная!»
В одну из следующих поездок этот красивый обычай — встречать почетного гостя кавалькадой — привел меня в некоторое недоумение: у всадников в руках были испанские флаги… Потом выяснилось, что, готовя мне встречу, не успели раздобыть национальных флагов, бросились в полковое собрание местного драгунского полка, там тоже нужных флагов не оказалось; но был запас испанских, оставшихся от встречи какой–то испанской делегации, почтившей когда–то своим присутствием праздник полка, шефом которого состоял испанский король. Вот почему меня, русского архиерея, приветствовали испанскими флагами…
Как только в селе я выходил из экипажа, толпа встречавших девушек замыкала меня и сопровождавшее меня духовенство в круг огромного венка из зелени и с пением церковно–народных песен [
[26]] вела к храму. На пороге встречал меня настоятель прихода и говорил приветственное «слово». Я просил, чтобы священники избегали общих фраз, а в кратких чертах знакомили меня с положительной и отрицательной стороной приходской жизни. И действительно, в своих речах, иногда горячих, они давали яркую ее характеристику. После встречи бывал молебен с крестным ходом, с чтением Евангелия на четырех углах, с кроплением святой водой; затем возглашали многолетие в церкви, я произносил «слово» и оделял молящихся крестиками. Далее, в зависимости от времени дня, следовал чай или обед в домике священника и я посещал сельскую школу. Дети говорили по–польски. Укоряю их, почему они не говорят по–русски, а они в ответ: «Да мы в Польше…» — «Как в Польше?..» Я разговаривал с учителями, со стариками, с молодежью; всех убеждал: «Будьте русскими, будьте православными, помните предков, не ломайте себя…»; давал директивы: говорить по–русски, разучивать русские песни, припомнить наши сказки, игры, восстанавливать в житейском быту русские обычаи… «Когда я опять к вам приеду, вы мне покажете, как вы работали», — заключал я.
Мне хотелось народ расшевелить, направить по религиозно–национальной линии, особенно детей и молодежь. Холмские деревни не в пример нашим: едешь, бывало, в России по деревням — всюду песни, детский гвалт… а тут — все по щелям, как пришибленные. Деревни молчаливые, унылые. Мои настоятельные советы не пропали даром. Понемногу вся Холмщина запела, точно от сна пробудилась, о своем прошлом вспомнила…
Так ездил я от села к селу в течение трех недель, успевая за день побывать в 3–4 приходах. По местным законам, подводная повинность ложилась на население: низшее чиновничество, новобранцев и казенные грузы обязаны были возить крестьяне; высших духовных особ и важных чиновников возили помещики. «Паны» в уезде были богатые, многие жили в своих поместьях круглый год и имели отличные выезды. Мне высылали прекрасный экипаж, четверкой, и еще два парных экипажа для «свиты». Мы платили помещикам по определенной разверстке: с версты и с лошади; расплатой ведал мой ключарь, но как–то всегда неприятно было пользоваться этим одолжением.
Ночевал я во время объезда у священника того прихода, куда мне случалось попасть под вечер. Духовенству в Замостском уезде материально жилось неплохо. Оно получало 100 рублей месячного жалованья при готовом хозяйстве. Это давало ему возможность не думать только о куске хлеба и удовлетворять свои культурные запросы. Священники читали газеты, интересовались текущими общественными и политическими событиями. К вечеру в домике «батюшки» собирались соседи, гости, деревенская интеллигенция. Начиналась общая беседа. Я так утомлялся за день, что невольно с нетерпением ждал, когда все разойдутся, тем более что мне предстояло рано вставать. Но ложиться приходилось поздно. Смотришь, койка приготовлена в той же комнате, где ужинали, и надо ждать, когда гости уйдут, когда уберут со стола… А уже 12 часов! Ложишься спать — в комнате пахнет селедкой, луком, водкой… Таковы были условия моих ночевок.
Объезд замостских сел прекрасно осведомлял меня о церковной жизни приходов. Помогали мне и церковные «летописи». Каждый приходский священник должен был вести церковную «летопись», отмечая в ней все события приходской жизни. По этим записям можно было судить о состоянии прихода; они характеризовали и священника и прихожан. Я читал их в экипаже на пути от села к селу. Бывали очень интересные. Читая одну из них, мне довелось, например, узнать, как рядовое холмское духовенство отзывалось о преосвященном Тихоне, впоследствии Патриархе.
К нам, в Холмщину, зачастую перебегали, несмотря на пограничный кордон, галичане–русофилы, среди них бывали и священники. Они принимали православие и оседали тут же где–нибудь в Холмщине. Воспитанные в условиях австрийского либерального строя, они и в новом своем отечестве оставались верными свободолюбивому духу. Так священник из галичан, протоиерей Трач, в церковной летописи отметил, что в таком–то году приход посетил преосвященный Тихон, и тут же весьма независимо высказал свое суждение: «Первый раз в архиерее вижу человека».
– Как же вы в официальном документе так написали? Разве раньше все были звери? — удивился я.
О.Трач смутился. Я запер документ в чемодан, сказал, что пошлю его в консисторию, — и поехал дальше. Потом на обеде, который мне устроило духовенство в уездном городе, о.Трач попросил меня не поднимать истории из–за его неуместного замечания. Я согласился.
Во время объезда я впервые узнал, что такое «упорствующие».
Подъезжаем к деревне — пустой, полуразрушенный храм… На пороге — священник в слезах меня встречает… Два–три прихожанина… — и тоже плачут. Жалуются, что деревня Православной Церкви не признает; по ночам прокрадываются из Галиции ксендзы и справляют все нужные требы; местное население тяготеет к католическому зарубежью, перебегает за кордон без особого труда, чтобы пообщаться со своими единоверцами, а то просто занимаясь мелкой контрабандой (приносили из Галиции эфирные капли). Близость Австрии мне довелось и самому ощутить, когда, сокращая путь, мы некоторое расстояние проехали по австрийской земле. Австрийские пограничники отдавали мне честь, но на вопросы не отвечали.
Закончился мой объезд посещением уездного города Замостья. Я прибыл туда ко дню святителя Николая. В городе была старая церковь его имени, построенная в XVII веке еще «братчиками» эпохи западнорусских «братств». В ней был древний семиярусный иконостас, тоже доуниатской эпохи.
Замостье — город совершенно ополяченный. И присутствие многочисленных русских войск — казачьей бригады, Бородинского полка и пограничной стражи — влияния на польский дух города не оказывало.
Я служил обедню в церкви святителя Николая, сказал «слово» о судьбах православия. На следующий день меня чествовали воинские части большим обедом. Я воспользовался «пиршеством», чтобы поднять национальный дух среди присутствующих военных лиц.
Пределы и степень польского влияния, его материальную и культурную силу уже к концу объезда я себе уяснил. В Петербурге думали, что мы давим поляков. Какое заблуждение! Почти все культурное общество нашего края представляло из себя сплоченное польское целое; «нашими» были только духовенство и крестьяне — «хлоп да поп», по местному выражению.
Поездка дала мне много — сблизила с народом, я заглянул в его душу, увидал, что многострадальное историческое прошлое ее придавило, измучило, изломало, но вырвать православного русского корня все же не смогло. Не прошла эта поездка бесследно и для православного населения. Народ словно встрепенулся, почувствовал во мне духовную опору. «Волны восторга окружали вас по всему уезду…» — таково было впечатление матери Афанасии, игуменьи Радочницкого монастыря.
По возвращении в Холм я составил отчет о моей ревизии и послал резюме архиепископу Иерониму, а потом поехал к нему с личным докладом. Я рассказал ему о положении Православной Церкви в нашем крае, ознакомил с директивами, данными мною на местах. В общем они сводились к тому, чтобы посредством возвращения к родному языку и к забытому русскому фольклору попытаться оживить заглохшее в народе чувство русской стихии. В этом методе, не внешнего и не насильственного, а свободного и культурного воздействия на народную душу я видел пока единственное средство, которое могло бы пробудить в моей пастве русское национальное самосознание.
Летом, в Петров пост, приехал ко мне отец в сопровождении нашего родственника–священника и его дочки, пятнадцатилетней девочки. Мать моя приехать не могла, она уже тогда все прихварывала и на далекое путешествие не решалась. Родители мои жили теперь в г.Епифани. Отец был настоятелем собора. Туда перевел его в мае 1903 года Тульский епископ Питирим.
Отцу я был очень рад. Выслал за гостями мой выезд, и их привезли ко мне на дачу. Архиерейская дача была прекрасная: каменный домик, большой сад, цветник, пруд с рыбой, лес…
С первого же дня по приезде отца я почувствовал, что в моих взаимоотношениях с ним что–то изменилось. Мое епископство внесло какую–то стеснительность, не было между нами былой простоты, близости, непосредственности. Бытовая сторона архиерейского сана создавала отчужденность. Обстановка, в которой я жил, атмосфера торжественности, некоторого величия и почестей, которая меня окружала, внешние формы моей жизни… отца восхищали — он сиял! Но неестественность наших отношений дала себя остро почувствовать в первое же воскресенье, когда он пожелал сослужить и мне пришлось давать отцу целовать руку…
В конце августа пришла скорбная весть: скончалась мать Анна, игуменья Вировского монастыря… Болела она давно (у нее был туберкулез). Аскетические и молитвенные подвиги надломили ее здоровье. Она жила в темной, в одно оконце, холодной келье, над погребом, и никакие уговоры и просьбы сестер не могли ее заставить перебраться в другое помещение. Сильная духом и характером, она была среди сестер первой подвижницей, первой труженицей. В монастыре бывали и тяжкие дни. Случалось, топить было нечем, тогда сестры отправлялись ломать ветки с придорожных тополей; иногда приходилось монастырю и голодать, лишь бы не сокращать довольствия в монастырской богадельне, школе или приюте… Мать Анна примером удивительной своей самоотверженности увлекала за собой и сестер. Она была — сама любовь. К себе строга, к другим она относилась снисходительно. Ее любовь всем передавалась — ее любили ответно. Войдет, бывало, в приют — дети на ней виснут, со всех сторон ее облепят; проезжает по деревне — бросает ребятишкам конфеты, орехи… Сколько детей «упорствующих», к неудовольствию родителей, влеклись к матушке Анне! Недугом своим она мучилась долго. Архиепископ Иероним настоял на поездке за границу, в Ментону, и дал для этого средства. Но Ментона не помогла. Возвращаясь в родную обитель, она заехала ко мне в Холм. На меня она произвела впечатление уже совсем потусторонней, святой… Она умерла 29 августа (1903г.) 37 лет. Смерти она не боялась, подготовилась к ней с подобающим вниманием. Скончалась в присутствии сестер, сидя на своем убогом, жестком ложе, с крестом в руках; и до последней минуты молилась, не спуская глаз с образа Божией Матери…
Архиепископ Иероним послал меня на похороны. Мать Анну сестры обожали. Горе их было неописуемо. Когда я подъехал к обители, со стороны храма до меня донесся гул рыданий. Я вошел в храм, сестры увидели меня — и плач усилился. Я хотел сказать слово утешения, стал на амвоне — не мог вымолвить ни слова: заплакал… Три дня длилось сплошное моление: парастасы сменялись панихидами. В последний день я взял себя в руки и сказал проповедь. На похоронах сестры обезумели — поскакали в могилу: «Закапывайте и нас!..» Полицейские их вытащили.
Преемницей почившей игуменьи сестры избрали ее приятельницу, старушку мать Софию (в миру княгиня Шаховская, рожденная Озерова), около полугода прожившую при монастыре. 17 сентября я ее постриг под именем Софии. Она была в родстве с духовным публицистом Нилусом, автором «Сионских протоколов».
Он связал свою жизнь с женщиной, от которой имел сына, появился на горизонте семьи Озеровых и посватался к сестре матушки Софии — Елене Александровне. После женитьбы обратился ко мне с ходатайством о рукоположении в священники. Я отказал. Нилус уехал с молодой женой в Оптину Пустынь, сюда же прибыла его сожительница — образовался «ménage la frots». Странное содружество поселилось в домике, за оградой скита, втроем посещая церковь и бывая у старцев. Потом произошла какая–то темная история — и они Оптину покинули.
Настоятельницу мать Софию [
[27]] сменила благочестивая мать Сусанна (в миру Мельникова, дочь известного оперного певца). Мистически настроенная, страннолюбивая, она сделала обитель прибежищем странников и захожих «старцев», из которых некоторые оказались проходимцами. Она их гостеприимно угощала, чем могла одаривала, в морозы отпаивала коньяком. Одного из них велела своей келейнице вымыть в ванне. Келейница — в слезы: не могу! не могу! Мать Сусанна пригрозила: выгоню тебя! Дело дошло до меня. Я взял келейницу под свою защиту и потребовал, чтобы странник в обители больше не появлялся. Повадился в монастырь еще и некий босой странник. Круглый год он ходил босиком. В Крещение, во время водосвятия стоял босой на льду; под его ступнями лед подтаивал: сестры, обожавшие его, эту воду пили… Мать Сусанна его очень почитала. Он пользовался широкой популярностью и за пределами Вировского монастыря. Признаюсь, я к нему расположился, когда он обещал на постройку храма достать денег у своих благодетелей. Как–то раз он влез в мой салон–вагон; смотрю, на каждой станции он высовывается из окошка. Потом я понял, в чем было дело. Евреи–подрядчики, прослышав о предполагаемой постройке и увидав его в моем вагоне, смекнули, что могут извлечь из него пользу, и открыли ему кредит. Обходил «босой» с подписным листом и своих благодетелей. Набрал много денег — и скрылся. В Смоленске его арестовали. Кончилось печально: старую церковь сломали, а новой построить не удалось. Я потребовал от матери Сусанны, чтобы пригревание странников в монастыре кончилось. Вскоре ее перевели в Кострому. Сейчас она доживает свой век в Гродне [
[28]].
После похорон матери Анны я стал готовиться к ежегодному грандиозному празднику всей Холмщины (8 сентября). Впервые мне предстояло быть его хозяином. На торжество обычно приезжал архиепископ из Варшавы и еще 2–3 епископа по приглашению. Съезжалась и вся варшавская знать во главе с генерал–губернатором, командующим войсками, попечителем учебного округа и т. д. Дня за два, за три начинали в Холм прибывать богомольцы и заполняли весь город. Число их достигало 20–30 тысяч. Народ ночевал под открытым небом, а в последние дождливые осени — в полотняных палатках. В маленьком сквере на холме, по склонам горы вокруг собора — всюду располагались богомольцы. Устраивались и в семинарии. В коридорах не пройти — везде бабы, мужики, дети, поклажа…
В день праздника после Литургии священники поднимали на шестах икону Холмской Божией Матери и с пением несли ее на площадку на самой вершине горы. «Она» следовала среди моря голов. Наступала торжественная минута — молебен Богородице. После него проповедники (их бывало несколько) говорили вдохновенные народные проповеди. Великий подъем объединял несметные толпы. Неизгладимое впечатление! Незабываемая картина!..
По окончании торжества богомольцы расходились по деревням, но почти никто не уходил, прежде чем не подал «за здравие» или «за упокой» (случалось и «за худобу», т. е. за скотину). Псаломщики за длинными столами записывали имена. Тут же стояла кружка для добровольной мзды. За псаломщиками наблюдали диаконы, чтобы они не утаивали денег, если их положат не в кружку, а на стол. Один диакон заметил как–то раз недоброе и кричит на псаломщика: «Снимай сапоги!» — «Зачем?» — «Тебе говорю — снимай!» Тот снял, а в сапогах — медяки: из–за пазухи они через штаны провалились. Псаломщика уволили, а диакон удостоился похвалы. Бедный был народ, а давал щедро. Духовенство собирало на храмовом празднике огромные деньги. Священники потом целый год добросовестно поминали усопших и живых: в одно воскресенье — одну часть, в следующее — другую и т. д. Я наблюдал, чтобы не было обмана, иначе допустил бы святотатство.
Почетные гости, приехавшие на праздник, и представители городского холмского общества съезжались после молебна на торжественный обед в общественное собрание. За столом говорили о судьбе Холмщины, о задачах народной жизни… Устраивало этот обед «Холмское Православное Братство». О нем я скажу несколько слов.
Оно возникло одновременно с воссоединением Холмщины — в 1882 году и развивало многообразную и плодотворную деятельность. Целью его было содействие укреплению и преуспеянию православия и русского самосознания в Холмской Руси. В религиозном просвещении оно видело единственное средство подъема национального сознания православного русского народа. Оно распространяло среди населения Священное Писание, молитвенники, крестики, медальоны со священными изображениями, книги и брошюры религиозно–нравственного содержания, сочинения, имеющие местный интерес или направленные к рассеянию заблуждений, сложившихся во время унии, а также и для борьбы с латино–польской пропагандой. Братство устраивало церковноприходские библиотеки, распространяло свои издания через местного епископа при объезде им епархии, после торжественных архиерейских богослужений или при посредстве настоятелей приходов и книгонош. Оно заботилось об украшении храмов, о распространении икон в частных домах, о церковном пении; старалось привлечь равнодушных к православию, к посещению храмов, являя пример христианской деятельной любви: «братчики» помогали бедным, погребали неимущих, выдавали пособие погорельцам, сиротам, новообращенным иноверцам и т. д.; оказывали и юридическую помощь. При Братстве существовали: церковно–археологический музей, книжный склад, библиотека с читальней и лавка, где продавались богослужебные книги, священные предметы, церковная утварь, книги, брошюры, листки… Денежные средства Братства составлялись из единовременных пожертвований, членских взносов и государственного пособия, а также из доходов от издательства. «Братчики» имели значок трех степеней: золотой, серебряный и бронзовый. В центре его было изображение Холмской Божией Матери. Давали его за пожертвования и за заслуги. Кто вносил в Братство 500 рублей, получал золотой значок; кто 250 рублей — серебряный; кто 50 рублей, — бронзовый. Полезным деятелям и жертвователям давали его тоже; в этих случаях степень определялась в зависимости от оказанных братству услуг. Значок «братчика» в Холмском крае имел большое распространение. Купцы, офицеры… охотно вступали в члены. Случалось, что записывались целые полки. Во главе организации стоял главный попечитель — архиерей Холмской епархии.
Холмский праздник в первый год моего епископства прошел прекрасно; хотя было холодно и дождливо, но непогода не помешала ни его торжественности, ни многолюдству. Он всколыхнул всех, оставил впечатление на целый год. Для меня он был тем чудным утешением, которое дает силы для дальнейшего служения…
Началась будничная жизнь. Я входил все обстоятельней в свое положение, осваивался с новыми обязанностями. Долгих поездок по епархии в этом году уже не предпринимал, лишь изредка выезжал на храмовые праздники.
Новый год (1904г.) принес мне большое горе: умерла моя мать. Мне так хотелось, чтобы она меня увидала епископом! Я ей писал об этом. Она ответила: «Хочу и я посмотреть, какой из тебя вышел архиерей…» Господь не привел нам свидеться…
В ночь на 4 января у меня был сон: я иду вместе с матерью по косогору в селе Сомове, веду ее под руку… и вдруг — она споткнулась, оторвалась от меня и покатилась вниз… Я проснулся. Сон оставил какое–то неприятное, тревожное чувство, но я ему не придал значения. Надо было вставать: день был воскресный, предстояло служить Литургию. Но на душе было как–то неспокойно… После обедни в мою гостиную обычно собиралось несколько человек (восемь–десять) — попить чайку. Прихожу — на столе телеграмма… «Мама скончалась».
Страшное внезапное потрясение…
Присутствующие выразили мне горячее сочувствие и поспешили разойтись…
Я хотел ехать на похороны; запросил архиепископа Иеронима о разрешении и на следующий день выехал из Холма. В Тулу прибыл 6 января, в Крещенье. (Тут пересадка на Епифань.) Подъезжаем к городу — торжественный праздничный трезвон колоколов… На вокзале меня встретили знакомые священники. Я заехал к архиерею; согласно правилу, попросил разрешения служить в его епархии, а также отпустить на похороны протодиакона (хотя я и своего привез). Владыка предложил мне певчих, но я предложение отклонил.
В Епифань прибыл в сумерки и прямо отправился в собор. Отца нет… много духовенства и полный храм народу. Официально меня встретил помощник отца. Среди священства я узнал моих товарищей по семинарии, сверстников. Как многие изменились! И бороды меняли облик — не узнать их. Перемена и в наших отношениях: разговаривают со мной робко, отвечают с почтительностью младших к старшему.
Я сказал народу лишь несколько слов: «Я приехал не поучать вас, у меня большое горе, благодарю всех за участие…»
Из собора отправился в родительский домик. Я его купил для них летом, потому что церковного дома при соборе не было. Скромный мещанский домик. Вхожу… Мать лежит в гробу… Отец в слезах, жалкий, горем придавленный… Мы обнялись. Поплакали. Мать давно прихварывала, но никто не думал, что недуг ее смертельный; кончина была для всех неожиданной.
Мать была для меня самым дорогим существом в жизни, самым близким другом. Я всегда очень любил заезжать к ней. Уложит она меня, бывало, спать на диване, а сама сядет рядом, и мы говорим — не наговоримся… Бьет 1–2 часа ночи, а мы все не можем расстаться…
Предаваться безудержно скорби мне, епископу, не следовало, но тяжкое горе от сдержанности не делается легче. На душе было сиротливо, одиноко, скорбно…
На похороны съехались все мои братья, из них два брата — священники. Я сам совершал чин погребения. Очень жалко мне было отца: он плакал не переставая…
Поместили меня в доме купца, соборного старосты. Наверху жил он сам, а внизу была его торговля; в его лавках продавались всевозможные товары. По случаю моего приезда у него был прием, на который съехались помещики. Пребывание в Епифани дало мне почувствовать, что в городе и уезде ко мне относились как к важной особе.
После похорон в родительском доме стало пусто. Я утешал отца. Он сразу как–то сник, стал беспомощный, жалкий, лишился свойственного ему самоутверждения и горько плакал. Утешая его, я и сам поддавался скорби…
Надо было возвращаться к своим обязанностям и успеть вернуться к годовщине моей хиротонии. Я уезжал с горестным чувством… Оборвалась нить, связывавшая меня с родным домом. Прежнего к нему притяжения отныне быть не могло. Это я почувствовал. Просвет, которым с детства была для меня моя семья, закрылся навсегда…
Зимой 1904 года разразилось бедствие — Японская война. В конце января японцы подорвали наши корабли, в одну ночь погибло 3–4 судна. Напали они на нас до объявления войны. И унизительная подробность: наши моряки в ту ночь были на балу… Русским патриотам это событие казалось позором и горькой обидой самолюбию.
Война ударила по нервам и по душе. Помню беспредметную большую мою тревогу. Все кругом о неприятеле отзывались пренебрежительно, с усмешкой: «япошки», «макаки»… а у меня было иное чувство. На фронт уходила наша дивизия. Всюду плач жен, скорбь разлуки… Церкви переполнены — народ жаждет утешения. А как утешать? Всю душу мне перевернули эти дни…
Вскоре после начала войны был в Холме Епархиальный съезд духовенства. Прибыли выборные депутаты от каждого благочиннического округа (клир и миряне своих представителей тогда еще не имели). Он обсуждал вопросы хозяйственной жизни епархии. Епископ только его открывал и в программной речи указывал на те или иные епархиальные просветительные и благотворительные нужды. Съезды по духу бывали либеральные и выносили постановления, подобные следующему: «Обратить внимание Его Преосвященства на угнетенное положение псаломщиков». В тот год он заключился особым постановлением о помощи раненым и молебном, объединившем все собрание в религиозно–повышенном настроении.
К весне наши дела на театре военных действий пошли все хуже и хуже. Помню мою пасхальную проповедь: ее прерывали народные рыдания… Я говорил о Светлом Празднике, противопоставлял наше мирное пасхальное торжество тому, что делается на Дальнем Востоке. «А там, в эту святую ночь, стоит на страже русский солдат в непогоду, в тьму и ветер, и японец целится в него смертоносной пулей…»
Моя поездка по епархии в то лето (1904г.) была безрадостная. Панихида… траур… слезы… У кого брат, у кого сын убит. Эти горести западали в мое сердце и еще теснее сближали с паствой.
Судьба холмского народа, его страдания были предметом моих тревожных дум. Его забитость, угнетенность меня глубоко печалили. Мне казалось, что в области религиозной он уже многого достиг, но ему не хватает живого национального сознания, чувства родственного единства с Россией. Я будил национальное чувство, постепенно его раскачивал; может быть, и грешил, может быть, и перегибал, но что было делать с народной беспамятностью, когда он забыл о своем русском корне и на вопрос: «Где вы живете?» наивно отвечал: «В Польше…»
Зима 1904–1905 годов была лютая. Читаешь газеты — и ужасаешься. Новое бедствие… Сколько обмороженных солдат! Я посещал лазареты. Помню, в одном городке был лазарет для психически больных солдат. Жуткая картина… Кто пляшет, кто что–то бормочет. Один солдатик лежит задумчивый, угрюмый. Доктор говорит мне: «Может быть, вы его из этого состояния выведете…» Я спрашиваю больного: «О чем ты скучаешь?» — «У меня японцы отняли винтовку». — «Мы другую тебе достанем. Стоит ли об этом разговаривать? Людей сколько погибло, а ты о винтовке сокрушаешься». Но больного не переубедить. «Детей сколько угодно бабы нарожают, а винтовка — одна…», — мрачно возражал он. Его навязчивая идея возникла как следствие верности присяге. «Лучше жизнь потеряй, но береги винтовку», — гласило одно из ее требований. Невольное ее нарушение и привело солдата к психическому заболеванию.
Эта зима (1904–1905 гг.) облегченья не принесла. Неудачи на войне стали сказываться: неудовольствие, возбуждение, глухой ропот нарастали по всей России. Гроза медленно надвигалась и на нас. Она разразилась над Холмщиной весной (1905г.). Указ о свободе совести! Он был издан 17 апреля, в первый день Пасхи. Прекрасная идея в условиях народной жизни нашего края привела к отчаянной борьбе католичества с православием. Ни Варшавского архиепископа, ни меня не предуведомили об указе, и он застал нас врасплох. Потом выяснилось, что польско–католические круги заблаговременно о нем узнали и к наступлению обдуманно подготовились. Едва новый закон был опубликован — все деревни были засыпаны листовками, брошюрами с призывом переходить в католичество. Агитацию подкрепляли ложными слухами, низкой клеветой: Царь уже перешел в католичество… — переходите и вы! Иоанн Кронштадтский тоже принял католичество — следуйте его примеру! и т. д. Народ растерялся… На Пасхе я был засыпан письмами от сельского духовенства, по ним я мог судить, насколько опасность серьезна. На местах было не только смущение, а настоящая паника. «У нас бури, волнения, слезы, крики… разъясните, помогите!..» — вот вопли, обращенные ко мне. Меня осведомляли, что католики объясняют военные наши неудачи карой Божией на Царя за притеснение поляков; японцев называют «орудием Божиего гнева»; говорят, что Римский Папа послал им благословение… В народной массе создалось впечатление безысходной обреченности. Признаюсь, администрация и мы, представители Православной Церкви, растерялись. Ко мне стали приезжать священники — просят поддержки, плачут, волнуются: «Если так будет продолжаться, все уйдут в католичество…»
До нас дошли сведения, что «упорствующие» (их было около 100000) хлынули в костелы, увлекая за собой смешанные по вероисповеданиям семьи. А польские помещики повели наступление со всей жестокостью материального давления на зависимое от них православное население. Батракам было объявлено, что лишь перешедшие в католичество могут оставаться на службе, другие получат расчет. Были угрозы, были и посулы: графиня Замойская обещала корову каждой семье, принявшей католичество…
На мой архиерейский двор стали стекаться толпы народа со слезными жалобами, с мольбой о помощи: «Мы пропали… Что нам делать?» — «Держитесь, будьте стойки!» — говорил я. А они уныло: «А как нам стойким быть?..» И верно — как от них было требовать стойкости? Положение батраков сложилось безвыходное. Жалованье они получали ничтожное (некоторые не получали его вовсе), помещик давал им кров («чворок», т. е. угол, четвертую часть избы), свинью, корову, огород и известное количество зерна и муки из урожая. Куда при таких условиях деваться? Многие, очень многие, раздавленные безысходностью, приняли в те дни католичество; правда, не все — «за совесть», некоторые лишь официально, а в душе оставались верными православию и по ночам ходили к нашим священникам. Но внешняя удача католиков была бесспорная. Ксендзы торжествовали, объявили 1 рубль награды всякому, кто обратит одну православную душу в католичество.
Положение в Холмщине создалось настолько грозное, что медлить было нельзя и я решил ехать в самую гущу народных волнений — туда, где, по моим сведениям, было полное смятение: слезы, драки, поджоги, даже убийства… Я запросил Варшавского архиепископа Иеронима, но он меня пускать не хотел. «Вас там убьют…» — писал он. Насилу я его уговорил.
Я отправился в Замостье — в самый центр католической пропаганды. Одновременно со мною выехал туда и Люблинский католический епископ. Прежние полицейские законы были строгие — католическому епископу доступ на территорию русских областей был запрещен. Теперь плотину прорвало. Он ехал в карете, разукрашенной белыми розами, с эскортом польских молодых людей (жолнеров) в щегольских кунтушах; его везли не по дороге, а прямо полями, дабы колеса его экипажа освятили всходы. Такова была картина победного торжества католиков…
Меня в деревнях ожидала картина иная. Подъедешь к церкви — встречаешь бледные, испуганные лица, рыдающего священника, слышишь вопли: «Владыка, защити нас!.. Мы сироты… мы погибаем!..» Я кричу, разубеждаю, но поднять дух народа одному не под силу. Я объехал ряд сел в течение одного дня и к ночи достиг села, где предполагалась закладка храма. Церковь пришла там в такую ветхость, что едва держалась на подпорках. Больной, в астме, священник встретил меня. На другой день я заехал в Радочницкий монастырь. Сестры, осведомленные о том, что в уезде происходит, меня утешали. Признаюсь, в утешении я нуждался: уж очень тяжелы были впечатления предыдущего дня… Из монастыря я направился в Замостье. Приближался я к городу в смятении духа: мне самому казалось, что все пропало…
Католический епископ и я въехали одновременно с двух концов. Его встречали католические «братчики», впряглись в карету и провезли на себе до самого костела. На пути с двух сторон восторженная толпа… В первых рядах нарядные польские дамы и девочки в белых платьях с цветами в руках, помещики в национальных костюмах…
Меня ожидала скромная встреча: негустая толпа горожан, казаки… Поднесли мне хлеб–соль. Плачут… Надо было собрать всю силу духа, чтобы сказать ободряющее слово, не поддаться общему настроению. Я вошел в скромную нашу церковь, оттуда меня провели в дом священника. К трапезе собрались наши «батюшки», и мы долго рассуждали о событиях. Всенощную служили в церкви Замостского Православного Братства (имени святителя Николая). Меня не покидала тревога… «Устоит ли моя Холмщина? Выдержит ли натиск?» — думал я вечером и молился. Заснуть я долго не мог. Кошмарная была ночь…
Утром я проснулся от шума. Смотрю в окно — к храму со всех сторон идет народ, движутся крестные ходы с причтом, собираются группами девушки… Слышится пение пасхальных песнопений… И народ все прибывает и прибывает… В 10 часов за мной пришли иподиаконы — вести меня со «славой» в храм. Сквозь густую толпу на дворе едва можно было пробиться. «Слава Богу!.. — обрадовался я. — Есть еще в народе мужество, не угасла любовь к православию, препобедил он насмешки и угрозы…» Увидав меня в мантии, толпа встрепенулась, поднялась духом. Для того, по–видимому, и пришли со всех приходов, чтобы сплотиться вокруг своего архипастыря. Бабы плачут… Но это уже не безутешная скорбь — в ней проблеск радости и надежды…
Я служил с большим подъемом. После обедни повел народ на военное поле. Образовался один общий крестный ход: лес хоругвей, множество икон… я с посохом — впереди. Тысячеголосая толпа грянула: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его…»
На поле был устроен помост. Стали служить молебен святителю Николаю. И вдруг — видим: тем же путем, каким и мы шли, приближается католический крестный ход, только толпа меньше нашей и заворачивает он направо, а мы расположились налево. Я говорю протоиерею Трачу:
– Скажите проповедь, чтобы запомнилась до конца жизни…
О.Трач произнес замечательную проповедь. Откуда только такие проникновенные слова у него нашлись! Всю муку сердца вложил он в свое «слово». Все рыдали, и он сам плакал… Смотрю, от толпы католиков отделилось несколько человек, бегут к нам послушать проповедь. После о.Трача я хотел сказать «слово». Не успел начать — вижу в толпе какое–то смятение: молодая баба рвется, кричит — и с рыданиями кидается ко мне: «Спаси меня!.. Спаси меня!..» Оказалось, что ее муж, католик, принуждал ее принять католичество, жестоко избил, а когда и эта мера ее не сломила, запер в свиной хлев, где она просидела с вечера до обедни. Накануне я проезжал через ее село: узнав, что я направился в Замостье, она пешком устремилась в город. Я взял ее за руку и сказал народу: «Вот жертва католического насилия! Вот вера, к которой вас зовут… Фанатизм и преследование за веру — извращение веры. Христос не был фанатиком». Мы стояли на помосте рядом — рыдающая, растерзанная, избитая женщина и я в архиерейском облачении… Эта сцена сильно повлияла на толпу. Когда мы вернулись в церковь и я сказал народу: «Мы не пропали! Вы видите, сила веры у нас есть…» — все воспрянули духом. В моей душе было чувство радости и торжества.
Я поручил попечению местных властей жертву католического фанатизма и взял обещание: если попытка истязания повторится, несчастную женщину отвезут в Радочницкий монастырь. Католический фанатизм отравлял взаимоотношения православного и католического населения. Подобные случаи, как в Замостье, увы, в Холмщине встречались. Но бывали проявления и еще более дикие… До чего мог доходить католический фанатизм, свидетельствует хотя бы следующий пример.
В посаде Тарнограде Белгорайского уезда (на юго–западной границе Холмщины) умирал 85–летний старец, протоиерей Адам Черлючанкевич, помнивший еще Холмскую унию и воссоединившийся с Православною Церковью в 1875 году. В самые последние дни, когда он, уже обессиленный болезнью, терял не только волю, но и ясность сознания, местный ксендз, с которым о.Адам был хорошо знаком, попросил позволения навестить болящего. Родные, конечно, согласились. Тогда этот удивительный служитель костела захватил с собою Святые Дары, вошел в комнату больного, запер изнутри двери и окна и решил причастить его по католическому обряду, чтобы потом сказать: «Вот наиболее уважаемый православный священник, перешедший некогда из унии в православие, все время томился в своей совести и в последний час покаялся и снял свой грех». Бедный умирающий старец, как мог, протестовал против этого гнусного насилия, отворачивался к стенке, стонал, слабеющим голосом звал на помощь, пока наконец эти стоны и вопли не услыхал его сын, бросился к дверям, но они оказались запертыми; тогда он разбил окно и через него вбежал в комнату; однако ксендз быстро исчез, не успев совершить своего злого дела. Из груди старца вырвался вздох облегчения…
Тот памятный день в Замостье, о котором я говорил, закончился чествованием меня местными воинскими частями; а на другой день я постриг в монашество Марию Горчакову. Она была учительницей русского языка во французском пансионе в Москве; в нем воспитывались польские аристократки. Это было прекрасно поставленное учебное заведение, в котором применялись новейшие методы педагогики.
Мария Горчакова была образцовой монахиней и впоследствии основала Турковицкий монастырь.
Окончив объезд епархии, я отправился к архиепископу Иерониму с обстоятельным докладом, который убедил владыку, что я имел серьезные основания добиваться разрешения на поездку по Холмщине и что удерживать меня не следовало.
О сопротивлении католическому натиску, которое я оказал в Замостье, уже в Варшаве стало известно. Командующий войсками Варшавского округа генерал–губернатор Скалон посетил меня и сказал:
– Слышал, слышал, как вы сражались с польским епископом и как с вечера — он выиграл сражение, а потом — вы его разбили.
Вернувшись в Холм, я стал обдумывать создавшееся положение. Предоставить событиям развиваться было бы непростительной пассивностью, и я решил укреплять свои позиции: прежде всего в экстренном порядке созвал Епархиальный съезд с включением в его состав и мирян. Он должен был обсудить меры защиты православия и разработать план согласованных действий, дабы преодолеть всеобщую растерянность.
На съезде собрались представители всех приходов: священник и двое мирян от каждого прихода. Прибыл архиепископ Иероним. Я устроил ему церковную встречу. Собор был переполнен. В своем «слове» я старался внушить присутствующим бодрость и веру в победу: «Не бойтесь — мы победим! Не в силе Бог, а в правде. Будь только в сердцах верность!»
После молебна съезд открылся. Архиепископ Иероним, утомленный, скорбный, подавленный тяжестью событий, жаловался мне:
– Как мне все надоело! Каждый день телеграммы…
Съезд прошел в очень тревожном настроении, которое граничило с паникой, когда 14 мая пришла весть о Цусиме. Доклады делегатов свидетельствовали о грозной опасности: поляки торжествовали, в деревнях население обезумело, в семьях был ад… Вероисповедная распря переплеталась с национальной, экономическое воздействие с приемами открытого насилия. Таково было общее положение. Съезд выработал несколько постановлений. Я внес предложение — разослать проповедников, подобных о.Трачу, по епархии и убеждал собрание немедленно послать делегацию в Петербург, которая бы добилась аудиенции у Государя. Гнусным наветам католиков на Царя надо было положить конец. Делегаты–миряне должны были воочию убедиться в ложности слухов о его измене православию. В число делегатов выбрали меня, двух священников, матушку Екатерину и 6–7 крестьян.
В Петербурге я прежде всего направился к Победоносцеву.
– Слышал, слышал, ой–ой–ой… что у вас делается… — встретил меня Победоносцев.
– Почему нас не предупредили, что издадут закон о свободе вероисповедания? Я бы приготовил священство. Закон нас застал неподготовленными…
– Да–да–да… этого не предусмотрели. Но вас я приветствую. Вы ретивый, молодой, а то все спят…
– Я прошу содействия. Делегация хотела бы получить разрешение на аудиенцию у Государя.
– Аудиенцию?.. Зачем?
– Рассеять панику. В глухих деревнях ходят нелепые слухи…
Я рассказал Победоносцеву о том, что у нас творится. Он внимательно меня выслушал, но ничего не обещал и направил к Министру Внутренних дел Булыгину.
На прием к Министру я привез и мужиков–делегатов. Они ввалились в смазных сапогах, в кожухах; внесли в министерскую приемную крепкий мужицкий запах, а когда пришел момент представляться Министру — приветствовали его необычным в устах посетителей восклицанием: «Христос Воскресе!»
Булыгин промолчал…
Когда мы вышли из министерства, настроение у нас было подавленное. Мужики понурили головы и говорят: «Значит, верно: он тоже католиком стал — на «Христос Воскресе!» не ответил…» Я был рассержен неудачей. Лучше было бы к Министру делегатов и не водить…
Тем временем матушка Екатерина, пользуясь своими связями при дворе, хлопотала об аудиенции — и успешно. Через два дня пришло известие: Государь аудиенцию разрешил, но примет только меня и матушку Екатерину. Но как сказать это крестьянам? Что они подумают? Пришлось прилгать: «В Царское Село поедем вместе, но там я с матушкой Екатериной сядем в карету, а вы пешком за нами бегите».
В Царском нас ожидала карета с лакеем, а мы кричим мужикам: «За нами! за нами!» Они добежали до дворцовых ворот, но — дальше стража их не пропустила — потребовала пропуск. «Стойте, стойте здесь, ждите…» — говорит им матушка Екатерина.
Государь принял нас на «частном» приеме — в гостиной. Тут же находилась и Государыня. Я рассказал Государю о религиозной смуте, вызванной законом о свободе вероисповедания.
– Кто мог подумать! Такой прекрасный указ — и такие последствия… — со скорбью сказал Государь.
Государыня заплакала…
– С нами крестьяне… — сказала матушка Екатерина.
– Где же они? — спросил Государь.
– Их не пускают…
– Скажите адъютанту, чтобы их впустили.
Но адъютант впустить наших спутников отказался. Тогда Государь пошел сам отдать приказание.
– По долгу присяги я не имею права пускать лиц вне списка, — мотивировал адъютант свою непреклонность.
– Я приказываю, — сказал Государь.
Мужиков впустили. Шли они по гладкому паркету дворцовых зал неуверенной поступью («Як по стеклу шли», — рассказывали они потом), но все же громко стуча своими подкованными сапогами. Удивились, даже испугались, увидав у дверей арапов–скороходов. Не черти ли? Подошли, потрогали их: «Вы человик, чи ни?» Те стоят, улыбаются.
Распахнулась дверь — и мои мужики ввалились в гостиную.
– Христос Воскресе! — дружно воскликнули они.
– Воистину Воскресе, братцы! — ответил Государь.
Что сделалось с нашими делегатами! Они бросились к ногам Царя, целуют их, наперебой что–то лепечут, не знают, как свою радость и выразить… «Мы думали, что ты в католичество перешел… мы не знали… нас обманывали…»
– Да что вы… я вас в обиду не дам. Встаньте, будем разговаривать, — успокаивал их Государь.
Тут полились безудержные рассказы. Наболевшее сердце только этого мгновения и ждало, чтобы излить все, что накопилось. Говорили откровенно, горячо, в простоте сердечной не выбирая слов, каждый о том, что его наиболее волновало… Кто рассказывал, как «рыгу» ему спалили; кто рассказывал, как католический епископ ездит в сопровождении «казаков»… («Да вовсе они и не казаки, а так, знаешь…») Я слушаю и волнуюсь: в выражениях не стесняются, не вырвалось бы «крепкое словцо»…
Государь их обласкал, Государыня мне вручила коробку с крестиками для раздачи населению, — и аудиенция окончилась.
Когда вышли из дворца, один из мужиков спохватился: «Ах, забыл сказать Царю! Вчера вечером видел: солдат ночью с бабой идет… Экий непорядок у него в армии!» — «Хорошо, что позабыл…» — подумал я.
Аудиенция произвела на крестьян неизгладимое впечатление. Отныне они были моими главными «миссионерами». Стоило кому–нибудь сослаться на лживые брошюрки католиков, и побывавший у Царя делегат кричал: «Я сам Царя видел! Я сам во дворце был!»
В Петербурге в тот приезд многое меня неприятно удивило. Мы переживали войну как народное бедствие, оплакивали Порт–Артур, горевали по поводу каждой неудачи; весть о Цусиме была для нас тяжким потрясением. А в столице как будто ничего и не было… Мчатся коляски на острова, в них сидят разодетые дамы с офицерами… Неуместное, беспечное веселье! И это в самый–то разгар Японской войны! Этот разрыв между народом и высшими сферами показался мне даже жутким.
Остановился я у епископа Сергия [
[29]]. Мои настроения в его окружении отклика не встретили. Чувствовался либеральный оппозиционный дух, не сродный настроениям в Холмском крае. Меня слушали с оттенком иронии…
Лето 1905 года… Надвигалась революция. В народе и в войсковых частях сказывалось влияние революционной пропаганды. Замечались распущенность, дурная настроенность по отношению к властям. Наши холмские войска вернулись в то лето с фронта неспокойные, недовольные…
Я хотел поселиться на моей даче, а жандармский полковник предупреждает: «Без полицейской стражи нынче нельзя», — и пригнал стражников. Я там жил всегда в полной безопасности: все двери, бывало, у меня настежь, а теперь не то… — стража в саду в шалаше ночует. Как–то раз ночью близ дачи грянул выстрел. Один из солдат оказался ранен. Началось дознание. Стражник уверял, что произошел несчастный случай: ружье само выстрелило. Сам ли он себя поранил, или в него стреляли, так и не выяснилось. Я вернулся в Холм.
Портсмутский мир… Пережили мы его, как обиду, как оскорбление нашей великодержавности. На душе было тяжело…
Я непрерывно ездил по приходам. Приведу в порядок консисторские дела, переписку — и опять в путь–дорогу. Из экипажа не выходил. Мои объезды — не в похвалу себе говорю — имели нравственно–ободряющее значение. Народ меня полюбил, ко мне влекся, видел во мне опору и защиту.
Как–то раз между поездками, уже после Преображения, я отдыхал на даче, и вдруг мне подают пакет из Синода. Распечатываю — указ Святейшего Синода. Содержание его сводилось к следующему: ввиду религиозной борьбы в Западной крае Синод постановил выделить две губернии — Люблинскую и Седлецкую — в самостоятельную епархию с центром в г.Холме; епископу Евлогию быть самостоятельным епископом Люблинским и Седлецким, а архиепископу Иерониму отныне именоваться архиепископом Варшавским и Привислянским. Епархия Варшавского архиепископа тем самым сокращалась до 70–80 приходов, тогда как у меня оказывалось 330 приходов. Несоответствие размера территории (10 губерний у архиепископа Иеронима и 2 губернии у меня) и числа приходов объясняется тем, что огромное пространство Привислянского края, как я уже сказал, коренного православного населения не имело; в Седлецкой и Люблинской губерниях, наоборот, крестьянство в большинстве было православное. Судя по дате указа, мое назначение состоялось не без влияния того впечатления, которое я произвел в Петербурге. Я невольно привлек к себе внимание своими хлопотами о Холмщине, всем надоел просьбами, докладами: и Синоду, и Петербургскому митрополиту, и Обер–Прокурору. В столице поняли, что в столь тревожное время престарелому архиепископу Иерониму не справиться, а я, связанный зависимостью от Варшавского архиепископа, не могу в полной мере проявить свою инициативу.
По получении указа я поспешил в Варшаву — узнать о впечатлении от постановления Синода. Я боялся, что косвенный намек в указе на малоуспешность церковной деятельности владыки Иеронима мог его огорчить. Я его застал на даче. Он встретил меня благодушно.
– Слава Богу, слава Богу… — со вздохом облегчения приветствовал он меня. — Вы молодой, энергичный… Я очень рад, я не обижен, не думайте. Желаю успеха…
– Я останусь и впредь вашим послушником, — сказал я и попросил его приехать на годовой Холмский праздник. — Мы будем всей Холмщиной благодарить вас за попечения о нас, а вы благословите нас на самостоятельную жизнь.
Моему назначению архиепископ Иероним радовался искренно. Уже давно он пересылал мне все просьбы, донесения и просил лишь по мере надобности осведомлять его об общем положении дел. Приедешь, бывало, в Варшаву — он вздыхает: «Ах, вы неприятные вести привезли…» Все обошлось с владыкой Иеронимом безболезненно, и это меня успокоило.
Вскоре по получении мной указа навестил меня епископ Тихон (впоследствии Святейший Патриарх). Он приехал в отпуск из Америки, узнал в Петербурге о моем назначении и пожелал меня поздравить. Несколько дней он провел со мною; мы вместе служили. Для меня это был праздник, и не только для одного меня. Духовенство встретило его как родного. Он чувствовал себя в Холмщине, словно возвратился домой, — с таким радушием, с такой любовью все его приветствовали…
Приближался Холмский праздник. Официально должна была начаться самостоятельная жизнь новой епархии. Я впервые участвовал в торжестве как хозяин всей Холмщины.
Праздник прошел без подъема. Народу было меньше. Сказалось тревожное настроение надвигающейся революционной бури. Даже пущена была злостная молва, что в Холме будет резня; другие говорили, что там появилась холера и народ не пускают… Но все же было торжественно. Прибыли архиепископ Иероним, епископ Антоний (Храповицкий), Гродненский епископ; приехал представитель Синода и Обер–Прокурора — директор хозяйственного управления Петр Иванович Остроумов. Я сделал все, чтобы на празднике архиепископу Иерониму были оказаны все знаки почитания.
После торжества началась опять деловая жизнь. В Холме и Варшаве открылись епархиальные съезды. Выделение новой епархии требовало размежевания епархиальных финансов. Каждая епархия имела свой денежный фонд, который составлялся из процентов, отчисляемых священниками из доходов и жалованья. Получался большой капитал. Теперь его надо было разделить. Поднялся спор, каким принципом руководиться: по числу ли приходов, или принимая в расчет, кто сколько внес? Варшавский съезд высказался за число приходов и нас убедил в правильности своего решения. Я не очень вмешивался в спор. Члены Съезда исписали кучу бумаг и капитал поделили. Соответствующие документы были посланы в Синод, и Епархиальное управление Холмщины окончательно отделилось от Варшавы.
Глава 11. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ЕПИСКОП (1905–1906)
Вскоре после Холмского праздника волны революции, которые бушевали уже по всей России, докатились и до нас. Появились зловещие признаки. Не слышно больше в городе паровозных свистков: забастовала железная дорога. Служу всенощную — потухло электричество: прекратила работу электрическая станция. А далее быстро стали нарастать события. Добежала до нас весть о погромах в Седлеце, в Белостоке… — — весть страшная, угрожающая поджечь и у нас темные страсти. Холм полон пороху — много учащейся молодежи и состав ее смешанный: евреи, поляки, русские; в те дни всеобщего возбуждения национальное чувство у всех обострилось, атмосфера накалилась…
Еврейское население направило ко мне делегацию.
–- Используйте ваше влияние, помогите, чтобы погрома не было, — — просили меня делегаты.
— — Дайте слово, что ваша еврейская молодежь не выйдет на улицу, — — сказал я.
Условие было выполнено, и погрома у нас не было. Впоследствии, когда я покидал Холмскую кафедру, эта же делегация в благодарность за мое вмешательство поднесла мне Библию (Ветхий Завет) на пергаменте, с серебряными крышками.
22 октября, через пять дней после обнародования манифеста, по окончании обедни собрались у меня к чаю несколько человек гостей. День был ненастный. Ветер, дождь, слякоть. И вот из окон вдруг видим –- шествие: манифестация учащейся молодежи… Ученики железнодорожного училища, воспитанники учительской семинарии, гимназисты окружили кольцом гимназисток, в коричневых платьях и черных фартучках, и шествуют по грязной улице, а сбоку идет «страж уезда» -– уездный начальник…
Потом выяснилось, что кучка юных демонстрантов ходила с раннего утра от одного учебного заведения к другому, устраивала перед ними летучие митинги; агитаторы произносили зажигательные противоправительственные речи, убеждая товарищей присоединяться к демонстрации. В женском училище они не ограничились речами, а перешли в наступление: отпихнули начальницу, которая не хотела их пропускать в здание, и бросились в дортуары; согнали перепуганных учениц, поставили в ряды и повлекли на манифестацию. Из гимназии прошли к духовному училищу. Смотритель детвору отстоял: «Нашли кого звать! Ведь еще клопы… Что они понимают!» Тогда толпа направилась к духовной семинарии. Тут ее встретил решительный отпор. Семинаристы с криком «Жидовские прихвостни!» плевали из окон на манифестантов. Семинария была по духу «правая» (ректором ее был архимандрит Дионисий [
[30]]) и явила пример преданности существующему государственному порядку. Будь это во Владимире, семинаристы пошли бы впереди толпы.
Демонстранты шатались по городу весь день. Проморили и до слез утомили бедных гимназисток, сами продрогли и к вечеру, грязные и голодные, стали расходиться. Тем дело и кончилось.
На следующий день я приехал в семинарию и похвалил воспитанников. «На окрайнах надо твердо держаться своего национального монархического знамени, — сказал я, — но удержитесь и от другой, «своей», демонстрации. В городе стоят полки, вчерашняя манифестация могла оскорбить их патриотическое чувство — может быть взрыв, надо быть благоразумными».
Действительно, на следующий день поднялась обратная волна. Опять шли какие–то школы, отставные старички–военные… Толпа несла портрет Государя и пела «Боже, Царя храни!». Однако все прошло мирно, без инцидентов. Внешне революционная стихия как будто затихла, но пламя ее не погасло. Поднялись поляки со своими польскими запросами, русские — со своими, и началась борьба.
Русское население Холмщины привыкло опираться на правительственную власть и теперь тоже рассчитывало на ее защиту, но местные власти растерялись, а в Варшаве, административном нашем центре, не было проявлено ни мужества, ни инициативы. В Польском крае революция проявилась бурно. В Варшаве было массовое избиение стражников. В университете возникли серьезные беспорядки. Еврейский погром в Седлеце носил характер жестокой расправы. Начали стрелять евреи, тогда нарвские гусары учинили нечто невероятное. По уставу полка, офицеры — их было до 50 человек — не имели права жениться, только командир был женатый. Можно себе представить, до какой распущенности дошли в обстановке погрома холостяки без узды… Вообще положение создалось в привислянских губерниях тревожное, представителей власти пугающее. Генерал–губернатор Скалон укрылся в крепости, другие начальствующие лица бездействовали. Правительственный корабль точно потерял направление.
Я собрал Совет Холмского Братства и сказал горячую речь — призывал действовать, а не сидеть сложа руки. Было постановлено издать брошюру, чтобы успокоить народ и убедить его крепко отстаивать национальные русские начала, держаться существующих государственных устоев…
По всем губерниям России уже шли подготовительные работы к I Государственной думе. Холмщина своей курии не имела. Она входила в состав административного управления Привислянского края, и проект 60–х годов о выделении ее в отдельную губернию, который раза два–три выдвигали русские патриоты, систематически погребали правительственные канцелярии то в Варшаве, то (при Победоносцеве) в Петербурге. Значения проекта никто не хотел понять. Для правительственных инстанций дело шло просто о видоизменении черты на географической карте России. Между тем проект отвечал самым насущным потребностям холмского народа, он защищал от полонизации вкрапленное в административный округ Польши русское население, отнимал право рассматривать Холмщину как часть Польского края. Русские патриоты понимали, что выделение Холмщины в отдельную губернию было бы административной реформой огромного психологического значения. Однако проект встречал оппозицию даже в лице варшавского генерал–губернатора. Он видел в нем проявление недоверия к мощи и нравственному авторитету его власти. Так рассуждали и другие противники холмской административной самостоятельности. Объяснялось это полным незнанием народной жизни. Так, например, когда я по должности викарного епископа был в Варшаве с визитом у генерал–губернатора Максимовича, он с удивлением спросил меня: «А что такое Холмщина? Это Холмский уезд?» У него не было самого элементарного понятия об области, входившей в состав подчиненных ему губерний. Где ж ему было знать многовековую историю многострадального холмского народа! Он приказал принести географическую карту, и я должен был ему указать пределы Холмщины.
После заседания Совета Холмского Братства, созванного мною в те бурные дни, специальная его комиссия стала работать над вышеуказанным законопроектом, а потом было решено отправить в Петербург делегацию со мною во главе. Поначалу мы на Государственную думу не рассчитывали, а надеялись добиться проведения законопроекта в административном порядке. Однако поездку пришлось отложить: 2 ноября (1905г.) скончался владыка Иероним. Мне надо было присутствовать на похоронах.
От Холма до Варшавы езды часов 8–9 по прямой линии. Ввиду забастовок я ехал почти сутки, окольными путями, с долгими остановками на передаточных станциях.
Тело архиепископа Иеронима покоилось уже в гробу в большом зале архиерейского дома. На панихиды съезжалась вся официальная Варшава. Настроение в городе было тревожное. Председатель Судебной палаты Постников сказал мне: «Мои присяжные поверенные сегодня шелковые…» — «Почему?» — «Говорят, Вильгельм стягивает под Калишем войска, поэтому дан лозунг: лояльность русским властям». (Немцев боялись.) Генерал–губернатор предупредил меня, что в городе неспокойно и на похоронах придется это учитывать. Я сказал, что я сам поведу похоронную процессию через всю Варшаву на кладбище и пойду с посохом впереди колесницы. Меня стали отговаривать, но я был молодой, упорный, и стоял на своем. Генерал–губернатор встревожился: «Я пришлю гродненских гусар и казаков, чтобы вас охранять…»
На погребение от Синода был командирован архиепископ Виленский Никандр. Отпевание длилось долго, часа три. Я служил в серебряных ризах, которые мне подарили дети покойного. По окончании богослужения, не раздеваясь, я выступил в поход. Архиепископ Никандр следовал в карете. Процессия достигла кладбища уже в сумерки. Из духовенства дошло лишь человек пять–шесть (а их было около двадцати), остальные незаметно ускользнули в переулки, успевали переоблачиться и на извозчиках вовремя прибыть на кладбище.
У архиепископа Иеронима был выстроен прекрасный храм–склеп. Там была могила его сына. В этом же склепе мы и его похоронили. Начался разъезд. Карет было так много, что образовалась длиннейшая вереница. Я ехал вместе с архиепископом Никандром. Шел дождь, было холодно, в запотелые окна ничего не видно. Вдруг на пути мы остановились. Келейник объяснил, что задержка у полотна железной дороги: надо поезд пропустить. Я очень устал и на это обстоятельство не обратил никакого внимания.
В архиерейском доме был приготовлен пышный поминальный обед. Среди присутствующих чувствовалось какое–то смятение. Что случилось? Оказалось, что в одну из первых карет, в которой ехали два протоиерея, была брошена бомба. К счастью, она не взорвалась — скатилась в углубление для стока воды, но стекла кареты разлетелись вдребезги. Нас сопровождали гусары и казаки. Они набросились на дом, откуда бомба была брошена, изрешетили его пулями. Двоих преступников арестовали. Дальнейшую судьбу их я не знаю. Я был возмущен. Даже мирную процессию и ту не пожалели! На обеде я смело высказался, горячо говорил об отеческом, попечительном отношении покойного владыки к духовенству и народу, которое заслуживало большей любви и ревности, чем это было проявлено сегодня… Я видел, как некоторые духовные лица дорогой ускользали… Один протоирей мне ответил: «Покойник нас понял бы, а вот молодой нас не понимает».
После похорон недели две мне пришлось прожить в Варшаве. Пришел указ Святейшего Синода: впредь до назначения нового архиепископа я должен управлять одновременно и Варшавской, и Холмской епархиями. Епископ Никандр уехал в Вильно. Я жил в архиерейском доме. Члены консистории моим пребыванием в Варшаве не очень были довольны. Поводом к неудовольствию послужило следующее обстоятельство:
«17 октября» всколыхнуло всю Россию. Реформа государственного устройства повлекла за собой и проект реформы Церкви. Записка графа Витте была знаменательным событием. Он внес ее на рассмотрение особого комитета под председательством Петербургского митрополита Антония, в который вошли виднейшие государственно–административные лица. В своих работах совещание должно было учитывать тревожное предостережение, запечатленное крылатым словом «Русская Церковь в параличе». Совещанию предстояло обсудить преобразования в церковном управлении, а также вопрос о созыве Церковного Собора и о патриаршестве. Тут возник конфликт между Победоносцевым и Саблером. Победоносцев не сочувствовал обновлению государственного и церковного строя. Поборник абсолютизма, он не скрывал своего неудовольствия. На совещание не поехал — прислал Саблера: когда у него возникали трения с кем–нибудь из архиереев, обычно их улаживал Саблер. Так было, когда Победоносцев поссорился с митрополитом Палладием. Саблер уладил конфликт с помощью спокойного и мудрого Финляндского архиепископа Антония [
[31]], которого томило, как и многих иерархов, засилие бюрократизма в Церкви; он поддерживал с Саблером добрые отношения. Архиепископ Антоний как–то раз откровенно сказал ему: «Знаете, Владимир Карлович, мы вас любим, но у нас камень за пазухой против засилия Обер–Прокурора». Саблер отшутился: «Я не знал, что сердце владык — каменоломня…»
На радость всем членам совещания и самого Витте Саблер согласился со всеми проектами церковных преобразований. В воздухе точно повеяло весной… Расцвела надежда на новую эру в русской церковной жизни. Было постановлено представить через митрополита Антония заключение совещания Государю. Победоносцев был вне себя. Он написал Царю конфиденциальное письмо, резко высказался против патриаршества, пугал, умолял отклонить резолюцию совещания. Саблер был уволен в отставку без ордена и рескрипта. Вскоре покинул пост Обер–Прокурора и Победоносцев. После его отставки я получил от него нежное письмо. Помню некоторые его фразы: «Положение сделалось невыносимым… В среде самой Церкви появились волки, которые не щадят овец. Настала година темная и власть тьмы, и я ухожу… Вас же поручаю Богу и Духу благодати…» Победоносцев не доверял русской иерархии (и вообще мало кому доверял), не уважал ее и признавал лишь внешнюю государственную силу.
Когда зашла речь о реформе Церкви, в Петербурге нашли нужным запросить епархиальных архиереев, дабы они высказались, какие следует отменить непорядки в церковной жизни и какие, по их мнению, нужны преобразования. Я был тогда в Варшаве и обратился к секретарю консистории, чтобы узнать, было ли что–нибудь сделано в этом направлении до меня. «Владыка Иероним болел, ему было не до этого. Он предоставил нам полную свободу в этой работе. Вот, что мы написали…» — доложил секретарь. Написанное я просмотрел. Оказалось, сделано было мало… Своего недоумения я не скрыл, отметил на донесении, что в составлении этого проекта я не участвовал, а представляю его лишь по должности заместителя. Покончив с консисторией, я уехал в Холм. Консистория была мною весьма недовольна. В Варшаву назначили Таврического епископа Николая.
Рождество я провел у себя в Холме.
В один из мрачных зимних вечеров, в конце этого года (1905 г.), приехал ко мне молодой священник, по фамилии Безкишкин. Он был в таком потрясенном душевном состоянии, что я не знал, как его и успокоить. Ему пришлось присутствовать при казни невинного человека, и с этой вопиющей несправедливостью он примириться не мог. В ту зиму у нас было введено военное положение, тем самым все уголовные дела переходили в ведение военного суда, причем приговоры приводились в исполнение в двадцать четыре часа. В пограничном городе Томашеве убили еврея. Подозрение пало на солдата. Суд приговорил его к смертной казни. Старенький священник от обязанности напутствовать Святыми Тайнами смертника уклонился и послал молодого помощника, недавно окончившего нашу семинарию. Когда–то он был там моим жезлоносцем. Это был красивый мальчик с чудным голосом. Товарищи считали его моим любимчиком и всячески его травили; довели его до того, что он пытался выброситься из окна. Я строго наказал тогда двух–трех мальчиков, и его оставили в покое, но от меня он с той поры отдалился. Едва прошел год после рукоположения в священники, как пришлось ему вести человека на казнь… На исповеди он узнал, что солдат не виновен. Как примирить невиновную душу с вопиющей несправедливостью? Дорогой от города к урочищу, где солдата должны были расстрелять, он рассказывал ему о жизни Христа. Пережитое душевное потрясение оставило в священнике след неизгладимый: он озлобился, встал в оппозицию к духовному начальству. На предвыборном собрании во II Государственную думу он выступил против меня и был моим конкурентом. «Разве вас может понять архиерей? Разве у вас есть общее с человеком в хоромах?!» — восклицал он, обращаясь к избирателям. Впоследствии я навязал его преосвященному Платону в Америку. Простился он со мною миролюбиво. Перед отъездом подарил мне дешевенькую панагию: «Хочу, чтобы вы меня вспоминали». Кажется, в Америке он умер. Если б не надрыв в первый год священства, изломавший душу, он мог бы быть прекрасным священником.
После святок я отправился в Варшаву сдавать должность новоназначенному епископу Николаю; оттуда мне надо было ехать в Петербург с нашим проектом о выделении Холмщины в отдельную губернию.
Генерал–губернатор Скалон отнесся к проекту недоброжелательно, видел в нем личную обиду: «Я ведь всегда иду вам навстречу…» Я ссылался на историю нашего края, особую народную психологию, особые пути и задачи: «Я желаю Польше самоуправления, однако и Холмщине надо оберегать свою самобытность. Ее надо по–новому очертить, отделив от Польши…» — убеждал я Скалона. Он стоял на своем. «Я буду с вами спорить», — сказал он.
В Петербург я приехал зимним утром. На вокзале меня встретил благочинный Лавры и ожидала карета митрополита. Это были дни московского восстания, бурных заседаний петербургского Совета рабочих депутатов, выступлений Хрусталева–Носаря и т. д.
В столице я пробыл долго — протискивал наш проект в правительственных кругах. Побывал и у Председателя Совета Министров Витте, и у Министра Внутренних дел Столыпина. Витте принял меня нелюбезно, сидя в небрежной позе с сигарой во рту. Думаю, этот оттенок небрежности он придал приему не без нарочитости.
– Выделение Холмщины… да что это такое — «Холмщина»? Какое это имеет значение? Я скажу, чтобы рассмотрели…
Столыпин сразу понял важное национальное значение проекта и обещал рассмотреть его в совещании в моем присутствии. Проект он передал своему Товарищу Крыжановскому, который образовал комиссию под своим председательством для рассмотрения нашей записки. В Петербург был вызван управляющий канцелярией варшавского генерал–губернатора Ячевский, умница, тонкий человек, но мой ярый враг. Выписали люблинского и седлецкого губернаторов. Приехал и Скалон. Заседания шли недели две–три. Всего было четыре–пять заседаний. Члены комиссии горячо спорили. В сущности, никто, кроме Ячевского, в курсе дела не был. На последнем заседании Скалон хотел сделать решительный натиск. Были торжественно разложены географические карты, этнографические и вероисповедные атласы с обозначением по уездам процентного соотношения русских и поляков, православных и католиков. Скалон начал важно критиковать записку, но через пять минут запутался, и, если бы не Ячевский, который поспешил ему на, помощь, он очутился бы в весьма жалком положении. Меня поддерживал Крыжановский (племянник матери Афанасии, игуменьи Радочницкого монастыря). В конце концов поручили Министру Внутренних дел разработать законопроект и представить его на одобрение Государя. Проект залежался. Его пришлось проводить уже в III Государственной думе.
Выборы в I Государственную думу дали от Привислянского края сплошь поляков. Мы написали новую записку о даровании полмиллионному православному его населению хоть одного представителя. К нам присоединилось и русское население г.Варшавы: в городе было много русских торговцев и чиновников, и им тоже хотелось иметь своего представителя. На этот раз в Петербург я не ездил. Записка была послана.
Летом 1906 года бурную I Государственную думу распустили. Своими революционными речами она поджигала всю страну. После роспуска пришла бумага: нам и г.Варшаве разрешили иметь по одному представителю. Мы приободрились и стали готовиться к выборам.
Наш избранник был особенный: его избирало только православное население Люблинской и Седлецкой губерний, иначе говоря, Холмский край. Порядок выборов у нас был такой: сначала избирались уполномоченные от приходов; они съезжались на уездное собрание и выбирали своего представителя в Холмское избирательное собрание, которое и выбирало депутата в Государственную думу. Я был выбран от Холма и оказался в числе членов Холмского избирательного собрания. Выборы состоялись в Холме, в зале Холмского Братства. Председатель Люблинского суда руководил избирательным собранием.
На предвыборном совещании выяснилось, что большинство считает желанным кандидатом меня. Я пережил мучительные дни. Тревожили сомнения, как мне поступить: оставаться ли дома и работать по–прежнему в тесной связи с приходами — или лучше на пять лет покинуть Холмщину, но зато находиться в Петербурге, когда будут решаться главные жизненные вопросы нашего края? Я был в смущении и кандидатуру свою отклонял: «Мне трудно. Я не привык к политической деятельности, да и сан мой мешает… Толку не будет… Неужели вам будет приятно, когда вашего архиерея политические противники будут обливать грязью?» Мою нерешительность победил один волостной старшина («войт»). Он сказал: «Владыка, Христос ни о чем не думал, когда пошел на крест за людей, а вы образ Его носите…» Его слова меня поразили. Из 40 голосов за меня было подано 38 — и я был выбран депутатом.
На душу легла огромная тяжесть. I Дума уже показала, что стоять на правых позициях, быть монархистом, нелегко…
Выборы закончились недели за две–три до открытия II Государственной думы, которое состоялось 20 февраля 1907 года. Надо было успеть собраться, дать распоряжения: какие дела надлежит посылать мне, какие решать дома, каковы будут полномочия моего заместителя и проч. Одновременно начали меня чествовать. Со всех сторон — телеграммы, поздравления… Эти почести меня не очень радовали.
Уезжал я в воскресенье. Служил взволнованный, бледный, как полотно. В прощальном «слове» просил молитв паствы, а Холмское Братство просил снабжать меня сведениями, документами и поддерживать и дальше наше живое взаимное общение. Потом был напутственный молебен. В храме чувствовался общий подъем.
Ехал я в салон–вагоне. На каждой станции меня встречал народ, неведомо какими путями узнавший о моем проезде. Иконы, хоругви, крестные ходы, священники, подношения «хлеба–соли», вручение мне петиций… И так через всю Холмщину. Была зима, мороз… Всюду мне приходилось говорить. Под конец я совсем охрип. В Бресте — центральной узловой станции — зал был переполнен народом. Ораторы из толпы приветствовали меня. И вновь посыпались петиции.
В Петербурге я все петиции прочитал, во всех разобрался. В них были изложены и жалобы, и просьбы. Основная тема — наболевший аграрный вопрос. Я понял, что это жгучая боль народа и что на меня холмским населением возложены большие упования. Я должен для всех добиться чаемых реальных благ. Так поняло население роль депутата.
Глава 12. ЧЛЕН II ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ (1907)
В Петербург я приехал сереньким февральским утром. В городе чувствовалось тревожное настроение, на улицах встречались патрули… На вокзале меня ожидал эконом и в митрополичьей карете доставил в Лавру. Здесь было мне приготовлено помещение. (Митрополит дал распоряжение и относительно моего довольствия.)
Митрополит Антоний встретил меня любезно, ласково и пригласил сопровождать его на молебствие перед открытием Государственной думы.
Помню этот первый мой приезд в Таврический дворец.
Великолепное старинное здание. Огромный Екатерининский зал с иконой святителя Николая, вделанной в стене; перед нею уже все приготовлено для молебна. В зале большое оживление — всюду снуют депутаты… Сослужили митрополиту члены Думы: ректор Киевской Духовной Академии епископ Платон, впоследствии митрополит Американский, я и несколько священников. Около нас сгруппировались члены правительства во главе с П.А.Столыпиным и депутаты: священники и крестьяне. Остальные члены Думы не только не присоединились к молящимся, но вели себя так непринужденно, что можно было подумать — они нас не видят и не слышат. По зале продолжали сновать люди, кто–то, хлопая дверями, пробегал с бумагами в канцелярии, слышались разговоры; в конце зала, кажется, даже курили… Молебен прошел без подъема. Чувствовалось, что для большинства он лишь неизбежная формальность; благословения Божия на предстоящий труд как будто никто не искал; молился со слезами только один старичок крестьянин. По окончании молебствия митрополит уехал, а мы направились в зал заседаний. Епископ Платон и я заняли места на правых скамьях.
По своим политическим убеждениям я был монархист. Поначалу «умеренный» (группа «у.п.» — «упокойники», как ее называли), я потом примкнул к группе монархистов–националистов. Монархические убеждения сложились у меня органически под влиянием ряда условий и обстоятельств моей жизни.
Я получил в моей семье церковное воспитание. Отец, согласно церковной традиции, видел в царе Божьего помазанника и к «властям предержащим» относился с большим почитанием. В семинарии ко мне не привилось противоправительственное настроение некоторых моих сверстников. Помню, когда в Тулу (я был тогда в 4–м классе) приехал Император Александр III, я не мог смотреть на него без волнения: народнические мои симпатии из меня оппозиционера не делали. Неправда социальной жизни меня удручала, мне хотелось народу служить, ему помочь, но активного протеста она во мне не вызывала. В студенческие годы на мне, как и на всей молодежи, был налет интеллигентского либерализма — я увлекался «Вестником Европы», читал «Русские Ведомости», но глубокого влияния их идеи на меня не оказывали. В пору педагогической моей работы я сознавал всю ответственность за судьбу вверенной мне молодежи и направлял ее по историческому религиозно–патриотическому пути. Моя юность и молодые годы прошли в этом отношении ровно, без потрясений, а когда настало время политической борьбы, оказалось, что монархическая партия наиболее отвечает опыту моей службы на русской окраине. Холмщина была ареной столкновений национальных чувств — русских и поляков; борьба сил была не всегда для нас победная. Местное чиновничество ладило с польскими помещиками и в быту даже от них несколько зависело. Опоры приходилось искать не в местных властях, а в центре, в мощи русского государства, которую самодержавие и символизировало и проявляло в неограниченности своих державных прав и законодательных возможностей. Честь России и ее национальное достоинство могла защищать и фактически защищала в то время на наших окраинах лишь монархическая идеология.
Появление епископа Платона и меня в зале заседаний не прошло незамеченным. Мы стали предметом любопытных взглядов, иронических улыбок. Откуда–то донесся громкий шепот: «А рясы–то шелковые…» Мы были в клобуках. Митрополит Антоний сказал мне, чтобы я всегда в Думе был в клобуке и не надевал шляпы даже на улице при переездах в Таврический дворец.
Первое мое впечатление от Государственной думы — пестрота состава депутатов. Россия была представлена во всем своем этнографическом многообразии: живописные халаты инородцев, чалмы, тюбетейки, мужицкие армяки… Впоследствии было любопытно наблюдать, как мусульмане в положенное время покидают заседание и молятся в Екатерининском зале, сидя в углу на корточках и сопровождая моление ритмическими телодвижениями. Журналисты и депутаты посмеивались над ними, покуривая папиросы, но во мне это исповедание своих религиозных убеждений вызывало уважение.
По образованию состав думцев был тоже весьма пестрый: были среди них люди высокообразованные — профессора, ученые, но были и безграмотные крестьяне, которые после присяги расписались на листе крестиками. Невольно возникло недоумение: как они могут участвовать в думской работе? Как им понять сложные политические речи?
Еще пестрее оказались политические убеждения. Многоцветная гамма политического спектра: от монархистов до социал–демократов. Правые, умеренные, националисты, октябристы, прибалтийская группа, польское коло, мусульмане, мирно–обновленцы (прогрессисты), кадеты, трудовики, социал–революционеры, социал–демократы. Из всех самой значительной фракцией по влиянию на русское общество, по соответствию своей программы чаяниям широких его кругов, по отличному подбору лидеров — были кадеты. Фракция включала таких лиц, как Маклаков, Пергамент, Родичев, Тесленко, Шингарев.
Открытие Государственной думы состоялось 20 февраля. Открыл ее сенатор действительный тайный советник Голубев (Товарищ Председателя Государственного совета), важный старец, похожий на римского сенатора. Он прочитал Высочайшее повеление скрипучим голосом и приступил к выбору Председателя.
Мы, правые, и часть беспартийных (нас было всего человек девяносто) хотели провести Хомякова, но наше намерение было заведомо обречено на неудачу. В Председатели прошел Федор Александрович Головин, депутат от Московской губернии (Председатель Московской губернской земской управы), человек во всех отношениях ничем не выдающийся. Он поблагодарил Думу за избрание и в своей речи подчеркнул, что II Дума — преемница I Думы — должна продолжать начатое дело, следовать ее заветам; однако у II Думы есть и свое задание — укреплять конституцию, т. е. проводить «в жизнь волю и мысль народа в единении Думы с Монархом…». Головину жиденько похлопали — этим первое заседание и закончилось.
В ближайшие дни (23 и 24 февраля) были выбраны Президиум и Секретариат. Главные посты получили кадеты. Мы, правые, не смогли провести ни одного из наших кандидатов.
Прежде чем приступить к работе, Государственной думе предстояло выслушать правительственную декларацию. Она была назначена на 2 марта, но произошло событие, которое этому помешало. В ночь на 2 марта случилась катастрофа — в зале заседаний рухнул потолок… Когда я утром приехал, я увидал на наших местах груды штукатурки. Этот недосмотр архитекторов вызвал в депутатах бурю негодования. А депутаты–крестьяне от радости, что избегли смертельной опасности, просили меня отслужить для них благодарственный молебен. Для заседаний был спешно приспособлен другой зал Таврического дворца — и загремели зажигательные речи… Обвал потолка дал повод для возмущения деятельностью правительства, а в катастрофе готовы были видеть чуть ли не злой умысел.
«Граждане депутаты! Когда я пришел сюда, я нисколько не удивился известию о том, что обвалился потолок над местами, где должны были заседать народные представители. Я уверен, что потолки крепче всего в министерствах, в Департаменте полиции и в других учреждениях», — кричал с трибуны Григорий Александрович Алексинский (социал–демократ). (Шум. Аплодисменты.)
Правда, некоторые ораторы приводили и благоразумные доводы: правительство не виновато, был лишь недосмотр и т. д.; но они явно противоречили возбужденному настроению левых депутатов.
Вскоре заседания Думы были перенесены в зал Дворянского собрания — огромный зал с великолепными хрустальными люстрами, с диванами, обитыми красным бархатом. Здесь 6 марта Столыпин и прочел свою декларацию.
Накануне этого памятного дня к подъезду, где помещалась моя скромная квартирка, подъехала карета с ливрейным лакеем, и мне доложили, что меня хочет видеть О.Б.Столыпина, супруга Председателя Совета Министров. Встревоженная предстоящим выступлением мужа, она приехала ко мне. «Прошу вас помолиться… Я тоже буду в Думе мысленно за него молиться, мне будет легче, если я буду знать, что и вы молитесь за него в эти минуты».
Мое знакомство с семьей Столыпина возникло благодаря матери Елене, игуменье Красностокского монастыря (Гродненской губернии). Столыпин был гродненским губернатором, и семья его дружила с матерью Еленой, которая, приезжая в Петербург, всегда у них останавливалась. Этим и объясняется приезд ко мне О.Б.Столыпиной.
Программная речь П.А.Столыпина возвещала Государственной думе разнообразные либеральные реформы во многих областях государственной и социальной жизни страны. Единодушно восторженного приема Дума ей не оказала. Думское большинство встретило декларацию молчанием (не доверяя правительству, которое распустило I Государственную думу), зато на правых скамьях она вызвала бурю аплодисментов, а крайняя левая (социал–демократ Церетелли, а потом и др.) тотчас яростно обрушилась и на декларацию, и на правительство. Революционные, митинговые речи… Чувствовалось, что думской трибуной пользуются как средством для всенародной агитации.
Мы, правые, старались защищать правительство и с этой целью сочли уместным не говорить по поводу декларации, а обличать его противников — их террористические методы революционной борьбы, — а также возражать на речи того или иного из ораторов.
Так, например, я возражал левому депутату Хасанову (мусульманин Уфимской губернии), депутату Алексинскому (социал–демократ). В атмосфере всеобщего возбуждения я произнес мою первую речь. Никогда еще мне не приходилось говорить во многолюдном, разъяренном политическими страстями собрании, я привык говорить в храмах — и теперь очень волновался: сердце билось, во рту пересохло…
«Я не буду подробно возражать тому члену Государственной думы, который, не будучи сам христианином, трактовал здесь о Христе и его учении, — начал я, — а я скажу ему только, что, конечно, Господь Иисус Христос отрицал смертную казнь и убийство, но убийство и с той и с другой стороны — всякое убийство, всякую кровь. Но тот Христос, который запрещал убийство, говорил и другие слова: «Не бойтесь убивающих тело, а бойтесь тех, кто и тело и душу может погубить…» Я хочу напомнить Алексинскому и всем сынам Церкви Православной, что Православная Церковь никогда не была врагом русского народа, что она вскормила, взлелеяла этот народ как любящая мать, что она ему мать родная, что она всегда несла этому народу не злобу, не вражду, а чувство любви, милости и сострадания».
Наши усилия защитить правительство ни к чему не привели. Большинство Думы своим внушительным молчанием заявляло о своем нежелании декларацию обсуждать, а революционная «левая», казалось, сумела декларацию «сорвать» и правительство дискредитировать. К концу заседания положение для Столыпина создалось безвыходное… Но тут произошло совсем неожиданное.
Никто не думал, что Столыпин выступит в тот день вторично, но он вдруг попросил слова и произнес ту блестящую речь, которая потом облетела всю Россию. В ней он давал понять, что путь сближения правительства и Государственной думы найти возможно и найти надо; он объяснял исключительно государственной необходимостью суровые мероприятия против революционного движения, и из дальнейших слов можно было заключить, что сам он — верный сторонник конституционного порядка; что он призывает Думу к сближению, взаимопониманию, к сотрудничеству с правительством на основах конституции. Но нет общего языка и не может быть сотрудничества с теми, кто стоит на позиции революционной борьбы с правительственной властью. И Столыпин закончил свою речь памятной отповедью левым революционным противникам:
– …Нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли и мысли, все они сводятся к двум словам, обращенным к власти: «Руки вверх!» На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить только двумя словами: «Не запугаете!»
Эти знаменитые два слова «не запугаете!» отразили подлинное настроение Столыпина. Он держался с большим достоинством и мужеством. Его искренняя прекрасная речь произвела в Думе сильное, благоприятное впечатление. Несомненно, в этот день он одержал большую правительственную победу. После заседания, как я узнал, он с супругою отправились пешком в Казанский собор служить благодарственный молебен.
12 марта началось обсуждение законопроекта об отмене военно–полевых судов, в сущности, начались дебаты о смертной казни — о наболевшем, всю страну волнующем…
Накаленная атмосфера всеобщего возбуждения… Тон речей митинговый. Один из ораторов, священник Тихвинский, не говорил, а, вернее, кричал с трибуны:
«…Смертная казнь, господа, это страшная, это ужасная, это нечеловеческая месть! — и далее, обращаясь к нам, двум епископам (епископу Платону и ко мне): — Святители Божии, выйдите сюда на эту общественную трибуну и заявите, что смертная казнь противна Христу. Пусть никто не смеет оправдывать ее именем кроткого Спасителя… Господа, лучше быть судимым за милость, чем оправданным за жестокость…»
Я встал и попросил слова вне очереди. Отовсюду слышались возгласы: «Просим! Просим!»
«Господа члены Государственной думы, здесь священник бросил вызов нам, его архипастырям и епископам, — начал я. — Этот вызов был поддержан очевидным сочувствием очень многих из вас… Что я скажу вам? Здесь так ярко, так красноречиво, так убедительно перед нами нарисована была картина ужасов от полевых судов и неразрывной с ними смертной казни, что едва ли придется что прибавить. Разве можно это отрицать? Действительно, всякая смертная казнь, всякое известие о расстреле полевым судом всегда леденит сердце и наполняет его ужасом. Я уже имел честь с этой высокой трибуны заявить, что с христианской точки зрения никакая смертная казнь, никакое насильственное отнятие жизни, никакое пролитие крови не может быть допустимо, не может быть одобрено (аплодисменты), в этом не может быть никакого сомнения. Если бы мы были истинными христианами, если бы наше общество было действительно христианским, то, конечно, никакой смертной казни не было бы… Мне только казалось, что чего–то не договаривают. Зачем также не осуждают пролитие крови с другой стороны? Почтенные члены Государственной думы, с христианской точки зрения нет разницы между убийствами. Повторяю, всякое убийство одинаково преступно, одинаково позорно для христиан со строго христианской точки зрения… Вот что я могу только сказать как представитель Русской Православной Церкви и думаю, что правильно понимаю слова Божественного Учителя — Спасителя… Здесь говорили, что военно–полевые суды расшатывают самую основу государственности. Позвольте же мне сказать от всего сердца, что террористические убийства, которые несет революция, точно так же расшатывают основу государственности, основу всякого права… Я об одном вас прошу: будьте последовательны, будьте искренни, вынесите отсюда, с этой трибуны, осуждение другим террористическим актам, которые не менее ужасны, пожалейте наш русский народ, который также от этих актов весьма стонет и тяжко страдает. Я думаю, если бы Государственная дума своим высоким авторитетом высказала свое порицание этим актам, тогда не было бы надобности и в военно–полевых судах. Вот все, что я хотел сказать».
В новую мою деятельность я вошел не сразу, а втягивался в нее постепенно. Знакомился с работами в комиссиях. Я записался в три комиссии: вероисповедную, народного образования и аграрную. Комиссий было много. Члены их избирались по фракциям, пропорционально их численному составу. В комиссиях лишь члены их имели право голоса, а присутствовать на заседаниях могли все. Аграрная комиссия собирала чуть ли не половину думцев, настолько всех волновал земельный вопрос. Вероисповедная комиссия и народного образования работали слабо.
В комиссии по проверке депутатских полномочий у меня возникло столкновение с поляками. Они хотели опорочить мое избрание на том основании, что я якобы выбран незаконно — под давлением администрации, — но доказательств привести не могли.
Знакомился я и с депутатами. Среди них встретил товарища по выпуску в Московской Духовной Академии — Василия Гавриловича Архангельского. Это был в свое время студент с густой шевелюрой, по настроениям романтик, любитель серенад и дамского общества. Теперь он стал почти неузнаваем: мрачный, озлобленный, с помятым лицом, неряшливо и бедно одетый, социал–революционер, он ничем не напоминал себя, прежнего. Меня он поначалу, кажется, не хотел узнавать. Я его окликнул. Он отозвался сдержанно. «Если не ошибаюсь, о.Георгиевский?» (называет мою фамилию). Но потом смягчился, и мы стали по–прежнему друзьями. Случалось, гуляли по Екатерининскому залу, мирно беседуя. Журналисты на нас косились: «Что может быть общего у социал–революционера с черносотенным епископом?» Из разговоров с моим бывшим сотоварищем я узнал, что после Академии он служил по духовному ведомству, сотрудничая одновременно в волжских газетах, потом ушел в инспектора народных училищ, неудержимо «левел» — и попал в ссылку в Енисейскую губернию. Мать его с горя умерла, смерти ее он никогда себе простить не мог.
В Государственной думе в ту весну я встретился впервые и с профессором политической экономии Сергеем Николаевичем Булгаковым (впоследствии протоиерей Сергий — инспектор Парижского Богословского Института). Он уже тогда приближался к Церкви и выступил с предложением организовать особую комиссию по делам Православной Церкви параллельно вероисповедной комиссии. Я взял слово и направился к трибуне, с которой он спускался. Мы встретились… «Неужели вы хотите возражать?» — удивился он. «Нет, дополнить: чтобы членами ее могли быть только православные», — сказал я.
Помню появление в Думе о.Григория Петрова. Он находился под епитимьей в Черменецком монастыре (Петербургской губернии), куда паломничали его многочисленные поклонники и поклонницы: светские дамы, студенты, курсистки… Обер–Прокурора засыпали запросами, просьбами о его освобождении, и, под давлением влиятельного заступничества, его из монастыря освободили. Первое его появление в зале заседаний было обставлено с некоторым триумфом. Распахнулись двери, все депутаты, как один человек, встали — и разразились громом рукоплесканий… О.Григорий Петров театрально раскланялся. Потом мы с ним познакомились. В Думе он почти не выступал.
О.Г.Петров был человек позы, внешнего эффекта, эмоций, но подлинной внутренней религиозности в нем было мало. Не лишенный дара воздействия на толпу, он умел говорить с интеллигенцией и собирал на свои лекции весь Петербург. Внешнее красноречие, деланный, искусственный пафос и демагогический тон его докладов не претили неразборчивому вкусу аудитории — наоборот, они–то и создали ему популярность.
Уже после роспуска Думы мне случилось встретиться с ним в приемной митрополита Антония. Он мне сказал, что принес прошение о снятии сана. Мне было его жаль, и я советовал не делать этого. Впоследствии он стал сотрудником «Русского Слова», а во время войны был военным корреспондентом. Гибель сына на фронте его очень изменила. Он умер в Париже. Его тело сожгли в крематориуме.
Революционно–агрессивная настроенность Думы передавалась петербургскому населению (а дальше и всей России) и повсюду раздувала пламя политических страстей. 16 марта я чуть было не стал одной из жертв этого революционного психоза: меня чуть не убили социал–демократы.
Однажды вечером пришел ко мне студент Петербургской Духовной Академии, член студенческого кружка, который вел просветительную работу на фабриках, и просил меня отслужить молебен и провести беседу на ниточной фабрике Макселя. Он обещал за мной заехать и отвезти за Невскую заставу. Я согласился.
Фабричные районы Петербурга были несколько заброшены и лишены деятельной религиозно–просветительной о них заботы. Ни церквей, ни духовно–просветительных организаций; очень мало было церковного попечения… Массы, пребывая в темноте и озлоблении, дичали и представляли благодарный материал для безудержной революционной пропаганды. Лишь небольшая группа студентов Духовной Академии, главным образом священников и монахов, вела работу по религиозному просвещению.
16 марта студент заехал за мной на извозчике. Я взял с собой Евангелие.
В районе фабрики Макселя церкви не было — только молитвенный дом, но с иконостасом и даже с престолом. Почему–то епархиальное начальство с освящением медлило. Подъезжаем к зданию — оно полно народу и на улице тоже черным–черно… Я обрадовался. «Какая, — думаю, — жажда Божьего слова…» А спутник мой смущенно молчит. С трудом пробились сквозь толпу в дом, а там стоит гул… Я снял шубу, надел мантию. Мне навстречу вышел студент–священник с крестом.
– Мы встречаем вас не только как епископа, но и как народного избранника… — взволнованно начал он, а у самого, смотрю, руки дрожат.
И вдруг слышу — из толпы реплика: «И как хулигана!»
Я приложился ко кресту, вступил на солею, взял посох и обратился к толпе: «Мне странно… За что вы так враждебно встречаете? Я приехал помолиться, испросить Божьего благословения на ваш труд…» Я не докончил — мою речь покрыли крики: «Громче!.. громче!.. иди на середину!.. мы с тобой поговорим!..» Крики перешли в гвалт, в рев… Смотрю, над головами поднятые кулаки, револьвер… Слышу звон разбитых стекол… Весь зал — сплошная ревущая толпа. Бабы прячутся под мою мантию, цепляются за меня… «Не ходи!.. не ходи… — убьют!» Я стою, опершись на посох, как вкопанный. Со всех сторон сыплются ругательства. «Руки в крови!!.. Палачи народные!.. Кровопийцы!!..» Господь дал мне разуму выдержать враждебный натиск. Неистовство толпы продолжалось минут десять–пятнадцать, потом понемногу голоса стали стихать (по–видимому, пронесся слух, что в район прискакала полиция). Когда утихли, я снова спросил:
– За что вы мне устроили враждебную демонстрацию? Я приехал с Евангелием, чтобы прийти вам на помощь, духовно поддержать вас.
– Ты бы похлопотал за наших детей, которые сидят в тюрьме! — выкрикнул кто–то.
– Я рад сделать, что могу, для облегчения их участи.
Не успел я это сказать — посыпались прошения. Я сказал, что рассмотрю их дома, а теперь предлагаю помолиться — хочу отслужить молебен.
Этим моя «беседа» и закончилась. Понемногу рабочие стали расходиться. Реплики из толпы слышались уже иные: «Ну уж ты прости…», «Мы не хотели…» и т. д. Я вышел спокойно и уехал в санях в сопровождении конных стражников. Мой спутник, студент, был всем происшедшим крайне удручен: «Простите, ради Бога, что я вас в такую беду втравил… Что вы пережили!» Он попросил дать ему что–нибудь на память, и я отдал ему бывшее у меня в руках Евангелие [
[32]].
На другое утро я все рассказал митрополиту Антонию. Он выразил мне сердечное сочувствие не только от себя, но и от лица всех бывших тогда в Петербурге архиереев, которых пригласил на завтрак по случаю хиротонии Черногорского епископа Кирилла. Скоро в одной из левых газет появилась статья «Евлогий попался». Оказалось, что враждебная манифестация была организована по распоряжению из Думы. Изошло оно от депутатов социал–демократической фракции, когда они узнали, что я поеду на собрание рабочих.
Вскоре после этого события мне пришлось пережить большое горе…
Как–то раз вечером у меня были гости: мать София, игуменья Вировского монастыря, и один преподаватель Петербургской семинарии. Мы пили чай. И вдруг мне подают телеграмму: «Отец скончался». Весть о кончине отца меня глубоко потрясла — я его очень любил. Я бросился к митрополиту, сообщил ему горестное известие и с первым поездом выехал на похороны в Епифань.
Дорогой мне пришлось остановиться в Туле, дабы у местного архиерея испросить разрешение служить в его епархии. Епископом Тульским был тогда преосвященный Лаврентий, бывший ректор Московской Духовной Академии — типичный питомец Киевской Академии, хороший старичок, любитель благодушной шутки, приятный, мягкий в обхождении. Помню, в то время, когда я у него сидел, к нему пришел ректор местной семинарии о.архимандрит Алексей Симанский [
[33]]. Он окончил Катковский лицей, был в свое время лицеистом–белоподкладочником и в монашестве — надушенный, в шелковой, шелестящей рясе — не утерял светской элегантности. Епископ Лаврентий слегка над ним подшучивал. «А… отец ректор, — приветствовал он его, — ну, как у вас в семинарии — все ли благополучно?» — «Так точно, все хорошо, функционируем…» — «Вот видите, владыка, раньше у нас учились, а теперь «функционируют», — тонко подчеркнув неуместность иностранного слова, обратился ко мне преосвященный Лаврентий.
Я приехал в Епифань 20 марта. От станции до города верст десять. Ехать пришлось в самую распутицу. Огромные лужи, ухабы… Сани водой заливает… В Епифани я на минуту заехал в церковь и направился домой.
Тело отца уже лежало в гробу… У гроба три моих брата: два священника и один, младший, семинарист. Мне было очень горько. Утешало меня лишь сознание, что отец умер, как солдат на посту — в храме, во время поклонов молитвы «Господи, Владыка живота моего». После третьего возгласа: «Даруй ми зрети моя прегрешения» он опустился на колени — и не встал… Его перенесли домой, позвали доктора, но помочь ему уже ничто не могло: через полтора часа он скончался. Доктор сказал, что смерть последовала от разрыва сосудов вследствие склероза. Утешаясь мыслью о славной кончине отца, я скорбел, что на него могли повлиять газетные известия о моем выступлении за Невской заставой. Знакомые священники мне говорили, что он внимательно читал газеты и, может быть, прочитал и статью «Евлогий попался», которая могла его сильно встревожить.
После похорон почувствовалась горестная пустота… Родительский домик словно стал чужим или нежилым. Связь с родным гнездом окончательно порвалась…
Я торопился в Петербург, боялся пропустить свою очередь в числе ораторов, записавшихся говорить по аграрному вопросу (всего записалось до 150 ораторов, я оказался в 50–х номерах). Узнав по приезде, что до меня еще далеко, и учитывая приближение Страстной недели, которую мне надо было провести в своей епархии, я попросил одного трудовика уступить мне свою очередь и выступил накануне отъезда. Но до этого совсем неожиданно мне пришлось говорить 9 апреля.
В этот день один из правых депутатов (Пуришкевич) заявил, что им только что получено известие об убийстве в Златоусте Председателя «Союза русского народа». На левых скамьях раздался смех… Справа кричали: «Смейтесь! Стыдно! Стыдно!» Поднялся шум…
Я счел нужным взять слово.
– Господа народные представители. Я не думал говорить в настоящую минуту, — сказал я, — но когда при упоминании одного члена Думы об убийстве Председателя одного из Союзов русского народа раздались шиканье и смех… (тут слева послышались голоса: «Этого не было!..» А справа кричали: «Это было! было!..») я был глубоко взволнован, — продолжал я в гуле голосов. — Тайна смерти такая великая и священная тайна, перед которой…
Председатель не дал мне договорить.
– Я позволю себе вас прервать, — сказал он. — Дело в том, что причину смеха вы не изволите знать. Вопрос идет о том, надлежит ли на завтра назначить этот вопрос, а говорить о том, какая причина смеха и кто почему смеялся, теперь не время.
К моему выступлению с докладом по аграрному вопросу (12 апреля) мне удалось хорошо подготовиться. Я располагал огромным материалом и не только ознакомил депутатов с бесправным состоянием батраков и ненормальным положением крестьянства, особенно в так называемом «сервитутном» вопросе [
[34]], но свои положения и доказал. Приведу некоторые его строки:
«Я считаю своим нравственным долгом заявить, что интересы русского населения Холмского края в аграрном отношении диаметрально и существенно расходятся с теми интересами, выразителем которых явился здесь Дмовский [
[35]]. Холмская Русь страна исключительно крестьянская, населенная бедными земледельцами–пахотниками, которым и прежде приходилось и теперь приходится много терпеть от малоземелья и от польских помещиков. Ведь нигде крепостное право не лежало таким тяжелым ярмом на крестьянах, как именно в Польше, ведь там крестьяне трактовались как быдло. И в настоящее время малоземельному и безземельному крестьянскому населению там живется не сладко…»
Заключение моего доклада сводилось к следующему выводу. В Холмском крае крестьянская масса обездолена и бесправна; помещики, господа положения, беззастенчиво этим положением пользуются и очень эксплуатируют крестьян, особенно батраков.
Депутаты–поляки пришли от моего доклада в крайнее негодование. Красные, возбужденные, они прерывали мою речь криками: «Ложь! ложь!..», но неопровержимые документы, которые были у меня в руках, говорили за себя. С тех пор поляки возненавидели меня еще сильнее. К моему удивлению, речь не понравилась и некоторым правым депутатам–помещикам. «Вы посягаете на право собственности, вы плохой монархист, вы — левый… Мы думали, вы наша опора…» — с укором говорили они. Один из них не постеснялся сказать, что ему «польский помещик ближе, чем русский крестьянин». Это отношение «правых» к моей позиции в аграрном вопросе свидетельствовало о том, что они готовы были поддерживать Церковь не бескорыстно: многие из них видели в Церкви средство держать народ в повиновении. Это ужасное политическое воззрение на Церковь сказалось очень ярко в возгласе Пуришкевича (в беседе с одним священником): «Неужели, батюшка, вы действительно верите так, как говорите?»
На следующий день после моего выступления я выехал в Холм. Мое пребывание в Холмщине в те пасхальные дни было радостное. Прежде чем я успел приехать, моя речь в газетных стенограммах уже долетела до населения и вызвала всеобщий восторг. Особенно он проявился на Фоминой, когда я проезжал по епархии на освящение одной сельской церкви (в 80 верстах от Холма). Всюду в селах меня встречали с хлебом–солью, с изъявлениями горячей благодарности. Связь депутата с населением оказалась живою. Я переночевал в Турковицком монастыре (свита моя проехала вперед), а утром прибыл в село на освящение храма. Крестьяне мне устроили торжественную встречу. Триумфальная арка, цветы, гирлянды… Многочисленный крестный ход со священниками вышел мне навстречу и ожидал меня при въезде в село. Тут случилось неприятное происшествие. Со стороны польской экономии появились пьяные польские рабочие и, нахлестывая лошадей, с гиком и криком «москали!», промчались по дороге, чуть не передавив моих иподиаконов. Это было явное, подчеркнутое намерение оскорбить религиозное чувство собравшегося православного народа. Казачий полковник, прибывший со своими казаками на праздник из г.Томашева, приказал безобразников настигнуть; их, кажется, побили нагайками и задержали впредь до выяснения причин их безобразного поведения. Когда я подъехал к толпе, сразу почувствовал какое–то смятение. После обедни, когда меня вели со «славой» к домику священника на трапезу, из толпы вышли два польских помещика и заявили, что они хотят иметь со мной разговор. «Наших крестьян арестовали, избили… Мы выступаем в их защиту во имя справедливости», — сказали они. Тут вмешался начальник уезда: «Его Преосвященство в облачении, разговор не ко времени…» Узнав обо всем, что произошло, я вышел потом к помещикам, и мы объяснились.
– Я скажу, чтобы крестьян ради праздника отпустили, — сказал я, — но инцидент во имя справедливости надо разобрать, а вам следует разъяснить своим рабочим все безобразие их выходки.
После Пасхи я вернулся в Петербург. Из думских стенограмм узнал, что польский депутат Грабский мне возражал горячо, но голословно: ни фактов, ни статистики он привести не мог. Потерпев поражение на трибуне, поляки стали меня травить иным путем. Почти ежедневно я стал получать через думскую почтовую контору порнографические открытки с гнуснейшим текстом, например: «Где ваш ребенок?» или что–нибудь вроде этого… Служащие в конторе барышни, краснея от стыда, вручали их мне. Открытки сыпались одна за другой в течение двух–трех недель, потом прекратились.
Атмосфера в Думе и после Пасхи была тревожная. Во время моего отсутствия произошел грандиозный скандал: кавказский депутат (социал–демократ) Зурабов в своей речи по законопроекту о комплектовании рекрутов оскорбительно отозвался об армии. В зале поднялись гвалт, стук пюпитров, яростные крики: «Неправда! вон отсюда!.. вон!.. убрать его отсюда!..» Подобные скандалы, стычки, оскорбительная словесная перепалка стали повторяться чуть не ежедневно. Думские заседания окончательно приняли характер митинговых сборищ. Работа в комиссиях застыла. Комиссия по делам Православной Церкви не собиралась вовсе.
Я прожил в Петербурге с месяц. Наш законопроект о выделении Холмщины застрял в министерстве, и я воспользовался этой задержкой и уехал вновь в свою епархию на освящение храма, построенного нашим ревностным храмоздателем Пасхаловым. Через некоторое время узнаю — Дума распущена… Ожидали, что роспуск вызовет большие беспорядки, но все обошлось сравнительно благополучно. Я тревожился за судьбу бумаг и документов, сданных мною в аграрную комиссию, но они уцелели: мне их вернули. Этим закончилась моя деятельность депутата II Государственной думы.
Вспоминая мое пребывание во II Государственной думе, я хочу сказать несколько слов о тех душевных моих состояниях, которые возникли под влиянием чуждого мне мира политической борьбы.
Поначалу новизна обстановки и работы меня чрезвычайно интересовала. Все было иное, не только не похожее на предыдущую мою жизнь, но ей диаметрально противоположное. Неведомые мне люди–политики, их поведение, разговоры, повадки, даже внешний облик некоторых из них… — все привлекало мое внимание. Глаза разбегались, душа жадно вбирала впечатления. Присутствие в учреждении, предназначенном для законодательной работы во всероссийском масштабе, невольно возбуждало чувство своей важности, значительности; самое призвание депутата вселяло убеждение, что мы — народные представители, законодатели — влияем на судьбы России; оно и поднимало и надмевало.
Но чем дальше, тем сильнее я стал чувствовать, что работа в Думе внутренно далека от Церкви, даже ей враждебна. Когда мне случалось между заседаниями служить панихиду по каком–нибудь скончавшемся депутате или общественном деятеле, я всякий раз должен был психологически перестраиваться; не сразу, бывало, попадешь в тон молитвы и песнопений, точно Церковь и политика друг друга исключали. Приедешь в Думу — в вестибюле у вешалок еще ничего, но стоит войти в зал, — и сразу весь настороже: кто друг? кто враг? Душа мгновенно обособляется, возбуждена желанием спорить, сразиться, победить. Атмосфера в зале наэлектризована воинственностью, точно в воздухе реют бесы и настраивают людей на взаимный антагонизм. Не успеешь дойти до своего места — и уже словно намагничен, физически заражен всеобщим боевым настроением: щеки горят, нервы приподняты, все существо взбаламучено…
По природе я борьбу не любил. Она всегда вызывала ощущение тяжести, наваливающейся на мою душу. Нехристианский дух борьбы мне был всегда мучителен. Но когда она проявлялась в столь безобразных формах, как в Думе, я доходил подчас до полного душевного изнеможения. Грубые реплики с мест и с трибуны, переходившие иногда в неистовую брань, разнузданность языка под влиянием страстей, дикие выкрики некоторых депутатов по адресу противников — выносить все это было трудно. Просидишь взвинченный, накаленный в Думе, а приедешь домой — и наступает реакция: чувствуешь себя, точно кто–нибудь тебя избил или душил. Вспомнишь о том, что было в Думе, и инстинктивно ощущаешь, что вырвался из атмосферы злых сил… Какой ужас политические страсти! Какую злобу они рождают!
В пылу политической борьбы у людей вырабатывалась психологическая привычка считать лишь членов своей партии хорошими, а всех противников считать дурными. Достаточно было быть кадетом, чтобы члены правых партий считали депутата неискренним патриотом, в речах лживым, в намерениях лукавым, предателем и т. д. Я старался от этой психологии отделаться. У меня явилась потребность эту отчужденность от моих политических противников преодолевать. Мне иногда хотелось, вопреки всему, пожать руку хорошему человеку, хотя бы чуждого мне политического направления, сказать ему приветливое слово. Так я относился, между прочим, к Шингареву. Мои политические единомышленники удивлялись: «О чем вы нашли с ним разговаривать?»
Политическая работа наложила на меня тяжелый отрицательный отпечаток. Утрачивалась свежесть религиозных переживаний, ослабевала их духовная сила. Я подмечал в себе эту печальную перемену всякий раз при возвращении в Холм. Приедешь, бывало, на вокзале встречают священники, и вместе с ними отправляешься в собор служить молебен перед чудотворной иконой Божией Матери. Войдешь в храм — и повеет миром, тишиной, чистотой, благоуханием, благодатью молитвы. Церковные своды, иконы, огни лампад, чудотворный образ, молящиеся люди… Точно из грязной ямы в Царствие небесное попал. Вспомнишь Думу, и станет так горько, мучительно: иные интересы, настроения — злоба, мятеж и ненависть…
Следует ли духовенству участвовать в политической жизни страны, в строении государства? С точки зрения пользы, может быть, и нужно; но если принять во внимание душу и совесть — это большое для духовного лица несчастье. Быть может, на более сильном человеке дурные влияния политической борьбы и не сказались бы, а на мне отражались. Я чувствовал себя каким–то «обмирщенным», «секуляризованным», на каждом шагу борьба между пастырской совестью и партийной дисциплиной; атмосфера политических страстей как–то душила, угнетала дары благодати священства… И все же должен отметить, что присутствие в Думе духовенства на мирян влияло хорошо. Некоторые депутаты, особенно крестьяне, с нами считались, приходили поделиться впечатлениями, посоветоваться, приглашали на требы в свои семьи.
Помню, раз вечером приехал ко мне сибирский депутат–трудовик с просьбой напутствовать умирающего тестя — художника, который меня в Думе видел и слышал. Он повез меня на Петербургскую сторону. Мы ехали так долго и по таким глухим улицам, что, признаюсь, я стал сомневаться, к умирающему ли он меня везет… Однако сомневался напрасно. Мы подъехали к скромному домику. Старушка жена, дети встретили меня и провели к больному. Я напутствовал его. Он лет двадцать не исповедовался. Как он каялся, как молился! Какая прекрасная, ищущая была у него душа! Его сын тоже был замечательный человек. Он умер в Париже — и с каким спокойствием отошел в тот мир! (Его жена, бельгийка, перешла в православие.) И отец и сын были от Церкви формально далеки, но оба были идеалисты, люди высокого духа, и по–своему глубоко веровали в Господа, любили Христа, благоговейно почитали Евангелие…
О, как много людей, которые по неправильному воспитанию, по разным предрассудкам или предвзятости далеки от Церкви и даже ей враждебны! А подсознательно, в глубине души они тоже рабы Божии, по–своему хвалящие Господа. Часто под влиянием какого–нибудь жизненного толчка (лучше сказать, вследствие прикосновения промыслительной десницы Божией) они становятся добрыми верующими христианами. На меня всегда огромное впечатление производят слова Христа: «Многие приидут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в царстве небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю» (Мф.8,11–12).
Глава 13. ЧЛЕН III ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ (1907–1912)
Выборы в III Государственную думу начались тем же летом (1907г.). В предвыборной кампании я никакого участия не принимал. Было ясно, что выберут в депутаты опять меня. Моя речь в Думе по земельному вопросу завоевала всех, и я был избран почти единогласно (только 2–3 учителя — «самостийника» были против). Доверие народа меня радовало, но оно же и увеличивало тяжесть ответственности за основной наш законопроект о выделении Холмщины из польских областей и образовании Холмской губернии.
III Думу созвали в ноябре. Состав ее был иной, чем предыдущей Думы. Правое крыло численно увеличилось, оттесняя октябристов к центру (их было в этой Думе множество), кадетов пришло меньше, и теперь вместе с кучкой трудовиков и социал–демократов они образовывали левое крыло — словом, Дума сильно поправела: октябристы стали господствующей партией, на которую могло опереться правительство; в Думе же оказалось довольно много священников. Епископов было два: епископ Митрофан (от Могилевской губернии) и я. Синод решил оказать духовенству внимание, и нам отвели для жительства помещение в синодальном здании Митрофаньевского подворья, на Кабинетской улице — очень большую архиерейскую квартиру, прекрасно обставленную, а наверху были отдельные комнаты для 10–12 священников. При доме было две церкви. Мы организовали общежитие. Создался центр, куда притекали и другие священники для бесед и обсуждения церковных вопросов. Мы сообща разрабатывали законопроекты, привлекая, когда надобилось, известных канонистов и профессоров. По праздникам и воскресным дням, довольно торжественно, соборне совершали богослужение, привлекая массу богомольцев.
Помню первое в ту сессию мое посещение Думы. Подъезжаю на извозчике к Таврическому дворцу — какой–то длинноволосый господин с калмыцким лицом подъезжает на извозчике тоже. Смотрю — Плевако… Входим в вестибюль — швейцар требует от него членский билет, а Плевако забыл его дома и кричит: «Я — Плевако! Я — Плевако! Пропустите меня!» Швейцар упорствует и наконец обращается ко мне: «Вот если владыка поручится, тогда пропустить могу». Я поручился и ввел Плевако в Думу. Тут мы познакомились. Он мне показал чудесную икону св.Николая Чудотворца, которой Москва его напутствовала. «Я ее повешу во фракционной комнате», — сказал он.
Работа в Думе началась с выбора Президиума. В Председатели прошел Хомяков. Мы, правые, отвоевали два места: Товарища Председателя (был избран князь Волконский) и Секретаря (профессор Петербургского университета Сазонович, крайний правый).
Деятельность III Думы началась с обсуждения адреса Государю. Не обошлось без пререканий. Выбрали комиссию (в нее попал и я); члены ее посовещались, поспорили, причем обнаружились все оттенки фракционных воззрений на самодержавие и конституцию, — и адрес был составлен. Вопрос о самодержавии и конституции, о возможности или невозможности их сочетать, остался и в III Думе неразрешенным; для одних манифест «17 октября» покончил с самодержавием и открыл эру конституционно–монархического строя; для других «17 октября» ничего не меняло; для третьих надо было стремиться ликвидировать «17 октября», эту ошибку революционных дней.
Началась будничная думская работа. Образовались комиссии. Я был избран председателем вероисповедной комиссии; епископ Митрофан — членом комиссии по делам Православной Церкви (председателем ее выбрали В.Н.Львова) и председателем комиссии по борьбе с пьянством.
В III Думе обсуждался ряд важных законопроектов:
1) о свободе перехода из православия в другое христианское исповедание;
2) об уравнении в гражданских правах инославных со старообрядцами;
3) о свободе проповедования, причем дано было определение «проповеди» и «пропаганды»;
4) о сохранении гражданских прав и после снятия священнического сана;
5) о предоставлении монашествующим права завещания; и некоторые другие законопроекты.
В вероисповедной комиссии прежде всего стал во всей своей сложности вопрос о веротерпимости. Свобода вероисповедания была веками в России ограничена. Переход из православия в другое исповедание считался уголовным преступлением. Сдать позицию без всяких условий казалось недальновидным. Возникли споры: дать ли свободу старообрядцам — или не давать? Дать ли свободу религиозной пропаганды, которой несомненно воспользуются сектанты? Не нужна ли прежде постепенная религиозно–педагогическая подготовка народных масс к восприятию свободы вероисповедания? Не ринется ли иначе некультурный народ в сектантскую стихию?
Я на опыте в Холмском крае узнал, что означает безусловная свобода веры, когда не приняты во внимание ни психология инославных, ни реальная обстановка, в которой сталкиваются люди разных вероисповеданий. Не будучи принципиальным противником «свободы», я стоял за постепенность. Этот путь постепенности был намечен Столыпиным; он хотел дать «свободу совести», но не хотел давать свободы религиозной пропаганды, т. е. дать внутреннюю свободу, но ограничить право агитации в пользу того или иного исповедания. Правые, которые вообще его недолюбливали, были недовольны его либерализмом в этом вопросе и пренебрежительно говорили «продался жидам». Может быть, и не надо было цепляться за старые позиции — бояться пропаганды, но мы, увы, тогда еще не знала, что придут безбожные агитаторы, которые будут кощунствовать и вытравлять самое понятие Бога из русских душ. Лишь теперь, оглядываясь назад, видишь, как мы были близоруки. Не чуяли мы надвигающейся беды…
Председательствовал я в этой комиссии не до конца существования III Думы. Как–то раз я погорячился (на меня напали евреи) и оказался в меньшинстве. Провалился я всего одним голосом по беспечности одного священника, который во время голосования загляделся на какое–то расписание в коридоре. Я счел провал за недоверие — и из председателей ушел. Меня сменил Каменский (октябрист, с уклоном к теософии и вообще к оккультизму).
Осмотревшись в Думе, я увидал, что она становится на путь той сравнительно спокойной законодательной работы, которая обеспечивает ей продолжительный, нормальный (пятилетний) срок существования, и решил ходатайствовать пред Святейшим Синодом о назначении мне помощника в Епархиальном управлении на положении моего викария в Холме. Таким временным моим заместителем был назначен епископ Андроник, бывший миссионер в Японии, хорошо мне знакомый еще со студенческой скамьи (он был двумя курсами моложе меня в Московской Духовной Академии). Это был молодой, очень ревностный и благочестивый епископ, которому с полным доверием я мог вручить свою паству. К сожалению, он скоро был перемещен викарием в Новгородскую епархию. Впоследствии, будучи уже архиепископом Пермским, он был замучен большевиками. Вместо него мне в помощники был назначен викарий Гродненской епархии епископ Белостокский Владимир, ныне здравствующий архиепископ в Ницце [
[36]]. С ним у меня были еще более дружеские, братские отношения, чем с епископом Андроником. Он помогал мне в продолжение III Государственной думы и своим высоким молитвенным настроением, своею кротостью и смирением завоевал уважение и любовь моей холмской паствы, а я, имея такого прекрасного помощника, мог спокойно заниматься государственными делами, уверенный, что местная епархиальная жизнь нисколько не страдает от моего продолжительного отсутствия из Холма.
Два главных вопроса стояли в центре моей деятельности в Государственной думе: а) о выделении Холмщины из состава Царства Польского, с образованием особой самостоятельной Холмской губернии и б) защита Церкви и ее интересов.
Скажу сначала о создавшихся в III Думе взаимоотношениях между нею и Церковью.
Эти взаимоотношения были безысходной коллизией двух сторон друг другу чуждых, а порой и враждебных. Разобщенность обнаруживалась по самым различным поводам; одним из них был вопрос о церковноприходских школах, который сделался в Думе важным и боевым. Эти школы — детище императора Александра III и Победоносцева — возникли в противовес школам светским, дабы избежать вредного влияния на учащихся революционно настроенного учительского персонала, нередко занимавшегося пропагандой. Позиция Думы была иная: единая государственная школа (в городах и земствах) стала основным требованием школьной реформы; церковноприходские школы не должны рассчитывать на ассигновки, а если Церкви угодно иметь свои школы, пусть она их содержит за свой счет. Противники наши поносили «затею» духовенства, говорили, что им руководят «шкурные интересы», ссылались на отсталые методы преподавания и т. д. Мы свои школы защищали: они не так плохи, как о них говорят; правда, обстановка их беднее, чем в светских школах, ставки педагогическому персоналу скромнее, и потому учителя нередко нас покидают, соблазняясь более высокими окладами в других учебных заведениях, но все же наши школы имеют право на поддержку. Возникали жаркие битвы. Мы с трудом отстояли кое–какие ассигновки. Министерство народного просвещения не имело побуждений нас отстаивать. Мы были одиноки. Синод нас упрекал за плохую защиту, но упреки были несправедливы. У нас нашлись хорошие ораторы (например, епископ Митрофан, священник Гепецкий и др.), мы проявляли инициативу и вне Думы, прибегали к героическому способу: добились особого совещания по этому вопросу в обер–прокурорском доме. В совещании приняли участие митрополиты Синода, Обер–Прокурор, министры (Кассо, Коковцов, Кривошеин) и представители думских фракций (Гучков и я). Но и совещание не помогло — Дума упорствовала. Через 5 лет Государь на последней аудиенции, поздравляя депутатов с благополучным окончанием работ, напомнил о церковноприходских школах — вопросе «столь близком моему родителю, на который я смотрю, как на его завещание…». На последнем думском заседании вопрос был поставлен на повестку. Не успели мы и приступить к его обсуждению — депутаты стали поодиночке ускользать, и, когда время подошло к голосованию, кворума не было. Поддерживать церковноприходские школы III Дума не пожелала.
Обсуждение в Думе сметы Святейшего Синода обычно было тягостным. После речи Обер–Прокурора в защиту ассигновок всегда выступал я. Трудные это были выступления…
По отношению к Синоду настроение в Думе было вообще недружелюбное. Престижа он не имел. Одни правые поддерживали его, остальные, в той или другой форме, иногда прикрыто (октябристы), иногда явно — проявляли к нему неуважение. Законопроект об ассигновках на статистический отдел при Синоде думцы провалили, предлагая использовать для этого монастырские суммы. Отказ был обоснован. Если бы монастырское хозяйство было поставлено рационально, не велось так же, как сто лет тому назад, ресурсы монастырей были бы огромны, и Синоду не приходилось бы кланяться государству. А он просил финансовой поддержки даже на мелочи, например на школу иконописи. Помню, депутат Чхеидзе вспылил, вскочил на трибуну и в своем возмущении дошел до кощунства: «На иконы?.. Иконы ведь чудотворные — пусть чудом и пишутся…» За кощунственные слова его исключили на два заседания. Потом он обратился ко мне с весьма странным вопросом: «Почему вы за меня не заступились, когда со мною расправлялись?» В лучшем случае Дума относилась к церковным делам равнодушно. Помню, как удивило меня, когда думцы решили протестовать против перестройки Иверской часовни, которая обсуждалась в Синоде. Я им тогда сказал: «Очень приятно, что хоть это вас волнует», — так непривычна показалась мне их реакция.
Если некоторые члены Думы не скрывали своего враждебного отношения к Церкви, то случалось, что и левые вызывали чувство непреодолимой неприязни среди депутатов–священников. Однажды оно проявилось в недопустимой форме. Произошел инцидент с сибирским депутатом Карауловым. Он отбыл в свое время каторгу по политическому делу. Когда он взял слово по какому–то вопросу и направился к трибуне, один священник крикнул: «Вот каторга пошла!» — «Да, каторга!.. — горячо заговорил Караулов. — Этими ногами я измерил «владимирку»… В освободительном движении, благодаря которому мы все здесь сидим, есть капля и моей крови…» Зал разразился рукоплесканиями. Всему думскому духовенству было очень неприятно от этой бестактной выходки своего собрата, о чем я от имени священников–депутатов заявил Караулову.
И все же, несмотря на разлад между Думой и Синодом, его смета хоть и с трудом, но принималась. Правда, в такой форме, что она более походила на уступку, которой добились, или милостыню, которую выпросили. Как я уже сказал, мне приходилось всегда произносить речь в защиту синодального бюджета, и этим зачастую пользовались мои противники, чтобы на меня напасть. Однажды моим выступлением воспользовались поляки.
В своей речи я спокойно, но энергично доказывал необходимость смету утвердить: «За мертвыми цифрами — живая жизнь… Кому Церковь не Мать, тому и Бог не Отец…» — убеждал я моих думских сочленов. Едва я кончил, как слово взял польский депутат Дымша. Он обрушился на несоответствие ассигновок на православные и католические храмы в Холмщине. К нападению он, видимо, хорошо подготовился: привел статистические данные. Его выступления я не ожидал, оно застало меня врасплох. Оставалось спасать положение при постатейном голосовании бюджета; я брал слово и старался моего противника дискредитировать. На общий вотум выступление Дымши не повлияло, но все же поляки в тот раз доставили мне большую неприятность.
Если Дума относилась к Синоду с недружелюбием, переходившим порой в ожесточение, то и Синод не проявлял по отношению к Думе должного понимания. Я лично постоянно это чувствовал. Будучи членом Думы, я одновременно входил и в состав Синода: в зимнюю сессию 1908 года и в зимнюю сессию 1912 года [
[37]]. Просидишь, бывало, все утро в Синоде, а после двух часов едешь в Думу — и чувствуешь: антиподы! Торжественные кареты, величавые архиереи, вековые традиции… — особый стиль, особый мир. Тут на меня, на депутата, все смотрят как на выходца из преисподней, из места гиблого, нечистого. А примчишься, бывало, в Думу демократически, на извозчике, — приятели (Родзянко или кто–нибудь из «своих») встречают: «А… из Синода!» И чувствуешь, что кругом на тебя устремлены иронические взгляды депутатов, а подчас слышишь и язвительные шуточки.
Имела ли Дума основания относиться к Синоду пренебрежительно?
Приниженность Церкви, подчиненность ее государственной власти чувствовалась в Синоде очень сильно. Обер–Прокурор был членом Совета Министров; каждый Совет Министров имел свою политику, высшие сферы на нее влияли тоже, и Обер–Прокурор, не считаясь с голосом Церкви, направлял деятельность Синода в соответствии с теми директивами, которые получал. Синод не имел лица, голоса подать не мог и подавать его отвык. Государственное начало заглушало все. Примат светской власти подавлял свободу Церкви сверху донизу: архиереи зависели от губернаторов и должны были через священников проводить их политику… Эта долгая вынужденная безгласность и подчиненность государству создали и в самом Синоде навыки, искони церковным началам православия не свойственные — решать дела в духе внешнего, формального церковного авторитета, непререкаемости своих иерархических постановлений.
Помню тяжелый случай осуждения профессора Экземплярского (Киевской Духовной Академии), молодого либерально настроенного ученого. Он написал в журнале статью: «О нравственном учении св.Иоанна Златоуста». В ней он доказывал, что многие мысли Толстого и социалистов можно найти и у этого великого «отца Церкви». Киевский митрополит Флавиан приехал в Синод с донесением: автор непочтительно отзывается о св.Иоанне Златоусте, сравнивает его с недостойными сравнения именами и неуважительно относится к официальному богословию Киевской Духовной Академии, к ее традициям. Перед докладом он заявил, что прочтет его лишь при условии, если Синод заранее готов радикально осудить автора. Профессора Экземплярского уволили, не выслушав ни его объяснений, ни оправданий…
И все же попытки найти исход из создавшегося безвыходного положения были. Несколько раз поднимался в Синоде вопрос, чтобы первоприсутствующий член Синода делал доклад Государю хотя бы в присутствии Обер–Прокурора. Однако ничего из этого не вышло. Была еще одна попытка — добиться аудиенции у Государя для всех трех митрополитов, но и она была безуспешна. Церковь, безвластная и безгласная, должна была делать то, что ей прикажут. Публицист Меньшиков («Новое Время») называл синодальных иерархов «декоративные старички». Свое уничиженное положение иерархи, конечно, и сами сознавали. «Учусь чистописанию — подписываюсь под протоколами, вот все мое занятие», — говорил один архиерей. Когда Обер–Прокурор был сравнительно приемлем и искал путей сближения с Церковью, Синоду бывало легче. Таковы были Извольский и Лукьянов. Извольский, впоследствии священник в Бельгии, был добрый, благожелательный. Профессор Варшавского университета Лукьянов, во всех отношениях порядочный человек, кристально чистой души, был тоже податливый. Он отличался педантизмом, и секретари его недолюбливали. Иногда он будил их в 3–4 часа утра и посылал в Синод за какими–нибудь понадобившимися ему из архива бумагами. К должности Обер–Прокурора был совершенно не подготовлен, ибо не знал ни Церкви, ни народа. Своему назначению он сам удивлялся, и когда кто–то его спросил: «Почему собственно назначили вас?» — добродушно ответил: «Сам не знаю, одно скажу: я усердный читатель и большой почитатель Владимира Соловьева». Конечно, этого было мало для обер–прокурорского поста…
Обер–Прокурор В.К.Саблер, напротив, прекрасно знал Церковь, любил ее и много работал для нее; но тут случилась другая беда: его имя в обществе и в Думе связывали с Распутиным. Необходимо сказать несколько слов о Распутине, потому что появление его в высших кругах русского общества углубило разлад между Думой и Церковью.
Распутина я никогда не видал, хоть и не раз имел возможность с ним встретиться, но от встречи с ним я всячески уклонялся.
Сибирский странник, искавший Бога и подвига и вместе с этим человек распущенный и порочный, натура демонической силы, — он сочетал поначалу в своей душе и жизни трагедию: ревностные религиозные подвиги и стремительные подъемы перемежались у него с падениями в бездну греха. До тех пор, пока он ужас этой трагедии сознавал, не все еще было потеряно; но он впоследствии дошел до оправдания своих падений, — и это был конец. Известность стяжал постепенно. Приехал в Казань к епископу Хрисанфу, тот рекомендовал его ректору Петербургской Духовной Академии епископу Сергию [
[38]], а Сергий познакомил его с инспектором Академии архимандритом Феофаном (впоследствии епископ Полтавский) и профессором–стипендиатом молодым иеромонахом Вениамином (возглавлявшим в эмиграции «Сергиевскую» церковь). Архимандриту Феофану, человеку высокой подвижнической жизни, Распутин показался религиозно значительной, духовно настроенной личностью, и он вовлек в знакомство с ним Саратовского епископа Гермогена, который с ним и подружился. Архимандрит Феофан был духовником великих княгинь Милицы Николаевны и Анастасии Николаевны («черногорок»); к ним Распутина он и привел, а они ввели его в царскую семью. Распутин какими–то способами облегчал страдания больного Наследника, это предрешило судьбу «целителя» — он стал большим, влиятельным человеком. Началось заискиванье. В синодальных сферах на него обратили внимание: Товарищ Обер–Прокурора Даманский стал его другом; Саблер, пребывавший дотоле в отставке, вновь занял пост Обер–Прокурора.
В Думе все это вызвало страшное негодование. Родзянко, Тучков… все были возмущены. Защищать Синод в Думе становилось очень трудно. Были попытки примирить Думу с Синодом.
Дело Распутина (о его хлыстовских радениях) было затребовано из Тобольской консистории, дабы разоблачить его безнравственность и тем его обезвредить, но уличающих данных оказалось недостаточно.
В ту зиму (1911–1912 гг.) я входил в состав сессии Синода. Там приходилось выслушивать нападки на Думу… В конце концов конфликт обострился настолько, что в заседании, обсуждавшем синодальную смету, Гучков в присутствии Саблера обрушился на Синод и Обер–Прокурора со всей несдержанностью накипевшего негодования. Он говорил не голословно — приводил факты, которые разоблачили весь ужас того, что происходит. Из его речи можно было заключить, что Синод Распутину мирволит, а Обер–Прокурор всячески добивается его расположения… Состояние Саблера было отчаянное. Он смотрит на меня, ждет слов защиты… Мне надо говорить, а защищать его мне мучительно трудно. Я сказал кратко, что у меня нет данных ни за, ни против обвинений; что, надеюсь, Обер–Прокурор сам защитит свое доброе имя… — Саблер остался мною недоволен.
Такого рода схватки Думы и Синода дискредитировали Церковь, забрасывали ее грязью, создавали предубеждение против всех, кто имел к ней отношение. Ужасное, мучительное положение…
Приезжаю в Синод — там возмущение речью Гучкова. Архиепископ Сергий Финляндский хочет, чтобы Синод заступился за Обер–Прокурора и демонстративно поднес ему икону. Я протестую: «Думу дразнить нельзя… это бестактно. Или вы не хотите иметь ничего общего с Думой?» — И все же икону поднесли…
По совести скажу, я не могу утверждать, насколько справедливы были в Думе нападки на Саблера…
Одним из друзей Распутина, которые от него отшатнулись, лишь только они поняли, с кем имеют дело, был Саратовский епископ Гермоген. Аскет, образованный человек, добрейший и чистый, епископ Гермоген был, однако, со странностями, отличался крайней неуравновешенностью, мог быть неистовым. Почему–то он увлекся политикой и в своем увлечении крайне правыми политическими веяниями потерял всякую веру. Интеллигенцию он ненавидел, желал, чтобы всех революционеров перевешали. Он ополчился против Распутина, когда убедился в его безнравственном поведении, и решил зазвать его к себе, дабы в присутствии писателя Родионова и иеромонаха Илиодора взять с него заклятие, что он отныне не переступит порога царского дворца. Говорят, епископ Гермоген встретил его в епитрахили, с крестом в руке. Распутин клятвы давать не хотел и пытался скрыться. Родионов и Илиодор бросились за ним на лестницу, его настигли, и все трое покатились по ступеням вниз… а епископ Гермоген, стоя на площадке в епитрахили и с крестом в руке, кричал: «Будь проклят! проклят! проклят!..» Распутин вырвался из рук преследователей. «Попомните меня!» — крикнул он и исчез. Епископ Гермоген и Илиодор стали бомбардировать Государя телеграммами, умоляя его не принимать Распутина. Государь оскорбился и приказал вернуть епископа Гермогена в епархию, а Илиодора Святейший Синод сослал во Флорищеву Пустынь (Владимирской епархии). Епископ Гермоген приказу не подчинился; тогда Государь прислал флигель–адъютанта, который «именем Государя Императора» приказал ему сесть в автомобиль; его отвезли на вокзал и переправили в Жировицкий монастырь (Гродненской губернии). Была назначена ревизия Саратовского Епархиального управления; она обнаружила полную безответственность главы епархии и непорядки вопиющие. Оказалось, что епископ Гермоген не распечатывал многих приходящих на его имя бумаг, в том числе даже указов Святейшего Синода, — бросал их в кучу, в пустой комнате. Заточение создало епископу Гермогену ореол мученика. Впоследствии, уже после революции, его выпустили и назначили епископом Тобольским; в этом звании он и был членом Всероссийского Церковного Собора. Когда царская семья находилась в заточении в Тобольске, он пытался что–то для Государя сделать. Большевики с ним расправились жестоко — его привязали к колесу парохода и пустили машину в ход: лопастями колеса его измочалило…
Судьба Илиодора не трагична. Он бежал, снял сан, переправился за границу в Америку.
Конечно, нападки на Синод в период III Думы были односторонни, пристрастны и преувеличенны. По мере сил своих он трудился не только в области чисто церковной, но и церковно–общественной и государственной. Политика Столыпина поставила перед Церковью трудную задачу духовного обслуживания переселенческого движения, с которой Церковь хорошо справилась. Я имею в виду деятельность протоиерея Восторгова.
Закон «9 ноября» о хуторах, изданный в порядке 87–й статьи между II и III Думой, повлек за собой вопрос переселенческий, а организация переселения в Сибирь выдвинула проблему устроения церковной жизни на новых землях. Надо было позаботиться о построении храмов, об открытии школ, о подготовке кадров священнослужителей. Государство создало особое переселенческое управление (во главе его стоял сенатор Глинка) и на переселенцев денег не жалело.
Наши духовные семинарии не давали достаточного числа кандидатов — священников. Во многих епархиях отмечался их недостаток; многие семинаристы, особенно в Сибири, не хотели принимать священнического сана. Благовещенская семинария за 10 лет не выпустила ни одного священника; религиозный энтузиазм в семинарии потух, молодежь устремлялась на гражданскую службу, на прииски, в промышленные предприятия. При таких условиях как с переселенческой задачей могла Церковь справиться?
По поручению Синода за дело взялся протоиерей Восторгов. В течение года он должен был создать столько священников, сколько требовалось. Протоиерей Восторгов был человек незаурядного ума и большой энергии. При жизни о нем ходили разные сплетни, но, кажется, они были необоснованны. С трудной задачей он справился отлично. Кандидатов в священники набирал из способных псаломщиков и сельских учителей. Я познакомился с его деятельностью, съездив специально для этого в Москву. Протоиерей Восторгов познакомил меня со своей женой. «Вот жена, которую я отравил…» — шутливо сказал он, намекая на злую сплетню о его семейной жизни. Я побывал на его семинарских курсах, присутствовал на уроках по проповедничеству и был поражен блестящими результатами. В год его ученики совершенно овладевали церковным ораторским искусством. Метод обучения состоял в следующем.
Он собирал группу учеников, прочитывал очередное воскресное Евангелие и задавал им по очереди вопросы: какие в нем мысли? какую бы ты взял мысль для проповеди? а ты? ты? и т. д. Из этих мыслей выбирали сообща одну — темой проповеди и приступали к ее разработке. Вновь следовали вопросы: ты бы что на эту тему сказал? а ты? ты? ты?.. После разработки переходили к критике, анализировали, какая мысль для проповеди подходящая, какая нет. Следовало задание — к будущему разу написать проповедь. Писал ее и сам учитель. На следующем уроке приступали к разбору написанного. Начиналось коллективное творчество. Протоиерей Восторгов говорил мне, что ученики давали иногда ему самому очень ценные указания. Собранные сообща мысли составляли одну проповедь. Затем ее кто–нибудь из слушателей произносил, а остальные критиковали его как оратора. Такие коллективно разработанные проповеди печатались в тысячах экземплярах, а потом ученики произносили их в московских церквах на ранних обеднях, собиравших обычно много молящихся из простонародья. Напечатанные проповеди раздавались после обедни всем желающим. Какой это был разумный метод обучения проповедничеству! И как широко было поставлено дело церковного учительства…
Протоиерей Восторгов погиб при большевиках — его расстреляли. Умер он доблестной смертью христианского мученика. Перед расстрелом напутствовал и ободрял своих собратьев, тоже обреченных на смерть: министров Протопопова, Маклакова, Щегловитова, Хвостова и директора Департамента полиции Белецкого…
Кроме этой осведомительной поездки в Москву, я предпринял во время III Государственной думы две поездки церковно–общественного значения: 1) в Киев на торжество 1000–летия пребывания в Михайловском монастыре мощей святой великомученицы Варвары и одновременно на Киевский Миссионерский съезд и 2) тоже в Киев — на торжество перенесения святых мощей преподобной Евфросинии Полоцкой из Киева в Полоцк.
1. Первое торжество в Киеве было обставлено очень пышно. Прибыл почти весь состав Святейшего Синода, приехали все наиболее видные иерархи Русской Церкви, Обер–Прокурор П.П.Извольский со своим товарищем А.П.Роговичем, все главные миссионеры: В.М.Скворцов, протоиерей Ксенофонт Крючков и др. Я взял с собой архимандрита Серафима, настоятеля Яблочинского монастыря (с академическим образованием), и известного борца против католичества, замечательного народного проповедника протоиерея Тимофея Трача (из галичан), о котором я уже упоминал раньше [
[39]]. Первая часть Киевских торжеств, посвященная воспоминанию о принесении в Киев святых мощей (кроме главы) святой великомученицы Варвары, прошла в строго церковных рамках. Были очень торжественные богослужения, при огромном стечении народа, с проповедями, с обнесением святых мощей на руках духовенства вокруг Михайловского монастыря. Помню, едва только мы вышли из храма, как разразился страшный ливень. Наши облачения вымокли, а великолепные митры размякли; по бородам епископов текли желтые струи от полинявших митр… Епископ Гродненский Михаил, сделавший себе для этого исключительного дня новое, чудное облачение, не удержался от восклицания: «Святая Великомученица, приношу Тебе в жертву мое облачение!» После богослужения был торжественный обед и столь же торжественное собрание с докладами. Этим все и закончилось.
Более разнообразна была программа Миссионерского съезда. Нужно заметить, что миссионерское дело в Русской Церкви стояло не на должной высоте. Хотя на это дело тратились большие церковные суммы; хотя не было недостатка в способных и энергичных миссионерах, однако не чувствовалось в нем подъема и воодушевления, не ощущалось веяния духа апостольского. Были, конечно, отдельно святые миссионеры, просветившие светом христианства всю восточную окраину России (Казанский край), Сибирь, Японию. Мы свято чтим имена Германа, Гурия, Варсонофия Казанских, Иннокентия Иркутского, а в более близкие времена Иннокентия Камчатского, впоследствии митрополита Московского, Николая Японского, архимандрита Макария Глухарева и современного нам Макария Томского (впоследствии митрополита Московского) и других, может быть, неведомых миру подвижников–миссионеров; но это лишь отдельные имена (и больше в прошлом), а современная организация миссионерства, особенно борьба с расплодившимся сектантством и безверием, была организована слабо, хотя были у нас и миссионерские курсы при Казанской Духовной Академии и отдельные миссионерские монастыри и школы. Большинство архиереев относилось к этому важнейшему делу равнодушно. Святое дело миссии облекалось в формы бюрократические. Главным синодальным миссионером состоял чиновник при Обер–Прокуроре известный В.М.Скворцов, светский «генерал», создавший целую школу миссионеров — светских фрачников. В епархиях, в кругах церковных их боялись, но не любили и им не доверяли; светское же общество относилось к ним явно отрицательно. Эти миссионеры любили в своей деятельности опираться на гражданскую власть для защиты и поддержки православия, что, конечно, совсем не способствовало укреплению их нравственного авторитета. Внесение правительством в Государственную думу законопроектов о свободе вероисповедания, или, по принятой терминологии, «о свободе совести», вызвало большое негодование в церковном обществе, особенно среди епископов и духовенства, но это негодование подогревалось главным образом миссионерами. Теперь, когда собрался многолюдный и внушительный Киевский миссионерский съезд с участием высшего духовенства, явилось опасение, что на нем раздастся громкий голос протеста против вероисповедной политики правительства и Государственной думы, и опасения небезосновательные, так как в отдельных частных разговорах эта политика подвергалась суровой критике. Громоотводом на съезде был Обер–Прокурор — ему в Петербурге было сказано, чтобы ни в коем случае не допускать политических выступлений; а киевский генерал–губернатор Сухомлинов (впоследствии военный министр) предупредил, что при первой же попытке внести в обсуждение политические элементы он закроет Съезд. Обер–Прокурор П.П.Извольский при открытии Съезда сказал в этом смысле дипломатическую речь, и все пошло гладко, не выходя из берегов чисто церковных суждений. Съезд разделился на комиссии, обсуждавшие меры духовной борьбы или, точнее — защиты Православной Церкви от пропаганды: а) инославной, главным образом католической; б) сектантства; в) раскола старообрядчества с его многообразными разветвлениями и г) религиозного вольнодумства и атеизма. В свободное от собраний время устраивались полемические диспуты преимущественно со старообрядцами.
Помню одну такую интересную беседу, на которой со стороны старообрядцев выступил недавно совратившийся в раскол бывший профессор Санкт–Петербургской Духовной Академии архимандрит Михаил (Семенов). Интересна его биография: по происхождению еврей, он обратился в православие, прекрасно окончил Казанскую Духовную Академию и впоследствии стал профессором Санкт–Петербургской Академии. Даровитый, литературно образованный, самолюбивый и неуравновешенный, он сначала примкнул к либеральному церковному течению, став в ряды группы так называемых «32–х» петербургских священников, а потом, когда на это последовали некоторые репрессии со стороны церковной власти, ушел в старообрядчество, с которым, собственно говоря, у него не было ничего общего: они — строгие поклонники старых обрядов, строгие бытовики в своем церковном укладе, а он — типичный русский церковный интеллигент; от Церкви отстал, а к расколу не пристал: ни пава, ни ворона… Конечно, старообрядцам было лестно козырнуть перед православными именем профессора и церковного писателя; но ему, понятно, было весьма неловко в своей неожиданной новой роли, он смущался и волновался. Со стороны православных выступил известный, старый, опытный миссионер протоиерей Ксенофонт Крючков.
Это очень любопытная фигура: малообразованный, некультурный, из старообрядческих начетчиков, но чрезвычайно талантливый самородок, прекрасно начитанный в своей литературе, ловкий диалектик, — он был непобедим в полемике, хоть и допускал часто совершенно примитивные, простонародные и даже грубые приемы вроде обращения: «Ну, ну, иди, я из тебя эту раскольничью дурь вышибу!» Интересно было видеть на одной доске тонкого интеллигента–профессора и простоватого, умного, крепко знающего свое дело деревенского священника. Когда архимандрит Михаил стал объяснять, почему он ушел из Православной Церкви, о.К.Крючков все время сокрушенно качал головой, приговаривая: «Ах, греховодники, куда, в какие дебри завели вы нашего Михайлу–то!»
Такая реплика, конечно, очень смутила о.Михаила, он волновался, краснел, в волнении протянул руку к графину — и стал пить воду, не перекрестившись. Это сейчас же подцепил о.Крючков. «Видите, — торжествующе заявил он, — Михайло–то недавно ушел от нас, а уже все благочестивые обычаи растерял». (Старообрядцы и вообще старые православные люди ни за что не станут пить воду, не перекрестившись и не перекрестивши воды.) Такими репликами он привел о.Михаила в замешательство, и уже потом ему нетрудно было его добить…
Не думаю, чтобы Миссионерский съезд в Киеве имел большие практические последствия, хотя в Синоде была образована особая комиссия по проведению в жизнь его постановлений. Во всяком случае, какого–либо заметного подъема в деле миссионерства или радикальной реформы в его организации он не дал. Но тем не менее я считаю, что он имел важное значение в жизни нашей Церкви уже благодаря тому, что дал возможность разрозненным церковным людям собраться вместе, совместно обсудить наболевшие церковные нужды, поделиться и ощутить свое единство — некий дух соборности. Особенно это было важно для церковных иерархов, которые обычно жили совершенно обособленною жизнью, имели очень мало живого общения между собой. Ведь, по духовному регламенту, архиерей мог оставить свою епархию и поехать к своему собрату, с разрешения Святейшего Синода, только на 8 дней. Так, несмотря на благожелательное покровительство государства, церковная иерархия жила под каким–то подозрением, недоверием светских властей, навеянным еще со времени Петра Великого… И потому самыми важными и плодотворными моментами этого Съезда для меня были закрытые собрания иерархов в покоях Киевского митрополита. Съезд окончился великолепным приемом–обедом, устроенным в честь иерархов Городским управлением в Царском саду на берегу Днепра.
2. Не лишена общественного интереса и другая моя поездка — на торжество перенесения из Киева в Полоцк святых мощей преподобной Евфросинии княгини Полоцкой.
Преподобная Евфросиния, подвижница XII века, основала в своем родном городе Полоцке Спасов монастырь (впоследствии Спасо–Евфросиниевский), подвизалась долго там игуменьей, затем в конце своей жизни отправилась паломницей в Святую Землю, где и скончалась; ее нетленное тело было возвращено в Россию и положено в Киевских пещерах.
Полочане не раз возбуждали ходатайство перед Святейшим Синодом о перенесении мощей преподобной Евфросинии из Киева в ее родной город Полоцк, в основанный ею и сохранившийся до наших дней женский монастырь. Основанием для этого ходатайства выставлялось не только естественное чувство земляческой близости местного населения к преподобной, но и другие более высокие церковные мотивы.
Город Полоцк был в XVII веке центром деятельности известного униатского епископа Иосафата Кунцевича. За свою ярую и насильственную, фанатическую пропаганду унии он был убит православными и брошен в Западную Двину. С тех пор католическое и униатское население окружило его ореолом священномученика и ревностно чтило его память. Особенно усилилось это католическое движение, связанное с именем И.Кунцевича, с 1905 года, т. е. со времени издания указа о свободе вероисповедания. Так как это движение смущало совесть православных и служило поводом к совращению некоторых колеблющихся, то явилась мысль этому католическому культу Кунцевича противопоставить почитание преподобной Евфросинии Полоцкой, память которой чтилась в местном народе. По должности члена Государственной думы мне вместе с местными депутатами пришлось участвовать в ходатайстве пред Святейшим Синодом о перенесении в Полоцк мощей преподобной Евфросинии. Наконец ходатайство это было удовлетворено.
Из Киева по Днепру тронулась грандиозная процессия со святыми мощами, по берегам толпы народа с воодушевлением встречали и провожали святыню, во многих местах пароход останавливался для служения молебствий, говорились проповеди; так продолжалось путешествие до самого Полоцка. Вместе с некоторыми депутатами от Западного края я тоже получил приглашение на этот праздник: он был обставлен очень торжественно. Приехало несколько архиереев во главе с Киевским митрополитом Флавианом; приехал Обер–Прокурор Святейшего Синода С.М.Лукьянов, а также некоторые Высочайшие особы царствующего дома, много знати из Петербурга и Киева. Стечение простого народа было огромное. Можно сказать, вся Белоруссия устремилась к прославлению своей родной Княжны–Игуменьи. После торжественного всенощного бдения служили молебны буквально целую ночь. Трогательно было видеть простую, крепкую, детскую веру белорусского крестьянства, особенно благочестие женщин (в белых самодельных костюмах), целыми часами стоявших в ожидании, дабы приложиться к святым мощам. Великая Княгиня Елизавета Федоровна, сестра нашей Императрицы, в сером форменном одеянии сестры своей Марфо–Мариинской обители (наподобие древних диаконисс), всю ту ночь, не сменяясь, простояла у раки Преподобной, оправляя ее покров и служа крестьянам — подавала им иконки, вату, омоченную елеем из лампады и пр. Бедные сельские священники, никогда не видавшие такого торжества, как–то неумело–беспорядочно следовали в церковных церемониях, и один из них неосторожно наступил своими деревенскими сапогами на шлейф королевы эллинов Ольги Константиновны. Митрополит Флавиан, увидав это, очень смутился и рассердился на бедного священника и даже на местного епископа Серафима, а добрейшая королева (прекрасная женщина–христианка) только засмеялась… Беспомощным казался во время этих длительных церемоний и Обер–Прокурор Лукьянов; очевидно, ему никогда не случалось в них участвовать; вместо того чтобы следовать известному порядку, он суетился и не знал, ни куда себя девать, ни куда уйти, чтобы закурить свою сигару…
В Полоцке я встретился со своей постриженницей (по Вировскому монастырю) игуменьей Ниной (Баянус), очень образованной женщиной; она перевела на английский язык магистерское сочинение местного Витебского епископа Серафима о пророчествах Валаама. Теперь она была начальницей женского духовного училища, помещенного в стенах Полоцкого монастыря. В те дни у нее гостил англиканский священник Файнс Клинтон (Fines Clinton), известный деятель по сближению Англиканской Церкви с Востоком [
[40]]. Ему было разрешено стоять за Литургией в алтаре, к некоторому недовольству митрополита Флавиана.
Все это полоцкое торжество несомненно имело большое значение для местного населения, создало великий подъем его духа и укрепило его в преданности Православной Церкви и противостоянии соблазнам католичества. Нам же, русским епископам, оно дало приятнейшую возможность еще раз собраться вместе для откровенной, непринужденной беседы. Из Полоцка мы заехали в епархиальный город Витебск, посетили там местного епископа Серафима и возвратились в Петербург.
Вспоминая мои поездки в период III Думы, я хочу рассказать и о моем паломничестве в Саров в 1911 году.
По окончании летней сессии Государственной думы я выехал прямым поездом из Петербурга в Рыбинск, а оттуда на пароходе по Волге до Нижнего Новгорода. Так приятно было путешествие по этой царственной реке, красавице Волге, дышать полною грудью чистым речным воздухом, наслаждаться панорамою ее берегов, созерцать, как проходят мимо города, деревни, церкви, луга, леса, холмы… Чувствовать какую–то особенную легкость, тишину и свободу после долгого сиденья в Думе в атмосфере табачного дыма и непрерывных речей, споров, волнений…
В Ярославле или Костроме неожиданно подсел ко мне князь Н.Д.Жевахов (впоследствии товарищ обер–прокурора Святейшего Синода), направлявшийся также в Саров. Бог дал мне интересного спутника и собеседника, с которым мы беззаботно и весело болтали. В Нижнем я заехал к знакомому епископу Назарию, но не застал его дома; мне сказали, что он служит Литургию в соборе. Я поехал в собор. Подъезжаю — и вижу: огромные толпы народа, какое–то движение… Оказывается, провожают чудотворную Оранскую икону Божией Матери. Это было удивительное зрелище, прекрасная, умилительная картина нашего старинного русского благочестия. Я вошел в алтарь; по окончании Литургии я подошел поздороваться с епископом, который пригласил меня участвовать в крестном ходу при проводах святой иконы. С всенародным пением церковных богородичных песнопений (канон умилительный Божией Матери) мы проводили святую икону до конца города, где разоблачились и отправились завтракать к игуменье местного женского монастыря, очень любезной старушке.
Конец дня я провел у епископа Назария, а вечером поехал по железной дороге в Арзамас, куда прибыл ранним утром. Здесь, на монастырском Саровском подворье, меня ждала отличная тройка монастырских лошадей, и я немедленно выехал в обитель; езды туда от Арзамаса верст шестьдесят. На половине дороги сменили усталых лошадей на новую тройку. Путешествовать было не только удобно, но и комфортабельно.
В обители братия меня встретила торжественно, со славою проводила в храм, где я поклонился мощам преподобного Серафима. Хотя со времени открытия мощей прошло уже 8 лет, но монастырь все еще как будто жил отголосками этого дивного всероссийского праздника, еще чувствовалось чудесное благоухание этих незабвенных дней, преисполненных обильным излиянием благодатных даров Святого Духа.
В церкви подходит ко мне почтенный протоиерей одного из московских соборов, кланяется до земли и восклицает: «Владыка, я только что получил благодатное исцеление от Преподобного! У меня был жестокий застарелый ревматизм, парализовавший мои ноги. Я несколько лет подряд ездил лечиться на воды. В этом году не мог поехать по недостатку денег и решил вместо вод съездить в Саров к преподобному Серафиму. Я был недвижим, и меня вынесли из экипажа и отнесли к святому источнику, свели в купальню и подставили мои больные ноги под жгуче холодную струю; сначала было больно, жутко, но потом я ощутил в мертвых ногах какую–то теплоту, жизнь; они стали свободнее сгибаться; повторив 3–4 раза этот холодный душ, я твердо стал на ноги, пешком прошел до обители (около версты)… Разрешите в следующее воскресенье сослужить вам в Божественной Литургии…» Говоря это, он обливался слезами и непрестанно восклицал благодарение Преподобному. На меня и на всех окружающих этот рассказ произвел потрясающее впечатление. Совершилось явное, поразительное чудо…
Я прожил в Сарове несколько дней, служил Божественную Литургию, купался под ледяными струями Саровского источника, подробно осмотрел весь монастырь, ближнюю и дальнюю пустыньки. Чудная обитель, полная красоты природной, окруженная дивным лесом и напоенная благоуханием благодати Божией… Чувствовалось веяние духа Преподобного — мир и радость о Святом Духе, завещанные им своей обители.
Из Сарова я проехал в Дивеевский женский монастырь, некогда основанный преподобным Серафимом. Обитель Дивеевская, вначале малая и бедная, широко разрослась и развилась к этому времени — там было до тысячи сестер. Говорят, что К.П.Победоносцев, хватаясь за голову, говорил: «Подумайте — 1000 сестер, ведь это ад!» Но я не только не нашел там никакого «ада», но увидел прекрасный, цветущий, благоустроенный монастырь. Это был скорей огромный муравейник со множеством трудовых учреждений (рукоделье женское, иконописание, пчеловодство, школы и т. д.). Память преподобного Серафима там чтилась особенно трогательно; можно сказать, им дышала вся обитель, все малейшие реликвии там хранились особенно благоговейно. При монастыре жила юродивая о Христе Паша, праведница, пользовавшаяся всеобщим великим почитанием. К ней ходили за советами и сестры и паломники. Увы, я как–то побоялся зайти к ней, особенно услыхав, что недавно она одного епископа (И.) выгнала палкой из своей кельи…
Из Дивеева я проехал в другой, основанный также преподобным Серафимом — Понетаевский монастырь, верстах в тридцати от Дивеева. Это тоже чудный монастырь, только что отстроенный после недавнего пожара. Там находилась прекрасная икона Знамения Божией Матери, написанная одной благочестивой сестрой; эта икона пользуется особенно благоговейным почитанием не только сестер обители, но и всего притекающего в монастырь народа. Мать игуменья подарила мне копию этой иконы. Нечего и говорить о том, что и в Дивеевском и в Понетаевском монастырях меня принимали с большою любовью и радушием. Вообще эта поездка после долгого и томительного сидения в Государственной думе в атмосфере борьбы и кипения политических страстей очень освежила и обновила мои душевные силы. Слава и благодарение Преподобному Серафиму Саровскому Чудотворцу!
Такая поездка, как мое паломничество в Саров, была в моей жизни тогда исключением. Обычно я проводил летние каникулы в Холме и старался их использовать для посещения приходов моей епархии.
Эти поездки по епархии скрепляли мою связь с населением; меня знала каждая деревня настолько, что, когда меня перевели на Волынь, деревенские бабы, как мне передавали, с недоумением и со скорбью спрашивали: «А кто же будет теперь нашим Евлогием?», обращая мое имя в нарицательное. Моя популярность в народе еще больше раздражала моих думских «приятелей» — поляков и иногда ставила меня в оригинальное положение.
Нужно сказать, что свои частые поездки по епархии я совершал в экипажах и на лошадях польских помещиков. Было такое правительственное распоряжение, по которому на местных крестьян распространялась повинность давать подводы для перевозки войск и всяких казенных тяжестей, а помещики должны были давать лошадей и экипажи для проезда государственных чинов, разумеется, за оплату по установленной таксе. Конечно, при установившихся неприязненных отношениях между мною и руководителями местной польской политики полякам было неприятно давать мне лошадей, а мне — тяжело пользоваться их услугами. Но что же делать? Таково было положение. И вот, на этой почве создался следующий инцидент. У меня был намечен маршрут посещения приходов Яновского, или иначе называвшегося Константиновского, уезда, начиная с уездного г.Янова. Отслужив Литургию в местном храме, я после обеда собираюсь ехать в соседний приход Непле — имение члена Государственной думы Л.К.Дымши, моего главного оппонента по проведению в Думе Холмского законопроекта. Вдруг начальник уезда, на обязанности которого лежала забота о средствах моего передвижения, докладывает мне, что Дымша прислал ему письмо, в котором решительно отказывается дать мне лошадей и даже прислал 25 рублей, чтобы нанять лошадей где–либо в другом месте. Это был явный враждебный выпад против меня. Я приказал возвратить деньги Дымше и нанять извозчика в городе. Это задержало меня на несколько часов, но вечером на городских лошадях я все же отправился в Непле. Нужно было проезжать через помещичий двор, где мальчики, дети батраков, встретили меня кошачьим концертом. Но это еще не все. Вечером выяснилось, что и следующий помещик (кажется, граф Платер) также отказывается прислать мне лошадей: по всему уезду дан был лозунг — таким образом затруднить мое передвижение. Я посмеялся этой затее; решено было взять городской экипаж, а лошадей нанимать у крестьян, которые за хорошую плату охотно их давали. Но лошадки крестьянские, привыкшие таскать плуг, никак не умели ходить стройно «четверкой» в панском экипаже. И вот, бывало, рано утром на заре, просыпаясь в домике какого–нибудь сельского священника, я слышу под окном крики и щелканье бича: это обучают «хорошим манерам» тех лошадей, на которых я должен совершать свое епархиальное путешествие. Однажды я слышу, что к этим голосам присоединяется отчаянный женский крик, — оказалось, стражники нечаянно взяли лошадь у одного католика, и вот баба своими воплями протестует против того, чтобы ее лошадь возила «схизматического» архиерея. Я распорядился отдать лошадь ее фанатической католичке–хозяйке, и лошадь заменили другою — «православною». Так благополучно объехал я на крестьянских лошадках весь уезд и чувствовал себя гораздо лучше, нежели когда путешествовал на породистых «английских» конях помещиков.
Нередко во время этих путешествий приходилось исправлять ложные шаги нашей внутренней церковной политики. В одну из таких поездок пришлось мне посетить большой посад Кодень Седлецкой губернии. Посещение было приурочено к празднику Святого Духа, храмовому празднику одной из двух местных церквей. Приезжаю — народу великое множество: местные прихожане, многочисленные богомольцы из соседних приходов и даже из–за Буга, из Гродненской губернии. (Кодень расположен на берегу Буга.) Все пришли с крестными ходами: много украшенных цветами, вышитыми полотенцами и лентами икон; целый лес хоругвей, развеваемых легким весенним ветерком, колыхался на солнце… Чудная картина! С большим подъемом совершил я Божественную Литургию в прекрасном обширном приходском храме. Но чем ближе богослужение подходило к концу, тем сильнее охватывала меня тревожная забота…
Дело в том, что церковная власть — уже тому много лет — упразднила в Кодене крестные ходы вокруг храма, которые так любит наш народ. Коденские мещане хоть и приняли православие, но у них оставалось много прежних униатских обрядов, среди которых и обычай шествования крестного хода вокруг храма по солнцу (как на Западе и у наших старообрядцев); но наши не в меру строгие ревнители православного обряда — епископы непременно требовали хождения против солнца. На этой почве во многих приходах возникали волнения, а в Кодене, при епископе Гедеоне, произошла даже свалка во время крестного хода, когда одна часть богомольцев пошла налево (по солнцу), а другая направо (против солнца); оба шествия встретились, поднялся крик, началась драка и многим помяли бока. После этого епархиальная власть распорядилась упразднить крестные ходы там, где не хотели ходить по–православному. Народ очень тосковал об этом, особенно когда видел, что в соседних костелах беспрепятственно совершаются крестные ходы. При вступлении своем в управление Холмской епархией я разрешил свободу употребления старинных униатских обрядов, не нарушающих чистоты догматов: и крестные ходы «посолонь», и пение часов, ибо в униатской церкви народ не привык к длинному, монотонному и для него маловразумительному чтению псаломщика.
Я решил восстановить крестный ход в Коденском приходе и приурочить это к настоящему торжеству. Но так как в церкви было много народу и из–за Буга «древлеправославных» (как у нас говорилось) гродненцев, то я в своей проповеди горячо убеждал всех сделать праздник радостным и приятным для тех и других. «Идти в ту или другую сторону в крестном ходу, — говорил я, — для спасения не имеет значения, лишь бы идти за крестом: куда крест, туда и мы. В Кодене две церкви; вокруг одной пойдем по нашему старинному обычаю по солнцу, и пусть наши забугские гости в этом уступят нам, а вокруг другой церкви пойдем против солнца, чтобы оказать братскую любовь им». Все молчали. Направился величественный крестный ход со множеством икон, хоругвей, громогласным пением духовных песней из богогласника. Вокруг первой церкви прошли благополучно; но когда подошли к другой церкви, вижу, что в первых рядах — некоторое смятение; какие–то девушки быстро поднесли свой украшенный «девичий» образ к стене и отбежали в сторону. Я делаю вид, что не замечаю; движемся дальше, и, когда дошли до задней стены, с ужасом вижу, что навстречу нам движется огромная толпа. Столкновение неизбежно… Уж впереди слышатся крики, уж бабы в панике перескакивают через ограду…
Я врываюсь в самую гущу толпы и вижу, что у одного старого крестьянина уже разорван ворот рубахи и он неистово что–то кричит. Я останавливаю движение и, напрягая все силы голоса, кричу: «Что вы делаете? Как вы не боитесь Бога?! Ведь я вам разъяснял в церкви, что этот обряд не теряет своего значения от того, в какую сторону ни пойди. Ведь я говорил, что вокруг одного храма пойдем по солнцу, а вокруг другого против солнца…» — «И тот наш батька и этот! — кричат вне себя мещане, — и там по–нашему, и здесь по–нашему!» Разве можно было в таком состоянии что–либо им доказывать?! Кое–как, при всеобщем смятении, вернулись в храм, и праздник, так чудно проведенный, в конце был испорчен, оставив в душе горький осадок. А католики собрались на соседнем пригорке и злорадно посмеивались над нашей неудачей…
К таким прискорбным последствиям приводила неразумная ревность обрядовая; недаром в народе эти ревнители назывались «обрядославцами». Конечно, потом я уже разрешил совершать везде крестный ход так, как привыкли их делать прихожане.
Во время этих поездок по епархии я тесно сближался с народом, не только посещал церковь и школы, но и заходил в хаты, беседовал с прихожанами, принимал их радушное угощение — вообще близко знакомился со всеми сторонами народного быта, проникал во все уголки его жизни, направляя ее по православному и общерусскому руслу.
Я уже сказал, что законопроект о выделении Холмщины в особую губернию с присоединением ее к коренной России стоял в центре моей работы в III Думе.
Законопроект долго пролежал в недрах Министерства Внутренних дел, где его обрабатывали, собирая статистические данные и прочие необходимые сведения. Я уговорил профессора Варшавского университета Францева дать этнографическую и вероисповедную географическую карту, на которой было представлено процентное соотношение поляков и русских, православных и католиков по каждой «гмине» (волости). Она доказывала наглядно, что волна ополячивания и окатоличивания надвигалась с запада на восток, захватывая все новые и новые области. Тридцать–сорок лет тому назад граница была значительно западней, и я ратовал уже не о погибших для русской культуры областях, утерявших свой национальный и вероисповедный облик, а о том населении, где число русских составляло лишь 30 процентов. Карта профессора Францева оказалась весьма полезной и доказательной. Поляки тоже составили карту, но тенденциозность ее была очевидна.
Пролежав долго в министерстве, наш законопроект был внесен наконец в Думу и направлен в комиссию законодательных предложений. Я в нее записался. Тут моя страда и началась.
Условия моей работы в комиссии были весьма сложные. Приходилось законопроект непрерывно защищать, свою позицию энергично отстаивать. Поляки напрягали все силы, чтобы не давать ему ходу, тенденциозно называли его «четвертованием», «четвертым разделом Польши», а русская интеллигенция меня не понимала, видела во мне «зубра», черносотенного угнетателя и обидчика поляков. В Думе я сидел «направо», этого было достаточно, чтобы заподозрить во мне злое чувство к ним, а его во мне не было. «Давайте Польше самоуправление, но не обрекайте на денационализацию клочок исконной русской земли» — вот была моя позиция в Холмском вопросе. Но русская интеллигенция, подозревая меня в шовинизме, в реальной пользе законопроекта отчета себе не отдавала. Винить ее не могу: я сам во Владимире, получив назначение в Холм, не знал, где Xолм находится, и должен был отыскивать его на географической карте…
Председателем комиссии был Николай Иванович Антонов (октябрист), докладчиком Дмитрий Николаевич Чихачев (националист), корректный, спокойный, уравновешенный человек. Весьма энергично меня поддерживал граф В.А.Бобринский. От поляков в комиссию вошли: приват–доцент Петербургского университета Дымша и доктор Гарусевич (польское коло) — оба ядовитые и злые мои противники. От правительства в комиссии выступал умный, деятельный и сочувствующий нашему делу Товарищ Министра Крыжановский (его отец, питомец Киевской Духовной Академии, был директор народных училищ).
Борьба в комиссии была упорная и длительная. Поляки тормозили обсуждение законопроекта, вдавались в бесконечные прения — это была настоящая обструкция. Левая часть комиссии была против меня независимо от того, правое или не правое дело я защищаю. Октябристы (народ лукавый!), руководимые А.И.Гучковым, всю сессию продержали нас, националистов, на узде, «барышничая» голосами: они обещали нас поддержать в Холмском вопросе, но за это требовали, чтобы мы их поддерживали всякий раз, когда наши голоса им понадобятся. К сожалению, и у правых я не находил большой поддержки: они были недовольны моим переходом к националистам и к Холмскому вопросу относились равнодушно. Сказывался и сословный эгоизм. «Польский пан нам ближе, чем русский крестьянин»… — этот взгляд — одни прикровенно, другие открыто — разделяли многие монархисты.
Очень скоро я увидал, что за свое дело мне надо ратовать не только в Думе, но и вне стен ее; что надо сделать популярной в петербургском обществе самую идею Холмской административной самостоятельности, знакомить с Холмщиной, с ее историческими судьбами, здоровыми ее стремлениями к национальному освобождению. Я стал выступать с докладами в клубах (так, например, в клубе «17 октября» — «октябристов»), в общественных собраниях, в великосветских «салонах»… Я даже ездил в Москву, где читал о Холмщине в огромной аудитории в Епархиальном доме. Эта внедумская моя деятельность несколько сблизила меня с петербургским светским обществом. О моих встречах и знакомствах я тут и расскажу.
Не могу сказать, чтобы я в петербургский светский круг вошел. Меня, провинциального «мужицкого архиерея», к знати не тянуло, но с двумя–тремя домами я все же познакомился. В светском Петербурге в те годы встречались семьи, живо интересовавшиеся церковными делами и религиозными вопросами, они принимали представителей высшего духовенства, устраивали обеды, приемы с докладами, с собеседованиями на темы религиозные и церковные; образовались два–три «салона», в которых случалось бывать и мне.
Ближе всех мне была семья бывшего старосты Казанского собора графа Николая Федоровича Гейден (сына финляндского генерал–губернатора) и его жены Евгении Петровны, рожденной княжны Крапоткиной. Граф Н.Ф.Гейден был смиренный, добрый человек, глубоко набожный, чуть с оттенком юродства; он ревновал о религиозном просвещении (издавал религиозно–просветительные брошюры), любил архиерейские службы и паломничества по монастырям; посетил и наши Холмские обители; в Крыму он подарил свой большой участок земли под женский монастырь. У Гейден было много приятелей архиереев, которых они очень часто приглашали на обеды. В числе гостей бывали: Петербургский митрополит Антоний, члены Государственного совета архиепископ Николай Варшавский, архиепископ Флавиан Киевский, архиепископ Арсений Новгородский, а также архиепископ Антоний Волынский, епископ Анастасий — ректор Петербургской Духовной Академии, епископ Антонин, бывал Саблер и др. Я часто прямо из Думы ездил к Гейден обедать, и графиня советовалась со мной, кого из архиереев с кем посадить, дабы избежать какого–нибудь неприятного соседства… После обеда бывал «чай», на который съезжались гости — представители петербургской аристократии, а также лица из интеллигенции, причастные к кругу интересов этого «салона». Начинались беседы на религиозные темы. Тут я встретил Евгения Ивановича Погожева, молодого литератора, писавшего под псевдонимом «Поселянин». Последователь и почитатель Константина Леонтьева, он собирал по всей России биографические данные о русских неканонизированных православных подвижниках и просто высокоблагочестивых русских людях; сотрудничал он также и в церковных журналах. У Гейден он иногда читал отрывки из своих произведений. Встретился там и с приват–доцентом Петербургского университета, юристом и литератором Борисом Никольским (его впоследствии расстреляли большевики). Познакомился с протоиереем Ветвиницким, настоятелем церкви при Управлении уделами. Эта домовая церковь посещалась аристократией; для молящихся было много удобных кресел, чудно пел известный хор композитора Архангельского, а службы были так коротки, что давали повод архиепископу Антонию Волынскому к насмешливым замечаниям: «Кажется, у вас бывает нечто вроде всенощной?» или: «И обедня у вас такая же краткая? А пресуществление Святых Даров у вас бывает?»
Граф Гейден погиб при большевиках. Его долго томили в тюрьме, потом выпустили на поруки его дворника–татарина. В дворницкой он и умер. Графиня Евгения Петровна Гейден скрывалась сначала в Крыму, где на ее глазах расстреляли 16–летнего сына, кадета. Потом она перебралась в Тверь, где жила в дружбе со стариком Саблером, и наконец была выпущена за границу вместе со своей старшей дочерью М.Н.Бобринской и ее детьми. Здесь она сначала жила в Берлине, потом в Париже, где работала в Церковном сестричестве и умерла монахиней.
Через Гейден я познакомился с родственной им семьей графов Шереметевых. Граф Александр Дмитриевич Шереметев, композитор, директор Императорской Певческой капеллы, жил в своем роскошном дворце на Фонтанке и имел свою церковь. Как–то раз я там служил. Некоторые песнопения исполнялись хором в сочетании с инструментальной музыкой: на правом клиросе за драпировкой стояла фисгармония, и аккомпаниатор под сурдинку сопровождал пение хора. Это сочетание инструментальной музыки с пением звучало весьма не дурно.
Был еще «салон» графини Игнатьевой. Тут тоже еженедельно устраивались вечера с докладами и тоже велись беседы на религиозные темы. Руководил беседами обычно преосвященный Серафим (Чичагов), который первый поднял вопрос об оживлении прихода; бывали и епископ Никон Вологодский, член Государственного совета, епископ Саратовский Гермоген и другие… Эти вечера собирали общество крайне правого направления, подвергали критике деятельность обер–прокуроров, иерархов и вообще обсуждалась современная церковная политика.
Я побывал в семье графини Игнатьевой несколько раз с целью популяризации Холмского вопроса, прочел там доклад о Холмщине.
Знакомился я с светским обществом, так сказать, изучал его и в доме генерала Евгения Васильевича Богдановича. Это не был «салон» в принятом смысле этого слова, но у него чуть не ежедневно устраивались общественные или политические завтраки или обеды. На этих завтраках, всегда довольно многолюдных и оживленных, можно было встретить людей самых разнообразных положений: министры, губернаторы, военные, члены Государственной думы, общественные деятели, писатели, журналисты, великосветские дамы и т. д. — все это сходилось за гостеприимным столом этого полуслепого старца, который всегда был центром, или, как говорят, «душою общества». Он очень любил меня и часто присылал за мной свою маленькую карету в одну лошадь, а мне было интересно встретить и повидать чем–либо выдающихся людей. За этими завтраками обсуждались всякие «злобы дня», самые разнообразные вопросы (а иногда сплетни), волновавшие в данный момент общественное мнение. Определенного направления в обсуждении этих вопросов не чувствовалось — был некоторый сумбур, тем более что собеседники принадлежали не только к разным слоям общества, но и к разным течениям общественно–политической мысли. Конечно, общий тон беседы был правый, строго монархический, однако нередко правые деятели подвергались суровой критике, а более либеральные одобрялись.
Однажды после рассказов приезжего из провинции губернатора (кажется, рязанского князя О.) о вредном влиянии толков о Распутине в войсках и народе меня подбили написать письмо об этом Государю, с обещанием доставить по назначению через верные руки. Я написал довольно горячее письмо; конечно, оно не имело никаких последствий, не знаю даже, было ли оно доложено Государю, скорее думаю, что нет…
У Богдановича, может быть по его слепоте, не знакомили гостей друг с другом, отчего они иногда попадали в неловкое положение. Так, известный депутат В.М.Пуришкевич, критикуя за завтраком порядок в Государственной думе, говорит: «Наш–то председатель (Н.А.Хомяков) взял себе личным секретарем жида Рафаловича», не подозревая, что этот Рафалович сидит тут же за столом против него. Тогда Богданович поднимается и громко говорит: «Владимир Митрофанович, позвольте вам представить моего племянника Рафаловича…» (хотя, конечно, последний ни в каком родстве с ним не состоял). Общее смущение… Однако Пуришкевич был не из тех, кого можно было чем–либо смутить: он что–то пробормотал в извинение, а потом как ни в чем не бывало продолжал свой разговор.
В другой раз по этой же причине смущение выпало на мою долю. По случаю кончины протопресвитера военного и морского духовенства А.А.Желобовского заспорили о том, кто будет его преемником. Присутствовавшие за завтраком дамы в шутливом тоне заговорили о том, что, если бы от них зависело, они упросили бы Военного Министра, чтобы протопресвитером назначили хозяина Е.В.Богдановича, ибо его как старейшего из моряков можно назвать (и даже какою–то газетой он назван) «духовным отцом» нашего флота. Я, поддерживая шутливый тон разговора, говорю: «Ну если бы дамы обратились с петицией к Военному Министру (Сухомлинову), то они имели бы несомненный успех, потому что он знает толк в женщинах, как это показал недавний его бракоразводный процесс» (прибавлю от себя — довольно скандальный). Тогда Богданович говорит мне: «Владыка, позвольте вас познакомить с мадам Сухомлиновой» — она сидела тут же, рядом с хозяином… Я страшно сконфузился и просил у нее извинения за свою нескромную болтливость. «Ничего, — ответила она, — ведь вы, в сущности, сказали мне большой комплимент…»
Не знаю, пользовался ли влиянием генерал Богданович в высших сферах и особенно у Государя (кажется, там его поддерживал известный публицист князь Мещерский), но в правительственных кругах и в обществе отношение к нему было скорее отрицательное. «Не следует вам манифестировать свое близкое знакомство с генералом Богдановичем частыми посещениями его квартиры», — говорил мне не раз один из видных членов правительства. Но мне было неловко обижать его гостеприимство и его добрейшей супруги Александры Викторовны, на долю которой выпадала трудная задача быть нянькой своего слепого мужа и одновременно вести такое обширное хозяйство, когда ежедневно за столом сидели десятки гостей, самых разнообразных и часто очень интересных.
В «салоне» гг.Шварц на Знаменской улице собирались не только для докладов на религиозные темы, но затрагивали и философские проблемы, а также обсуждали вопрос о соединении христианских церквей. Я тоже там бывал и даже выступал на докладах по вопросу о сближении Англиканской Церкви с Православной. Этот вопрос интересовал некоторые круги не только церковные, но и светские. Было организовано даже особое «общество»; я состоял его деятельным членом и иногда председательствовал на его собраниях. Мы однажды, кажется в 1912 году, встречали группу англиканских епископов, приехавших знакомиться с Русскою Церковью, показывали им петербургские соборы, наше богослужение, устраивали беседы, духовные концерты. Приезжал также со своими докладами епископ Трура Фрир, знающий русский язык и доныне здравствующий наш друг, а также монах Пуллер из Оксфорда, очень милый старец, любящий Русскую Церковь, мой большой приятель (тоже здравствует и теперь).
Бывал я еще у баронессы В.И.Икскуль. Она была великосветская дама, живо интересовавшаяся всем: литературой, искусством, политикой, церковными делами… Принимала она у себя самых разнообразных лиц. У нее бывали и великие князья, и министры, и партийные социалисты, Распутин и толстовцы, декаденты и сотрудники «Русского Богатства»… Ко мне она относилась очень хорошо. Не раз она выражала желание, чтобы я познакомился с Распутиным, но я категорически отказывался. Она отзывалась о нем без восхищения, а просто как о диковинке, которая ее забавляла. «Он вне условностей… Мы, здороваясь и прощаясь, — целуемся…» — и добавляла с наивностью: «В деревнях ведь все целуются…»
Жила она в прекрасной квартире на Кирочной улице. В одной из комнат, в углу, вместо иконы висел портрет Толстого, а под ним было прикреплено чучело огромной совы. Эта обстановка страшно смущала и даже пугала м.Елену, игуменью Красностокского монастыря, она ощущала присутствие нечистой силы и начинала творить «Иисусову молитву».
В.И. умерла в эмиграции, в Париже. Перед смертью она исповедалась и причастилась. Я ее напутствовал.
Таковы были мои светские знакомства. Должен сказать, что, за немногими исключениями, пышно–пустая петербургская аристократия была средоточием всевозможных политических, церковных и карьерных интриг. Некоторые представители высшего духовенства к ней тянулись. В стороне стоял Петербургский митрополит Антоний. Он целомудренно и скромно шел своим путем, не впутываясь в сеть карьерных домогательств, козней и интриг. А вся атмосфера была ими насыщена. Особый дух петербургского высшего общества отметил еще в свое время Киевский митрополит Платон.
Когда он угасал в тяжкой болезни, ему позвонил кто–то из архиереев по телефону, справляясь о его здоровье. Он ответил: «Плохо мне, владыка, плохо… Может быть, через несколько дней вы кому–нибудь скажете: владыка умер… А знаете, что услышите в ответ? — А кого назначают на его место?»
Кстати упомяну, что митрополиту Платону принадлежат слова, которые сохранили жизненную силу до наших дней: «Перегородки, которые настроили люди в церкви, не доходят до неба…» Произнесены они были при следующих обстоятельствах. Владыка Платон в г.Коростышеве Киевской губернии, проезжая мимо костела, вдруг заметил нечто необычайное: звон колоколов… и ксендз на пороге стоит с крестом в руке. Он вышел из экипажа, вошел в костел, помолился и сказал ксендзу, что рад его приветствию, и произнес вышеприведенные памятные слова. Это проявление братского христианского единения повлекло неприятность для обоих: и католическое и православное духовное начальство было этой встречей недовольно…
Случалось мне бывать и в Русском собрании на Колокольной улице. Здесь в прекрасном зале собирались правые разных направлений и читались разнообразные доклады. Председательствовал литератор Голицын–Муравлин (он умер в эмиграции, в Венгрии). Помню, одно заседание кончилось скандалом. Читал доклад Б.Никольский и коснулся в нем «темных денег», намекая на правительственную субсидию газете «Земщина». Среди слушателей в первом ряду сидел Марков 2–й. «Ложь! Ложь! Неправда!» — громовым голосом прервал он докладчика. Никольский вспылил, подбежал к нему — и дал пощечину. Марков, по сложению богатырь, схватил щуплого Никольского, и тот затрепетал, как рыба, в его руках. В зале поднялся гвалт… Все бросились разнимать врагов. Бывшая начальница Могилевской гимназии, госпожа Б., выхватила шляпную булавку и, по–видимому, больно уколола Маркова… Он выпустил свою жертву из рук, но тут же схватил начальницу. Теперь уже не Никольский, а она трепетала в его руках, он гремел на весь зал: «Чья это жена? Чья жена?..» Я присутствовал на заседании вместе с митрополитом Флавианом. Мы надели клобуки — и поспешили исчезнуть… Скандал грозил обратиться в общую свалку и получить неприятную огласку.
Вспоминая мои петербургские знакомства, не могу не упомянуть и о двукратной моей встрече с о.Иоанном Кронштадтским.
Имя о.Иоанна, великого молитвенника и пастыря, громкое и славное, почиталось по всей России.
И неудивительно, что у некоторых депутатов явилось горячее желание посетить этого великого пастыря в Кронштадте, помолиться, побеседовать с ним, а кстати и посмотреть некоторые суда нашего военного Балтийского флота; последнее особенно интересовало крестьян и членов комиссии Государственной обороны.
В 1908 году нас поехало в Кронштадт человек тридцать. О.Иоанн хотя уже и физически слабел, но духом был бодр и продолжал свою неутомимую, кипучую пастырскую работу. Он принял нас очень ласково, долго с нами беседовал, предложил мне как епископу совершить позднюю Божественную Литургию в Андреевском соборе, а сам служил вместе с депутатами священниками раннюю — в одном из приделов. Я присутствовал и на этой ранней Литургии и тут имел случай наблюдать необычайный характер этого особенного, только ему одному свойственного, священнодействия: бесконечно долгую проскомидию с тысячами имен, которые он повторял, то совсем тихо, неслышно, то вдруг усиливая голос, почти громко выкрикивая; море голов, теснившихся к алтарю; благоговейные слезы умиления приступающих к Святой Чаше… и слышать горячую его проповедь, которую он говорил, снявши ризу, в одном подряснике. Чудилась евангельская картина, когда народ окружал и теснил Божественного Доброго Пастыря — Господа Спасителя нашего…
После Литургии и завтрака мы осматривали два броненосных крейсера — «Богатырь» и «Цесаревич». Не понимая технической стороны дела, я любовался их внешнею красотою: такие это были морские красавцы–великаны, воистину богатыри!
Во второй раз я посетил о.Иоанна (также вместе с членами Думы) летом в год его кончины, когда он, уже сломленный болезнью немощный старец, принимал нас в своей скромной квартире; мы видели, как трудно было ему с нами беседовать, как наше присутствие утомляло его, и поспешили скорее уйти, щадя его явно угасавшие силы.
Вскоре, а именно 20 декабря 1910 года, о.Иоанн скончался и был похоронен в основанном им монастыре в Петербурге, на Карповке. Его мраморная гробница, вся утопавшая в лилиях, сирени, в розовых и голубых гортензиях… помещалась в маленькой нижней церкви, полной благоухания свежих цветов, где я не один раз имел великое утешение священнодействовать.
Настоятельницей монастыря была добрая, но неглубокая м.Ангелина, любившая наряжаться в шелковые рясы. В миру она была скромной купчихой. Она любила приглашать приезжих архиереев на богослужение и угощать гостей чудесными рыбами, кулебяками… В числе их — и меня тоже.
Одно время в монастырь повадился Распутин, которого, однако, к удовольствию самой игуменьи, послушницы скоро отвадили. Стоит Распутин — пройдет одна из послушниц, взглянет на него и говорит вслух, точно сама с собой рассуждает: «Нет, на святого совсем не похож…» А потом другая, третья — и все, заранее сговорившись, то же мнение высказывают. Распутин больше и не показывался.
Тягостным явлением, с монастырем связанным, были «иоаннитки» — фанатические почитательницы о.Иоанна. Возникла эта секта в Кронштадте, в Доме трудолюбия, а оттуда стала перебираться на Карповку. О.Иоанн беспощадно их от себя гнал, а они рвались к нему из толпы и кричали: «Ты Христос! Ты Сын Божий!..» В своем диком фанатизме «иоаннитки» дошли до кощунства: они имели чашу с изображением о.Иоанна, вместо Христа, и творили всякие непотребства. Еще при жизни о.Иоанна секта стала распространяться по России. Даже к нам в далекую холмскую деревню ее занесли солдаты. Это обнаружилось, когда кто–то из них сказал священнику: «У нас есть новый Христос, нам попы не нужны…» Мне пришлось послать к о.Иоанну священника; он вернулся из Кронштадта с собственноручным письмом, в котором о.Иоанн со всею суровостью обличал этих изуверов.
Мои усилия ознакомить общество с Холмщиной и привлечь его внимание к судьбе холмского народа не оказались тщетными: о Холмщине заговорили в прессе и в общественных кругах. Это было мне нужно потому, что обсуждение законопроекта в комиссии безнадежно затягивалось и Холмский вопрос мог превратиться в один из тех надоевших своей неразрешимостью вопросов, которые в конце концов хоронят, пользуясь каким–нибудь формальным предлогом.
Мне хотелось оживить интерес к нему некоторых членов Думы, и я решил весною пригласить к себе в гости, в Холмщину, нескольких депутатов. «Посмотрите мой народ, может быть, вы тогда и меня поймете…» — говорил я. На мое приглашение отозвалось человек 10–15: Н.Н.Львов, граф Бобринский, Чихачев, Е.П.Ковалевский, Гижицкий и др.; их сопровождали два корреспондента: один от «Речи» (Кондурушкин), другой от «Нового Времени».
Сначала я повез их на Троицу в Леснинский монастырь. Праздник привлек в обитель, как всегда, тысячи богомольцев и произвел на моих гостей сильное впечатление. Здесь они впервые познакомились с духовным обликом холмского народа и были очарованы красотой его души. Отсюда я направился с ними в Холм, где наше Братство устроило им торжественный прием, а потом повез их по деревням, заранее предупредив священников о нашем приезде. Повсюду в русских селах нас торжественно встречали. Депутаты воочию убедились, что коренное русское население в Холмщине есть; что здесь у него идет вековая жестокая борьба за свою веру и народность; что мои хлопоты имеют серьезное, реальное основание. Во избежание упрека в пристрастности депутаты заезжали и к польским помещикам. Так, например, побывали в соседней с Леснинским монастырем усадьбе Дымши, который пригласил к себе в тот день несколько польских своих соседей; конечно, там всячески дискредитировали мою деятельность.
Поездка депутатов в Холмщину принесла двоякую пользу: холмское население приободрилось, почувствовало, что в Государственной думе о нем помнят, а я приобрел друзей законопроекта, к которым отныне мог апеллировать, когда поляки обвиняли меня в желании «четвертовать» Польшу.
Другую поездку — в Варшаву — организовал депутат от русского варшавского населения Алексеев (учитель гимназии), завзятый русак. Цель его была та же — ознакомить депутатов с жизнью русских в Польше, в данном случае в бывшей польской столице.
Я участвовал в этой поездке и говорил на одном польском собрании речь, в которой доказывал, что справедливое урегулирование русско–польских отношений на Буге (т. е. в Холмщине) благотворно отзовется и на Висле (т. е. в Варшаве).
Борьба в комиссии, однако, продолжалась. Депутат Дымша издал брошюру на русском языке — сборник «заявлений с мест» русских крестьян. Составители сборника хотели доказать, что русские крестьяне якобы не желают выделяться из пределов Польши и что с ними солидарны некоторые священники, «братчики», даже приходы… Подложность писем была очевидна. Писали их, по–видимому, управляющие польских помещиков: фамилии священников не совпадали с названиями деревень и т. д. Я сказал Дымше прямо: «Вы орудуете с фальшивыми документами». Он оскорбился и с раздражением просил призвать меня к порядку. «Здесь (в комиссии) представитель Министерства Внутренних дел, пусть он обследует этот вопрос. Но я утверждаю: в письмах представлены совершенно неверные данные», — настаивал я.
Чем закончится борьба за Холмщину, предвидеть было трудно — и поляки прибегли к разведке: дабы предварительно выяснить, как расположатся голоса в думском пленуме, когда будет обсуждаться этот вопрос, столь для них болезненный, — они внесли запрос типа «незакономерные действия правительства». Запрос касался мелкого частного дела — о костеле в Ополе, который в 1863 году во время польского восстания был закрыт (в нем обнаружили склад оружия) и потом передан православным. В 1905 году в разгар революционного движения поляки пытались его вернуть силою; православное население его не отдавало — произошла свалка. Власти восстановили законное владение костелом православными.
Я подготовился к выступлению, сказал горячую речь в защиту русских прав на костел и в подтверждение своих слов показал имевшуюся у меня медаль; ее выбили «самостийники» в 1905 году; на ней был изображен русский солдат, поверженный польским легионером, и была надпись: «За свободу и самостоятельность Польши». Дума отклонила запрос небольшим числом голосов, но все же победа осталась за мною.
Во время дебатов у меня произошло неприятное столкновение с Родичевым (к. — д.). В своей речи он напал на меня и сказал, что я «ставленник жандармов и полиции». Меня взорвала эта выходка, и я потребовал, чтобы он подтвердил обвинение документальными данными, в противном случае я оставлял за собою право сказать ему, что он допустил ложь и клевету… Родичев молчал. После заседания я спросил его: «Что вы говорите, Федор Измайлович?» — «Борьба так борьба… — ответил он. — Вы мне сдачи дали, мы «квиты…»
В русско–польских отношениях кадеты играли двойственную роль. Они зло нападали на правительство, обвиняя в притеснении поляков, и одновременно, не считаясь со справедливостью и пренебрегая фактами, не хотели признать, какие интриги, а иногда и организованное насилие вели поляки по отношению к русским. Это лицемерие меня возмущало. Как–то раз я с трибуны их обличил и закончил свою речь несколько резкой репликой. «Стыдно вам, господа!» — сказал я. Правая часть Думы мне аплодировала. Председательствующий в тот день барон Мейендорф за последние слова сделал мне замечание. Я смолчал, но за меня горячо заступились, и по адресу Председателя поднялись возмущенные крики. Я надел клобук и уехал домой. К вечеру пришла ко мне депутация с выражением в письменной форме сочувствия и протеста против действий Председателя. Я, конечно, не придал никакого значения этому инциденту, но все же в отношении к барону Мейендорфу некоторое время чувствовалась неловкость. Супруга барона прислала мне письмо. «Муж относится к вам с глубоким уважением… он исполнял свой долг… он не думал… не хотел и т. д.», — писала она.
Холмский законопроект волочился в комиссии без малого 3 года (1908–1911). Меня это удручало. Всякий раз, когда приезжал на каникулы в Холм, я чувствовал — все с нетерпением ждут от меня доброй вести, а я в ответ на расспросы и недоумение все говорю: «Подождите… потерпите…»
В 1911 году, весной, перед каникулами, я побывал у П.А.Столыпина. Он был на моей стороне, а мне благодаря его ясному национальному сознанию говорить с ним было легко. Столыпин обещал взять осенью судьбу законопроекта в свои руки. Это меня обнадежило. Но скоро надежда моя рухнула: 5 сентября Столыпина убили в Киеве…
Я ездил во главе холмской депутации на погребение. Мы возложили от Холмщины венок в виде креста, и я произнес надгробное «слово». Помню некоторые его фразы: «Сермяжная крестьянская Холмская Русь послала меня поклониться твоей измученной душе, твоему израненному телу… Итак, врагам России недостаточно было крови детей твоих — им нужны были твоя кровь, твоя жизнь… Кровь — семя жизни, она цемент, который скрепляет. И твоя кровь послужит возрождению России, скреплению ее национальных сил…»
Государь на погребении не был — только накануне похорон поклонился праху. Вдова О. Б. Столыпина сказала Государю: «Не перевелись на Руси Сусанины…» К сожалению, к моменту этой трагической смерти популярность Столыпина при дворе уже стала меркнуть. В высшем свете завидовали большой его популярности, язвительно называя его Петром IV.
Для нас, националистов, утрата Столыпина была потерей тяжкой. Он долго жил в Западном крае, и это обострило его чуткость к национальным вопросам, поэтому мне было так легко излагать перед ним нашу Холмскую проблему, и по темпераменту он был живой русский человек.
Новый Председатель Совета Министров В. Н. Коковцов к нашим холмским делам относился довольно безучастно. Еще при жизни Столыпина я имел случай в этом убедиться, когда хлопотал о постройке железной дороги в южной части Холмщины. Отсутствие железнодорожного пути обрекало эту область — житницу края — на экономический застой. Везти зерно на ближайшую станцию за 80–90 верст — не оправдывались расходы; сбывать на месте — не было покупщиков; и крестьяне отдавали его чуть ли не даром евреям–скупщикам. Граф Замойский мечтал о постройке железной дороги тоже, но хотел, чтобы ее провели через все его фольварки. Польские инженеры составили удобные для него проекты и почти заручились согласием Министра Финансов. В это время я разговорился о дороге с некоторыми капиталистами и членами Государственного совета и у нас возник план концессии, причем работы мы предполагали производить с помощью местных рабочих. Столыпину план очень понравился. Я сунулся с нашим проектом к В. Н. Коковцову, но он встретил его холодно: «Мне странно видеть епископа хлопочущим о железной дороге, — сказал он. — Ваши капиталы дутые. Нужна экспертиза. К тому же я наполовину связан обещанием». — «Я ратую за русские национальные интересы», — возразил я. Но Министр отстаивал свою точку зрения: железная дорога — финансовое предприятие, а деньги не имеют ни запаха, ни вкуса, ни национальности… Я сослался на Столыпина, на его одобрение нашего плана. «Ах, этот Петр Аркадьевич…» — посетовал на него Коковцов.
Мне надо было выяснить отношение к проекту Военного Министра, и я отправился к Сухомлинову. Он очень не любил Коковцова из–за разных финансовых разногласий в ассигновках на военное ведомство. План постройки железной дороги Сухомлинов встретил благодушно и заверил меня, что с его стороны никаких препятствий не будет. К сожалению, его поддержкой воспользоваться не пришлось. После убийства Столыпина разговоры о концессии замолкли до конца III Думы.
Холмский законопроект по–прежнему пребывал в комиссии без движения. Коковцов в моей беседе с ним о Холмщине интереса к ее судьбе не проявлял. «Препятствовать не буду, но смысла не вижу, вопроса не знаю, защищать законопроект не буду — поручу его кому–нибудь…» — сказал он. А тут еще, на наше несчастье, Товарищ Министра Крыжановский, наш земляк, доброжелатель и неутомимый помощник в комиссии и в недрах министерства, ушел из министерства и занял пост Государственного секретаря, не имеющий прямого отношения к живой творческой законодательной работе. Со всех сторон были одни неудачи, и я приуныл.
Коковцов поручил Товарищу Министра Внутренних дел Макарову представить Думе наш законопроект. После долгих томительных усилий мне удалось настоять, чтобы его внесли на обсуждение общего собрания. Вступительную речь по поводу законопроекта сказал тоже Макаров. Он, конечно, мало был знаком с этим вопросом, и в его речи ясно чувствовалась спешная, теоретическая подготовка, но все же он добросовестно его изучил и не сделал больших ошибок. После первого обмена мнений снова началась прежняя волокита: то законопроект ставили на повестку дня, то снимали, то включали последним, заведомо зная, что в тот день очередь до него не дойдет. Наконец был момент, когда просто решили от него отделаться и его похоронить.
Однажды у нас, националистов, было собрание в нашем клубе: приехали члены партии из провинции. Поляки, увидав, что нас нет, сговорились с левыми и, в спешном порядке проголосовав ряд мелких законопроектов, решили с нашим законопроектом покончить. Шингарев (к. — д.) предложил снять его с обсуждения и вообще стоял за его провал. Если бы дело дошло до голсования, все было бы кончено. Но мы успели примчаться на извочиках и этому помешали. Было постановлено перейти к его постатейному чтению. До конца апреля продолжались томительные, подчас бурные, прения при постатейном обсуждении законопроекта; каждое положение приходилось брать с бою. Наконец 26 апреля (1912г.) наш проект был поставлен на окончательное голосование в пленуме. Интерес к Холмскому вопросу возрос уже настолько, что зал был переполнен. Наш докладчик Чихачев (в тот день нарядный и торжественный) посоветовал мне взять перед вотумом слово «по мотивам голосования» и сказать краткую лирическую речь, чтобы воздействовать на чувство слушателей. И я сказал вкратце следующее:
– Из этого благородного собрания, из этого прекрасного зала, моя мысль переносится туда, под соломенные крыши бедных холмских крестьян… Несладка была их жизнь в прошлом… Наш законопроект — великий просвет в их темной жизни. Они терпеливо — 5 лет! — ждут зари новой жизни, решения своей участи… Этот вотум для них — решение кардинального вопроса: быть им или не быть? развиваться на национальных началах или быть подавленными польско–католической стихией? Мне хотелось бы, чтобы депутаты спросили свою совесть и подумали об этой трагедии холмского народа…»
После меня взял слово польский депутат Гарусевич:
– Я тоже привлекаю внимание Думы. Это голосование — клин, который хотят вбить между русскими и поляками… Если вы примкнете к законопроекту — это крышка гроба! Поляки этого вам не простят!..
Голосование… Левые, поляки, инородцы голосовали против; некоторые левые октябристы до вотума из зала исчезли; остальные октябристы в подавляющем большинстве и вся правая сторона Думы голосовали за законопроект. Он прошел почти 50–60 голосами. Аплодисменты, приветствия… Все меня поздравляют. А у меня чувство — гора с плеч свалилась…
Победа в Думе не означала, что борьба окончена. Нужно было еще провести законопроект через Государственный совет, а там я предвидел немало подводных камней. Я защищал интересы серенького крестьянина, не умевшего отстаивать свое национальное сознание. Польская аристократия имела родственные и дружеские связи в столичном обществе, в его высших сферах, — это тоже надо было учитывать. Я посетил несколько членов Государственного совета: профессора Богалея (левый), лидера правых — Дурново, Нейдгарта (центр); разослал всем членам свои брошюры. Дурново обещал мне поддержку — однако горячего сочувствия я у него не встретил. «Я не могу назвать себя вашим сторонником, — сказал он, — но вижу, что законопроект в такой стадии, когда его назад уже не повернуть…» Председатель Государственного совета Акимов тоже обещал наш законопроект поддержать, но посоветовал предварительно поговорить с Витте. «Если его «по шерсти», то он поможет…» — заметил он, намекая на чувствительность бывшего министра в вопросах самолюбия.
Наступил уже май. К концу весны Государственный совет был всегда перегружен делами и я стал тревожиться, успеет ли он рассмотреть наш законопроект до летних каникул.
По приглашению архиепископа Варшавского Николая к 20 мая я должен был прибыть в Варшаву на освящение нового собора. Он был заложен еще архиепископом Флавианом Варшавским, бывшим потом митрополитом Киевским, и строился на моих глазах. Вместе со мной на освящение поехали митрополит Флавиан и Обер–Прокурор В.К.Саблер.
Перед самым отъездом — телефон… Голос Саблера: «Доброе здоровье, ваше высокопреосвященство!» — Почему «высоко»? — в недоумении спросил я. Тут выяснилось, что после холмской моей победы в Думе я удостоен особого Высочайшего рескрипта с возведением в сан архиепископа (в сане епископа я пробыл всего 9 лет). Под впечатлением этой неожиданной вести я из Петербурга и уехал.
Поездке в Варшаву я был рад. Отдых, хоть краткий, был мне необходим, уж очень я за зиму устал и измучился.
На освящении я встретился со своими старыми «друзьями»: с генерал–губернатором Скалоном, с правителем его канцелярии Ячевским, а также кое с кем из местной чиновной знати. Натянуто улыбаясь, они поздравляли меня с успехом в Думе — явно «on faisait bonne mine au mauvais jue…» [
[41]] На освящении я служил в золотом облачении, которое собор поднес мне в дар. После богослужения был обед у архиепископа, а на следующий день у генерал–губернатора. Архиепископ Николай, оберегая меня, уговаривал быть осторожным: «Ради Бога, не разъезжайте неосмотрительно по городу, как бы вас поляки не подстрелили…»
Высокопреосвященный Николай был добрый человек, но очень самолюбивый, шумливый, неврастеник и крикун. Во время крестного хода он заметил, что воспитанники какого–то военного училища выстроились под начальством воспитателя–офицера и стоят в шапках (по правилу училища снимать шапок им и не надлежало). Владыка Николай разнес воспитателя и потребовал, чтобы шапки были сняты. Эта сцена рассмешила Саблера, потому что громовой голос владыки сливался с громом надвинувшейся ко времени крестного хода грозы. «Пуще грома гремит святитель…» — смеясь, заметил Саблер.
Вскоре по возвращении в Петербург я узнал, что в Государственном совете Холмский законопроект поставлен на повестку.
Заседание, решавшее судьбу всего моего дела, открылось под председательством Акимова. Это был грозный и громогласный Председатель, не стеснявшийся останавливать ораторов, какова бы ни была степень их заслуженности. «Ваше высокопревосходительство… ваше превосходительство», — начинал он и переходил к строгому внушению. Докладчиком по нашему делу был член Государственного совета, бывший Товарищ Министра А.С.Стишинский. От правительства в защиту законопроекта выступил Министр Макаров.
Дебаты выявили наших сторонников и противников. «За» законопроект были: протоиерей Буткевич, профессор Богалей; «против» — Н.С.Таганцев, Максим Ковалевский, все польское коло и вообще вся левая сторона Совета. Представитель центра граф Олсуфьев в своей речи был даже язвителен. Он подверг критике зигзагообразные границы Холмской губернии и насмешливо отозвался об ее очертаниях: «Так подвыпивший крестьянин «мыслете» выводит…» Он не учитывал нашего стремления точно придерживаться 30–процентной нормы русского населения и уже в зависимости от нее проводить границы, не считаясь с тем, какие получатся очертания на карте. Всякий раз, когда он упоминал в своей речи мое имя, он говорил «епископ, а теперь — архиепископ Евлогий…», подчеркивая последние два слова и тем самым намекая, что Холмский законопроект якобы послужил мне средством для моей карьеры.
На заседании присутствовали все министры, но при голосовании Коковцов и кто–то еще из министров исчезли… Законопроект прошел большим числом голосов. Борьба была окончена и завершилась полной победой.
Я посетил Акимова и членов Государственного совета, содействовавших нашему главному Холмскому делу, и выразил им мою благодарность.
Пятилетний срок существования III Государственной думы был на исходе, основная задача моя была выполнена — теперь я мог ехать спокойно в свою епархию. Однако свое возвращение я немного отсрочил.
Перед самым отъездом архиепископ Сергий Финляндский предложил мне съездить на Валаам, на праздник Валаамских Чудотворцев преподобных Сергия и Германа. С нами собрался на праздник и Саблер. Дорогой, на пароходе, архиепископ Сергий спросил меня, не хочу ли я перейти из Холма в другую более спокойную и удобную епархию, и предложил мне Симферопольскую кафедру: частые посещения Крыма царской семьей, южный климат, прекрасная крымская природа… по их мнению, это были несомненные преимущества Таврической епархии. Я отказался: работа по проведению закона в жизнь только теперь и начнется: новый губернатор, новые губернские учреждения — все эти основы новой жизни требовали моего присутствия в Холмском крае как главного виновника этой реформы, да и психологически невозможно оставлять паству, когда с ней уже сроднился… На этом наш разговор и кончился.
15 июня III Дума и Государственный совет были распущены после пятилетнего благополучного существования, а 23 июня вскоре после моего возвращения с Валаама, в день Владимирской иконы Божией Матери, Холмский законопроект был Высочайше утвержден. Трудно себе представить восторг и ликование народа, когда я вернулся в Холм победителем…
Глава 14. АРХИЕПИСКОП ХОЛМСКИЙ (1912–1914)
В Холм я вернулся в середине июня (1912 г.). Население встретило меня в единодушном радостном подъеме, со слезами благодарности, в ликовании о нашей холмской национальной свободе… Моя спаянность с народом, которую осуществление общих чаяний лишь укрепило, обнаруживалась в тех искренних изъявлениях народной любви и доверия ко мне, которые отныне я постоянно чувствовал. Это были самые счастливые годы моей жизни…
Решено было поблагодарить меня за думские труды, — и по всей Холмщине была объявлена подписка на подношение мне дара. Мне поднесли драгоценнейшую панагию, древней патриаршей формы, сделанную по рисунку Великого Князя Петра Николаевича; она была изделием знаменитой фирмы Оловянишникова (в Москве), славившейся воспроизведением, по старинным археологическим образцам, церковной утвари и прочих предметов церковного обихода: специальный художник–археолог (Басков) руководил работами в мастерских Оловянишникова.
С своей стороны мне хотелось чем–нибудь ознаменовать начало новой жизни Холмщины, — и я решил строить в Холме храм во имя Владимирской иконы Божией Матери (в день ее прославления наш законопроект получил Высочайшее утверждение). Наиболее подходящим местом мне казалось предместье Холма — Облонье: там когда–то была православная церковь, униаты ее разрушили; остался один крест, к которому ежегодно с крестным ходом направлялись богомольцы. На объявленную мной подписку Холмщина отозвалась единодушно, и уже осенью состоялась закладка, а через год храм был готов [
[42]].
В ту осень Холмский праздник (8 сентября) мы отпраздновали как всенародный праздник новой Холмщины — так он был воспринят населением. Народу прибыло тысячи, воодушевление царило необычайное. Католики старались успеху помешать — пустили в ход листовки, предупреждая о холере, которая якобы свирепствует в Холме, о карантине, о том, что в город не пускают, и проч. Эти происки ни к чему не привели, праздник мы отпраздновали светло и радостно.
Начались выборы в IV Государственную думу. Не было и речи о каком–либо кандидате, кроме меня. Тут единодушие было полное. Препятствие явилось со стороны. Неожиданно пришла телеграмма Саблера — извещение о предстоящем его приезде в Холм. Я находился в это время в Яблочинском монастыре. Саблеру дали знать, что я под Брестом, он изменил маршрут и прибыл ко мне в монастырь. В соседнем посаде предстояло освящение церкви, и я пригласил Саблера на торжество. Он охотно согласился.
Помню, мы выехали ранним утром, в ясный осенний день, на резвых монастырских лошадках. Дорогой Саблер заговорил о выборах: они идут успешно, по всем губерниям проходит много священников, этим надо воспользоваться, хорошо бы в Думе организовать особую фракцию духовенства… Тут он обратился ко мне с неожиданным предложением:
– Вы столько лет в Думе, вы знакомы с политической работой… вот если бы вы взяли на себя задачу организовать такую группу, чтобы духовенство в Думе не шло вразброд. У вас будет 50–60 голосов. Это — сила! В пленуме с нею можно решать почти все вопросы…
– Внешне это кажется правильным, — ответил я, — а внутренне — ошибка и страшный вред для Церкви.
Саблер моему ответу крайне удивился, и я, дабы рассеять его недоумение, изложил ему мой основной взгляд на роль духовенства и Церкви в жизни русского народа: Россия не знает клерикализма, и такое явление, как партия «национального католического центра», которая возникла на Западе, было бы нашему народу чуждо; наше смиренное сельское духовенство находится в тесной органической, бытовой связи с народом; спаянное с ним единством мысли, чувствований и страданий, оно не может идти в Думу, разрывая эту глубокую жизненную связь; изолируя духовенство от народа, мы сделаем его одиозным, «попы налезли в Думу», «попы преследуют интересы своих карманов…» — вот как воспримет народ возникновение в Думе фракции духовенства.
– Вы так думаете? — спросил Саблер.
– Да, думаю и, простите, отказываюсь содействовать вашему плану. Духовенство во всех партиях должно работать по совести. Важнее, чтобы оно было вкраплено во все политические партии и в них уже защищало церковные взгляды. Влияние его будет шире и моральный авторитет устойчивей.
Саблер начал горячо спорить, но наш спор ни к чему не привел. Через день он уехал.
Вскоре после Холмского праздника я получил конфиденциальное письмо от архиепископа Сергия Финляндского. Он сообщал мне, что Синод обсуждал мою кандидатуру в IV Думу и решил мне предложить — ввиду моей шестилетней оторванности от епархии — кандидатуры моей на новых выборах не выставлять, а заняться епархиальными делами. Я сразу понял в чем дело… но встретил это известие со вздохом облегчения. Остаться в Холмщине мне хотелось. Начало строительства нашей новой жизни возлагало на меня ответственность, которую я мог взять на себя в полной мере, лишь проживая в епархии. Однако сообщение о постановлении Синода остается характерным фактом для того времени…
Начались выборы. Избиратели единогласно кладут записки за меня — и я вновь избран в депутаты. Я отказываюсь. Всеобщее недоумение… Тогда я счел нужным сказать о запрещении Синода. Избиратели были возмущены: «Мы другого не хотим», «Мы другого не выберем», — и в Синод полетела телеграмма. Через два дня — вторая. В ответ — молчание… Долго убеждал я возмущенных моих сторонников, предлагая в кандидаты протоиерея и магистра богословия Будиловича [
[43]], отличного оратора, немного либерального по взглядам, но в основных пунктах все же моего единомышленника. В конце концов его и выбрали (прошел он не единогласно).
Я остался в Холме. Началась лихорадочная деятельность по организации новых губернских учреждений. Наметились кандидатуры в холмские губернаторы. Их было две: люблинский губернатор Евгений Васильевич Менкин и седлецкий губернатор Александр Николаевич Волжин [
[44]].
Е.В.Менкин, приятный, образованный, умный человек, тонкий юрист, не раз помогал мне в трудных юридических вопросах. По натуре несколько ленивый, по внешности толстяк, он имел склонность к ублажению своей персоны: любил вкусно и много покушать, и его гурманство было известно даже за пределами его губернии — в Варшаве, где научились готовить котлеты á la Menkine. Мне запомнился его редкий аппетит, когда он как–то раз летом в женском монастыре, куда мы с ним приехали, вмиг опорожнил огромный жбан простокваши. Я только руками развел…
А.Н.Волжин, женатый на Долгоруковой, большой помещик, человек недалекий, разыгрывал вельможу, стараясь выдержать стиль древнерусского воеводы. У себя в усадьбе он носил вычурные кафтаны, сафьяновые сапоги… и, по–видимому, хотел производить впечатление боярина в своей вотчине.
Наша губерния стала модной, пост холмского губернатора считался «на виду», и кандидатура Волжина, имевшего большие связи в Петербурге, взяла верх.
С новым губернатором очень скоро начались трения.
Прежде чем пришло официальное назначение, Волжину было поручено заняться постройкой зданий губернаторского дома, губернского управления, губернской управы и проч. Я пользовался еще в то время в Холме неоспоримым авторитетом, и Волжин приехал посовещаться со мной о том, где в Холме строить губернские учреждения. Намечено было два места: одно — неподалеку от собора, на скате холма к равнине; другое — на противоположном конце города, рядом с казармами, в неприглядной, болотистой низине. Я стоял за первое. Волжин — за второе. На стороне он не скрывал и мотивов своего выбора: «Возле собора — влияние архиерея, попов, а тут мы — в отдалении, тут новую жизнь мы и начнем». Он волновался и высказывал опасения, что я не сдам позиции и поеду в Петербург жаловаться. Это первое столкновение обнаружило уклон нового губернатора к соперничеству со мной.
Наконец состоялось официальное его назначение. Впредь до переезда в новый губернаторский дом Волжин поселился в мещанском домике, разукрасив комнаты в русском стиле всевозможными блюдами, вышивками… завел большую книгу для посетителей с заголовком «Первый Холмский Губернатор».
Скоро я понял, что мне будет с ним трудно. Он не понимал значения главного административного лица в губернии, от которого Холмщина ждет труда и забот о ее интересах, и своим поведением, нравом и привычками лишь компрометировал власть, которой был облечен. Выезжая из Холма в уездные города, предавался иногда кутежам с ватагой чиновников; а когда ему случалось со своими спутниками заезжать в женские монастыри, это кончалось тем, что ко мне поступали потом жалобы от игумений, что посетители недостойно держали себя в обители. Любил Волжин кутить и в Седлеце с нарвскими гусарами.
Его соперничество со мною принимало иногда нелепые формы. Так, например, он не мог примириться с тем, что я (когда не участвую в богослужении) стою в соборе среди народа на особом месте: на возвышении, справа, у переднего столба. Этот обычай отводить архиерею в храме особое место — древний. Его смысл в том, чтобы епископ видел все, что в храме делается, и сам был примером для народа, как себя во время службы держать, как и когда класть поклоны, креститься. Волжин выразил желание тоже стоять на возвышении: «Надо, чтобы и губернатора все видели. Я вынужден в камергерском мундире через тулупы пробиваться; мне необходимо возвышение — и чтобы впереди вас. Вы ничего не имеете против?» — «Что ж, делайте, если хотите», — ответил я. «В таком случае я дам распоряжение губернскому архитектору». И вот воздвигли сооружение: помост, перегородки вроде частокола… — с кадилом духовенству и не пройти. Я указал инженеру на это неудобство. Волжин рассердился, но сооружение приказал разобрать; проезжая как–то раз мимо пожарного депо, я увидал, что оно там валяется на дворе. Этим дело не кончилось. Волжин все же написал об этом в Петербург. Потом Государственный секретарь Крыжановский меня спросил: «Что это у вас за трения с губернатором?» — «О каких трениях вы говорите?» — «Да из–за «горнего места»… [
[45]] — «Не из–за «горнего», а «губернаторского», — поправил я Крыжановского. Узнав в чем дело, он рассмеялся.
Как–то раз Волжин, во время богослужения в наш храмовой праздник, вошел в алтарь; увидав, что я сижу, он уселся тоже. Архиепископ Антоний Волынский, находившийся в алтаре, сделал ему замечание: «Светским лицам в алтаре нельзя сидеть».
Недоволен был Волжин и недостаточной почтительностью к нему духовенства в губернии. «Они у вас распущены — дисциплины нет… дисциплины нет… Вы слишком добры», — жаловался он, когда кто–то на станции ему поклонился без особой почтительности. «Я не могу циркуляры об этом писать», — заметил я.
Волжин был полной противоположностью того управителя губернии, который, согласно монархической идеологии, должен был олицетворять в представлении народа «посланца Царя». Холмский народ воспринял административную реформу почти религиозно, готов был признать в губернаторе царского делегата — и какое разочарование для всех! А мне было за него перед народом стыдно…
К 8 сентября (1913 г.) к Холмскому нашему празднику приурочили официальное открытие Холмской губернии. Я пригласил митрополита Флавиана и несколько епископов; Волжин послал приглашение Министру Внутренних дел Маклакову и некоторым варшавским сановникам. В день торжества был обед, и с Волжиным вновь возникло осложнение из–за места. Ключарь мне доложил, что губернатор требует, чтобы его посадили ближе к Министру или митрополиту, а главное — выше меня.
Справили мы торжество, проводили гостей, пьем вечером чай в подрясниках, и вдруг — телеграмма… Извещение о смерти Экзарха Грузии Иннокентия… Митрополит Флавиан посмотрел на меня и говорит: «Не придется ли вам ехать на Кавказ?..» Я ответил, что слишком молод для этого высокого положения. Впоследствии я узнал, что, действительно, был одним из кандидатов на пост Экзарха Грузии, но Кавказский наместник граф Воронцов–Дашков, давший обо мне в общем благоприятный отзыв, счел меня для Кавказа все же неприемлемым, слишком националистически настроенным архиереем. Вскоре я получил другое предложение от бывшего тогда в Синоде архиепископа Волынского Антония — занять освободившуюся кафедру в Воронеже. Епархия эта была большая, почетная, связанная со славными именами св.Митрофана и Тихона Задонского — однако по собственному желанию оставить Холмщину я не мог, особенно в этот важный период ее новой жизни, и потому отказался.
Осень 1913 года я посвятил развитию холмской просветительной жизни. Мы устроили при Холмском Братстве свою типографию и стали издавать еженедельник «Холмская Русь»; основали культурно–просветительное общество учителей, сельскохозяйственное общество и общество взаимного кредита. Во всех этих начинаниях я принимал самое живое участие: выписывал породистый скот, сельскохозяйственные орудия… Губернатор в работе мало участвовал и ограничивался официальным представительством в тех случаях, когда это требовалось.
Весной 1914 года на Пасхальной неделе (с четверга на пятницу) среди ночи меня разбудил набат… Мои слуги, не желая меня тревожить, сказали мне, что пожар где–то далеко. Но правда сейчас же выяснилась: ко мне прискакал губернатор и сообщил, что горит духовная семинария [
[46]]. Я бросился на пожар. Половина здания сгорела, сильно пострадала церковь. Лишь к утру удалось пожарным справиться с огнем. Я протелеграфировал в Синод о несчастии.
Весной, как обычно, я отправился в поездку по епархии. На обратном пути мне подвернулась какая–то газета. Начинаю читать — и глазам не верю: ошеломляющее известие… Святейший Синод постановил перевести архиепископа Антония Волынского в Харьков, меня — на место архиепископа Антония на Волынь, а викария Московской епархии Анастасия епископа Серпуховского — на мое место, в Холмскую епархию…
Как я уезжал из Холмщины, как расставался с дорогой моему сердцу паствой, какие проводы мне приуготовила наша взаимная любовь, — рассказывать не буду. Все это запечатлено подробно в статье «Холмского календаря» за 1915 год. Тут вкратце я ее и привожу.
«…С первым же получением известия о перемещении Владыки Евлогия на Волынь началась спешная работа по выработке и исполнению программ и предложений о его чествовании. Со своей стороны и Архипастырь немало уделял внимания оставляемой им пастве. Двери архиерейского дома, что называется, не затворялись. Шли к Владыке с поздравлениями, пожеланиями, последними просьбами, выражениями скорби; Владыка всех принимал, выслушивал, поддерживал, утешал, наставлял. Не оставил он и личным посещением, на прощание, учебных заведений и некоторых общественных организаций г.Холма, а также и Люблинской паствы… Одновременно стали прибывать депутации от разных общественных учреждений и объединений Холмщины. Прощальные приветствия, адреса с выражением горячей благодарности, подношения… Множество икон, драгоценная панагия от архиепископа Михаила Гродненского и Преосвященного Владимира; архиерейский жезл, Ростовского стиля, от Холмской паствы; посох от чиновников Казенной Палаты и Казначейства; Священные книги Ветхого Завета («Тора») от еврейского населения г.Холма; художественные рукоделия от учениц правительственной женской гимназии и проч.
…26 мая Владыка Евлогий молитвенно прощался со всею Холмскою паствою. В этот день сказалась вся сила любви Архипастыря к своим чадам и пасомых к своему Отцу, Архипастырю и вождю. В этот день Высокопреосвященный Владыка Евлогий служил в кафедральном соборе последнюю Литургию в сослужении многочисленного местного и приезжего духовенства. Собор был переполнен народом. Среди молящихся находились высшие губернские чины во главе с Холмским губернатором А.Н.Волжиным, много почитателей Владыки и крестьян из отдаленных уголков Холмщины и Подляшья. После Литургии Высокопреосвященный Владыка Евлогий обратился к молящимся с прощальной речью. С первых же слов голос его дрогнул, и в нем послышались слезы. С каждым словом Владыки все сильнее и сильнее сжимались сердца присутствующих от глубокой скорби. Заблестели глаза, наполненные слезами, послышались рыдания… Плакали женщины, плакали дети, всхлипывали интеллигенты, утирали слезы стоявшие в храме священники и обливались слезами загорелые лица крестьян. Рыдания народа разрывали Архипастырское сердце, и он говорил задыхаясь, еле владея собой. Прощальные слова Архипастыря трудно передать на бумаге — их нужно было слышать или, вернее, переживать. Прося прощения себе у Заступницы Холмского края за невольные ошибки и грехи, Владыка трогательно прощался с дорогим его сердцу Холмским собором, Холмскими монастырями, духовенством, интеллигентными работниками и, наконец, с дорогим его сердцу Холмским народом. Всем он сказал несколько горячих слов утешения, благодарности, наставления, всех прося не забывать дорогого для него дела и работать на спасение Холмщины. Произнося последние слова своей речи, Владыка снял митру и сделал земной поклон дорогой, родной ему Холмщине, в лице предстоящего в соборе народа. Собор огласился такими рыданиями, что, казалось, стены не выдержат народной скорби… Лишь сухое, черствое сердце злейших врагов Холмщины могло бы остаться холодным в эти священные минуты, когда обнаружилась глубокая, неподдельная любовь всей Холмщины к своему дорогому, незабвенному Печальнику и Отцу! И больно и радостно было видеть проявление столь беспредельной народной любви…
После прощальной речи Владыки ему прочитаны были адреса с поднесением икон: от Холмского кафедрального собора, от Яблочинского монастыря, от Холмской Консистории и от всей Холмской паствы (с поднесением жезла). После этого был отслужен молебен Божией Матери. По окончании богослужения Владыка долгое время благословлял всех присутствующих в храме прощальным благословением.
В 4 часа состоялся по подписке многолюдный (более 400 человек) обед в честь Владыки в обширном манеже Московского полка, украшенном зеленью и флагами… Обед прошел очень оживленно со многими тостами, речами и приветствиями от почитателей Владыки, не имевших возможности лично присутствовать на прощальном торжестве.
28 мая Владыка прощался с Холмским Братством, с Епархиальным Училищным Советом и Миссионерским Советом. Все собрались в зале Холмского Братства. В 12 часов прибыл Владыка и наступила трогательная минута прощания. Председатель Совета Братства, священник Иоанн Речкин, приветствовал Владыку от имени Братства следующим адресом:
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыка!
Скорбные, тяжелые минуты переживает Холмское Православное Свято–Богородицкое Братство при расставании с Вами, дорогой наш Архипастырь и Главный Попечитель Братства… Очевидным произволением Промысла Божия о Холмщине было прибытие Вашего Высокопреосвященства в этот край 16 с половиной лет тому назад. Господу известно было, какие бедствия предстояло перенести этому забытому уголку Русской земли недолго спустя после Вашего прибытия, и поэтому Он в лице Вашем приготовил великого и усердного печальника о Холмщине в самые трудные минуты ее жизни.
Вскоре после прибытия в Холмщину Вы, Высокопреосвященнейший Владыка, приняли участие в работе Холмского Братства, сначала в качестве члена его Совета, а затем в качестве Председателя Совета… Когда здесь, после объявления свобод, настала смута, когда полонизм и католицизм, гордо подняв голову, готовились раз навсегда покончить с Холмщиной, Вы смело и открыто выступили на борьбу и, как скала, задержали высоко поднявшуюся латино–польскую волну, в которой могла погибнуть вся православно–русская народная местная жизнь… Как Архипастырь Холмской церкви, Вы явились вождем православного русского населения Холмской земли, Вы многократно исходили и объехали эту землю вдоль и поперек, поддерживая в народе упавший дух, возбуждая надежду на лучшее будущее. Ваши вдохновенные, полные любви и решимости постоять за православно–русское дело речи, произносимые на полях, в деревнях и городах Холмщины, обратили к Вам взоры всех местных русских людей. Поэтому, когда находившееся под Вашим покровительством Холмское Братство обратилось к местному населению с предложением подать прошение Государю Императору о даровании Холмщине права иметь своего представителя в Государственной Думе, — в три с лишним недели было собрано более 50000 подписей для такого прошения. А затем, когда благодаря Вашим стараниям просимое право было дано, местное население единодушно решило вручить Вам свою судьбу, защиту в Государственной Думе своих интересов… Много, слишком много пришлось Вам перенести огорчений и скорбей, прежде чем Холмщина услышала благую весть, что порваны узы, связывавшие ее с Польшей. Честь Вам, Владыка, за великое дело выделения Холмщины и вечная будет благодарность от ее русского населения!
…Вместе с защитой интересов Холмщины в Государственной Думе Вы, Высокопреосвященнейший Владыка, сами лично и через посредство Холмского Братства всемерно старались оживить местную религиозно–национальную жизнь. Для укрепления православной веры Вы заботились о благолепии церковного богослужения, об украшении и построении новых храмов (их было построено при Вас свыше 50), об учреждении в Холмщине Миссионерского Совета, специальной целью которого является забота о процветании православной веры в Холмщине… Немало внимания и забот Вы, Владыка, прилагали к объединению, оживлению и расширению общественной деятельности церковных братств, этих наиболее доступных и понятных простому народу организаций… По Вашим указаниям переработан, согласно новым требованиям жизни, устав приходских братств. Под Вашим непосредственным руководством происходили в Холме ежегодные съезды их представителей… Заботы о народном просвещении составляли одну из существенных сторон Вашей деятельности. Благодаря Вашим трудам Холмское Братство имело возможность устроить в селах братские библиотеки, школы, учредить стипендии для бедных детей при школах. Вашими стараниями созданы братские периодические издания в Холме, создана собственная братская типография… Благодаря Вашим стараниям Холмское Братство имело возможность пробуждать в народе интерес к своей родной старине через раскопки, сохранение памятников древности и разработку местной старины в учрежденной недавно особой архивной комиссии. — Не оставлены Вами, Высокопреосвященнейший Владыка, без внимания и материальные, экономические интересы населения Холмщины… Только благодаря Вашей поддержке и заботливости создались у нас: Русское сельскохозяйственное Общество Холмщины и Подляшья, Холмское сельскохозяйственное Общество Взаимного Кредита и Фирмо–командитное Товарищество… организовался ряд потребительских обществ, кредитных, ссудо–сберегательных товариществ, а также мелких сельскохозяйственных товариществ. Словом, все стороны и нужды местной народной жизни находили в лице Вашего Высокопреосвященства поддержку и защиту… — За всю любовь Вашу к Холмщине, за труды и заботы о благе ее населения Холмское Братство выражает Вам, дорогой Владыка, самую искреннюю сыновнюю благодарность, земно вам кланяется и едиными усты и единым сердцем со всем Холмским народом всегда будет горячо молиться Господу о даровании Вам здоровья и спасения, благопоспешения во всех трудах Ваших и многих лет. На молитвенную память о Холмском Братстве благоволите, дорогой Владыка, принять сию святую икону Небесной Покровительницы Холмского Края.
…Со слезами на глазах благодарил Владыка за горячую любовь к нему русского общества и народа и в глубоком волнении сказал: «Если бы я мог открыть вам свое сердце, вы увидели бы, какою горечью наполнено оно. Но я не только не могу этого сделать, но не могу даже говорить. Я думаю только о Холмщине — кому поручить ее? Ей… — сказал Владыка, указывая на икону Холмской Божией Матери, — Царице Небесной, я вручаю судьбу любимой Холмщины, Ей, нашей Помощнице и Заступнице, я буду молиться за Холмщину и на святой Почаевской горе. А теперь отпустите меня с миром. Пойдем и вознесем в соборе перед нашей святыней горячие молитвы. Низкий поклон всем организациям, всем учреждениям, всем людям…» Затем Владыка и все присутствующие отправились в собор, где был отслужен перед иконой Божией Матери напутственный молебен.
…В 3 часа 30 минут Владыка выехал на вокзал, провожаемый торжественным прощальным звоном Холмских соборных колоколов… На вокзале к приезду Владыки собралась многочисленная публика, состоящая преимущественно из местной интеллигенции и учащихся. Были также и крестьяне из ближайших деревень. Владыка был встречен у входа служащими вокзала, которые поднесли икону Холмской Божией Матери. Затем Владыка направился в убранный тропическими растениями и цветами зал первого класса, где ожидали его представители разных учреждений города Холма во главе с губернатором, начальник 17–й пехотной дивизии, духовенство, дамы. Здесь от 66–го пехотного Бутырского полка командиром его, в присутствии гг.офицеров, была поднесена икона Спасителя древнего письма… Войдя в вагон, убранный цветами, Владыка некоторое время оставался на площадке, глядя на стоящих перед вагоном людей. «Как много собралось провожать меня, — с грустью сказал Владыка, — как мне все это дорого и как я всем благодарен за внимание. Сегодняшний день навсегда запечатлеется в моем сердце…» В это время раздались раскаты грома — и хлынул сильный ливень… Но холмичи не дрогнули, многие и без зонтиков остались на месте… Подошел поезд, и салон–вагон Владыки подали в его состав. Раздался второй… третий звонок. Владыка, окинув всех прощальным взором, преподал последнее Архипастырское благословение. Все молча склонили головы, а затем дружно запели: «Ис полла эти деспота» и прокричали громогласное «ура». Под звуки военного оркестра, игравшего «Коль славен», народного «ура» и многолетия Архипастырю поезд плавно отошел от станции и вскоре скрылся совсем…»
С дороги я послал Холмщине следующий прощальный привет:
«К вам, дорогие мои холмичи, к тебе, моя родная, незабвенная Холмщина, обращается еще раз мое сердце с прощальным приветом, когда я только что переступил границу твою и вступил в пределы благословенной Волынской земли. Бесконечно тяжелы были для меня последние дни разлуки с тобою, моя возлюбленная паства, острою болью терзалось сердце мое; но каким великим утешением для наболевшей души моей было видеть и чувствовать тот горячий порыв любви твоей, который неудержимой бурною волной прорвался наружу и принял такие трогательные, умилительные выражения, который объединил все слои населения в одном настроении… Никогда мне не забыть этой любви твоей; земно кланяюсь вам, мои добрые холмичи, горячо–горячо благодарю вас и прошу простить мне все вольные и невольные прегрешения мои, в частности прошу прощения, что за скоростью отъезда из Холма, по не зависящим от меня обстоятельствам, я не успел заехать ко многим моим друзьям, чтобы лично проститься с ними. Не забывайте меня, дорогие братья и сестры, в молитвах ваших вообще и особенно, когда собираетесь в наш соборный храм Пречистой и становитесь перед Ее чудотворным ликом; я же непрестанно буду творить молитвенное памятование о многоскорбной и многострадальной Холмщине пред святынями Волынскими и особенно пред Чудотворным Почаевским Образом Богоматери. Буду счастлив видеть вас благочестивыми паломниками в этом святом месте, уже давно привлекающем к себе сердца доброго нашего Холмского народа. Да хранит же всех вас, и пастырей и пасомых Холмской церкви, Царица Небесная — Ее благодатному Покрову вверяю жизнь вашу и под этим покровом да живет и крепнет в святой вере православной, в истинном благочестии и в полном благоденствии древняя Холмская Русь».
Глава 15. АРХИЕПИСКОП ВОЛЫНСКИЙ Война (1914–1917)
Перед отъездом из Холма я получил поздравительное письмо от архиепископа Антония Волынского в ответ на мое поздравление его с новым назначением. Он советовал поторопиться с отъездом из Холма, чтобы мне поспеть к открытию Общеепархиального съезда благочинных Волынской епархии (в Почаеве), а дорогой предлагал встретиться с ним в Киеве, где он проездом в Харьков хотел остановиться тоже. «Я хочу вам передать епархию «из полы в полу»…» — писал он.
В Киеве я прожил с неделю, архиепископ Антоний — дня два. Гостили мы у престарелого митрополита Флавиана. Перед тяжелой работой, которая мне предстояла, отдых, хоть краткий, мне был необходим. Время я провел в Киеве приятно, отдохновительно; по настоянию митрополита Флавиана я несколько свой отъезд затянул и к открытию Епархиального съезда на Волынь не попал.
Выехал я из Киева в салон–вагоне, а по прибытии в Бердичев был встречен волынскими представителями: секретарем консистории Добровольским, ключарем собора протоиереем А.Голосовым, благочинным протоиереем И.Глаголевым и епархиальным наблюдателем церковноприходских школ протоиереем Федором Казанским. От Бердичева на Житомир идет «узкоколейка»; по линии о моем проезде дали знать, и на станциях меня ожидали депутации: духовенство с крестными ходами, крестьяне с хлебом–солью… Везде приходилось обмениваться приветствиями.
Наконец я прибыл в Житомир.
Этот губернский город Волыни — тихий захолустный малороссийский городок, живописно раскинувшийся на берегах реки Тетерева, — славился своей дешевизной и тем привлекал заштатных петербургских чиновников, которые переселялись сюда доживать свой век.
На вокзале меня встретили: мой викарий епископ Гавриил Острожский [
[47]], вице–губернатор С.В.Шереметев (губернатор отсутствовал) и еще какие–то представители гражданских и военных властей. Под трезвон колоколов я проехал в собор. Огромный, холодный, неуютный, в первую минуту он удручал впечатлением холода и пустоты. Невольно вспомнился милый, молитвой овеянный Холмский собор… В нижней церкви Житомирского собора хранились мощи (голова) мученицы Анастасии Римлянины; привез их с Востока архиепископ Модест, в бытность свою Холмским викарием, и с ними уже никогда не расставался — возил с собою всюду: в Холм, в Нижний Новгород, на Волынь… Сейчас живет в Париже графиня А.Ф.Нирод, имение которой находилось в десяти верстах от Житомира; она рассказывала, что приехал к ним в усадьбу как–то раз архиепископ Модест с коробкой. «Что это у вас — шляпа?» — спросили его. «Нет, — мощи…» — «Как же вы их с собою возите?» — «Да боюсь их оставить, не украли бы…» — пояснил архиепископ Модест. Впоследствии довольно долго мощи пребывали в соборе без раки, пока наконец архиепископ Антоний не устроил нижнюю церковь и раку, прикрыв ее большой иконой так, что была видна голова; по пятницам у раки стали служить молебны с акафистом.
При входе в собор меня встретил кафедральный протоиерей о.К.Левицкий, маленький, но удивительно громогласный священник («мегалофон», как его назвал посетивший Волынь патриарх Антиохийский Григорий), он сказал мне приветственное «слово». Отвечая на его приветствие, я подчеркнул, что холмский народ и волынский этнографически почти неразличимы: по духу и укладу холмичи и волынцы братья.
После официальной встречи в соборе я отправился с епископом Гавриилом в архиерейский дом, чтобы побеседовать о положении дел в епархии.
Архиерейским домом считалось подворье Почаевской Лавры, а специально для архиереев выстроенный дом сдавался внаем. Архиерейские покои оказались неуютны, несуразны по планировке комнат и были обставлены потертой, обшарпанной мебелью. Мой предшественник архиепископ Антоний комфорта не любил; у него всегда кто–нибудь проживал или ночевал из опекаемых им студентов или духовенства, гости спали на диванах, устраиваясь как и где кто мог, и на всей архиерейской квартире лежал отпечаток неустройства и беспорядка — «караван–сарай», по остроумному замечанию упомянутого вице–губернатора. Прелестна была лишь Крестовая церковь Почаевской Божией. Матери: небольшая, уютная, привлекавшая всегда много молящихся. Мой кабинет непосредственно прилегал к ней и был соединен дверью. Близость церкви — какое это было утешение! Идет, бывало, рядом служба, слышны возгласы, пение… а я сижу за письменным столом, заваленным консисторскими делами, и нет–нет и прислушаюсь… Помолишься, попишешь, потом опять помолишься…
Консисторская работа налегла на меня в Житомире всей тяжестью; в первое же утро по приезде мне был прислан из консистории громаднейший портфель, туго–натуго набитый бумагами (отныне такое количество бумаг я получал ежедневно). Поначалу я утопал в «делах», просиживал за письменным столом часами, ложился спать поздней ночью, чуть ли не под утро. Мой личный секретарь, записывавший мои резолюции для передачи их в консисторию, и два писца едва справлялись с работой. Такое огромное количество консисторских дел объяснялось огромным числом приходов в новой моей епархии (1200 приходов), в Холмщине их было только 330. Сколько кляуз, наговоров, бракоразводных дел и всякого житейского мусора заключалось в этих консисторских бумагах! Не говоря уже о том, что с первого же дня меня буквально засыпали анонимными письмами. Одни — давали мне характеристики некоторых духовных лиц, изобличающие их поведение: «Не верьте ему — он мошенник!», «Будьте осторожны — он Соловей–разбойник!», «Мы ждем, что ты наведешь порядок…» — подобными фразами эти письма были пересыпаны. Другие — доносили о том, что про меня в епархии говорят, например: «Едет архиерей «хлопоман»… держитесь! берегитесь!» и т. д. Наконец третьи — содержали стишки и карикатуры. Все это было так противно, что я велел всю эту подметную литературу сжечь.
Среди всяких бумаг и корреспонденции главное место занимали журналы и протоколы консистории: ее решения я либо утверждал, либо отклонял. Внимательное наблюдение за деятельностью консистории я всегда считал необходимым, потому что недосмотр зачастую ведет к непорядкам.
Я разобрался в куче дел, писем, бумаг и через два дня выехал на Епархиальный съезд, который еще не успел закрыться. Со мной отправились настоятель, ключарь, благочинный о.Иоанн Глаголев (мой земляк, туляк) и еще кто–то.
Волынь — губерния необъятная. Житомир — в крайнем восточном углу, Почаев — в крайнем западном, в 6–7 верстах от австрийской границы. Ехали мы через Бердичев до станции Рудня–Почаевская, оттуда проселочной дорогой в Лавру. Для меня и свиты моей было подано несколько экипажей — образовался целый поезд. На пути мы останавливались в селах, через которые проезжали. Сельские церкви на Волыни плохонькие, запущенные. Подъезжаешь, спрашиваешь: «Где батюшка?», в ответ слышишь: «Батюшка болен…», а ключарь мне шепчет: «Не болен, а пьяный лежит».
Подъехали к Почаевской Лавре… — какая красота! [
[48]]
Центральный храм Лавры — великолепный старинный собор (Успенский) в готическом стиле, изумительный по гармонии линий и деталей, с чудесной колокольней над самым обрывом. Он был построен в ХVII веке графом Потоцким. Легенда гласит, что он выстроил его по обету, в благодарность Богу за спасение: его чуть не убили лошади. В верхнем храме собора сияла чудотворная икона Почаевской Божией Матери, вся усыпанная изумрудами и бриллиантами (во время молебнов ее спускали на винтах для поклонения народа). В подземелье, в пещерном храме, хранились мощи преподобного Иова Почаевского, и тут же в подвале была «стопа» Богородицы. Кроме Успенского собора в Лавре был еще другой собор — Троицкий, выстроенный при архиепископе Антонии архитектором Щусевым в новгородском стиле, весьма не гармонирующем с готикой главного Почаевского храма.
Я прибыл в Успенский собор и был встречен при входе наместником Лавры, старцем архимандритом Паисием и целым сонмом духовенства в блестящих ризах. Сознание, что я архиепископ Волынский, священноархимандрит святой Лавры, меня даже как–то подавляло. Наместник и все собравшиеся духовные лица повели меня со «славой» в храм, где мы отслужили молебен. Оттуда мы прошли в нижний храм к мощам преподобного Иова. В своем «слове» я выразил волновавшие меня чувства, сказав, что не столько учить я приехал в эту обитель, сколько учиться, ибо здесь каждый камень — великое поучение.
Отдохнув после завтрака, я направился на заседание Епархиального съезда.
Первое, что меня на Съезде поразило, это подношение от духовенства секретарю консистории — чудной, драгоценной иконы. Секретарь был уже немолодой человек (впоследствии я узнал его ближе), ловкий, умеющий со всеми ладить, а на кого нужно — нажать, любитель выпить. Что–то в этой идиллии с подношением мне не понравилось… Понемногу на Съезде я разговорился, со многими священниками познакомился и вскоре понял, что епархиальное духовенство настроено очень право. Кафедральный протоиерей прямо мне заявил: «Мы все черносотенцы». Этот термин тогда определял ту крайнюю правую группировку монархического направления, которая именовалась «Союзом русского народа». Позже я узнал, что выборы в земство [
[49]], а также в Государственную думу происходили в архиерейском доме (с целью овладеть выборщиками); разномыслящих всячески оттирали; был случай, когда в день выборов на местах архиерей вызвал священника в Житомир, а по возвращении его домой выборы были уже кончены… Общее впечатление о волынском духовенстве, которое я видел на Съезде, осталось довольно бесцветное, серенькое. Наши холмские батюшки были живее, развитее.
В ближайшее воскресенье праздновалась в Житомире память святой праведницы Иулиании, частица мощей которой находилась в соборе, и я торопился на торжество, но все же успел ознакомиться с Почаевской обителью и с братией.
Монахов в Лавре было человек двести. Братия, добрая, скромная, не очень дисциплинированная, немного была вовлечена в политику. Наместник Лавры, престарелый о.Паисий, на нее влиять, по–видимому, не мог. Главную роль в Лавре играла Почаевская типография и ее возглавлявший архимандрит Виталий. Обслуживающие типографию монахи (их было человек тридцать–сорок) вместе со своим главою представляли нечто вроде «государства в государстве». У них была своя церковь, они имели свое общежитие — отдельный корпус. С остальными монахами «типографщики» не сливались, считали себя миссионерами, аристократами, а остальных — мужичьем и дармоедами, занятыми только интересами трапезы и «кружки». Монахи Лавры их тоже не любили и над ними подсмеивались. Между обоими лагерями были рознь и вражда.
Назначение типографии было не столько распространение религиозного просвещения в народе, сколько политическая борьба «типографщиков» в духе «Союза русского народа» со всеми инакомыслящими. На праздники в Лавру стекались многотысячные толпы богомольцев, и этим пользовались миссионеры для яростной политической агитации; своими речами они накаливали народ против «жидов», интеллигенции и т. д. Такими речами славился известный иеромонах Илиодор, воспитанник Почаевской Лавры; он произносил их, потрясая палкой с набалдашником в виде кулака. Архимандрит Виталий распространял среди паломников черносотенные листовки. Он основал для крестьян «народный банк» с пятидесятикопеечными взносами: предполагалось таким путем создать денежный фонд для покупки земли и сельскохозяйственных орудий; не осведомленные в финансовых вопросах, не знающие экономических условий заправилы банка работали кустарно и реальной пользы вкладчикам не принесли; в революцию мужики требовали от архимандрита Виталия: «Верни полтинники!» Конечно, нельзя отрицать и положительного значения Лаврской типографии: миссионеры укрепляли в народе церковно–национальное сознание и снабжали епархию церковно–богослужебными книгами.
Доходы у Почаевской Лавры были большие. Одна часть их отчислялась на церковь, другая шла монахам, а третья — настоятелю Лавры, т. е. волынскому архиерею; она выплачивалась ему по третям, в год он получал тысяч двадцать — двадцать пять. Поступление доходов было приурочено к большим праздникам, когда народ тысячами притекал в Лавру и жертвовал щедро и деньгами и натурой. Так, например, бабы несли холсты. Наместник как–то раз спросил меня: «Что прикажете делать с вашей долей холста?» Я отдал ее в пользу общежития Лавры. Вообще Почаевская Лавра была богатая. Владыка Антоний несколько поколебал ее экономическое состояние постройкой храма. (Пришлось даже продать прилегавший к Лавре лес.) Братия была очень недовольна им — и не без оснований — за эту расточительность. С такими средствами, при более хозяйственном их расходовании, можно было создать или поддержать больше культурных учреждений.
Вернулся я в Житомир к самому празднику святой Иулиании. Несмотря на будний день, народу собралось множество. Я был тронут и взволнован таким проявлением благочестия волынского народа.
Сделав все неотложные визиты представителям местной власти, я вновь занялся своими епархиальными делами. Жизнь стала налаживаться, понемногу завязались знакомства, деловые и дружеские связи. Я подружился с вице–губернатором Шереметевым; у него был автомобиль, и раза два–три в неделю мы совершали с ним поездки в окрестности Житомира, делая набеги на сельские приходы. Подъезжаешь, бывало, к сельской церкви — дверь заперта. Спрашиваешь: «Где батюшка?» — «Спит…» Посылаешь за ним. Узнав, что приехал, архиерей на зов бежит перепуганный, бледный, лицо заспанное, в волосах сено, трясущимися руками дверь храма отпирает: ключ в скважину не попадает… О моих внезапных посещениях прослышали другие священники уезда и, конечно, были очень недовольны, хотя, разумеется, я не злоупотреблял этими внезапными наездами.
Стал я ездить и на экзамены в семинарию. Здание семинарии было большое, новое, прекрасно устроенное — прямо дворец; около него был ботанический сад, там были расставлены астрономические приборы.
Если обобщить мои первые впечатления от Волыни, то должен сказать, что, по сравнению с Холмщиной, все здесь было в громадных масштабах, но все было тускло и серо. Волынь можно было уподобить огромной многоводной реке с тихими заводями, а Холмщину — живому, быстрому потоку ключевой воды.
Прошло месяца полтора после моего приезда. И вот однажды, в дождливый день, сижу я после завтрака на диване, читаю — и вдруг телеграмма Саблера: «Берегите святую икону». За несколько дней до этого произошло Сараевское убийство эрцгерцога Фердинанда. Прочитав телеграмму, почуял страшное… понял сразу в чем дело: драгоценная чудотворная икона Почаевской Божией Матери в 6–7 верстах от границы, Лавра — мишень для австрийских выстрелов. А тут еще и зловещее совпадение!
Днем приехал ко мне холмский губернатор Кошкарев с расспросами о Холмщине, с которой он меня просил его ознакомить. Сидим, беседуем, — и вдруг стемнело, и над городом пронесся ураган с кровавым дождем. (Очевидно, вихрь подхватил где–нибудь красный песок.) Перед моим домом повалило огромный тополь. Народ усмотрел в этом знамение надвигающегося бедствия. Тяжелое впечатление оставило это явление природы…
На другой день я выехал в Почаев.
Взять икону из Лавры и увезти ее с собой было нелегко: войны еще нет, преждевременно мутить народ и сеять панику невозможно. Увезти ее тайком, обманывая народ, я тоже не мог. В Почаевском соборе всегда толпились люди, человек сто — двести богомольцев; как–то народу надо было объяснить необходимость увезти икону — и я сказал, что она нужна населению Житомира, потому что вокруг города вспыхнула эпидемия. Поднялись вой, крик, истерики… «Не дадим! Не дадим!..» Мы, духовенство, ушли, а монахи стоят растерянные, не зная, что делать; потом, чтобы заглушить крики, запели молитву Божией Матери, подняли икону на шестах и понесли до ближайшей железнодорожной станции — до города Кременца (22 версты). Я опередил их в экипаже, дабы своевременно встретить икону в городе. Подъезжаю к Кременцу (там стоял Якутский полк) — весь полк в строю перед полковой церковкой… кругом толпится народ… тревожная, напряженная тишина… полковые дамы плачут. Командир полка попросил меня внести икону в церковь, отслужить молебен и благословить полк. «Кто знает, может быть, многие уже не вернутся…» — сказал он. Я стал успокаивать: «Войны же еще нет, мобилизация не объявлена…» Но успокаивать было трудно, предгрозовое настроение передавалось всем, и люди, безотчетно чуя правду, к бедствию уже приготовлялись. После полковой церкви я отслужил молебен в городском соборе, затем икону отнесли на вокзал и поместили в мой салон–вагон.
К приходу поезда на всех станциях стекались толпы народа; духовенство служило молебны. В Здолбунове местный предводитель дворянства П.А.Демидов сообщил мне: «Мобилизация объявлена…» Я привез икону в Житомир. Ее встретили тучи народа. Я распорядился поместить Чудотворный Образ в Моей Крестовой церкви, а мощи преподобного Иова (их потом привезли из Почаевской Лавры) — в соборе.
15–17 июля события продолжали нарастать. С каждым днем, даже с каждым часом, становилось все тревожней… 20 июля, в день Ильи Пророка, я служил в церкви, посвященной его памяти. Во время обедни пришла телеграмма: «Война объявлена».
Волынская епархия была прифронтовая, и с первых же дней войны все у нас пришло в движение; чувствовались нервность, волнение — объявление войны всколыхнуло всех. Нашу дивизию одну из первых двинули на фронт, и начался период проводов войск. У нас в Житомире стояли: Вологодский пехотный полк [
[50]], Галицкий пехотный полк (5–й дивизии) [
[51]], 5–я артиллерийская бригада и 10–й кавалерийский Казанский полк, шефом которого была Великая Княжна Мария Николаевна; в те дни он находился на параде в Красном Селе и прямо оттуда был переброшен на фронт: офицерские жены ездили в Бердичев прощаться с мужьями.
Уходившие воинские части мне приходилось напутствовать. Их выстраивали в боевом порядке, и я служил молебны, говорил ободряющие речи, раздавал крестики… Войска изумляли меня своей покорностью, смиренным принятием выпавшего на их долю тяжкого жребия. Никакой паники, никакого смущения. Солдаты глядели бодро, почти весело. Горько плакали только жены офицеров.
Война была объявлена 19 июля, а с 22 на 23 я устроил в Житомире ночное моление — мне хотелось духовно поддержать и успокоить население.
Почаевскую икону Божией Матери вынесли на передний двор архиерейского дома, украсив ее ветками. С вечера началось всенощное бдение с акафистом, а потом всю ночь служили молебны и пели акафист. Одно духовенство сменялось другим. До утра народ молился и плакал… Утром я служил Литургию, а по ее окончании мы обошли с крестным ходом весь город и отслужили заключительный молебен перед кафедральным собором у часовни преподобной мученицы Евдокии (в день ее памяти, 1 марта был убит Император Александр II, почему она и была построена).
В эти дни ни о чем, кроме духовной помощи народу, думать было невозможно. Помню, как удивило меня, когда после проводов артиллеристов я услышал сетование епископа Гавриила: «Почему вы меня на проводы не пригласили?» До приглашений ли тогда было…
Дня два спустя просыпаюсь утром — весь двор полон монахов. Спрашиваю: «Что случилось?» Мне докладывают: «Под Почаевым война началась… Они из Лавры прибыли». Я позвал монахов и встретил их суровой отповедью: «Это трусость! Вы — монахи, а за шкуру свою боитесь! Бедные семейные священники сидят на местах, а вы?!.»
Оказалось, что под Лаврой уже появились первые неприятельские разъезды; были отдельные стычки, одного нашего разведчика убили под самым монастырем; монахи перепугались стрельбы…
– Если не уедете обратно, — строго сказал я, — Лавры больше не увидите.
После завтрака, смотрю, вскинули котомочки свои на плечи и вереницей потекли со двора обратно в Почаев… Мне даже жалко их было.
Стали появляться у нас первые раненые, поначалу единичные. Встречало их население восторженно, прямо на руках носило. Приветствия, цветы, сласти… В особом энтузиазме были городские дамы. На первых порах раненые были предметом их восторга, даже обожания.
Потом приехал на автомобиле к нам в Житомир Главнокомандующий Юго–Западным фронтом Николай Иудович Иванов с Начальником Штаба Алексеевым Михаилом Васильевичем. Они прибыли для поклонения Почаевской святыне. После молебна пили у меня чай. Я приготовил хорошую икону генералу Иванову; не учел, что и Начальник Штаба очень важное лицо, и мне пришлось спешно доставать вторую икону. Во время чая Иванову подали телеграмму. Он нахмурился, а потом сказал: «Слава Богу, все хорошо…» Оказалось, что австрийцы напали на Владимиро–Волынск, который защищал только один Бородинский полк; ему пришлось, пока не подоспели резервы, сдерживать натиск врага, располагавшего силами втрое–вчетверо больше нас. О благополучном исходе Иванов, сидя у меня, еще не знал и давал лишь спешные распоряжения.
После небольших неудач наши войска сломили сопротивление австрийцев и взяли Броды (возле Брод находится католический монастырь «Подкаменье»). Немедленно представители русской власти взяли в свои руки управление оккупированной областью. Наши губернатор и вице–губернатор явились ко мне уже одетые земгусарами: во френчах, в высоких сапогах, в офицерского покроя шинелях. Их примеру последовали и другие чины гражданского ведомства — все стали похожи на военных. Отправлявшихся на службу в завоеванные части Галиции я напутствовал молитвами…
Приближался праздник Успения Божией Матери — храмовой праздник Почаевской Лавры, — и я решил туда поехать на торжество.
Прибыл я в Почаев за несколько дней до праздника. Бывало, к этому дню стекались тысячи народу. Лавра и вся округа кишела богомольцами. А теперь не то… И в Лавре и вокруг нее безрадостно, пустовато, сиротливо; монахи ходят угрюмые, нервные, грустные; вместо праздничных толп — непрерывным потоком движутся по дорогам в сторону Галиции войска, — живая Россия… Иногда начальство позволяло солдатам зайти помолиться, иногда нет. Мысленно я их всех напутствовал. Некоторые генералы и офицеры обращались ко мне лично за благословением.
Вскоре по дорогам хлынула обратная волна: деревенские подводы, нагруженные ранеными. В пыли, в грязи, с кровоточащими ранами, плохо перевязанные, смотреть на них было невыразимо тяжело. Я распорядился, чтобы немедленно лаврская больничка была обращена в перевязочную, а монахи взяли на себя обязанность братьев милосердия. Подбил доктора проявить инициативу и предпринять все, что было только возможно, лишь бы спешно достать перевязочный материал и проч.
Праздник Успения прошел грустно. Народу было мало, а кто и пришел, все — в слезах, в скорби…
На другой день после праздника я решил съездить в католический (доминиканский) монастырь «Подкаменье». Мне заложили парочку лаврских лошадей, и я направился в сторону Галиции. Смотрю, на границе кордона уже нет, даже пограничные столбы повалены. Навстречу попались мужички: на подводах дрова везут. Надо сказать, что наши приграничные крестьяне были всегда контрабандисты заядлые, до азарта, до спортивного к контрабандному риску отношения. Сколько, бывало, их ни подстреливали — они отстать от этого занятия никак не могли (с особенным увлечением занимались контрабандой эфира). Повстречав мужиков, спрашиваю: «Откуда дрова везете?» — И слышу прямодушный ответ: «…А у соседнего австрийского помещика большая заготовка дровишек — вот мы их к себе и перевозим». Кругом войска, кровь, трагедия… а они «дровишками» спешат попользоваться. Великое и ничтожное в жизни зачастую рядом…
Еду полями. Поля обработаны прекрасно. Урожай чудный…
По прибытии в Подкаменье ввиду военного положения прежде всего направился в комендатуру. Начальство встретило меня любезно, мне предложили чаю, но я отказался и заявил о цели приезда. Мне дали фельдфебеля в провожатые и предупредили: «Будьте в монастыре с опаской, предложат угощенье — лучше не угощайтесь. Кто их знает…»
В монастыре меня встретили доминиканцы в белых рясах с красной оторочкой [
[52]]. Я осмотрел обитель, поразившую меня чистотой, благоустройством и отпечатком заграничной культуры. Монахи любезно предлагали мне позавтракать: «Пожалуйста, окажите честь…» Я уклонился.
В Подкаменье я пробыл недолго, не больше часу, но довелось увидать удручающую картину: огромное скопище телег с ранеными, сбившихся на площади посада, и нескончаемая их вереница, в клубах пыли под палящим солнцем тянущаяся по направлению к Почаеву… Это зрелище физических мук наших солдат глубоко запало мне в сердце…
По возвращении в Лавру я спешно выехал в Житомир. Я почувствовал, что промедление в помощи раненым недопустимо, что надо бить тревогу, спешно организовать эту помощь. На пути, в г.Кременце, вокзал был завален ранеными; они лежали на дебаркадере вповалку, прямо на камнях. Тут же стоял поезд: бесконечная цепь теплушек, набитых ранеными. У вагонов беспомощно металась сестричка. Спрашиваю раненых: «Вы голодны? вы не ели?» В ответ: «Воды… душа запеклась…» Я — к сестре: «Дайте воды!» — Она отвечает, что у нее посуды нет. Я — к начальнику станции. «Посуды дать не могу, — она у меня занумерованная…» — заявляет он. Я послал в город, велел за мой счет купить ведра, кружки, хлеба, колбасы…
По приезде в Житомир спешно собрал представителей Государственного контроля, Казенной Палаты, Земства, Красного Креста… пригласил и офицерских дам. Нарисовал им картину неорганизованности, которой был свидетелем, и призывал спешно приняться за дело. Образовался комитет, меня выбрали председателем. Я отдал под лазареты больницы духовной семинарии, двух женских духовных училищ и одного мужского; составлял лазаретные сметы, собирал пожертвования (они притекали щедро). Мы привлекли к общей работе врачей и священников. Вскоре мы уже смогли послать телеграмму в Броды, оповещая, что Житомир приготовился к приему раненых.
Наш город находился на железнодорожной ветке; от Бердичева раненых приходилось переносить с поезда на поезд, это было неудобно, и наши лазареты поначалу на переполнение жаловаться не могли, наоборот, мы даже просили присылать нам больше раненых. Городские дамы были на высоте — отдавались делу всей душою, порой доходили до баловства. Потом подъем несколько спал.
Работа у нас была в полном разгаре, когда вдруг — телеграмма Саблера: «Немедленно приезжайте в Петербург». Я досадовал на несвоевременный вызов, все мои сотрудники были тоже недовольны: мы сработались, все у нас наладилось, я каждый день объезжал лазареты.
По приезде в Петербург являюсь к Саблеру — и недоумеваю, слыша его приветствие: «Поздравляю, вы назначены управлять церковными делами в оккупированных областях. Мы хотели назначить архиепископа Антония, и в этом смысле я сделал доклад Государю, но Государь надписал на докладе: «Поручить дело Архиепископу Евлогию». (Мне показали собственноручную резолюцию Государя, написанную синим карандашом.)
Стало жутко… Что мне делать в Галиции? Как в условиях войны церковными делами управлять? Все было до того неясно, до того неизвестно, что было трудно вообразить, как с такой задачей можно справиться. Я был как в тумане. Львов уже взяли. Генерал–губернатором оккупированных областей назначили графа Георгия Бобринского. Это был великосветский генерал, состоявший при Военном Министре, из тех «паркетных» генералов, которые официально представляли свое ведомство, когда это требовал церемониал празднества или приема. Он был родственник графа Владимира Бобринского, бывшего депутата Государственной думы, стяжавшего себе известность как ревностный патриот–монархист, давно уже боровшийся за религиозную и национальную свободу русского галицкого народа. Кажется, при назначении Георгия Бобринского на пост генерал–губернатора главным образом руководились тем, что имя его однофамильца графа В.Бобринского было популярно в Галиции среди галичан–русофилов. Ни административным опытом, ни административными способностями граф Георгий Бобринский не отличался.
Почему выбор Государя остановился на мне? Это могло объясняться только следующим:
Галицийским делом я занимался давно, так же как и архиепископ Антоний, который, будучи архиепископом русской Церкви, был одновременно и Экзархом Вселенского Патриарха по делам Галиции. Галицийский вопрос я изучил еще во время пребывания в Холмщине. Мы с архиепископом Антонием вели небольшую пропаганду. Владыка Антоний в свою Житомирскую пастырскую школу охотно принимал галичан, подготовляя таким образом в Галиции православных миссионеров. Когда я был членом Думы, в Петербурге возникло «Русско–Галицийское общество», председателем которого был галичанин Вергун; там мы обсуждали вопросы о национальном и религиозном объединении галичан с русским народом.
Русофильское движение в Галиции и в Карпатской (Угорской) Руси имело свою историю. Оно развилось в противовес украинскому, созданному графом Голуховским в Австрии и стремившемуся оторвать Малороссию от России; им создано и самое название «Украина» и искусственно выработан особый «галицкий» язык, который представлял собою смесь речений малорусского с польским, т. е. искажение настоящего малорусского наречия. Перед войной видным деятелем, и даже вождем, украинского движения был галицкий униатский митрополит Андрей Шептицкий. Галицко–русские патриоты, известные под именем «москофилов», энергично боролись с этим течением, раскалывающим единство русского народа, всячески научно доказывая, что Галичина (они всегда говорили так вместо «Галиция») и в историческом и в этнографическом отношениях «единая, неделимая Русь», со всею Россиею разделенная лишь несчастными политическими обстоятельствами. «Москофилы» организовались в культурно–просветительных учреждениях, в историческом ставропигиальном Львовском Успенском Братстве, основанном еще в ХVII веке, и в Обществе Качковского; эти общества имели много своих членов среди галицкого униатского духовенства, из которого некоторые даже бежали в Россию, в Холмщину, продолжая свою работу. Их идеи охотно воспринимались народом, который, несмотря на двухвековое пребывание в унии, считал себя православным и, конечно, мечтал освободиться из–под чуждого австро–венгерского ига и соединиться со своей старой Матерью Россией. Насколько глубоко было в нем православное сознание, видно из следующего факта. Когда униатские епископы, желая резче отделить унию от православия, стали латинизировать униатский обряд, уничтожив иконостасы, чтобы сделать храмы более похожими на католические костелы, — народ резко запротестовал; когда с тою же целью митрополит Андрей Шептицкий распорядился на Великом Входе за Божественной Литургией вместо «вас всех православных христиан» произносить «правоверных христиан», — народ в знак протеста поворачивал спины и выходил из церкви.
В последние годы перед войной в Карпатской Руси и в Галиции стало пробуждаться стремление вернуться к вере своих отцов, т. е. к православию. Русское правительство и общество довольно равнодушно относилось к этому тяготению к России и к православию наших западных братьев.
В то время как при австрийском Генеральном Штабе, при участии митрополита Андрея Шептицкого, лихорадочно работали над отторжением Малороссии от России и созданием сепаратистического украинского движения, мы ничего не делали для поддержания галицко–русских деятелей; и только отдельные лица, во главе с графом Бобринским и его немногими единомышленниками, горячо взялись за эту работу, встречая ироническое и порою прямо враждебное к себе отношение в наших либеральных, не только общественных, но и правительственных кругах. Поэтому поневоле нам приходилось вести свою работу кустарно и даже до некоторой степени конспиративно.
Русофильское движение в Галиции и в Карпатской Руси выдвинуло несколько энергичных деятелей [
[53]]. Имело оно и своих подвижников.
Карпато–русский крестьянин Алексей Кабалюк — один из тех, которые всей душою стремились к возвращению в лоно Православной Церкви. Он побывал на Афоне, там принял православие, пришел оттуда ко мне в Холм, и я направил его в Яблочинский монастырь, где его постригли в монашество и где я рукоположил его в священный сан. Снабдив о.Алексея богослужебными книгами и церковной утварью, мы послали его на родину (в Угорскую Русь) в качестве миссионера православия; на его призыв стали откликаться его земляки; некоторых из них он присылал в Яблочинский монастырь, где они и приуготовлялись, по его примеру, к деятельности пионеров православия в Карпатской Руси. Иеромонах Стефан шутя называл их «камергерами», потому что они приехали в белом одеянии; это были кроткие, серьезные люди, красивой внешности; монахи из них вышли примерные. Прибыла к нам, с тою же миссионерской целью, и сестра о.Кабалюка. Мы ее отправили к матери Екатерине в Леснинский монастырь, где она приняла постриг и вернулась к себе на родину, намереваясь основать там женский монастырь. Карпатская Русь была плодоносной почвой для миссионерской работы, но работать было нелегко. Православных стали преследовать с большой жестокостью: о.Алексея Кабалюка и его сотрудников жандармы били, подвергали арестам; монахинь вогнали ранней весной, в марте, в озеро, где по пояс в воде они простояли несколько часов (почти все на всю жизнь остались калеками); наконец, о.Кабалюка и его последователей посадили в тюрьму, обвинив в государственной измене. Возник громкий Мармарош–Сигетский процесс (в 1910–1911гг.), который протекал в столь накаленной атмосфере, что граф В.Бобринский, выступавший как свидетель и защитник, едва унес оттуда ноги. Обвиняемые были осуждены и просидели в тюрьме в течение всей войны вплоть до 1917 года; вспыхнувшая в Австро–Венгрии революция вернула им свободу.
Я был в Житомире, когда неожиданно явился ко мне о.Алексей Кабалюк. Изможденный, измученный, с гноящейся раной во всю грудь… Оказалось, что, выпущенный из тюрьмы революционерами, он бросился на вокзал и забился в пустой вагон товарного поезда, уходившего на Украину. (В то время австрийцы собирали дань с самостийной Украины и направляли к нам пустые товарные поезда, которые возвращались в Галицию, нагруженные продуктами.) Где–то ночью, на остановке, удостоверившись, что австрийская граница уже позади, он выскочил и добрался до Житомира. Я послал его к доктору. Опасаясь встречи на Волыни с австрийцами, я отправил его в Киев, где его поместили для лечения в больницу Киево–Печерской Лавры.
По приезде в Петроград после переговоров с Саблером я получил аудиенцию у Государя.
– Ваше Величество, я приехал поблагодарить Вас за высокое доверие, но не могу скрыть своего смущения: я не подготовлен и не знаю, в чем будет состоять моя работа, — обратился я к Государю.
– Поддержите Православную Церковь… — сказал Государь.
– Генерал–губернатор мало сведущий в нашем деле и вообще в административных вопросах…
– Ничего, он будет советоваться с вами.
После аудиенции мне следовало заехать к Верховному Главнокомандующему Великому Князю Николаю Николаевичу. Я не заехал и за эту капитальную ошибку больно расплатился. Не заехал же я не потому, что его игнорировал, а потому, что военачальника в столь ответственное время, в разгар войны, отвлекать от дела своим визитом, мне казалось, я не должен. Психологически мои опасения обернулись обидой: назначили в завоеванную территорию управителя церковными делами, а он к завоевателю не явился…
До моего назначения в Галицию я видел Главнокомандующего лишь мельком и всего один раз, — когда во время моей поездки по епархии с иконой Почаевской Божией Матери благословлял войска. Помню, я прибыл в Ровно. Там, за городом, был военный стан — скопилось несколько полков, ожидая переброски на передовые позиции. Тут же находился и отряд Красного Креста во главе с Великой Княгиней Ольгой Александровной. Меня просили отслужить молебен. Во время богослужения появился впереди молящихся великан в кавалерийской куртке. Я узнал Верховного Главнокомандующего. После молебна Великая Княгиня Ольга Александровна и сестры подняли на руки икону, а я стоял рядом, благословляя молящихся и наделяя всех крестиками. К встрече с Великим Князем я не приготовился и дал ему тоже обыкновенный солдатский крестик. Он подошел к иконе первый, за ним, вереницей, генералы, офицеры и солдаты. Великая Княгиня бессменно часа два поддерживала икону. Потом я навестил ее тут же в Ровно, в лазарете. У нее была маленькая комната, по–походному обставленная: стол, стул, койка. Сама она ее и убирала. Местный предводитель дворянства хотел прислать горничную — она отказалась. Когда я приехал в лазарет, она меня угостила тем, чем сама в ту минуту располагала: остатком вчерашнего цыпленка и чаем.
Следующая моя встреча с Верховным Главнокомандующим была позже. О том, что к ней привело и при каких обстоятельствах я в Ставку приехал, теперь и расскажу.
Во время пребывания в Петербурге мой викарий, епископ Дионисий Кременецкий, известил меня из Почаевской Лавры о переходе одного пограничного галицийского прихода в православие. Он хотел привести новообращенных крестным ходом в Лавру и просил моего благословения. Я телеграфировал: «Бог благословит».
По возвращении на Волынь я на один день заехал в Житомир и поспешил в Почаев. Приближался праздник Почаевской Божией Матери (8 сентября), и мне хотелось к этому дню прибыть в Лавру для богослужения. Однако, как я ни торопился, приехал лишь в самый праздник, когда оканчивалась Литургия.
Не успел я войти в свой дом, смотрю — из Лаврского собора идет крестный ход с молодым священником во главе. Подошедший ко мне епископ Дионисий объяснил мне, что это уж второй приход, присоединившийся к православию. «А кто же священники?» — спросил я. «Приходы возглавили братья Борецкие [
[54]], родом из крестьян воссоединившегося прихода…» — «А где же униатские священники?» — осведомился я. Сведений о них мне дать не могли. Эти священники–униаты были русофилы, лелеявшие мысль о соединении с Россией, а впоследствии, быть может, и с православием. В первом приходе был прекрасный престарелый священник. Братья Борецкие, грубые, неприятные люди, по–видимому, воспользовались моментом, чтобы, отстранив прежних батюшек, занять их место. «Первый блин–то наш комом…» — подумал я. Епископ Дионисий предложил мне посетить сейчас же эти приходы, «…но только надо жандармов с собою взять, потому что священники ключей от храма не дают, — надо будет их отобрать…». Смотрю, молоденький жандарм тут же неподалеку вертится. Меня все это очень покоробило. Присоединение к православию мне представлялось постепенным сознательным процессом, — не такими скоропалительными переходами, да еще с участием жандармов.
В села я все же поехал.
В первом селе меня встретил один из Борецких с крестом и коленопреклоненный народ с хлебом–солью; сельский староста обратился ко мне с речью, в которой выражал преданность своих односельчан «белому царю и православной вере…».«Русский дом большой, всем места хватит, всех с любовью примет Мать Россия…» — сказал я в ответ на это трогательное, искреннее изъявление народного чувства. Затем я направился в дом священника. О.Борецкий уже успел занять все помещение, оставив своему предшественнику, униату, лишь одну комнату. Отношение к нему у лиц, меня сопровождающих, было неприязненное. «Да вы его… вы его…» Я прошел в его комнату один. Священник встретил меня вежливо, но со слезами на глазах жаловался на наускиванье против него бывших его прихожан… Я извинился, старался его успокоить. Мне было его очень жаль. «Я бы и сам хотел в православие, — сказал он, — но нельзя же так… сразу, надо же подумать».
В другом селе — та же картина. Тут дома от священника не отняли, но все от него отшатнулись. Когда село меня встречало, он стоял в отдалении совсем один. Я с ним побеседовал и предложил приехать в Почаев переговорить со мною, как ему дальше быть.
Мои посещения приходов имели неприятные последствия. Старик священник (из первого села) поехал во Львов и стал рассказывать о «вопиющих притеснениях» и горько жаловался на меня. Поднялся шум, ропот, возмущение… Какие методы! Какое насилие! В результате — телеграмма от Великого Князя Николая Николаевича: «Предлагаю вам никаких насильственных мер не принимать». Такую же телеграмму одновременно я получил из Петрограда. Состояние мое было ужасное. Меня обвиняли в том, в чем я фактически был неповинен и с чем психологически был несолидарен… Я хотел бросить все — и уехать. Граф В.А.Бобринский [
[55]] и Д.Н.Чихачев [
[56]], состоявшие на разных должностях при генерал–губернаторе, прослышали во Львове о моем состоянии и стали уговаривать меня намерения своего в исполнение не приводить. «Мы поедем в Ставку, мы все разъясним…» И верно, съездили и разъяснили. Великий Князь выразил желание, чтобы я приехал к нему для переговоров. Однако вызов в Ставку я получил позднее — в конце ноября.
Из Почаева в начале ноября я направился во Львов; дорогой заехал к Главнокомандующему Юго–Западным фронтом Иванову. Во время нашей беседы он неожиданно объявил мне: «Знаете, а Андрея–то мы убрали…» — «Какого Андрея?» — удивился я. «Шептицкого…» Митрополит Андрей Шептицкий был главой униатской церкви в Галиции. Когда Львов был взят, генерал Брусилов предупредил Шептицкого, что никто его не тронет, если он по отношению к русским властям будет держать себя корректно, в противном случае военное командование будет вынуждено принять против него меры. В первое же воскресенье, в присутствии военного губернатора С.В.Шереметева, Шептицкий произнес в соборе зажигательную проповедь: «Пришли варвары… посягатели на нашу культуру…» и т. д. Его арестовали. Об этом аресте Иванов мне теперь и сообщал. Впоследствии весь одиум этого ареста почему–то пал на меня — поползла клевета о моем участии в этом деле. Между тем, видит Бог, я никакого отношения к аресту Шептицкого не имел. Вообще клевета в те дни преследовала меня по пятам… Неприятность с униатскими священниками положила ей начало.
Во Львов я приехал вечером и остановился в «Русском доме». Австрийцы выстроили в свое время на Францисканской улице хорошенькую церковку для своих православных солдат–буковинцев, а при ней домик настоятеля. Когда Львов перешел в наши руки, домик отдали вновь назначенному в штат при Управлении генерал–губернатору протоиерею Туркевичу. У него я и остановился. «Вам надо сделать визит генерал–губернатору», — посоветовал мне о.Туркевич, когда мы сидели с ним за чаем. Дом генерал–губернатора был через улицу, и я у него побывал в тот же вечер. Я застал целое общество: множество генералов и других высших военных чинов. Графиня О.И.Бобринская любезно встретила меня. Разговор был общий и оживленный. Я посидел с полчаса и вернулся домой спать.
На другой день генерал–губернатор был у меня с ответным визитом, а потом я имел с ним встречу, и мы беседовали об общем положении. Из его слов я заключил, что мой приезд считают несвоевременным, а наше военное положение неустойчивым. Пребывание во Львове, даже недолгое, выяснило мне многое. Я убедился, что существуют два течения: 1) русская администрация во главе с генерал–губернатором графом Г.Бобринским, которая против поддержки православного движения в оккупированной Галиции; 2) «русская партия», возглавляемая графом Владимиром Бобринским, Чихачевым… подкрепляемая галицкими деятелями «москофилами», стоит за более активную, определенную, энергичную политику в этом деле. К этой группе тяготел и я, хоть и расходился с нею в тактических вопросах. Мои сторонники наседали на меня, настаивали на действиях быстрых и решительных, согласно пословице: «Куй железо, пока горячо». Директивам их я не следовал, ограничивался посещением некоторых приходов, которые добровольно присоединились к нашей Церкви, а также назначал в них православных священников, согласно настойчивым просьбам прихожан: «Дайте же настоящего русского священника, с бородой, надоели нам эти бритые униаты!» В этот приезд я назначил в один приход молодого священника В.Стысло, из галичан, окончившего Житомирскую семинарию.
Перед отъездом из Львова «русская партия» просила меня приехать к 6 декабря, ко дню именин Государя, чтобы пышным архиерейским служением в храме Успения при Ставропигиальном Братстве [
[57]] торжественно манифестировать присоединение Львова к России.
По возвращении в Почаев я получил извещение, что Верховный главнокомандующий меня примет в Ставке (26 ноября в Юрьев день).
Я прибыл в Барановичи. Великий Князь принял меня ласково и спокойно. За завтраком мы шутили, а потом беседовали у него в кабинете в присутствии его брата Великого Князя Петра Николаевича. Я извинился, что не заехал сразу после назначения, объяснил мотивы.
– Я не очень сочувствую созданию особого управления церковными делами в Галиции, — сказал Великий Князь Николай Николаевич. — Война — дело неверное: сегодня повернется так, завтра иначе.
Я понял, что он разделяет точку зрения протопресвитера Шавельского, которому не нравилось нарушение единства военного управления всей занятой войсками территории. Кроме военного духовенства, он не признавал другой церковной организации в пределах фронта и ближайшего тыла.
Я сказал князю, что меня его телеграмма смутила.
– Мне разъяснили, — заметил он.
– Но темное пятно клеветы на моей работе осталось, — продолжал я, — мне трудно работать с воодушевлением, когда на мне тяготеет обвинение в «огне и мече»…
Тут вмешался в наш разговор Великий Князь Петр Николаевич:
– Я хочу вам поставить церковно–канонический вопрос: имеет ли Синод право устраивать свое управление, пока территория еще не русская? Она ведь остается и сейчас территорией Вселенского Патриарха…
– По смыслу церковных законов, Церковь в своем управлении следует за государствами. Если территория уже управляется русскими гражданскими властями, то и Русская Церковь имеет право организовать свое управление. Я не настаиваю — я исполняю лишь волю Государя. Сейчас я еду в Петроград и сложу с облегчением возложенную на меня миссию. Во всяком случае, я не хочу, чтобы моя церковная деятельность в Галиции могла бы хоть в какой–либо мере мешать планам высшего военного командования, — ответил я.
– Да нет, нет… что вы… — заговорили Великие Князья.
На этом наша беседа кончилась.
Затем я имел встречу с Начальником Штаба генералом Янушкевичем и протопресвитером Г.Шавельским; мы обсуждали частные, детальные вопросы, связанные с моим управлением; тон их разговора со мною мне показался благожелательным.
Посетил я и военную церковь при Штабе во имя праведного Николая (Кочанова) Христа ради юродивого, патрона Главнокомандующего; там ежедневно совершалось богослужение, прекрасно пел небольшой хор из каких–то мобилизованных артистов. Из Ставки я проехал прямо в Петроград.
В ответ на мое заявление о намерении сдать мою галицийскую должность все в Петрограде замахали на меня руками: «Что вы, что вы, разве можно отказываться! Надо немедленно ехать! В Галиции развал, нужно все наладить, нужен глаз епископа» и т. д. Я сам знал, что там не все благополучно. Доказательством тому было уже много фактов, кое–чему я сам стал свидетелем. Приведу для примера хотя бы следующий характерный эпизод.
Приходят как–то раз в Почаев галицийские мужики и жалуются: «Австрийцы нас угнетали, но никогда не били, а ваш уездный начальник: ах, та–ак… — вот тебе за священника!»
Подобные случаи, к сожалению, во время оккупации бывали, В Галицию посылали не лучших чиновников, а сплавляли худших. В результате — пьянство, растраты, мордобой…
В Петрограде меня уговорили должность не сдавать, и я выехал прямым поездом во Львов с целым вагоном подарков для солдат, а также с грузом селедок, сухарей и проч. для разоренного войною галицкого населения в новых православных приходах.
Меня просили прибыть ко дню именин Государя, и я приехал незадолго до 6 декабря. Ни архиерейского облачения, ни диаконов, ни певчих у меня там не было, — и я дал знать в Почаевскую Лавру. Жду день, другой — никто не приезжает. Я запрашиваю телеграммой. В ответ: «Дорога забита воинскими поездами, пассажирам не пробиться».
Наступило 6 декабря. Владимир Бобринский был вне себя. «Пропустить праздник невозможно! Если так, — облачайтесь в униатское, отслужите хоть молебен и благословите войска», — уговаривал он меня.
И вот я в католической митре с ленточками, в красной мантии, с высоким посохом служу молебен. Хор — наши солдатики. Потом был парад войск. Народу собралось видимо–невидимо. Я разоблачился и тоже присутствовал на параде. Потом был торжественный завтрак у генерал–губернатора, на который прибыли генералы и другие высшие военные чины. Не успели мы выйти из–за стола, прибыли с моим облачением почаевцы: архимандрит–наместник, архидиакон, певчие. Задержали их в пути (как потом выяснилось) умышленно, чтобы они приехали, когда все уже будет кончено. Этот эпизод характерный: генерал–губернатор боялся раздражать местное население слишком яркими православно–русскими манифестациями, тогда как «русская партия» считала нужным устраивать такие демонстрации для подъема настроения галицкого русского народа.
Из создавшегося положения мы вышли хорошо. 7 декабря было воскресенье. Граф Владимир Бобринский мне предложил отслужить Литургию в самом большом, новом униатском храме, где церковные службы совершались по восточному обряду — с иконостасом и проч. Храм был переполнен. Начиналась неделя святых праотцев (за две недели до Рождества). В этот день читается Евангелие о созыве гостей на приуготовленную трапезу: «Грядите, все готово…» Я применил эти слова к России. «Москофилы» были в восторге от патриотического энтузиазма, охватившего толпу после моей проповеди. Генерал–губернатор смущенно крутил ус: не очень ли громко мы заявляем австрийцам о нашем присутствии?.. Сторонники мои взяли с меня обещание вновь приехать на торжественное освящение воды, на праздник Богоявления (Иордань), и потом во Львове остаться.
Я вернулся через Почаев в Житомир. Надо было посмотреть, что делается в епархии, в консистории. В мое отсутствие порядки могли порасшататься, требовался мой глаз.
Здесь я провел святки. Перед Крещением пришла телеграмма от моих единомышленников из Львова с просьбой прибыть на водосвятие. Одновременно я получил письмо от генерал–губернатора графа Бобринского, просьбу их отклонявшее: повторное манифестирование патриотических настроений может произвести дурное впечатление, достаточно было именин Государя… Я решил отсрочить поездку до половины января. Из Львова посыпались на меня упреки: «Вы проваливаете все дело… мы на вас рассчитывали…» Я очутился между двух огней.
Я приехал во Львов около 15 января и остановился опять у протоиерея о.В.Туркевича. Его квартира представляла проходной двор: двери целый день не закрывались, в комнатах с утра до ночи была толчея — приезжие священники, военные, мужики с запросами, с требованиями… «Дайте православного священника! довольно нам бритых! Мы хотим — наших! С волосами, с бородой…» — сколько раз приходилось выслушивать подобные заявления.
Стали мы с генерал–губернатором вырабатывать условия, какими следовало руководствоваться при назначении священников в присоединившиеся приходы. Было решено удовлетворять просьбы при наличии 75 процентов присоединившихся. Но тут возник вопрос: как в военное время процентное отношение устанавливать? Генерал–губернатор заявил, что этим будет ведать специальная комиссия из его чиновников — уездных начальников и др. Лишь по получении удостоверения от комиссии церковное управление может посылать в села священников, а если разрешения не последует, приходы должны оставаться униатскими. Распоряжению генерал–губернатора я подчинился.
Вот как комиссия принялась за дело.
В село выезжали власти в сопровождении жандармов и приступали к баллотировке. Населению раздавали горошинки, которые должны были играть роль баллотировочных записок. Тотчас же возникали недоразумения. Бабы горошинки теряли, в ожидании своей очереди их сгрызали; случалось, что самый факт баллотировки горохом вызывал протест: «Как можно на горохе мою веру ставить!», «Мы хотим «батюшку», а они с горохом пристают…». И некоторые недовольные и оскорбленные этой административной процедурой галичане приходили ко мне жаловаться, плакались, когда «по гороху» оставались в меньшинстве.
Если было трудно установить, сколько крестьян тяготеет к православию, то не менее трудно было решить вопрос, кому отдавать бывший приходский униатский храм, если село перешло в православие. Генерал–губернатор постановил: униатам. Но как же оставаться православному приходу без храма? Стоит храм посреди села, а его не дают. После долгих обсуждений комиссия постановила: если число православных в селе 90 процентов, храм — их; если меньше, — пусть служат по хатам.
В этот приезд (в середине января) я пробыл во Львове довольно долго, а потом направился через Почаев в Петроград. Мне необходимо было оформить мое церковно–правовое положение. Нужны были официальные инструкции, нужно было организовать при мне хоть маленькое управление, состоящее из казначея, секретаря и 1–2 членов правления, председателем которого был бы я; нужна была и канцелярия для приема прошений, отчетности и разбора текущих дел. До сих пор я жил на бивуаках, без упорядоченного делопроизводства, без формальностей отчетности.
На мою просьбу в Петербурге откликнулись. Мне дали в члены правления иеромонаха Смарагда (Латышенко [
[58]]), волевого и весьма даровитого человека, и священника о.Михаила Митроцкого [
[59]] (Холмской семинарии), члена IV Думы, энергичного работника, способного, умного, по характеру горячего; в секретари отрядили чиновника синодальной канцелярии Овсянкина. Организация управления церковными галицийскими делами дала более прочную правовую основу моей церковной работе.
В феврале я вернулся в Почаев, оттуда проехал во Львов на более постоянное пребывание; там для меня и моего управления была реквизирована квартира.
Мне дали два этажа в доме бежавшего адвоката. Квартира была барская, прекрасно обставленная, брошенная владельцем на произвол судьбы: на столе в столовой остался недоконченный завтрак… Я потребовал, чтобы полицейский пристав составил опись вещей. Кажется, во время описи кое–что разворовали. Старик–консьерж, бывший адвокатский служащий, наблюдал за хозяйским добром — и неодобрительно молчал. Только психология войны может оправдать подобные вселения в чужие квартиры. Овладевание чужим противно, неприятно, ощущается всегда как насилие. К сожалению, во время войны это неизбежно. Все генералы и прочие представители военной и гражданской власти к такого рода вселению вынуждались необходимостью и безвыходностью положения.
Для служения мне дали большой униатский храм Преображения (с иконостасом), о котором я уже говорил. Теперь у меня была и свита, и певчие, и все, что нужно для архиерейского служения. На службах бывали тучи солдат. Бесконечная вереница исповедников и причастников без числа… Храм хоть отчасти удовлетворял религиозным нуждам солдат — до этого не было ни одного православного храма (кроме маленького генерал–губернаторского и походных церквей в лазаретах). Бедняги солдаты, шедшие на фронт, а потому почти на верную смерть, не имели возможности причаститься, ходили к униатам, там молились и причащались. Мне рассказывали, как в униатском монастыре они вместе с униатами восклицали: «Святой Священномучениче Иосафате, моли Бога о нас» (это тот Иосафат Кунцевич, который был известным гонителем православия). С этим явлением я примириться не мог и написал письмо протопресвитеру Шавельскому. Указание на эти непорядки он счел личной для себя обидой. Однако мое письмо имело доброе последствие: спешно была организована военно–походная церковь в огромном военном манеже; он вмещал до 7000 человек. Такой большой храм был необходим. Львов сделался распределительным пунктом для «маршевых рот», т. е. для тех солдат, которые, обученные и подготовленные, отправлялись на позиции для пополнения поредевших после боев войсковых частей. В этом храме мне случалось служить. Выйдешь со Святыми Дарами — море голов. Солдаты стоят покорные, безропотные, смиренные, некоторые из них тихо плачут… Ах, какая трагедия — война!.. Но было отрадно сознавать, что теперь удовлетворяются духовно–религиозные потребности людей, жертвенно отдающих свою жизнь для защиты своей родины.
Число православных приходов все увеличивалось. Их было около ста. Теперь на очереди была другая забота, в которой и приходы могли принять участие.
В оккупированных областях на театре военных действий появилось множество сирот, беспризорных, брошенных детей. Положение их было бедственное, оставить без внимания это ужасное явление — последствие войны — было нельзя. Я разослал в приходы инструкцию — подбирать детей и направлять их ко мне во Львов. Будучи еще в Петрограде, я обратился в Татьянинский комитет с просьбой выдать мне подотчетно необходимые денежные средства для организации помощи детям. У меня во Львове скопилось до ста детей. Я спешно открыл два приюта: один для мальчиков, другой для девочек. Подыскал хороших учителей, учительниц, сестер милосердия для ухода за малышами. С этой задачей удалось справиться хорошо.
На фронте шли жаркие бои, наши осаждали Перемышль — крепость неприступную. Помню, в день сдачи этой австрийской твердыни подъехал к моему дому автомобиль и мне было доложено, что Главнокомандующий Юго–Западным фронтом Иванов просит меня прибыть к нему в Холм. Как я приглашению обрадовался! Как мне хотелось вновь побывать в Холме! Как мне хотелось с Ивановым поговорить! До него могли дойти доносы, наговоры на меня… По всей вероятности, он приглашал меня для переговоров с целью выяснить всю правду.
И вот я мчусь на военном автомобиле. (Холм от Львова в 90 верстах.)
Замостье… Встречаю на улицах священников, гимназистов, гимназисток. Меня все радостно приветствуют. Приезжаю в Холм — весь город во флагах. Догадался сразу: — Перемышль пал!
Я заехал в архиерейский дом. Меня встретил епископ Анастасий. Прослышав о моем приезде, поспешило ко мне соборное духовенство. Волнующая, радостная встреча — первая после нашей разлуки…
В архиерейском доме, с которым у меня было связано столько воспоминаний, я нашел перемены: настроены какие–то перегородки, мебель по–другому переставлена. Епископ Анастасий сообщил мне, что по случаю победы на площади будет молебен, и пригласил меня на торжество.
Перед молебном я вошел в собор, приложился к иконам, к престолу. Незабвенный по воспоминаниям, дорогой собор! Но уже все в Холме теперь не то… И в соборе толпа другая: шинели, шинели без счету… Не тишина и мир в атмосфере города, как прежде, а нервность, встревоженность войной.
Молебен служили на площади в присутствии местных властей и войск. Епископ Анастасий сказал проповедь. По окончании торжества я отправился обедать к генералу Иванову.
Он жил в здании гимназии. Вхожу. По–походному обставленная комната: койка, письменный стол, стул… Суровая солдатская обстановка. Я поздравляю Главнокомандующего с победой. «Подождите, еще рано, «цыплят по осени считают…» — сдержанно ответил он. Началась беседа. Мы объяснились.
– Меня упрекают, что я форсирую события, — это неверно. Я даже не удовлетворяю всех запросов галичан, и тем не менее уже сто приходов присоединилось к православию, — сказал я.
Иванов мне поверил и успокоился.
Я вернулся во Львов. Приближалась Пасха. Она была ранняя: 23 марта. Встречать Светлый Праздник в условиях военной, бивуачной обстановки было трудно — под руками не было необходимого — и все же я старался провести богослужения Страстной седмицы с надлежащей торжественностью.
Несколько дней на Пасхе я провел с архиепископом Евдокимом [
[60]]. Он приехал для меня совсем неожиданно, прямо с вокзала, и на мои расспросы, куда он направляется, объявил, что назначен архиепископом в Америку. Я предоставил ему для служения маленькую Буковинскую церковь, которая превратилась теперь в губернаторскую, так сказать «придворную», привлекавшую на службы всю местную русскую аристократию, а сам служил в солдатском храме (о нем я уже упоминал). Мне хотелось служить для этих громадных солдатских толп, для этого сонма жертв, обреченных на смерть… Приветствуешь их: «Христос Воскресе!» — и тысячи голосов в ответ, от всей души: «Воистину Воскресе!..» Мне хотелось солдат ободрить, поддержать, внести в их сердца хоть немного радости. Кто мог подумать, что через два года, на смену этим безгласным, покорным людям, этим «жертвам», которые так безропотно шли на смерть, — придут бунтовщики! Какая в них была красота смирения, кротости, молчаливой готовности на подвиг! В заутреню я христосовался с солдатами и христосованье затянулось так долго, что генерал–губернатор, пригласивший меня к себе разговляться, счел невозможным дольше заставлять ждать своих гостей и предложил приступить к розговенью.
На третий день Пасхи было Благовещение. Мне вновь удалось побывать в Холмщине. В день праздника служил в Раве Русской (на самой границе Холмщины), а оттуда я решил заехать в Турковицкий монастырь. Когда в Раве после богослужения в местном храме меня отвезли на вокзал, я там увидал, как прибыли, прямо с фронта, два поезда с ранеными. (Один из них — поезд Императрицы, весь белый, чистоты безукоризненной.) Обслуживали их в пути хорошо, недостатка, видимо, ни в чем не было, но картина была ужасная. Тысячи искалеченных людей, кровь, нестерпимые физические муки… Незабываемо–тяжкое впечатление… Оно усугублялось и тревогой о событиях на фронте. Уже поползли слухи о недостатке снарядов, уже поговаривали о переломе в наших военных успехах, о возможности отступления… Я благословил раненых с тяжелым чувством и выехал в Турковицы.
Игуменья м.Магдалина прислала за мной монастырский экипаж. Еду уже по Холмщине. Как все переменилось! Разоренные деревни, оборванные, забитые крестьяне, приунывшие священники… Некоторые мужики меня узнают, приветствуют…
Турковицкий монастырь… Какая была радость — наша встреча! Многие священники в округе, прослышав о моем приезде, наехали в монастырь повидаться со мною. Некоторые из них изменились. Чувствовалось, что война, словно буря, все перевернула вверх дном, внесла в души и семьи горе и смятенье. Я узнал, что несколько священников попали в плен к австрийцам и подверглись оскорблениям и унижениям.
Вскоре после Пасхи во Львове стал циркулировать слух о прибытии Государя в Галицию. Понятно, какое всеобщее волнение вызвал этот слух. Подумать только: после стольких веков подъяремная, многострадальная Галицко–Русская земля увидит своего желанного, столь долгожданного Русского Царя! Я поехал к генерал–губернатору за информациями. Он подтвердил справедливость вести, но тут же прибавил, что Государь едет исключительно к войскам, чтобы их ободрить, осмотреть только что взятую крепость Перемышль, и т. д., а отнюдь не к населению, которое еще не его подданные. «Поэтому никакие манифестации, патриотические или политические, не могут быть допущены, — заявил генерал–губернатор, — и в вашем приветственном слове этих мотивов не следует затрагивать». От этих слов повеяло на меня неприятным бюрократическим холодком. Через несколько дней приезжает ко мне во Львов протопресвитер Г.И.Шавельский и опять разговор о встрече Государя. «Я к вам, — сказал он, — по поручению Верховного Главнокомандующего. Государь едет только к армии, и потому при встрече не следует касаться никаких вопросов — только приветствие самого общего характера». Это вторичное напоминание о том, как приветствовать Государя, меня очень задело.
– Я уже не молодой архиерей и не нуждаюсь в указаниях, как мне встречать своего Государя, — довольно резко возразил я. О.протопресвитер был моей репликой слегка обижен.
– Ну, смотрите сами, — сказал он. — Главнокомандующий шутить не любит.
– Благодарю за предупреждение и беру на себя полную ответственность за все свои слова и действия, — ответил я. Может быть, грешу, но мне показалось, что ему (как и генерал–губернатору) было неприятно, что встречать Государя буду я, а не он.
Велик и трогателен был восторг галичан, когда они узнали, что к ним едет Русский Царь. Несмотря на то, что точная дата приезда всячески от них скрывалась и вся железная дорога от границы до Львова была оцеплена солдатами, они узнали о времени проезда и с церковными хоругвями и иконами крестными ходами устремились к железной дороге — стояли шпалерами по пути следования царского поезда.
Мы встречали Государя в том храме–манеже, о котором я говорил выше. Огромный храм был переполнен до тесноты: генералы, офицеры, солдаты, русские, служащие в разных ведомствах (среди присутствующих я увидал Председателя Государственной думы Родзянко), местное галицкое население — все слилось воедино; длинная вереница священнослужителей, в золотистых облачениях, с о.протопресвитером Шавельским впереди, — и все это шествие возглавлялось мною. Момент был не только торжественный, но и волнующий, захватывающий душу…
Государь прибыл в сопровождении Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича и генерал–губернатора графа Бобринского. Приехал он без всякого торжественного церемониала, в рабочей военной тужурке, быстро выскочил из автомобиля, на ходу бросив недокуренную папиросу, поздоровался со своими сестрами Ксенией Александровной и Ольгой Александровной, стоявшими при входе в храм в костюмах сестер милосердия, и направился ко мне. Забыв все предостережения, я начал свою речь… В ней я выразил все, чем были полны души православных галичан:
– Ваше Императорское Величество, Вы первый ступили на ту древнерусскую землю, вотчину древних русских князей — Ромаша и Даниила, на которую не ступал ни один русский монарх. Из этой подъяремной, многострадальной Руси, откуда слышались вековые воздыхания и стоны, теперь несется к Вам восторженная осанна. Ваши доблестные боевые орлы, сокрушив в своем неудержимом стремлении вражеские твердыни, взлетели на непроходимые, недоступные снежные Карпаты, и там, на самой вершине их, теперь вьет свое гнездо могучий двуглавый Российский орел…
Я говорил со всею силою охватившего меня воодушевления и убеждения, ибо непоколебимо был убежден в конечном торжестве русского оружия; чувствовал я и отклик моих слов в сердцах присутствующих; у многих на глазах блестели слезы… Главнокомандующему моя речь было не по душе, он с досадой крутил ус и кусал губы, тихо ворча: «Вот, не послушался…» (это мне передавали стоявшие близ него люди). Государь тепло меня поблагодарил: «Благодарю вас за сердечное слово».
По окончании молебствия я поднес Государю Почаевскую икону Божией Матери со словами: «Пусть эта святая икона напомнит Вам о посещении Вами Юго–Западного края вместе с Вашим покойным Родителем, еще в бытность Вашу Наследником–Цесаревичем, когда множество галичан прорвали пограничный кордон, чтобы видеть Русского Царя. Покойный Государь заметил их и обратился к ним с такими знаменательными словами: «Я знаю вас, я помню вас, я не забуду вас». Эти слова, — сказал я, — теперь находят свое осуществление в лице Вашего Величества».
Протопресвитер кратко приветствовал Государя от имени армии и тоже поднес ему икону.
Вечером у генерал–губернатора состоялся обед, на который я тоже был приглашен. Государь был очень весел, ласково беседовал со всеми, в том числе и со мной, с интересом рассматривал коллекцию австрийских снарядов, собранную в генерал–губернаторском доме, определяя, на каком заводе сделан тот или иной снаряд. Генерал–губернатор граф Бобринский тут же был пожалован генерал–адъютантом и на него надели царские аксельбанты и вензеля. Во время обеда на площади перед генерал–губернаторским домом послышалось какое–то движение и пение. Оказывается, мои православные галичане с крестами, хоругвями и иконами, несмотря на запреты, прорвались во Львов и запели русский национальный гимн «Боже, Царя храни!». Государь встал, вышел на балкон, прослушал гимн и сказал несколько сердечных слов. Восторг народа был неописуемый, нельзя было без слез видеть и слышать, как эти бедные галичане кричали «ура» своему Русскому Царю и долго не расходились, продолжая петь свои церковные и народные песни.
Государь провел в Галиции несколько дней, ездил в только что взятую крепость Перемышль, был на самом боевом фронте; говорили, что где–то у самых окопов царский автомобиль застрял в песках, — выбежали солдаты и на руках с восторгом вынесли автомобиль. Можно ли было думать, что те же солдаты, менее чем через два года, проявят столько злобы и зверства к своему любимому Царю!
По отъезде Государя, как водилось, многие участники встречи получили награды, ордена. Получил крест с украшениями протоиерей при генерал–губернаторской церкви В.П.Туркевич. Меня обошли; может быть, здесь сказалось некоторое неблаговоление Главнокомандующего за мое ослушание. Я нисколько об этом не жалел.
Довольно скоро после отбытия Государя я отправился в Петроград с докладом о ходе дел. Уныние, упадок духа, смятение… — вот петроградская атмосфера тех дней. С фронта вести все хуже и хуже. Мы отступаем…
По представлению Синода Высочайшим рескриптом мне был пожалован крест на клобук. Это дало мне чувство некоторого удовлетворения, но против клеветы, которая продолжала меня преследовать, знак монаршей милости был бессилен.
В Петрограде я был в начале мая. Тогда же пришло грозное известие -– мы сдали Перемышль. Первая мысль, которая у меня возникла, когда я об этом услыхал: надо спешить во Львов –- готовиться к эвакуации.
С тяжелым чувством вернулся я в Галицию. Во Львове настроение было напряженное, тревожное, близкое к смятению. Мне велели спешно забрать детей и переправить их в Россию. С этим делом справиться было можно. Но что делать с православными приходами? Как оберечь их от ужасной участи –- вновь очутиться под австрийской властью и принять кару за измену? А если их перевешают, перестреляют?.. Тревога о галичанах не давала мне покою.
Детей мы вывезли благополучно. Подали поезд, нагрузили его приютским имуществом, посадили детей, сестер милосердия -– и направили в Киев. Там митрополит Флавиан пришел на помощь –- распорядился отвезти мальчиков в Выдубицкий монастырь, а девочек –- в Покровский монастырь (основанный матерью Великого Князя Николая Николаевича –- Великой Княгиней Александрой Петровной, в монашестве Анастасией), в его филиал «Межегорье». Все обошлось хорошо. Не так было с приходами.
Надежды на восстановление нашего прежнего военного положения уже не было никакой. Во Львове я встретил генерала Брусилова. «Ну что? как наши дела?» -– спросил я. Брусилов только рукой махнул. «Надо собираться?» –- «Надо, надо…» -– подтвердил он. «А что же делать с галичанами? Австрийцы их перестреляют…» –- «Да, оставаться им нельзя».
Я бросился к генерал–губернатору умолять его помочь мне спасти галичан. Он стал меня успокаивать: «Ничего, ничего, владыка, пусть эвакуируются, а у нас в пограничных губерниях они рассосутся». Рассосутся! Безответственное слово… Как могли «рассосаться» 50–100 тысяч пришлого населения в нищих, истощенных военными реквизициями, приграничных областях?
Они двинулись табором, неорганизованным потоком. Стар и млад, лошади, коровы, телеги, груженные домашним скарбом…
Я поехал к Главнокомандующему Иванову, чтобы обсудить, что делать. Он предложил мне воспользоваться Шубковым, артиллерийским полигоном (Волынской губернии, Ровенского уезда), незаселенной площадью в 30–40 верст, до войны на этом полигоне по летам производилась учебная артиллерийская стрельба; были настроены для офицеров хатки, а для солдат были выкопаны землянки.
Какой–то исход из безысходности нашелся. Положение галицийского каравана было ужасно. В пыли, грязи, под дождем и зноем, рожая и умирая в пути, двигался грандиозный табор беженцев, не зная, где и когда он осядет. Надо было кормить скот и самим кормиться. Наши крестьяне, оберегая свое достояние, на свои луга чужой скот не пускали, а кормиться самим в беженских условиях галичанам было тоже трудно.
Я поспешил вперед, чтобы направить главную массу беженцев в Шубково. Там около 50 000 галичан и осело. Местность, пригодная для полигона, оказалась далеко не пригодной для поселения. Кругом болота, колодцев не хватало. В жару люди бросались к воде, и в результате новое бедствие: холера…
Я спешно выехал в Житомир и попросил губернатора сейчас же мобилизовать 2–3 отряда Красного Креста и Земского союза, также приказал отрядам стражников оцепить болота и не пускать беженцев к зараженной воде.
Сознавая нравственную ответственность, которая на мне лежала, я пережил тяжелые дни… Я мчался на почаевских лошадях то туда, то сюда, объезжая лагерь, и наконец решил перенести свою резиденцию из Житомира в маленький монастырек в г.Дубно, чтобы, оставаясь в связи с Почаевым, находиться неподалеку от моих несчастных галичан.
События надвигались грозные. Тучи сгущались. На фронте со дня на день положение было все хуже и хуже. Возникла тревога за судьбу Почаевской Лавры.
Отступление уже началось… Ужасная картина! Один за другим тянутся поезда, груженные военным имуществом… На открытых платформах везут пушки, к ним примостились солдаты и едут, обняв пушечные жерла… А по дорогам в беспорядке движутся войсковые части… То тут, то там виднеется зарево пожаров — это наши, отступая, подожгли интендантские склады, деревни и хлеба. Урожай в тот год был чудный; стоял июнь месяц: нивы уже колосились… Поначалу было дано распоряжение — выселить всех галицийских крестьян поголовно; потом его отменили. Кое–какие деревни уцелели, но хлеб сожгли.
Я поехал в Почаев. Собрал монахов, чтобы предупредить их о надвигающейся беде. Смотрю, лица у них угрюмые, трагические…
– Враг близко, отцы, — обратился я к братии. — Может быть, Почаев перейдет в его руки. Думаете ли вы оставаться, или бежать? Оставаться, разумеется, — подвиг, а подвига предписывать нельзя. Если бы остались, вы увенчали бы Лавру славой, заслуга ваша была бы великая… Потом о вас будут говорить: вот какие стойкие были почаевские иноки! А я всем, кто останется, низко поклонюсь. В округе нужда большая в требах, священники люди семейные, им оставаться трудно, а мы, монахи, ничем не связаны. Я не предписываю, а предоставляю вашей совести решить: оставаться — или уезжать. У кого нет мужества, пусть уезжает — его судить не могу, не имею права.
Подумали монахи, подумали — и разделились. Человек тридцать из них — самый цвет Лавры — остались (двое попросили разрешения принять великую схиму); а остальные заявили: «Мы, владыка, по немощи нашей решили уйти…»
Вскоре пришло циркулярное предписание от военного начальства спешно собрать в приграничных областях ценную церковную утварь и все церковное имущество из металла и направить его внутрь России. Встал вопрос: как быть с почаевскими колоколами? Главный колокол весил около 900 пудов. Спустить его казалось трудностью неодолимой. Прибыли из штаба военные техники, осмотрели колокола и решили разрезать их на куски посредством электрических приборов. Монахи восстали: не дадим! не дадим! сами справимся! И действительно, справились.
Они привезли из Шепетовки, с сахарного завода, домкраты, отвязали главный колокол от балок, а своды в колокольне проломили –устроили как бы колодезь — и на домкратах стали опускать на два толстенных дубовых бревна. До нижнего этажа колокол дошел благополучно, а тут оборвался; он грохнулся на бревна, разрезал их, как хлеб, и ушел немного в землю. Ничего, подняли. Удивительную ловкость и сметку проявили монахи! С остальными колоколами уже было легче. Обложили колокольню у основания подушкой из хвороста, соломы, мягкой земли, укрепили концы двух рельс на нее вершине — и по рельсам скатывали колокола на подушку; они прыгали на ней, как мячики: ни один не треснул (у одного лишь ушко повредили).
Теперь предстояло везти колокола в г.Кременец.
Соорудили особые громадные колеса из распаренных гнутых бревен, впрягли лошадей двадцать — тридцать и повезли. Провожать колокола сбежалась вся округа: крестьяне, бабы… Плачут, рыдают, причитают… Расставались с ними, точно с родными покойниками.
Перевезли колокола в Кременец благополучно; погрузили в поезд на Харьков и доставили в Борки (Харьковской губернии). Тут их два монаха и хранили до самого Брест–Литовского мира, а когда мир был заключен, сейчас же вернули в Почаев и опять своими силами братия водрузила их на колокольню.
Это было уже после революции, а до этого Лавре пришлось пережить много тяжких дней.
Когда братия разделилась, монахи, покинувшие Почаев, разбрелись по монастырям, а оставшиеся приготовились к захвату неприятелем. Я очень рассчитывал на этих стойких иноков; они могли обслуживать окружное население. Однако вышло иначе. Когда австрийцы овладели Лаврой, в монастырь прибыл австрийский эрцгерцог. Братия встретила его почтительно, эрцгерцог был корректен. На другой день появился приказ — выселить всех в венгерский лагерь для военнопленных. Мой большой почаевский приятель, 80–летний архимандрит Николай, приказу решил не подчиняться. «Не мог я Лавру покинуть, — рассказывал он мне впоследствии, — как выйду на двор, да как посмотрю на окошечко моей кельи — так и зальюсь слезами… Не могу! Не могу! Лег на свою койку — пусть делают со мной что хотят, пусть хоть штыками заколют, — не уйду». И не ушел. Когда хотели его выволочь, он уцепился за койку — и ни с места. Поднялись крик, ругань… В эту минуту проходил по коридору доктор, услыхал крики и осведомился, в чем дело. Ему объяснили. «Оставьте…» Старика и оставили. В громадной Лавре только он один и остался. Русское население затаскало его на требы, а австрийские власти были даже довольны, что он устранял повод к неудовольствию местного православного населения, лишенного своего духовенства.
В Лавре австрийцы стали хозяйничать без всяких церемоний. В главном храме поставили свой престол и начали служить мессы. Зимний храм (трапезный) превратили в синема, водрузив кинематографическую электрическую машину на место престола. Зрители, офицеры, сидели в шапках, курили, приходили выпивши, держали себя распущенно. Из моей маленькой церкви при архиерейском доме выбросили иконостас и устроили «кантину» — офицерский ресторан; стены испещрили, негодяи, гнусными, порнографическими рисунками (потом я своими глазами их видел); когда они из Лавры ушли, вся церковь была завалена бутылками. Как верующие, христиане, носители западной культуры могли дойти до такого бесстыдного кощунства! До такого варварства!
Мы отступали все дальше и дальше. Уже австрийцы угрожали Бродам. Наш фронт от Дубно был теперь верстах в двадцати — тридцати. Скрепя сердце я решил перебраться в Житомир. Но что было делать с беженцами?
Я поехал к генералу Иванову и объяснил положение дела: зимовать в Шубкове невозможно, надо галичан устроить прочно.
Опять исход нашелся — выручили непредвиденные обстоятельства.
Волынь была полна немецкими колонистами. Они осели еще задолго до войны на главных наших стратегических путях и теперь ждали «своих», припрятывая для них запасы зерна, пшеницы и т. д. Присутствие ненадежного элемента в ближайшем тылу ощущалось нашими властями на местах, и я не раз выслушивал жалобы и просьбы довести об этом до сведения военачальников, чтобы они обратили внимание и приняли какие–нибудь меры против немцев, которые, по чувству родства, были сторонниками неприятеля и невольно могли играть роль шпионов. Я сказал об этом Иванову. Сперва он отнесся к моим словам довольно холодно: «Это невозможно… это вызовет новое раздражение…», а на другой день позиция его уже была иная: «Вы правы, надо их выслать в глубь России». Прежде чем Иванов успел принять меры, из Петрограда пришел военный приказ: в кратчайший срок выселить всех немецких колонистов.
Был июль. На Волыни урожай в тот год выдался великолепный. В колониях поднялись плач, вопли… Нагрянула полиция следить за спешной ликвидацией. За бесценок продавались сельскохозяйственные орудия, скот, вещи. Дома бросались на произвол судьбы. Ко мне пришла делегация от колонистов. Бабы плачут, умоляют: «Защитите! Дайте убрать урожай!» Не успели немцы ликвидировать свои хозяйства — новый приказ: могут оставаться для сбора урожая. Опять ко мне явилась делегация: «Какой сбор? Чем убирать? Мы все, до серпа, продали…» Несомненно власть действовала бестолково, а в результате нелепое положение: урожай есть, а рабочих рук нет. Мне пришла мысль использовать моих галичан. Земледельцы они хорошие, культурные, справятся со сбором урожая отлично; пусть 1/4 его берут себе, а остальное пойдет на нашу армию; расселить же их можно в брошенных колонистами хатах. Генерал Иванов мой план одобрил. Я телеграфировал в Шубково — чтобы готовились к ликвидации лагеря и переселению в колонии.
В это время в петроградских газетах началась против меня дикая травля (особенно в «Речи»): я обманул галичан, я обещал 1 рубль каждому беженцу суточных, а в результате денег никаких не выдают, а всех обрекли на вымирание от холеры и т. д. Злая, нелепая клевета!
Лишь только в Шубкове узнали о предстоящем переселении, встал вопрос об организации карантина. Для обсуждения, как его устроить, я спешно выехал в лагерь. Обойтись без карантина было невозможно: беженцы могли разнести эпидемию по всей Волыни. Военные власти посовещались и придумали такого рода карантин: 1000 беженцев выгонять на поле, оцепленное солдатами, и держать их там с неделю; если никто из этой партии не заболеет, они считаются годной для переселения; а если кто–нибудь заболеет, надо всю партию держать еще 7 дней. На практике этот способ оказался непригодным: кто–нибудь всегда заболевал, и карантину не предвиделось конца. Я спорил с военными и санитарными властями, обращался к губернатору, убеждая изолировать беженцев по группам в 50 человек. В конце концов к этому способу и перешли; результаты он дал хорошие.
Месяца через полтора галичане стали расселяться по хатам колонистов. Почувствовав над головой крышу, занятые привычным земледельческим трудом, они не знали, как меня и благодарить. Некоторое время спустя я объехал моих переселенцев. Они быстро все наладили: организовались, устроили церковки, школы… Тут же оказалось человек двадцать униатских священников–русофилов. Я их расселил по колониям и выхлопотал им пайки. «Я вас не отделяю от православных галичан», — сказал я.
В те дни я жил в Житомире, занимался моими галичанами, общался с ними и налаживал их дальнейшую судьбу, и вдруг — известие от генерала Маврина: эвакуация Киева… Лично для меня это означало спешный вывоз моих приютов. Что делать? Куда их девать?
Заведующий приютами был умный, энергичный священник о.Иоанн Терещенко. Я посоветовал ему нанять баржу, погрузить детей со всем приютским имуществом, плыть вниз по Днепру, обращаясь на пути во все города с просьбой об убежище. Так он и сделал. Путешествие оказалось долгим, на Днепре пристроиться им не удалось — пришлось по железной дороге ехать в Бердянск, в городок на Азовском море, согласившийся их приютить. Городской голова, хороший, добрый человек, отвел им пустующую немецкую фабрику. Там они и расположились. Я выхлопотал из Татьянинского комитета ассигновку, и через 2–3 недели все наладилось. Дети стали учиться в местных школах. Вскоре я получил письмо от о.Иоанна. «Все у нас слава Богу…» — писал он.
Потом я их навестил. Мне необходимо было побывать в Ростове–на–Дону, где осела группа галичан. Среди них несколько униатских священников; они изъявили желание перейти в православие, и мы, архиепископ Антоний и я, решили придать этому событию характер празднества. Мы прибыли в Ростов. Церемония присоединения к нашей Церкви была обставлена очень торжественно, мы произнесли горячие проповеди. А на душе было не празднично, а тревожно. Ощущение предгрозовой духоты, надвигающихся бед…
Проездом в Бердянск я остановился в Таганроге у викарного епископа Иоанна (Поммер), впоследствии епископа Рижского, убитого каким–то злоумышленником в 1934 году.
Встреча с моей приютской детворой меня очень утешила. Дети были здоровы, веселы и довольны; одетые в гимназическую форму, они, даже внешне, производили приятное впечатление. Тут же в городе находилась и эвакуированная из Холма женская гимназия.
Я пробыл в Бердянске несколько дней и уехал с отрадным сознанием, что с детьми все устроилось хорошо.
На фронте той зимой было затишье. Австрийцы, оттеснив наши армии за пределы Галиции, заняли некоторые пункты Волыни и остановились. Мы стали собираться с силами, организуя тот Брусиловский кулак, который решил судьбу весенней кампании (1916г.). Около Троицы мы перешли в наступление и прорвали неприятельский фронт. Под Кременцом были жаркие бои. Почаев и Дубно вновь перешли к нам.
Я побывал и тут и там. Дубно было неузнаваемо. Австрийцы так его укрепили, что сомнения не было: они приготовились к длительной позиционной войне. Окопы у них были устроены прекрасно, даже с комфортом: ковры на стенах, мягкая мебель в офицерском помещении, рояль… перед входом в окопное подземелье были разбиты цветники. Они использовали наши церкви, соорудив под алтарями блиндажи. Организовали они и подступ к городу через непролазные болота: построили несколько мостов и проложили дороги — словом, во время девятимесячного своего пребывания в Дубно они усердно поработали.
В Почаеве монастырские здания я нашел в порядке, но все австрийцы устроили по–своему. Они провели электричество и сделали водопровод. В окружных деревнях соорудили красивые палисадники. Но все это благоустройство не могло искупить вины — осквернения почаевских церквей, о котором я уже сказал.
После весенней победы при Главнокомандующем Юго–Западным фронтом было организовано новое Церковное управление, во главе которого поставили протоиерея Титова. На реконструкцию Управления повлияла записка, поданная Верховному Главнокомандующему генерал–губернатором графом Бобринским [
[61]]. В ней он критиковал мои действия в Галиции и обвинял меня в нежелании слушаться его советов, с ним считаться и проч. — словом, ответственность за все нарекания на действия Церковного управления во время оккупации он возлагал на одного меня. Я на обвинения не возражал, решил перенести их молча…
После эвакуации я донес в Синод о своих действиях как главы Православной Церкви в Галиции. Формальной моей отставки не последовало, просто новое Управление организовали без меня.
В то лето, несмотря на Брусиловское победное наступление, наши неудачи на Северном и Западном фронтах были так серьезны, что внесли тревогу предчувствия грядущих бед. Прежняя устойчивость поколебалась. Дума стала нервничать, в Совете Министров началась министерская чехарда… Сазонова, опытного дипломата, осведомленного во всех сложных международных отношениях, сменил Штюрмер [
[62]], человек ограниченного ума, никакого отношения к дипломатии не имевший, элементарно к ней не подготовленный. Это странное назначение повлияло на всех угнетающим образом. Многим теперь хотелось махнуть на все рукой…
Ставку Верховного Главнокомандующего перенесли из Барановичей в Могилев.
Я приехал в Ставку, надеясь получить аудиенцию у Государя. Мне хотелось воспользоваться случаем, чтобы разъяснить недоразумение относительно моей деятельности в Галиции; но генерал Алексеев принял меня холодно и мое желание аудиенции отклонил. Из тона беседы и психологической атмосферы, царившей в Ставке, я понял, что разъяснять мне некому и нечего: всем было не до меня…
Я решил ехать в Петроград для получения от Синода официального освобождения от должности, а также для сдачи ему всех дел, денежных сумм и отчетов.
В Петрограде я виделся со Штюрмером. Мне казалось полезным осветить ему положение церковных дел в Галиции, хоть я прямого отношения к ним уже не имел. Однако разговориться на эту тему мне не удалось. Штюрмер держался важно, даже несколько напыщенно, показывал мне портреты предыдущих министров иностранных дел и, видимо, был весьма доволен своим новым назначением. Когда речь зашла о войне, он заговорил о русской мощи и непобедимости в тонах столь противоречащих действительности, что мне стало тяжко и жутко его слушать.
– У меня на днях был швед… Он рассказывал, что в Берлине все крайне истощены, а посмотрите, в Петрограде? Как будто никакой войны! Да разве нас победишь?!
Настроение в столице было предгрозовое… Кое–где уже не хватало продуктов. Нарастало недовольство. Назначения Штюрмера и Протопопова (он только что был назначен Министром Внутренних дел) это недовольство лишь подогревали. Город был полон недоброжелательных слухов о новых министрах. Дума негодовала. Из уст в уста передавался рассказ о нелепом поступке Протопопова, приехавшем в Думу на заседание бюджетной комиссии… в жандармском мундире [
[63]]; о странном его поведении у Родзянко, который совместно с некоторыми членами Думы (в том числе с Шингаревым и Гучковым) пригласил его для беседы на квартиру: все, что там Протопопов говорил, было стенографически записано спрятанной за портьеру стенографисткой, и теперь его похвальба близостью к царской чете и проч. ходила в записи по всему городу.
В тот приезд я посетил и графиню Игнатьеву. Когда я был в Галиции, она посылала церковные облачения для галицийского духовенства и относилась не безучастно к православному делу в австрийском зарубежье. Я поехал поблагодарить ее. В беседе мы коснулись назначения на пост Товарища Обер–Прокурора князя Жевахова. Этот маленький чиновник Государственной канцелярии, человек ничем не выдающийся, внезапно получил видное назначение. Карьерную удачу объясняли близостью к Распутину и давлением «высших сфер»…
Графиня Игнатьева рассказывала мне о своей беседе с князем Жеваховым. На ее вопрос, какие были у него основания занять должность, к которой он не подготовлен, Жевахов ответил общей фразой об условности понятия компетенции: «Не боги горшки обжигают…»
В Петрограде у меня разболелись ноги. Походная жизнь, которую я до тех пор вел, давнее мое недомогание лишь осложнила: раны не заживали. Я решил съездить в Москву полечиться. Хотелось мне и повидать кое–кого из моих холмских друзей. Монастыри Красностокский и Турковицкий были эвакуированы в Москву. Здесь им отвели помещения: Красностокскому — в Нескучном; Турковицкому — в одном из корпусов Марфо–Мариинской обители, где я и поселился. Тут же проживали теперь епископ Серафим (Вельский) и о.Сергий, мои холмские сотрудники и настоятели Яблочинского монастыря.
Поначалу меня лечил профессор Зыков, заведовавший великолепно оборудованной раковой клиникой на Девичьем поле. Его лечение пользы мне не принесло. Боли усилились, появилась краснота. В конце концов я лег в лазарет Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Лежал я там среди раненых, в палате со стеклянными дверями прямо в церковь. Это давало возможность лежа на койке присутствовать на церковных службах. В чистоте и покое я пролежал некоторое время, и мне стало лучше.
Во время пребывания в Марфо–Мариинской обители мне довелось беседовать с Великой Княгиней Елизаветой Федоровной. В беседе со мной Великая Княгиня откровенно и неодобрительно отзывалась о Государыне.
– Как это может быть, что Государыня, образованный человек, доктор философии, а нас не понимает? — спросил я.
– Какая она образованная! Она решительно ничего не понимает, — сказала Великая Княгиня.
Я узнал, что незадолго до нашей беседы Великой Княгине Елизавете Федоровне было предложено покинуть Царское Село, потому что ее критическое отношение к тому, что при Дворе происходило, не понравилось…
На Покров я служил, в храмовой праздник, в Марфо–Мариинской обители. В проповеди говорил о православном почитании Божией Матери, отличном от католического. Для католиков Божия Матерь — Мадонна, недосягаемый идеал чистоты и девственности; для нас Богоматерь — нежная, любящая мать; мы целуем икону, чувствуем доступность ее, несмотря на наше недостоинство. Католикам такое восприятие Богоматери чуждо.
Поздней осенью (1916 г.) я вернулся из Москвы на Волынь. Дорогой мне случилось разговориться с двумя спутниками. Это были молодые люди, ехавшие в соседнем купе. Мы познакомились, они предложили мне выпить с ними чаю, стали меня расспрашивать, как я работал в Галиции, как я смотрел на свою миссию и т. д. Между прочим задали и такой вопрос: не нахожу ли я, что православная моя деятельность в Галиции была преждевременна? Я сказал, что, оглядываясь теперь назад, признаю, что надо было действовать осторожнее… В результате мимолетного разговора, через несколько дней в левых газетах — заявление: «Архиепископ Евлогий признает миссию в Галиции бесполезной и вредной…»
В Житомире я пробыл недолго и в начале декабря выехал в Луцк. К тому времени сформировалась особая армия — под командой генерала Балуева, объединявшая гвардейские полки. Балуев командовал раньше 17–й дивизией, расквартированной в Холме и мы с ним были приятели. Я посылал его дивизии подарки на фронт. Теперь он просил меня объехать полки особой армии. Я прибыл в Луцк, где находился ее штаб.
Город был переполнен ранеными. Лазаретов было множество (как вообще во всех городах на третий год войны). Я начал объезжать их, обходил раненых, раздавал им крестики, беседовал с ними, случалось, шутил. Помню, как–то раз подъезжаю я к лазарету, смотрю, германский аэроплан над головою кружится… Едва успел войти — раздался оглушительный удар. На улице разорвалась сброшенная с аэроплана бомба. Взрывом убило двух солдат, которые везли воз сена, а моему шоферу–солдату все лицо засыпало осколками. Я получил Георгиевскую медаль за опасность, которой подвергся.
В одном из лазаретов со мной произошел смешной эпизод. Я дал крестик молодому красивому солдатику. Беседую с ним, глажу по голове, целую, стараюсь его ободрить, а кругом все смеются… В чем дело? Оказалось, что солдатик — женщина–доброволец.
После лазаретов я объехал полки; видел атаки аэропланов и обстрел их из пушек.
Отъезд мой из Луцка совпал со следующим обстоятельством. Я приехал на вокзал, купил газету, развернул ее — и вижу заголовок: «Убийство Распутина»… Первое впечатление, которое не изгладилось и впоследствии, — вздох облегчения. Темная сила отошла…
По возвращении в Житомир я стал готовить рождественские подарки для фронта. Повез их преосвященный Аверкий, сменивший епископа Гавриила. Во время моих галицийских поездок наши отношения с преосвященным Гавриилом натянулись. Он был самолюбив, это создавало вечные конфликты, затруднявшие работу. В Петрограде я говорил о создавшемся невыносимом положении, и епископа Гавриила назначили в Челябинск. Его место занял ректор нашей Житомирской семинарии, милейший, кроткий, добрый архимандрит Аверкий. Смена произошла в то время, когда я жил в г.Дубно. Хиротония состоялась в Житомире. Я возглавлял это торжество. Прошло оно тихо, почти без гостей. Присутствовали лишь епископ Фаддей и старший брат архимандрита Аверкия — епископ Пахомий (викарий в Чернигове), которого приятели прозвали «циклопом». Будучи студентом Казанской Духовной Академии, в припадке фанатического исступления он обжег себе глаз на лампадке. Этот порыв изуверской ревности о спасении обезобразил его физически, лишил его на этот глаз зрения, но душа у него осталась по–прежнему прекрасная. Прямолинейный, добрый человек, он добродушно отшучивался, когда кто–нибудь напоминал ему о причиненном себе увечье.
Преосвященный Аверкий, возивший подарки на фронт, получил награду: «Владимира с мечами». Он лазал по окопам, подвергся обстрелу, проявил много мужества.
После Рождества я решил вновь полечить ноги. Мне посоветовали обратиться к опытному молодому хирургу Истомину, доценту Харьковского университета. Он предложил удаление пораженных вен. Я согласился. Операцию произвели в Житомире, в Общине Красного Креста. Во главе ее стояла Наталия Ивановна Оржевская, рожденная княжна Шаховская (сестра Дмитрия Ивановича Шаховского). Это была святая женщина, она умела так поставить свой лазарет, что всякий, кто в него попадал, чувствовал себя, словно в Царствии Небесном. Она состояла членом «Христианского Движения Молодежи» (УМСА), центром которого в Петрограде был «Маяк». Архиепископ Антоний Волынский с нею воевал, обличал в «еретических воззрениях». Наша Церковь вообще относилась к «Движению» отрицательно, считая его сектантским. Меня не раз приглашали на собрания «Движения», но митрополит Киевский Владимир меня всякий раз энергично отговаривал: «Что вы! ведь это сектанты!» В Петрограде я все же на некоторых собраниях побывал. Помню одно из них, в зале Калашниковской биржи. Выступал в тот вечер профессор Калькуттского университета и говорил о значении Евангелия. Зал был набит молодежью. В аудитории стояла тишина сосредоточенного глубокого внимания. Искренность религиозной настроенности слушателей тронула меня. Речь оратора сводилась к тому, что люди Евангелия не знают; в области науки готовы признать истину, подтвержденную опытом, а в области духовной они отвергают истину без опыта; между тем сделать опыт надо. «У меня много случаев, — сказал оратор, — когда люди, отбросив всякое предубеждение, принимались читать Евангелие и делались христианами… Я вам Евангелия не навязываю, а лишь говорю: возьмите, почитайте…»
Предстоящая мне операция взволновала всех моих друзей. Одна игуменья, в тревоге за ее исход, горячо молилась. Ей приснился сон: я иду в лазарете по коридору — направляюсь в палату, за мной идет Царица Небесная… лишь только Она переступила порог палаты — двери захлопнулись. Игуменья почла сон за указание, что операция пройдет благополучно. И действительно, я перенес хлороформ хорошо (операция длилась 40 минут), и выздоровление протекало без всяких осложнений.
Во время болезни я ближе познакомился с моим хирургом, доктором Истоминым. По политическим убеждениям он был левый. Ежедневно он приносил мне новости одна другой ужасней, одна другой позорней… Так, например, сообщил о поезде Императрицы, прибывшем с фронта пустым: офицеры предпочитали лучше лежать в теплушках, нежели пользоваться поездом Царицы, настолько имя ее на фронте было скомпрометировано. Возражать Истомину мне становилось все труднее.
В феврале (1917 г.) я покинул лазарет. Приближалась «великая, бескровная…».
Глава 16. АРХИЕПИСКОП ВОЛЫНСКИЙ Революция. Церковный Собор (1917–1918)
Вскоре по выздоровлении мне пришлось участвовать в Земском собрании. Атмосфера его была нервная, грозовая… Я сказал речь с некоторым подъемом. Губернатор Скаржинский, крайний правый, в бытность свою непременным членом Губернского Присутствия в Чернигове энергично содействовал выборам правых в Государственную думу, вел на этом Собрании свою линию, уязвляя левых, мешая им, старался не давать им слова и тем лишь обострял страсти.
Не успело Собрание окончиться — первая ласточка революции: телеграмма священника из Здолбунова (большой железнодорожный узел): «Рабочие просят отслужить молебен по случаю переворота». Не осведомленный ни о чем, я был ошеломлен. Запросил губернатора, не известно ли ему, что случилось. Скаржинский тоже ничего еще не знал и посоветовал оставить телеграмму без ответа. Политику отмалчивания я не признавал и телеграфировал, что молебен разрешаю, но без политических речей. К вечеру пришло известие, подобное взрыву бомбы: Государь отрекся от престола… Все растерялись, никто не решался вести поверить. Однако на другой день губернатор Скаржинский собрал представителей всех ведомств и официально заявил о полученном правительственном сообщении.
Мне телефонировал мой приятель, католический епископ Дубовский [
[64]], и просил разрешения ко мне приехать. Он только что вернулся из Петербурга и был перед революцией последним, кому дана была аудиенция у Государя. Представлялся он Государю по посвящении во епископы. Без одобрения русского монарха Римский Папа не мог утверждать кандидатур высшего католического духовенства в России. Если кандидат был приемлем, он представлялся Государю и получал от него перстень [
[65]]. Епископ Дубовский приехал ко мне и рассказал об аудиенции: Государь произвел на него самое приятное, даже обаятельное, впечатление.
С первого же дня после переворота передо мной, как главой Волынской епархии, встал вопрос: кого и как поминать на церковных службах? Поначалу, до отречения Великого Князя Михаила Александровича, он разрешался просто. После возникло осложнение. В конце концов решено было поминать «благоверное Временное правительство…» Диаконы иногда путали и возглашали «Многие лета» — «благовременному Временному правительству…».
Первые революционные дни в Житомире: толпа на улицах, шествия, «Марсельеза», красные банты, красные флаги… Священники, чиновники, все… в бантах. Крайний правый, видный черносотенец, в порыве революционного энтузиазма кричал толпе с балкона: «Марсельезу! Марсельезу!..»
Иеромонах Иоанн (из пастырского училища), несмотря на пост, приветствовал меня: «Христос Воскресе! Христос Воскресе!», а в ответ на мои увещания быть более сдержанным возразил: «Вы не понимаете!..» Потом я узнал, что он в училище со стены сорвал царский портрет и куда–то его спрятал.
Несмотря на все ликование вокруг меня, на душе моей лежала тяжесть. Вероятно, многие испытывали то же, что и я. Манифест об отречении Государя был прочитан в соборе, читал его протодиакон — и плакал. Среди молящихся многие рыдали. У старика городового слезы текли ручьем…
Пасхальную заутреню я служил в соборе, битком набитом солдатчиной. Атмосфера в храме была революционная, жуткая… На приветствие «Христос Воскресе!» среди гула «Воистину Воскресе!» какой–то голос выкрикнул: «Россия воскресе!!»
С первых же дней против меня началась травля. Я выезжал по–прежнему в архиерейской карете. Случалось, до меня долетали враждебные выкрики: «Недолго тебе теперь кататься!» и проч.
Доктор Истомин, оперировавший меня, был выбран председателем исполкома местного Совета рабочих и солдатских депутатов и произносил на заседаниях зажигательные речи. Об удачной операции он теперь жалел. «Не знал я, что Евлогий «черная сотня», а то я б его во время операции…»
В моих лазаретах началось нестроение. Правда, неприятных инцидентов со мною не произошло; когда я на Пасхе ездил по лазаретам с кошелкой красных яиц, солдаты по–прежнему со мною христосовались, однако сестры милосердия жаловались, что среди раненых недовольство; что они предъявляют всевозможные требования, изъявляют претензии, подают петиции…
Приближался почаевский праздник «Живоносного Источника» (в пятницу на Святой) [
[66]], и я решил съездить в Почаев. В Лавре почувствовалось что–то неладное… Старые, заслуженные монахи встретили меня как обычно, а низшая братия смотрела на меня как–то боком. Наместник жаловался мне, что по углам идет шушуканье, что иноки работают с ленцой и послушание не прежнее…
Возвратился я в Житомир уж не в салон–вагоне, а как самый обыкновенный пассажир, причем в Рудне Почаевской мне пришлось долго просидеть на вокзале в ожидании опоздавшего поезда.
Волны революции вздымались все выше, разливаясь по России все шире…
У нас, на Волыни (как и во многих епархиях в те дни), среди низших церковнослужителей, диаконов и псаломщиков началось брожение. Вскоре их насмешливо прозвали «социал–диаконами» и «социал–псаломщиками». Они потребовали от меня спешного созыва Епархиального съезда для обсуждения текущих вопросов. Я согласился.
Съезд собрался на Пасхе. В состав его кроме духовенства вошли представители: 1) от Красного Креста, причем меня, почетного председателя, и епископа Аверкия удалили из состава правления; 2) от Земства; 3) от военных организаций фронта и госпиталей [
[67]].
В те дни по всей России пробежала волна «низвержений епископов»; Синод был завален петициями с мест с требованиями выборного епископата. Члены нашего Волынского Епархиального съезда протелеграфировали Обер–Прокурору Львову такое же требование.
Открылся Съезд в помещении женского духовного училища. Перед началом занятий был молебен в церкви. Я сказал «слово» о новой жизни, об обновлении церковной жизни, потому что Церковь не оторвана от общенародной русской судьбы; закончил заявлением о том, что считаю свое присутствие на Съезде излишним, так как будет обсуждаться вопрос о желательности или нежелательности меня как управителя епархии.
В президиум вошли: младший священник Житомирского собора о.Захарий Саплин (председатель), диаконы, псаломщики и одна делегатка — Н.И.Оржевская (от женских организаций).
В первую очередь встал вопрос обо мне. Матросы и солдаты яростно напали на меня: «Черная сотня», «старорежимник…» и т. д. Дебаты длились целый день. Секретарь обещал известить меня, как только резолюция будет проголосована. Я прождал оповещания до полуночи и, взволнованный неизвестностью, лег спать. Среди ночи меня разбудил келейник: «Со Съезда делегация…» В первую минуту я решил, что сейчас услышу весть недобрую… Делегация прибыла в составе о.Саплина, диакона, псаломщика и Н.И.Оржевской. К моему удивлению, постановление Съезда оказалось прямо противоположным тому, к чему я приготовился. Н.И.Оржевская торжественно прочитала следующее постановление Съезда [
[68]]:
«Господину Обер–Прокурору Святейшего Синода.
Первый Свободный Епархиальный Съезд Волынского духовенства и мирян в открытом заседании своем, состоявшемся 14 апреля 1917 года, по выслушании ораторов, осветивших политическую и церковно–общественную деятельность Архиепископа ЕВЛОГИЯ, в связи с возбужденным Городским Исполнительным Комитетом ходатайством об удалении его из Волыни, после всестороннего обсуждения вопроса нашел предъявляемые к Архиепископу обвинения недоказанными, а основания Комитета для ходатайства об удалении Архиепископа, как лица, угрожающего общественному спокойствию, недостаточными и наоборот, считает постановление Городского Исполнительного Комитета об удалении Архиепископа ЕВЛОГИЯ производящим большое смущение в среде населения не только г.Житомира, но и всей Епархии и голосованием своим, почти единогласным (196–6), выразил доверие Архиепископу и постановил: просить Святейший Синод, а в Вашем лице Временное Правительство, об оставлении Архиепископа ЕВЛОГИЯ на Волыни как Архипастыря любимого, уважаемого и искренно–православным людям желанного.
Председатель Съезда Священник Захарий Саплин».
Съезд прошел бурно. В результате — куча сумбурных протоколов и всякого рода постановлений: об уравнении псаломщиков в каких–то правах и проч. Весь этот материал мне был доставлен, я принял его к сведению, — этим дело и кончилось.
В начале лета политическая судьба Волыни начала изменяться. Украина стала «самостийной», в Киеве организовалась Украинская Рада. Мы попали в зависимость от нового политического центра.
Общее положение в епархии становилось все хуже и хуже. В деревнях грабежи и разбой, в уездах погромы помещичьих усадеб и убийства помещиков. Случалось, что в праздник деревня отправлялась в церковь, а после обедни всем миром грабила соседние усадьбы. Престарелый князь Сапега, известный на всю округу благотворитель, человек культурный и доброжелательный, вышел к крестьянам и хотел вступить с ними в переговоры, но какой–то солдат крикнул: «Да что его!..» — и убил на месте. Почуяв кровь, толпа озверела и разгромила его усадьбу. Особенно неистовствовали в прифронтовой полосе. Тут была просто вакханалия. И немудрено! Все вооружены, все на войне привыкли к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит… Куда девалось «Христолюбивое воинство» — кроткие, готовые на самопожертвование солдаты? Такую внезапную перемену понять трудно: не то это было влияние массового гипноза, не то душами овладели темные силы…
Мы все теперь жили в панике. В Житомире еще было сравнительно тихо, но и у нас — увидишь солдата, думаешь, как бы пройти незамеченным, чтобы не нарваться на оскорбление.
Во главе Губернского управления стоял уже не губернатор, а «губернский староста» — так переименовали председателя Земских управ, к которым после революции перешла губернаторская власть (у нас «старостой» был некто Андро). В сущности, власти уже не было, жизнь держалась лишь силой инерции — и надвигался всероссийский развал…
Украинскую Раду в то лето (1917 г.) возглавлял бывший подольский семинарист Голубович; Министерство исповеданий — «бывший епископ Никон», мой сотоварищ по Московской Духовной Академии [
[69]]. Перед войной он занимал место викарного епископа в Кременце (после него был назначен епископ Дионисий, ныне православный митрополит в Польше) и оставил по себе весьма дурную память в связи с одной скандальной историей в женском духовном училище… Разными неблаговидными происками он добился избрания в IV Государственную думу. В Петербург добежали слухи о Кременецком скандале, и его перевели в Енисейск. Он перевез с Волыни ученицу духовного училища и беззастенчиво поселил ее в архиерейском доме. Население возмущалось и всячески проявляло свое негодование. Когда вспыхнула революция, епископ Никон снял с себя сан, превратился в Миколу Бессонова, «бывшего епископа Никона», и тотчас с ученицей обвенчался. По возвращении на Украину он стал сотрудничать в газетах в качестве театрального рецензента и подписывал свои статьи «бывший епископ Никон — Микола Бессонов», не делая исключения и для рецензий об оперетках. Его брак кончился трагично. Жена его была найдена в постели мертвой, с револьверной раной. Бессонов нахально похоронил ее в Покровском женском монастыре. Покойнице на грудь он положил свою панагию, в ноги — клобук; на ленте была отпечатана наглая, кощунственная надпись.
А теперь Микола Бессонов был Украинским Министром исповеданий!! От него поступали бумаги, а Епархиальному управлению приходилось вести с ним деловую переписку. Это было так противно, что я решил съездить в Киев и переговорить с Председателем Рады Голубовичем. Он был сын священника. Мне казалось, что, апеллируя к прошлому, к семейным традициям, к памяти его отца, — я, может быть, добьюсь удаления Бессонова.
Я высказал Голубовичу мое глубокое возмущение назначением Министром исповеданий ренегата, человека, осквернившего сан. Однако на мою просьбу пожалеть Церковь и ее защитить он не отозвался, ссылаясь на техническую осведомленность Бессонова в делах церковного управления.
– Но в Церкви первое — нравственный ценз, — горячо возражал я. — Неужели в Киеве не найти другого знающего человека?
Мой протест ни к чему не привел. Бессонов остался министром…
По возвращении из Киева после переговоров с Голубовичем я нашел у себя дома пакет из Синода: меня призывали к работе в Предсоборном Присутствии.
Февральский переворот вызвал революционное брожение в епархиях. Всюду спешно созывались Епархиальные съезды для обсуждения недочетов церковной жизни, для заявлений всевозможных требований и пожеланий, а кое–где и протестов против местных архиереев. Обер–Прокурор В.Н.Львов был завален подобного рода протестами. Он держался диктатором и переуволил немало архиереев.
В Москве открылся Всероссийский Епархиальный съезд из представителей духовенства и мирян, но без епископов; исключением был епископ Андрей Уфимский (князь Ухтомский), прогремевший на всю Россию своим либерализмом. На Съезде говорили о модернизации богослужения, об ослаблении церковной дисциплины… Поднят был вопрос и о созыве Всероссийского Церковного Собора. Этот проект встретил повсюду единодушный отклик — и в результате возникло Предсоборное Присутствие. Ему была поручена подготовительная работа по созыву Собора, разработка законопроектов, подбор нужного материала и проч.
О Всероссийском Церковном Соборе и о введении патриаршества впервые заговорили у нас в революцию 1905–1906 годов; тогда же было создано Предсоборное Присутствие, которое усердно поработало и оставило 4 тома меморандумов архиереев — ценнейший материал по всем вопросам церковного устройства. На начатое дело Победоносцев наложил руку — и Присутствие было распущено. Теперь вновь оно возникло (весной 1917г.).
В его состав вошли: 1) все члены Синода, 2) выдающиеся представители богословских наук и канонического права, профессора Духовных Академий и университетов [
[70]], 3) семь архиереев по выбору: каждый епархиальный епископ выставлял своих 7 кандидатов; получившие большинство голосов призывались к работам в Предсоборном Присутствии. Среди избранных оказался и я. Получив извещение от Синода, я выехал из Житомира. Моим спутником от Москвы до Петрограда оказался директор Женских курсов в Москве. Завязалась беседа. Его отношение к революционной действительности и удивило и озадачило меня. «Подумать только!., в России великий переворот — и ни капли крови! невиданное в истории революций явление. Русские — святой народ…» — умилялся он. Я слушал его скептически. Наша интеллигенция не брала чутьем революционной стихии, а уже пахло кровью…
В Петрограде я поселился в Синодальном Подворье, на Кабинетской улице. Хоть мне и отвели ту же комнату, где я жил оудучи членом III Думы, однако по–прежнему в старом помещении я себя не чувствовал: сказывалась революция. Синодальные чиновники все куда–то исчезли, зданием заведовали рабочие синодальной типографии, которые сознавали себя хозяевами положения и поселились в нескольких комнатах. О еде пришлось переговорить с рабочим–заведующим, который и организовал мое питание с помощью своей жены. Должен все–таки отметить что новые управители относились ко мне вежливо.
Началась работа в Предсоборном Присутствии.
Руководствуясь трудами, унаследованными от предшественников (Предсоборное Присутствие 1905–1906 гг.), мы приступили к рассмотрению реформы Церковного управления по следующему плану: 1) высшее церковное управление, 2) епархиальное, 3) приходское. Обсуждение этих трех отделов вызвало горячие споры. Особенно много было споров по вопросу о восстановлении патриаршества. Либеральные профессора стояли за синодальное, коллегиальное, начало и высказались против патриаршества, усматривая в нем принцип единодержавия, не отвечающий якобы требованиям данного исторического момента. Этот взгляд одержал верх, и патриаршество в Предсоборном Присутствии провалили.
Не менее горячие споры вызвал законопроект об участии мирян во всех трех ступенях церковного управления. На заседании, под председательством архиепископа Арсения Новгородского, горячую речь произнес А. Папков. Он отстаивал горячо, почти исступленно, самые широкие права прихода как юридического лица, которое должно обладать неограниченным правом заведования церковным имуществом (тем самым права приходского духовенства значительно урезывались). Ему спокойно и сдержанно возражал Н. И. Лазаревский: бесконтрольное хозяйничанье мирян может привести к весьма неожиданным постановлениям — а если они постановят продать Казанский собор под увеселительное заведение, тогда что делать? Папков был вне себя от этой реплики. Несмотря на разногласия при обсуждении вопроса о реФорме прихода, соборное начало все же восторжествовало, и предсоборное Присутствие выработало основные принципы того устава приходской жизни, которым мы ныне и управляемся.
Столь же важным делом была и выработка Наказа будущему Собору; Всероссийский Церковный Собор 1918 года впоследствии им и руководился.
Наша работа протекала в тревожной, накаленной атмосфере.
Было начало июля… Идешь, бывало, пешком из обер–прокурорского дома на Литейной к себе на Кабинетскую — несутся грузовики с вооруженными рабочими… Страшные, озверелые лица… Стараешься пройти стороной, понезаметней. Революционное настроение в городе все сгущалось — и наконец разразилось вооруженным выступлением большевиков. Наступали кровавые дни 3–5 июля…
Помню, 3 июля, не успели мы прийти на заседание, — раздался пулеметный треск: тра–та–та… тра–та–та… Смотрим в окно — толпы народу… Рабочие, работницы, красные флаги… Крик, шум, нестройное пение «Интернационала»… По тротуарам бегут испуганные прохожие, мчатся грузовики с вооруженными до зубов людьми… Доносятся ружейные выстрелы…
Члены нашего собрания нервничают, кричат Председателю архиепископу Сергию: «Закройте! Закройте заседание!..» Но он спокойно возражает: «Почему нам не работать? То, что происходит, дело улицы. Нас это не касается». Даже прибывшие с Васильевского острова архиереи, с большим трудом добравшиеся до Литейной, своими бледными, расстроенными лицами не поколебали хладнокровия нашего Председателя. Так под треск пулеметов и выстрелы мы в тот день и занимались…
Предсоборное Присутствие проработало очень интенсивно до конца июля. Синодальная канцелярия и канцелярия Обер–Прокурора нам помогали. Исполнительная часть нашей работы легла на них, мы лишь обсуждали и решали. Замена А.В.Карташевым В.Н.Львова пришлась тоже вовремя. В.Н.Львов вносил в деловую атмосферу наших заседаний раздраженный, истерический тон, предвзятую недоброжелательность по отношению к архиереям — он не помогал работе, а мешал. С А.В.Карташевым можно было договориться.
Мы выработали следующий порядок выборов в Собор. Каждая епархия должна была послать на Собор 5 делегатов: правящего епископа (не викария), священника, диакона и 1 мирянина. Выборы надлежало провести в двухнедельный срок после роспуска Предсоборного Присутствия.
Нас распустили 1 августа, и я поспешил в Житомир на выборы.
На нашем Епархиальном собрании от священников был выбран о.В.Туркевич, тот самый, у которого я останавливался во Львове во время оккупации; он долго жил в Америке и был весьма опытный оратор. От мирян избрали преподавателя духовной семинарии Василия Яковлевича Малахова. Еще выбрали одного диакона и одного псаломщика. 12 августа мы все вместе тронулись в Москву. Сперва в Москве я остановился в Марфо–Мариинской обители, в том корпусе, который был отведен Турковицкому монастырю, а потом всех нас, делегатов, поселили в общежитии Собора, в здании духовной семинарии (в Каретном ряду). Епископам отвели классы; им пришлось разместиться по два–три человека в одной комнате и разгородиться ширмами. Священникам и другим делегатам отдали дортуары, где они спали на семинарских койках. Меня митрополит Тихон устроил в отдельной маленькой комнате, а игуменья Турковицкого монастыря м. Магдалина постаралась ее поуютнее обставить и даже выхлопотала мне отдельный телефон. Питание было общее для всех членов общежития с тою лишь разницей, что для епископов отвели отдельную трапезную.
Церковный Собор открылся 15 августа, в Успенье, — в храмовой праздник Успенского собора. Этот собор — центральный храм Кремля, глава всех русских церквей, собор всех соборов…
Накануне Успенья старейшие митрополиты: Киевский митрополит Владимир и Московский митрополит Тихон служили там торжественную всенощную, а нам, остальным архиереям, было предложено служить по разным московским церквам: Я должен был служить в Вознесенском женском монастыре (в Кремле) [
[71]].
В монастырь я приехал в экипаже. Мать Магдалина пригнала из Холмщины своих монастырских лошадок и предложила мне пользоваться монастырским выездом. Это было большое удобство, потому что во время Собора разъездов было много, а передвижение по Москве уже было затруднено по недостатку и дороговизне извозчиков.
Старушка игуменья м. Евгения, настоятельница Вознесенского монастыря, ласково встретила меня. Службы в монастыре отправлялись без пропусков, и всенощная тянулась бесконечно. Было уже поздно. Игуменья предложила мне переночевать. Я отпустил лошадей и заночевал.
Утром я отслужил в монастыре обедню и направился с крестным ходом к Успенскому собору.
Вокруг собора несметные толпы народу… Лес хоругвей… К входу не пробиться. Нас, архиереев, прибывающих с крестными ходами, проводили через алтарь. В соборе все архиереи заняли места на особом возвышении. Из членов правительства присутствовали: Премьер–Министр Керенский (во френче), Министр Внутренних дел Авксентьев, Министр Исповеданий Карташев и Товарищ Министра Исповеданий Котляревский. Член Синода митрополит Владимир с амвона огласил грамоту Святейшего Синода об открытии Всероссийского Церковного Собора и предложил членам Собора произнести Символ Веры. Затем присутствующие с церковными песнопениями двинулись в Чудов монастырь на поклонение мощам митрополита Алексия. В процессии шествовали: Керенский, Родзянко, Львов и др. Народ, увидав Керенского, устроил ему овацию и разразился громовым «ура»… Во время овации Керенский куда–то исчез. Из Чудова монастыря члены Собора направились на Красную площадь для совершения всенародного молебствия. К этому времени на площади собрались крестные ходы от всех соборов, монастырей и церквей Москвы. В молебствие были включены особые прошения на ектениях и особые молитвы. По окончании молебствия Кремлевский крестный ход вернулся в Успенский собор.
В течение всего дня во всех храмах непрерывно звонили колокола. Благовест затих лишь во время молебна на Красной площади.
День открытия Собора оставил сильное и хорошее впечатление. Чувствовался большой подъем. Члены Собора и верующий народ молились горячо, с чувством ответственности перед Богом и Церковью.
На другой день, 16 августа, после Литургии состоялось открытие Собора в храме Христа Спасителя.
Литургию служил митрополит Московский Тихон в сослужении своих викариев и священников — членов Собора. По окончании богослужения архиереи в мантиях вышли из алтаря и расселись посреди храма полукругом на скамьях, покрытых красным сукном. Остальные члены разместились по сторонам.
Киевский митрополит Владимир, первенствующий член Синода, открыл заседание краткой речью. Собор пропел стихиру «Днесь благодать Святого Духа нас собра», после чего последовали приветствия. Первым говорил от имени Временного правительства Министр Исповеданий Карташев, который красиво закончил свою речь: «Осеняю себя вместе с вами широким православным крестом»… Далее следовали приветствия: от Синода — митрополита Платона, от Московской митрополичьей кафедры — митрополита Тихона, от различных учреждений: академий, университетов, корпораций, от армии и флота и проч.
Первое деловое заседание состоялось на третий день в Епархиальном доме (в Лиховом переулке, дом 6), который отдали в распоряжение Собора. Там был огромный зал, примыкавший к амвону; алтарь отделялся от зала подвижной перегородкой. На солее, спиной к иконостасу, были расставлены кресла для архиереев; впереди их, посредине, — столы, покрытые зеленым сукном, — для президиума; к ним лицом, амфитеатром, разместились члены Собора.
Заседание открыл старейший из иерархов — Киевский митрополит Владимир в присутствии 445 членов Собора. Заслушав еще несколько приветствий: от Верховного Главнокомандующего Корнилова, от Московского университета (Е.Н.Трубецкого), от Комиссии Всемирной конференции Американской епископальной Церкви и др. — собрание перешло к выбору Президиума, который по уставу должен был состоять из председателя и 6 товарищей председателя: 2 епископов, 2 священников и 2 мирян.
Председателем был избран Московский митрополит Тихон (большинством 407 голосов против 30). Предпочтение, которое собрание оказало митрополиту Тихону, можно отчасти объяснить тем, что он был хозяином Московской епархии и по характеру был живее и энергичнее робкого и застенчивого митрополита Киевского Владимира. Но не правильнее ли предположить, что избрание объяснялось тем, что митрополит Тихон провиденциально уже приуготовлялся к высшему служению?
Товарищами Председателя были избраны: 1) архиепископы Арсений Новгородский и Антоний Харьковский (Храповицкий); 2) протопресвитер Успенского собора о.Николай Любимов и протопресвитер о.Георгий Шавельский; 3) Е.Н.Трубецкой и М.В.Родзянко.
После этого собрание перешло к организации отделов, или комиссий. Каждый из них должен был иметь свой президиум, возглавляемый епископом. Отделов организовали 20: 1) Уставный, 2) Высшего церковного управления [
[72]], 3) Епархиального управления, 4) Церковного суда, 5) Благоустройства прихода, 6) Правового положения Церкви в государстве, 7) Богослужения, Проповедничества и Церковного искусства, 8) Церковной дисциплины, 9) Внешней и Внутренней миссии, 10) Единоверчества и старообрядчества, 11) Монастырей и монашества, 12) Духовных Академий, 13) Духовно–учебных заведений, 14) Церковно–приходской школы, 15) Преподавания Закона Божия, 16) Церковного имущества и хозяйства, 17) Правового и имущественного положения духовенства, 18) Устройства Православной Церкви в Закавказье в связи с объявленной грузинами автокефалией своей Церкви, 19) Издательского состава и 20) Личного состава.
При образовавшемся Соборном Совете были учреждены Совещания по вопросам религиозно–просветительным, хозяйственно–распорядительным и юридическим.
Я был избран председателем отдела «Богослужение, Проповедничество и Церковное искусство». (В «Церковное искусство» входили вопросы иконописи, архитектуры, пения, музыки и церковно–исторических древностей.)
В отделах шла разработка материала и проектировались постановления, которые потом вносились на утверждение общего собрания.
По предложению князя Е.Н.Трубецкого перед началом трудной и ответственной работы члены Собора решили съездить вкупе на поклонение мощам великого молитвенника и собирателя Русской земли Преподобного Сергия.
Мы приехали в Сергиев Посад целым поездом. Горячо молились у раки Преподобного. Моральное воздействие эта поездка оказала большое: делегаты вернулись освеженные духом благодати, умиротворенные, чуждые друг другу люди сблизились, непримиримые смягчились…
Прежде чем говорить о деловой жизни Собора, я хочу сказать об общем впечатлении о нем за время первой его сессии [
[73]].
Поначалу материала для обсуждения в общем собрании еще не накопилось, работа сводилась к установлению соборной организации и «докладам с мест». Эти доклады давали полную картину того, что происходило тогда в епархиях.
Русская жизнь в те дни представляла море, взбаламученное революционной бурей. Церковная жизнь пришла в расстройство. Облик Собора, по пестроте состава, непримиримости, враждебности течений и настроений, поначалу тревожил, печалил, даже казался жутким… Некоторых членов Собора волна революции уже захватила. Интеллигенция, крестьяне, рабочие и профессора неудержимо тянули влево. Среди духовенства тоже были элементы разные. Некоторые из них оказались теми левыми участниками предыдущего революционного Московского Епархиального съезда, которые стояли за всестороннюю «модернизацию» церковной жизни. Необъединенность, разброд, недовольство, даже взаимное недоверие… — вот вначале состояние Собора. Но — о чудо Божие! — постепенно все стало изменяться… Толпа, тронутая революцией, коснувшаяся ее темной стихии, стала перерождаться в некое гармоническое целое, внешне упорядоченное, а внутренне солидарное. Люди становились мирными, серьезными работниками, начинали по–иному чувствовать, по–иному смотреть на вещи. Этот процесс молитвенного перерождения был очевиден для всякого внимательного глаза, ощутим для каждого соборного деятеля. Дух мира, обновления и единодушия поднимал всех нас…
Главная моя работа на Соборе сосредоточилась в том отделе, где я был Председателем (отдел «Богослужение, Проповедничество и Церковное искусство»). Отдел этот необъятный. С самого начала образовались подотделы. Я оставил за собой богослужебный устав — обсуждение необходимых в этой области преобразований.
Дело в том, что богослужение по «Типикону» уже давно не исполнялось. «Типикон» — завещание старых времен — везде уже сокращали, но сокращения были настолько произвольны, что даже возникла поговорка: «Что попик — то «типик»… или: «Аще изволит настоятель». Словом, в этой области разнообразие граничило с безобразием. Церковный устав составляли иноки. В условиях мирской жизни исполнять его стало невозможно. Необходимо было установить общие принципы для руководства, как сокращения производить. Иногда у нас пропускались самые типичные особенности того или иного богослужения и оставляли лишь его шаблонную форму. Так, например, на всенощных устраняли стихиры праздников, каноны, тогда как в них все содержание праздника. В нашем отделе были прекрасные литургисты: профессор Петербургской Духовной Академии Карабинов, протоиерей о.Василий Прилуцкий (Киевская Духовная Академия), профессор Тураев, святой человек, знавший богослужение лучше духовенства, и др. Под руководством этих знатоков литургики мы установили три типа богослужения: 1) для монастырей и соборов, 2) для приходских церквей (сокращенное) и 3) для домовых церквей (при учебных заведениях, приютах, больницах, богадельнях и т. д.) — еще более краткое. Разработанный материал мы вносили в Президиум Собора для санкционирования, а оттуда его уже передавали (или не передавали) на утверждение в общее собрание.
Митрополит Тихон, Председатель Соборного Президиума, нашему проекту дать ходу не захотел, опасаясь нареканий, главным образом со стороны старообрядцев. С ними в те дни наметились пути сближения, и намерение Собора изменить церковный устав могло встретить с их стороны энергичный отпор: за устав они готовы умереть.
Жаркие и интересные дебаты возникли в моем отделе по поводу перевода богослужения.
Мой товарищ профессор Кудрявцев высказал мысли, которые разделяли многие. «Я ничего не имею против перевода, — сказал он, — но кто будет переводить? Богослужение — священная поэзия. Если Шекспира переводить трудно, потому что надо, чтобы переводчик был на высоте поэзии, которую он переводит, то для богослужения нужен не только поэт, но и святой поэт. Мы имеем переводы некоторых отрывков из св.Иоанна Дамаскина, сделанные Алексеем Толстым, но и это лишь приближение к настоящему…»
Вопрос о переводе богослужения был отвергнут. Украинцы негодовали. Они стояли за перевод независимо от соображений эстетики. Их не коробил возглас «Грегочи, Дивка Непросватанная» вместо церковнославянского «Радуйся, Невесто Неневестная».
Было ясно, что с докладом о переводе нечего нам было и соваться в общее собрание. Самый факт обсуждения перевода вызвал нарекания. Один из епископов упрекнул меня за обедом в общежитии, что я якобы в угоду украинцам допустил обсуждение, которое он считал недопустимым.
Единственный доклад нашего отдела [
[74]], принятый в общем собрании на Соборе, был доклад о проповедничестве. Основная его мысль сводилась к признанию проповеди органической частью богослужения. На основании церковных канонов священник был обязан проповедовать за каждым богослужением — таково было постановление Собора.
Принят был и законопроект о введении института «благовестников» — мирян, которым разрешалась проповедь при условии «посвящения в стихарь».
По церковному искусству наш отдел ничего провести не успел.
Из других отделов Собора завершил свои труды отдел отношений Церкви и государства (под председательством архиепископа Арсения). Юристы и профессора постарались выработать приемлемые условия для взаимоотношений сторон; доклад был принят общим собранием, но политические события не позволили ему войти в жизнь.
Законоучительный отдел проработал безрезультатно. Свою работу он окончил, но государство в лице Премьер–Министра Керенского его законопроектов принять не согласилось.
Всеобщее внимание на Соборе привлекал отдел Высшего церковного управления. Тут встал жгучий вопрос: как управлять Церковью — стоять ли за старый синодальный строй или за патриаршество? Левые — светские профессора Духовных Академий и либеральные батюшки — были против патриаршества. Вновь, как и в Предсоборном Присутствии, заговорили об одиозном монархическом начале, об единодержавии, от которого революция освободила не для того, чтобы вновь к этому принципу власти возвращаться. Это был все тот же закоренелый интеллигентский либерализм — верность отвлеченным идеям, не считаясь с фактами и исторической действительностью… Дебатам в отделе не было конца… Однако, и это надо отметить, противников патриаршества в заседаниях встречали недружелюбно. Вскоре великое потрясение принудило многих из них переменить свой образ мыслей и стать на защиту единоличного начала в управлении Церковью.
Распорядок дня во время деятельности Собора был введен для его членов такой.
Утром в 7 часов Литургия в семинарской церкви нашего общежития. Служили ее почти всегда епископы, они же вместе со священниками и любителями–мирянами пели. Затем весь день мы проводили в Епархиальном доме на заседаниях; иногда вечером в общежитии бывали частные доклады по волнующим вопросам, на которые приглашались и профессора. Перед отходом ко сну бывала вечерняя молитва.
Случалось, и довольно часто, мы, архиереи, собирались по вечерам на совещание у митрополита Тихона на Троицком Подворье. Для проведения каждого законопроекта в жизнь нужно было после принятия его в общем собрании большинством голосов утверждать его епископами, причем требовалось, чтобы за него подано было 3/4 голосов всего числа епископов, членов Собора.
В праздники мы служили в разных церквах города. Обычно в субботу вечером я уезжал служить всенощную в Турковицкий монастырь, там же наутро служил обедню.
Деятельность Собора протекала среди бурных и грозных событий. Развал армии и всей политической и хозяйственной жизни, бегство солдат с фронта, вооруженные выступления рабочих, бешеная агитация большевиков против «угнетателей», разгул политических страстей… — вот атмосфера, в которой мы работали.
В начале октября стали приходить вести из Петербурга одна другой ужаснее, одна другой тревожнее… Временное правительство доживало свои последние дни. Учредительное собрание казалось исходом из безысходного положения, но созыв его отсрочивали. Русская жизнь разваливалась, и надвигался хаос…
На второй–третий день после большевистского переворота (22 октября) примчались из Петрограда некоторые члены Собора (в их числе Котляревский) с вестью, что Временное правительство арестовано… В Москве все забурлило, начались отдельные вооруженные выступления, а через два–три дня вся Москва была охвачена гражданской войной. Жаркая стрельба, трескотня пулеметов, канонада из пушек — штурм Кремля и тех правительственных учреждений, где засели защитники Временного правительства: юнкера Александровского военного училища и добровольцы из населения. Страшные дни кровопролития…
Собор прервал нормальное течение своей работы. Выходить на улицу стало опасно. Некоторые члены рисковали жизнью, пробираясь в Епархиальный дом, а те, кто попадал на заседания, не могли иногда вернуться в общежитие. Положение в городе стало столь грозным, что надо было торопиться, и вопрос о выборе Патриарха, который дебатировали в течение столь долгого времени, потребовал немедленного разрешения. Из предыдущих прений было ясно, что большинство Собора стоит за патриаршество; правда, оставалось выслушать еще не менее 90 ораторов, но момент требовал не речей, а действий. Павел Граббе от имени своей группы (около шестидесяти человек) в пленарном заседании 26 октября внес предложение прения прекратить и проголосовать установление патриаршества в Русской Церкви. Под грохот пушек и треск пулеметов Собор проголосовал величайший акт всей деятельности Всероссийского Церковного Собора 1917–1918 годов…
Сражение на улицах продолжалось и следующие два–три дня. 29 октября митрополит Тихон чуть не был убит: снаряд разорвался неподалеку от его экипажа… До храма Христа Спасителя, где митрополит Тихон должен был служить, он так и не доехал. Епископы Дмитрий Таврический и Нестор Камчатский явили пример самоотверженности в эти страшные дни: спешно запаслись перевязочными средствами и ходили по улицам, перевязывая и подбирая раненых. Настроение Собора было возбужденное. Ораторы требовали немедленного вмешательства в кровопролитие. Канонада все усиливалась. Надвигалась ужасная ночь… Большевики яростно штурмовали Кремль. Пушечная пальба не прекращалась. На вечернем заседании Собора решено было послать делегацию из епископов, священников и мирян в революционный штаб, который расположился на Тверской, в доме генерал–губернатора.
Делегация [
[75]] двинулась церковной процессией: епископы в мантиях… иконы… зажженные светильники… Оставшиеся члены Собора с трепетом ждали ее возвращения. Большевики делегацию не приняли, впустили одного митрополита Платона. В ответ на его мольбы — прекратить кровопролитие — комиссар закричал: «Поздно! Поздно! Скажите юнкерам, чтобы они сдавались…» Митрополит Платон встал на колени… Но большевики были неумолимы. «Когда юнкера сдадутся, тогда мы прекратим стрельбу», — заявил комиссар. Делегация направилась в Кремль для переговоров с юнкерами, но революционные посты ее не пропустили. Попытка Собора вмешаться в междоусобную брань оказалась безуспешной.
30 октября вечером профессор Соколов, большой знаток церковного права, прочел Собору доклад о способах избрания Патриарха. Решено было следовать примеру Константинопольской Церкви, т. е. сначала голосовать кандидатов, причем они могли избираться всем Собором из среды епископов, священников и даже мирян [
[76]]. Были намечены 25 кандидатов. В числе их оказались протопресвитер Шавельский и Александр Дмитриевич Самарин, бывший Обер–Прокурор, уволенный за отрицательное его отношение к Распутину. Началось голосование кандидатов. Некоторые лица свои кандидатуры снимали; при голосовании других — голоса разбивались. Лишь после четвертого голосования, 31 октября, абсолютное большинство получили: архиепископ Антоний Харьковский (Храповицкий), архиепископ Арсений Новгородский и митрополит Московский Тихон. Наибольшее число голосов получил архиепископ Антоний; избрание его в Патриархи было бы лишь реализацией воли большинства — так владыка Антоний на это и смотрел. Архиепископ Арсений, второй по числу голосов, возможности стать Патриархом ужасался и только и молил Бога, чтобы «чаша сия» миновала его. Митрополит Тихон возлагал все на волю Божию…
Кого из трех иерархов избрать Патриархом? В этом решающем голосовании имели право участвовать одни епископы. Но они решили от своего права отказаться и положиться на Господа, т. е. постановили избрать Патриарха посредством жребия. Это постановление было оглашено в заседании Собора 2 ноября, а само избрание отсрочено до прекращения уличных боев.
В эти ужасные, кровавые дни в Соборе произошла большая перемена. Мелкие человеческие страсти стихли, враждебные пререкания смолкли, отчужденность сгладилась. В сознание Собора стал входить образ Патриарха, печальника, заступника и водителя Русской Церкви. На будущего избранника стали смотреть с надеждой. Настроение поднялось. Собор, поначалу напоминавший парламент, начал преображаться в подлинный Церковный Собор: в органическое церковное целое, объединенное одним волеустремлением — ко благу Церкви. Дух Божий повеял над собранием, всех утишая, всех примиряя…
Избрание Патриарха состоялось 5 ноября. Накануне этого великого дня члены Собора решили съездить помолиться в Воскресенский монастырь (под Москвой), именуемый «Новый Иерусалим».
Этот монастырь был основан Патриархом Никоном, который жил идеей «Святой Руси», «Третьего Рима» — святой русской земли, наследницы Византии. В монастыре был построен храм — точное воспроизведение Иерусалимского собора Воскресения Христова, с «кувуклией», т. е. с пещерой — копией Гроба Господня, — в которой была устроена церковка. Здесь круглый год во время богослужений пели «Христос Воскресе». В верхнем храме стояли патриаршие престолы, или троны, такие же, как в храме Гроба Господня в Иерусалиме, с тою разницею, что в Святом Граде патриарших престолов четыре, по числу Вселенских Патриархов — Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского (пятый, Римский, считался отпавшим), а у нас их было пять. Патриарх Никон поставил пятый, Русский, вместо отпавшего Рима. После низложения Патриарха Никона пятый престол было велено убрать, но потом его восстановили.
«Новый Иерусалим» расположен чудесно. Подъезжаешь к нему густыми зелеными лесами, — и вдруг, как видение Апокалиптического Града, — белый монастырь…
В эту поездку в монастыре служил я.
Наше паломничество в Воскресенский монастырь, связанный с историческими традициями патриаршей власти, дало нам новый аргумент в пользу патриаршества; оно имело большое значение для членов Собора, внедряя в их сознание еще новую для них идею патриаршего единовластия.
Избрание Патриарха состоялось в храме Христа Спасителя (5 ноября) после Литургии. Церемониал был выработан особой комиссией.
Большевистская власть уже утвердилась в Кремле. У всех ворот стояла стража, охранявшая запертые входы. С большим трудом удалось получить разрешение принести древнюю икону Владимирской Божией Матери в храм Христа Спасителя. Литургию служил старейший из иерархов Киевский митрополит Владимир в сослужении сонма архиереев (я стоял в алтаре). Кандидаты в храме не присутствовали — они остались в своих подворьях.
Перед началом обедни на аналой перед иконой Владимирской Божией Матери был поставлен ларец с тремя записками, на которых были начертаны имена кандидатов. После Литургии служили молебен с чтением особой молитвы. Храм, вмещавший до 12000 молящихся, был переполнен. Все с трепетом ждали, кого Господь назовет… По окончании молебна митрополит Владимир подошел к аналою, взял ларец, благословил им народ, разорвал шнур, которым ларец был перевязан, — и снял печати. Из алтаря вышел глубокий старец — иеросхимонах Алексий [
[77]], затворник Зосимовой Пустыни (неподалеку от Троице–Сергиевской Лавры), ради церковного послушания участвовавший в Соборе. Он трижды перекрестился и, не глядя, вынул из ларца записку. Митрополит Владимир внятно прочел: «Тихон, митрополит Московский». Словно электрическая искра пробежала по молящимся… Раздался возглас митрополита: «Аксиос!», который потонул в единодушном «Аксиос!.. Аксиос!..» духовенства и народа. Хор вместе с молящимися запел «Тебе Бога хвалим»… Ликование охватило всех. У многих на глазах были слезы. Чувствовалось, что избрание Патриарха для всех радость обретения в дни русской смуты заступника, предстателя и молитвенника за русский народ… Всем хотелось верить, что с Патриархом раздоры как–то изживутся…
Когда мы расходились и надевали шубы, протопресвитер Шавельский сказал: «Вижу, Господом Церковь наша не оставлена…»
Все епископы и множество мирян направились в Троицкое Подворье — приветствовать Патриарха Тихона. Но прежде чем мы успели доехать, нашлись гонцы, которые его уже оповестили. Патриарх Тихон вышел к нам спокойный, смиренный. Архиепископ Антоний сказал приветственное «слово» — и поклонился ему в ноги. Мы, епископы, тоже земно ему поклонились. Он — нам. В ответном «слове» Патриарх со свойственным ему смирением говорил о своем недостоинстве, о непосильном для него тяжком бремени патриаршества, «но надо исполнить волю Божию…».
Этими словами он закончил свою речь.
После высокого подъема этого великого дня волна спала и наступила реакция. По–прежнему мы заседали, читали и выслушивали доклады, дебатировали, голосовали… Иногда ездили к Патриарху для совещания.
На 13 ноября было назначено погребение жертв «октябрьских» дней. Большевики хоронили «своих» без отпевания, в красных гробах, на Красной площади. А родители павших защитников Временного правительства обратились к Собору с просьбой об отпевании и погребении их сыновей. Накануне, 12 ноября, Патриарх сказал, что в храме Вознесения будут отпевать юнкеров. «Вы бы съездили…» — обратился он ко мне.
Помню тяжелую картину этого отпевания. Рядами стоят открытые гробы… Весь храм заставлен ими, только в середине — проход. А в гробах покоятся, — словно срезанные цветы, — молодые, красивые, только что расцветающие жизни: юнкера, студенты… У дорогих останков толпятся матери, сестры, невесты… Много венков, много цветов… Невиданная, трагическая картина. Я был потрясен… В надгробном «слове» я указал на злую иронию судьбы: молодежь, которая домогалась политической свободы, так горячо и жертвенно за нее боролась, готова была даже на акты террора, — пала первая жертвой осуществившейся мечты…
Похороны были в ужасную погоду. Ветер, мокрый снег, слякоть… Все прилегающие к церкви улицы были забиты народом. Это были народные похороны. Гробы несли на руках добровольцы из толпы. Большевики в те дни еще не смели вмешиваться в церковную жизнь и не могли запрещать своим противникам изъявлений сочувствия и политических симпатий.
Интронизация Патриарха была назначена на 21 ноября, а пока Патриарх уехал в Троице–Сергиевскую Лавру молитвенно приготовиться к этому дню.
Торжество должно было состояться в Успенском соборе. Большевики уже расположились в Кремле и пускать нас туда не соглашались. После долгих переговоров разрешение было получено, но с условием, что вход в Кремль будет по билетам со штемпелями большевистских властей. Мы отыскали древний церемониал интронизации патриархов и выхлопотали, чтобы нам дали из патриаршей ризницы [
[78]] кое–что из патриаршего облачения. Нам выдали мантию и крест Патриарха Никона, а также рясу святителя Гермогена. За несколько дней до торжества мы поехали в Лавру к Патриарху и ознакомили его с ритуалом интронизации.
Под 21 ноября я ночевал в Марфо–Мариинской обители. В Кремль я выехал на турковицких лошадках, в непогоду, в метелицу… Дорогой повстречался мне архимандрит Вениамин [
[79]] со священником. Я их посадил в свой экипаж и довез до Кремля. Стража проверила наши пропуска, дальше мы пошли уже пешком.
Литургию в Успенском соборе служили три–четыре старейших архиерея. Остальные, в том числе и я, стояли на амвоне. Облачали Патриарха среди храма. Поверх подрясника надели «параман» — наплечник в виде креста. Патриаршая служба до «Святый Боже» ничем не отличается от архиерейской. Разница в том, что при пении «Святый Боже» Патриарха ведут к «горнему месту», где стоит патриарший трон. Архиереи усаживают Патриарха с возгласом «Аксиос!», Патриарх встает, они вновь его усаживают и возглашают «Аксиос!» — и так до трех раз. Потом Литургия следует по обычному архиерейскому чину. В «слове» своем Киевский митрополит Владимир говорил «о буре, которая бушует на Руси, о волнах, которые хотят поглотить корабль Церкви…». В ответном «слове» Патриарх Тихон смиренно исповедал волновавшие его чувства, говорил о недостатке мудрости, неуверенности в своих силах, об уповании на помощь Божией Матери…
Когда мы вышли из собора, я удивился разрушению кремлевских церквей. Октябрьский штурм был беспощаден… Дыры на куполе Успенского собора, пробоины в стенах Чудова монастыря. Пули изрешетили стены собора Двенадцати Апостолов. Снаряды повредили соборы Благовещенский и Архангельский. Удручающая действительность… Веяние духа большевистской злобы и разрушения — вот, что мы почувствовали, когда в высоком духовном подъеме вышли из Успенского собора… Полной радости не могло быть, только молитвенная сосредоточенность и надежда, что Патриарх, быть может, остановит гибельный процесс.
По древнему обычаю после интронизации Патриарх должен торжественно объехать Кремль, благословляя народ. Эта процессия обставлялась когда–то с большой пышностью. Теперь патриарший объезд Кремля являл картину весьма скромную. Патриарх ехал на извозчике с двумя архимандритами по сторонам; впереди, тоже на извозчике, — «ставрофор», т. е. крестоносец, иеродиакон с патриаршим крестом. Несметные толпы народа при приближении Патриарха Тихона опускались на колени. Красноармейцы снимали шапки. Патриарх благословлял народ. Никаких приветствий из толпы — благоговейная тишина… Большевистская кремлевская стража косо посматривала на процессию, но выражать неудовольствие не решалась.
Я проводил Патриарха глазами, пока он не скрылся, — и уехал в Троицкое Подворье ожидать его к торжественному обеду, который был устроен на несколько сот человек.
На встречу съехались и другие члены Собора. По прибытии Патриарха началась краткая лития. Тут я впервые увидал вблизи протодиакона Успенского собора Розова, знаменитого на всю Россию своим изумительным, — как колокол, могучим — голосом. Красавец, необыкновенно приятный, он отличался добрым, мягким нравом. В тот памятный день он возгласил «многолетие» Патриарху и всему Собору.
Обед был скромный и без потока речей: их было три–четыре, причем лица, которые их произнесли, были намечены заранее. Скромное торжество среди засилия оставило утешительное впечатление. Все почувствовали, что у нас есть теперь заступник, предстатель, отец…
Возвращались мы в наше общежитие пешком; шли в светлом духе, в подъеме. Идем, тихо беседуя, опираясь на палочки, и вдруг навстречу — черная, с распущенными волосами, безумная женщина… И мы слышим ее исступленные выкрики: «Недолго, недолго вам праздновать!.. Скоро убьют вашего Патриарха!..» Жуткая встреча… — точно к беде черная кошка. Радость наша смешалась с предчувствием горя…
На первом после интронизации заседании Собора был объявлен указ Патриарха о возведении в сан митрополита следующих лиц: Антония архиепископа Харьковского, Арсения архиепископа Новгородского, Агафангела архиепископа Ярославского, Сергия архиепископа Владимирского и Иакова архиепископа Казанского. Появление пяти белых клобуков дало повод архиепископу Тверскому Серафиму к насмешливому замечанию: «Какой урожай белых грибов!..»
Первое время после интронизации Патриарх на Соборе не появлялся. Председательствовал митрополит Арсений [
[80]], который и провел Собор до конца его существования. Работы возобновились в комиссиях и в общем собрании. Но вот как–то раз, словно ясное солнышко, — появился на Соборе Патриарх… С каким благоговейным трепетом все его встречали! Все — не исключая левых профессоров, которые еще недавно так убедительно высказывались против патриаршества… Когда, при пении тропаря и в преднесении патриаршего креста, Патриарх вошел — все опустились на колени. Патриарх проследовал прямо в алтарь, вышел в мантии, приветствовал Собор и, после молебна благословив всех, отбыл.
Это посещение — высшая точка, которой духовно достиг Собор за первую сессию своего существования. В эти минуты уже не было прежних не согласных между собой и чуждых друг другу членов Собора, а были святые, праведные люди, овеянные Духом Святым, готовые исполнять Его веления… И некоторые из нас в тот день поняли, что в реальности значат слова «Днесь благодать Святого Духа нас собра…».
Ближайшей задачей Собора было обсудить организацию Патриаршего управления. Вскоре она была реализована. Для канонических и богослужебных, т. е. чисто церковных, дел был создан Патриарший Священный Синод. Для церковно–административных дел — Высший Церковный Совет. Председательствовать тут и там должен был Патриарх. Одновременно определили и круг дел, подведомственный каждому из этих учреждений, причем для дел главных они должны были объединяться в соединенном заседании. Иерархи в члены Синода назначались на один год: 6 архиереев — один от каждого из 6 округов [
[81]] (старейший архиерей каждого округа) и 6 архиереев, выборных от Собора. В члены Синода были выбраны Собором следующие 6 архиереев:
1) митрополит Новгородский Арсений,
2) митрополит Харьковский Антоний,
3) митрополит Платон, бывший Экзарх Грузии, а потом митрополит Американский,
4) митрополит Владимирский Сергий (впоследствии Патриарх Московский и всея Руси),
5) архиепископ Кишиневский Анастасий,
6) архиепископ Волынский Евлогий.
Приближалось Рождество. Сессия Собора прекращалась. Я стал помышлять, как бы мне на праздники уехать на Волынь. Путешествие по железным дорогам уже стало трудным. Мне удалось достать билет до Киева, и я выехал вместе с митрополитом Платоном. Путь был тяжелый. Теснота, неудобства, беспрестанные проверки документов, злобные выкрики по нашему адресу: «Волкодавы!.. Буржуи!..» Все же мы до Киева добрались.
По приезде мы посетили Киевского митрополита Владимира. Он проживал в Киево–Печерской Лавре. Там же расположился бывший Владимирский архиепископ Алексей Дородицын. После революции паства из Владимира его прогнала за его дружественные отношения с Распутиным: он поднес Распутину книгу с надписью «Дорогому, мудрому старцу». Изгнанный из епархии, Дородицын (украинец из Екатеринославля) перекочевал в Киев «ловить рыбу в мутной воде» — и поселился в Лавре. Он обладал прекрасным голосом, был отличным регентом. Внешне он был безобразен: тучность его была столь непомерна, что он не мог дослужить Литургии, не переменив облачения перед «Херувимской», так он изнемогал от жары. Аппетит его всех поражал, а когда его мучила жажда, он мог выпить чуть ли не ведро воды: как–то раз в Киеве во время Миссионерского съезда, приведя к памятнику святого Владимира крестный ход, он выпил всю кандию, приготовленную для освящения… Устроившись в Лавре, архиепископ Алексей стал мутить монахов–украинцев и возбуждать их против митрополита Владимира в надежде добиться его увольнения и самому сесть на его место. Монахи стали притеснять митрополита сначала в мелочах. Случалось, ему нужно куда–нибудь съездить, а монахи не дают лошадей и заявляют: «Владыка Алексий на лошадях уехал». Положение создалось для митрополита Владимира тягостное. Когда мы с митрополитом Платоном приехали к нему, он сказал: «Вы бы его вразумили…» Мы к нему зашли. Он встретил нас неприязненно: «С митрополитом Платоном я буду говорить, а с Евлогнем не стану…» — «Я не от себя пришел к вам, а по приказу Владыки Владимира», — сказал я. «Ну, идите…» Он был груб, на увещания отвечал запальчиво: «Мне указок не надо!..»
В Киеве затевался созыв Всеукраинского Церковного Собора. Митрополит Платон был командирован для подготовительной работы. На Украине в тумане революционных настроений назревало стремление к автокефалии, к независимой от Москвы Церкви. Митрополит Платон, верный линии централизма, попал в трудное положение. Мы стали посещать Епархиальный дом, где происходили предсоборные собрания, и познакомились с подготовительными работами. (Я ходил туда в качестве волынского архиерея.) Впечатления удручающие… Стриженые, бритые украинские военные священники, в шинелях, с винтовками… Злые лица… Революционные речи в духе сепаратизма. Крики по адресу митрополита Платона: «Вы хотите задушить Украину!., мы не допустим!..» — словом, не церковное собрание, а сплошной митинг с выступлением агитаторов. Было ясно — с Собором ничего серьезного выйти не может.
Решено было с наступлением Рождественских праздников Предсоборное Собрание закрыть. Я уехал на Рождество в Житомир.
Святки прошли у нас сравнительно тихо. Правда, и здесь сильно чувствовался революционный дух и повсюду происходили революционные эксцессы: в Житомире выгнали ректора семинарии архимандрита Иерофея и выбрали своего — протоиерея Иакова Немоловского; в разных приходах изгонялись священники, агитация невежественных «социал–псаломщиков» и т. д. Но все же все праздничные богослужения прошли в порядке. После праздников я произвел выборы делегата на Украинский Собор в Киеве; избранным оказался новый ректор семинарии.
На Всеукраинский Церковный Собор съехались люди столь неподходящие для трудной и серьезной работы, что было даже жутко. Толпа озлобленных, возбужденных политическими страстями украинцев. С первого же дня началось шушуканье о том, чтобы в председатели никого из старых иерархов не проводить, а самого молодого. Выбрали епископа Пимена Балтского, викария Подольской епархии. Это был покладистый человек, игравший на популярности. Он заискивал, всем без разбора говорил «миленький… миленький…» и действовал по указке своих сторонников, не разбираясь в сути дел.
С самого начала определилась непримиримая по отношению к Русской Церкви позиция Собора. Крики «Долой Москву!», «Освободимся от московского гнета!..» имели большой успех. Заседания проходили в горячих митинговых речах.
А тем временем наступали большевики… Они приближались к Киеву, занимали одну станцию за другой. Уже слышалась пальба… Помню некоторые подробности осады Киева.
Мы с епископом Пахомием Черниговским сидели как–то раз утром в квартире начальницы Епархиального училища, где мы жили, и пили кофе из сушеной моркови. С питанием в то время было плохо, и наш утренний завтрак был голодноватый. Я уселся за письменный столь писать письмо, а владыка Пахомий принялся швырять один за другим дикие каштаны в печку, приговаривая: «Бомба… бомба…» И вдруг — в самом деле бомба угодила в фронтон нашего дома. Шрапнельные пули, пробив стекла в окнах, зажужжали, как пчелы, по всей комнате… Письмо мое, тронутое пулей, скрутилось спиралью… Чудом Божиим мы остались невредимы. Мы вышли на улицу — несут профессора Мухина, контуженного упавшей штукатуркой. Весь город уже облетела весть, что большевики теснят украинцев, что Рада против них бессильна. На Соборе паника… Украинцы присмирели — и в растерянности: «Ах, владыка… что делать, владыка?.. благословите, владыка!..» Как все переменилось! Ночью загремела пушка… Раным–рано, еще в темноту, ко мне вдруг входит в шубе ключарь Житомирского собора протоиерей Александр Голосов: «Владыка, надо уезжать… Киев будет взят…» — «Откуда вы?» — изумился я. «На автомобиле из Житомира… я его в лесу под городом спрятал. Надо ехать сейчас же. И владыку Антония [
[82]] и о.Левицкого [
[83]] с собой возьмем…» — «Спасибо, спасибо…» Мы быстро собрались и вышли на заре часов в 7 утра; наняли за двести рублей извозчика, накрылись кузовом — и едем. Слышу, жужжат пули, даже вижу их… Ну, думаю, Бог даст, доедем… Доехали до леса, отыскали в прикрытии автомобиль — и в Житомир…
Здесь было более или менее спокойно. Владыка Антоний жил несколько дней и уехал в Харьков. А к нам вскоре добежала весть о взятии большевиками Киева, о зверствах, учиненных ими в городе, и наконец — весть ужасная… — об убийстве митрополита Владимира.
Впоследствии я узнал, при каких обстоятельствах владыку Владимира убили. В злодействе свою роль сыграл и Алексей Дородицын [
[84]], но кровь его и на монахах Лавры. Дородицын создал для митрополита Владимира тягостное положение, которое дошло до того, что он чувствовал себя в митрополичьих покоях в Лавре, как в осажденной крепости. Когда Киев был взят, командующий большевистскими войсками Муравьев пришел к наместнику Лавры с предупреждением: «Я буду жить в лаврской гостинице, с вами у меня телефон. Если ворвутся к вам банды с обыском, с требованием денег или случится еще что–нибудь — звоните ко мне», — сказал он. Вскоре днем в трапезную Лавры пришла банда матросов и потребовала еды. В то время как монахи их кормили, начались расспросы: довольна ли братия начальством? не имеют ли монахи каких–либо жалоб?.. Послушники, распропагандированные революцией и возбужденные агитацией Дородицына, стали жаловаться на притеснения: народ несет в Лавру большие деньги, а поедает их «он»… — и они указали наверх, где находились покои митрополита. Матросы ворвались в его квартиру, отпихнули старика–келейника, пригрозив ему револьвером, — и бросились в спальню. Там они оставались около двух часов. Что в спальне происходило, неизвестно. Потом они вывели владыку Владимира и направились с ним к черному ходу. «Прощай, Иван…» — успел сказать келейнику митрополит. Вывели владыку из Лавры незаметно. У лаврских валов матросы прикончили его — расстреляли в упор… Он лежал полунагой, когда его нашли. Убийцы сорвали крест, панагию, даже набалдашник с посоха, только шубу не успели унести и бросили тут же… Монахи, видевшие, как уводили их митрополита, не только не подняли тревоги, не ударили в набат, но ни звука никому не сказали. Спустя уже значительное время кто–то спохватился и позвонил Муравьеву. Тот прислал своих солдат. Допросы, расспросы: кто? куда увели? когда? Но было уже поздно, злодеяние совершилось… Убиенного, полураздетого, изуродованного владыку митрополита увидала на рассвете крестьянка, несшая молоко в Лавру. Монахи объясняли свое молчание растерянностью, паникой: «Мы были парализованы…»
Митрополит Владимир был старец чистейшей, прекрасной души. Застенчивый, непоказной, незлобивый, необыкновенно кроткий, он всегда безропотно принимал испытания, которые выпадали на его долю. Его архипастырская жизнь была не из легких: его непрестанно переводили с кафедры на кафедру и тем лишали его возможности сродниться с какой–нибудь паствой. В Киеве в последнее время перед его мученической кончиной мы сблизились. Он меня полюбил. Мы подолгу беседовали. Он любил вспоминать детство, идеализировал семинарию, своих учителей, рассказывал, как, бывало, в ученические годы ватагой мальчуганов пробирались из Тамбова домой, в деревню, на Пасхальные каникулы; шли с котомочками, с палочками, в половодье… Завидев родное село, кричали с торжеством: «Воду прошел, яко сушу, и тамбовского зла избежав!..» На Всероссийском Церковном Соборе митрополита Владимира оттеснили, в Президиум не выбрали, хоть он и был старейший. А в Киеве его обступили украинские нахалы, и, как я уже сказал, архиепископ Алексей совместно с грубыми монахами его унижали.
Вскоре после взятия Киева я получил телеграмму от Патриарха Тихона. Он вызывал меня в Синод. Передо мной встал вопрос: как же мне до Москвы доехать? На железных дорогах пассажиров терроризировали всевозможные банды, никто не мог поручиться, что в пути не произойдет какой–нибудь роковой случайности. В это время немцы уже выгнали большевиков и утвердились в Киеве. Германские власти меня предупредили, что гарантируют мне проезд до Орши, а за дальнейшее снимают с себя ответственность. При таких условиях ехать в Москву я не решился.
В моей епархии положение было тревожное. Ко мне приходили крестьяне, настроенные революционно; священники, заделавшиеся революционерами… Всюду было нестроение и смущение умов. На Украине возникла политически умеренная организация хлеборобов (т. е. помещиков–землевладельцев и крестьян–землевладельцев). Кто–то приехал из Киева и сообщил, что «хлеборобы» выбирают гетмана и что им будет Скоропадский, потомок исторического гетмана Скоропадского. Свитский генерал в аксельбантах, один из бывших приближенных к Царю представителей гвардии, человек мягкий, уступчивый, не очень дальновидный, — Скоропадский всплыл на поверхность в дни политической смуты на Украине благодаря имени своего предка. Его облачили в казачий жупан, дали ему свиту — и назвали гетманом. Случилось это перед Вербной неделей, а на Вербной пришли первые грамоты за подписью нового гетмана с предписанием прочитать их народу в церквах. Я прочел их в соборе, путая ударение: вместо «Павло Скоропадский» читал «Павло Скоропадский»; надо мной подсмеивались, как над неисправимым «кацапом», «москалем»…
Около Пасхи (вскоре после утверждения Скоропадского) я получил от Патриарха указ — поехать в Киев и провести выборы Киевского митрополита вместо убиенного митрополита Владимира. Всероссийский Церковный Собор принял следующее постановление о выборах архиереев: каждая епархия имела право выбирать своего кандидата; Патриарх утверждал его, а если кандидатуру считал неприемлемой, то он присылал своего кандидата.
Вскоре после Пасхи я отправился в Киев.
По приезде я устроил несколько предвыборных собраний, дабы ознакомиться с возможными кандидатурами и их обсудить [
[85]]. Сильных кандидатур оказалось три: митрополит Антоний Харьковский, митрополит Платон, бывший Экзарх Грузии, митрополит Арсений Новгородский и епископ Димитрий (Вербицкий) Уманский, викарий Киевской епархии. Каждая из них обсуждалась отдельно: кто высказывался «за», кто — «против». Пробная баллотировка записками обозначила шансы каждого. Наибольшее число записок получил митрополит Антоний, за ним по числу голосов стоял епископ Димитрий. Я назначил день выборов, которые должны были происходить в Софийском соборе. Накануне, во время всенощной, вокруг собора стали собираться кучки народа в возбужденном настроении; собравшиеся о чем–то спорили, кричали… — словом, выборы население волновали. Утром, когда я подъезжал к собору (я жил в ближайшем к нему церковном доме), повсюду на улицах шли митинги… В соборе настроение тоже было возбужденное.
В своем «слове» я призывал к спокойствию и просил соблюдать тишину. Предлагал сначала назвать кандидатов, а потом их баллотировать. Выборщиков было человек двести. Составился президиум, который от своего имени должен был написать акт избрания. Выборы прошли без инцидентов, и я объявил результат баллотировки. Киевским митрополитом подавляющим числом голосов был избран митрополит Антоний. За него стояло все русское население и украинцы–централисты; за епископа Димитрия — «самостийники». Торжественно всем народом пропели в Софийском соборе гимн: «Тебе Бога хвалим»…
Перед нами встал вопрос: как послать акт о выборах на утверждение в Москву? С одной стороны, на путях к Москве большевики, с другой — немцы… Обсудили и решили возложить эту трудную миссию на епископа Никодима Чигиринского (викария Киевского). Он справился с нею отлично — вернулся с бумагами об утверждении митрополита Антония и с официальным признанием, что выборы были произведены правильно.
Я съездил ненадолго в Житомир и вернулся в Киев. Решено было, несмотря на летнюю пору, возобновить работу прерванного Всеукраинского Церковного Собора. Стояла жара, но мы все же работали. Совещались об устроении Церкви на Украине. Большинство стояло за автокефалию («незалежную», т. е. независимую Украинскую Церковь). Председательствовал на Соборе епископ Пимен, викарий Подольский, но когда прибыл из Харькова митрополит Антоний, он добровольно уступил ему председательство. Митрополита Антония мы встретили торжественно, в Софийском соборе. Я сказал приветственную речь. Оттуда он отправился с визитом к гетману.
На Соборе борьба партий, украинской и русской, определяла все дебаты. Министром Исповеданий при гетмане был В.В.Зеньковский. Украинец из умеренных, он держался непримиримо по отношению к сторонникам крайнего украинского лагеря и в скором времени должен был уйти в отставку вместе с другим министром более умеренного толка (Гербель). Его место занял кандидат Киевской Духовной Академии Лотоцкий — ярый украинец. Борьба за автокефалию продолжалась. Я горячо стоял за «единую, неделимую Русскую Церковь», признавая, однако, что некоторые уступки украинцам сделать можно. Мои противники, украинцы, на меня яростно нападали. В конце концов мы победили: Лотоцкий был уволен. Я сказал на Соборе: «Пал министр — пала и автокефалия. Будем теперь спокойно заниматься делами…» От этих слов украинцы были вне себя.
С наступлением осени положение Украины при германской оккупации было нетвердое. Вооруженных сил против большевиков немцы не посылали, они лишь снабжали гетмана орудиями и снарядами и поддерживали на Украине полицейский порядок. За эту поддержку Украине приходилось расплачиваться: немцы выкачивали все, что им было необходимо; целые поезда, груженные продовольствием, направлялись в Германию, и каждому немецкому солдату было разрешено посылать на родину продуктовые посылки (муки, яиц, сала, масла и проч.). По украинским деревням была произведена разверстка по числу дворов с указанием, кто сколько должен поставить хлеба, масла, яиц… Немецкие отряды объезжали деревни и забирали продовольствие. Так как, по незнанию русского языка, у сборщиков могли возникнуть недоразумения, — их сопровождали «гайдамаки», т. е. гетманские солдаты; в их состав входили и так называемые «синежупанники», банды украинцев, сформированные немцами из военнопленных украинцев еще во время мировой войны: за еду и хорошую одежду (синие жупаны) эти люди готовы были служить кому угодно. Реквизиции в пользу немцев, при содействии гетманских отрядов, вызвали ненависть населения и к тем и к другим. Она проявлялась в актах насилия с обеих сторон. Так, например, в Овручском уезде, в северной части Волыни, был случай беспощадной расправы крестьян со сборщиками. Край этот — Полесье — населен белорусами–полещуками; люд там живет не бедный; хоть местность и болотистая, а рыбы, дичи и всякого зверья там изобилие. Население, разбросанное среди лесов и болот, — темное, дикое, грязное, с «колтунами» [
[86]] на головах, но хитрое и упрямое. Прибыли в одно село немцы в сопровождении гайдамаков и потребовали следуемое по разверстке. Мужики заявили, что наутро пошлют по хатам своих сборщиков, а пока хотят угостить гостей. Напоили их, накормили, спать уложили, а ночью побросали их в яму за селом и засыпали живыми… Потом немцы жестоко с селом расправились — стерли его пушкой с лица земли, а мужиков, каждого пятого, расстреляли.
Был еще случай. Ворвался в хату немец под Пасху. У крестьян пасхальный стол приготовлен. Немец забрал все, что стояло. Мужик рассвирепел и полез с кулаками на обидчика. Немец застрелил его на месте. В Пасху убитого хоронили. Народ собрался. Священник сказал несколько слов сочувствия семье: наш Светлый День отравлен и т. д. За это батюшку арестовали и посадили в тюрьму…
Подобные случаи объясняют, почему среди населения усилилось крайнее течение украинского сепаратизма — вражда к Скоропадскому и тяга к его вождю — Петлюре. Правительство гетмана стояло за внутреннее самоопределение Украины, а вовне — за федерацию с Россией; петлюровцы — за полный разрыв с нею. За свои идеи Петлюра сидел в тюрьме, но это лишь увеличило симпатию народа к Петлюре. Учитывая создавшееся положение и опасаясь населения, симпатизирующего узнику, гетман Петлюру амнистировал.
Во время германской оккупации петлюровцы притихли, но стоило обстоятельствам измениться, они подняли голову. В Австрии и в Германии началась революция, и немцы стали очищать Украину. Петлюровские отряды подступили к Житомиру, к Киеву и некоторым другим городам. Положение гетмана было трудное: покидая Украину, немцы оставляли его на произвол судьбы… Он проиграл последнюю ставку, когда вздумал опереться на отряды «сичевиков». Это была банда, которая объявила себя преемницей традиций Запорожской Сечи. «Сичевики» скоро изменили гетману и в полном составе перешли к Петлюре. Правительству пришлось в спешном порядке набирать добровольцев из подростков, учеников гимназий и семинарий — зеленую учащуюся молодежь. Киев был уже под угрозой. Когда гетмана спрашивали: что же дальше будет? — он успокаивал: «Отстоим, отстоим…» Князь Долгорукий стал было во главе обороны. Тщетные усилия! Через два дня гетман с остатками немцев покинул Киев. Город был обречен. Все притаилось… Наступила зловещая тишина… Потом послышалась издали музыка, замелькали на улицах петлюровские солдаты — Киев заняли новые властители…
Глава 17. АРХИЕПИСКОП ВОЛЫНСКИЙ В плену (1918–1919)
Петлюровские отряды вошли в Киев под предводительством галицийского генерала Коновальца. Первое, что они сделали, это расстреляли около Музея более ста офицеров старой русской армии. Мы, архиереи, члены Собора, сидели в Лавре, подавленные жестокой расправой, и ждали своей участи, по–прежнему посещая церковные службы.
Обедню в день великомученицы Варвары, 4 декабря, митрополит Антоний служил в Михайловском монастыре [
[87]], а я зашел во Флоровский монастырь. Там находилась икона Холмской Божией Матери, незадолго до того прибывшая из Москвы вместе с Турковицким монастырем, который преосвященный Никодим перевез в Киев почти в полном составе. (Тогда же он привез из Москвы моих двух племянников, мальчиков лет девяти–десяти.) Флоровская женская обитель в Киеве приютила у себя турковицких монахинь, и я изредка у них бывал, навещая игуменью м.Магдалину: она приехала из Москвы с туберкулезом легких, мучилась жестоким кашлем, и у нее нет–нет шла горлом кровь… Положение ее было серьезное.
И вот, вернувшись домой, сидим мы после обеда с митрополитом Антонием, пьем чай и вдруг слышим в передней голоса, стук сапог, звон шпор… — и к нам врываются вооруженные петлюровские офицеры…
– Где здесь архиепископ Евлогий?
– Это я…
– Вы арестованы именем правительства!
Митрополит Антоний спросил, за что меня арестовывают, но офицеры предъявили только ордер на арест, а повод ареста объявить отказались. Я попросил разрешения собрать белье, кое–какие вещи, бумаги… За мной в спальню пошел солдат. Потом под конвоем меня вывели из Лавры. Увидав, что я иду окруженный солдатами, толпившиеся на дворе бабы заголосили, а епископ Гавриил Челябинский, попавшийся нам на пути, в растерянности закричал: «Не езди!., не езди!..» Меня посадили в автомобиль и привезли в гостиницу «Версаль», обращенную во временную тюрьму.
В одной из комнат, нетопленой, с грязным, мокрым от нанесенного сапогами снега полом, сидели хохлы в шапках и допрашивали арестованных. Встретили они меня враждебно. Узнав мое имя, один из них крикнул с торжеством: «Евлогия арестовали?! Ага… знали, кого надо забрать!» В комнате была суета, входили и выходили какие–то люди, хлопали двери, дули сквозняки… Видно было, что народу наарестовали столько, что не знают, куда арестованных и девать. «Куда–то меня посадят?» — подумал я.
Посадили меня не в комнату, а в телефонную будку, тоже нетопленую, грязную, с окурками и отбросами на полу. Тут стоял диванчик, я на него уселся. Мной овладело тупое безразличие: будь что будет… Так я просидел до вечера. Из Софийского собора мне принесли подушку, одеяло и кое–что съестное. У дверей будки дежурили, сменяясь каждые два часа, солдаты, обвешанные ручными бомбами; они нестерпимо много курили. С ними я поделился передачей. И тут — неожиданная встреча!
Один из конвойных был молоденький солдат, совсем еще мальчик. Говорил он по–русски со своеобразным акцентом. Я спросил его, откуда он. «Я из Галиции, а сейчас — с «сичевичками»… Раньше был в приюте архиепископа Евлогия…» — «Ты его видал когда–нибудь?» — спросил я. «Нет… Он к нам в Бердянск приезжал, да я тогда болен был и его не видал», — ответил мальчик. Я сказал ему, что я — Евлогий. Мальчик бросился на колени, плачет, руки мне целует… А на нем ручные бомбы навешаны, того и гляди зацепит их, уронит… Я стал его успокаивать и просил рассказать о своем прошлом. Он мне поведал следующее: до революции он учился в приюте. В революционные дни наступил развал, и содержать приют стало не на что. Пришли большевики — обули детей, одели, а как оставили город — опять есть нечего. Ученики из приюта стали расползаться. Мальчик попал к «сичевикам». Поначалу банда стояла за гетмана, «ну а потом мы ему нож в спину всадили…» — заключил свой рассказ мальчик. Я его не разубеждал: кто–нибудь мог нас подслушивать, да и бесполезно это было.
В тот же день вечером пришел Министр Исповеданий Лотоцкий. Ко мне он относился хорошо, хотя на Соборе мы были представителями разных течений.
– Не послушались вы меня, очень уж вы были рьяный, и вот… — с укоризной сказал он. — Но я к вам с уважением, хоть мы с вами и боролись. Не волнуйтесь. С вами случилась маленькая неприятность, я сейчас съезжу в комендатуру, все устрою — и вернусь…
Жду час, два… — он не вернулся.
Во время томительного ожидания я услыхал телефонные переговоры, которые велись в соседней комнате. Чей–то голос кричал из аппарата: «Как нам быть? Ведь там Черная сотня будет защищать!..» — «Ничего, ничего, действуйте…» — отвечали вопрошавшему.
«О владыке Антонии речь идет…» — почуял я.
Наступила ночь… — первая ночь под арестом. Провел я ее в полудремоте, полукошмаре. Меня не покидало тягостное ощущение «арестанта». Всю ночь в доме была суета, слышались голоса, кого–то куда–то вели, у моей будки сменялись солдаты… Под утро провели мимо моих дверей элегантную даму с заплаканным лицом… В нетопленом помещении я совсем закоченел, несмотря на зимнюю рясу.
Настал день — и вдруг радостное изумление! Передо мною стоит в белом клобуке с палкой в руке владыка Антоний… Сперва я не понял — стал его горячо благодарить за посещение, но с первых же слов митрополит Антоний прервал меня: «Чего благодаришь? Я сюда же…» Мы примостились вдвоем на диванчике и просидели так до вечера. Днем из Лавры нам прислали рыбы и еще какой–то еды. Но до еды ли было в обстановке революционной тюрьмы, нервной суеты, телефонных звонков, шмыганья по коридору петлюровских офицеров, караульных солдат с бомбами… Один из них спросил митрополита Антония, за что нас посадили. «За православную веру…» — ответил владыка. Солдат усомнился: «За веру? За веру не сажают, наверно, какие–нибудь вы злодеи…»
Надвигался вечер. Мы попросили дать нам на ночь хоть какую–нибудь койку. «Внизу арестованные гетманские министры под столами спят, а вам — койку!» — ответили нам. Койка не понадобилась… В 11 часов вечера вошел офицер и приказал: «Одевайтесь». — «Подушки, одеяла взять с собой?» — «Как хотите». В ту минуту мы решили: ведут на расстрел… Нас торопили. Выходим — автомобиль… Нас усадили. С нами сел офицер и вооруженные солдаты. «На вокзал!» — скомандовал офицер. «За вокзалом…» — подумали мы. Нас подвезли к вокзалу, который спешно декорировали, готовя кому–то торжественную встречу. Автомобиль остановился. Офицер ушел. Наши конвоиры зазябли — ушли тоже. Мы мерзли в автомобиле часа два. Наконец за нами пришли и велели выходить. Нас повели куда–то за станцию к отдаленным запасным путям… Сомнения не было — «там»… И вдруг — удивление!.. На глухом подъездном пути стоит вагон второго класса с салоном, нас подводят к нему и велят садиться… Вводят в купе вместе с двумя солдатами, остальные конвоиры размещаются в салоне. Мы снимаем зимние рясы. Осведомляемся у конвоя, куда нас везут? «Не знаем…» — «Можно нам совсем раздеться?» — «Как хотите». Я разделся, накрылся теплой рясой — и задремал. Поздней ночью — толчок: прицепили паровоз. Потом заработали колеса… — мы тронулись. Куда–то нас везли, но — куда? Митрополит Антоний глядел в окно, стараясь рассмотреть, по какому железнодорожному пути мы едем, но в темноте узнать знакомые места было трудно. Мы опять спросили конвоиров. Один из них проговорился: «В Галицию». Какое было облегчение узнать об этом! Ехали мы медленно, подолгу стояли на остановках, задвинутые на запасные пути. Когда рассвело, солдаты на какой–то станции побежали за кипятком. «Не надо ли и вам кипятку?» Мы отказались.
Станция была вся разубрана украинскими флагами. На платформе стоял весь продрогший на морозе батюшка с крестом на блюде, ожидая проезда высокой особы. Солдаты нам сказали, что ждут Петлюру.
Сперва проплыл весь заиндевевший великолепный поезд с петлюровскими министрами. За ним примчался курьерский — с Петлюрой. Послышались приветственные клики: «Слава! Слава!«… к Петлюре подошел батюшка — правитель Украины приложился ко кресту. Заиграла музыка… Под звуки духового оркестра Петлюра отбыл. А мы потащились дальше…
Понемногу наши конвоиры смягчились. Стали носить еду, заботиться о нас, разговаривать. Один из солдат (из учителей) шепнул нам: «Если что надо в Киеве передать, напишите записочки, спрячьте и скажите мне, куда спрятали. Я еду обратно в Киев и ваши письма доставлю». Этим предложением мы воспользовались.
На границе нас пересадили в санитарный вагон. Там каждому отвели по койке. Вагон был хорошо натоплен. Чистота, тепло, присутствие санитаров и сестер, — вся перемена условий путешествия казалась таким облегчением после всего пережитого за последние два дня… Так мы ехали до Тарнополя. Еще недавно в этот город я въезжал, окруженный знаками почета, а теперь меня везли как арестанта…
Прибыли мы рано утром. С вокзала на извозчике, в сопровождении конвоя, нас доставили в еврейскую гостиницу, оттуда повели в комендатуру. После краткого допроса нам объявили, что пока нас оставят в гостинице, а потом препроводят в униатский монастырь.
Пребывание в гостинице было тягостное. Денег у нас не было, провизии, кроме чая и сахара, тоже. Еврей–хозяин давал нам горячую воду с картофелем вместо супа и немного хлеба. Таково оьшо все наше питание. Комнату еврей не топил. Стояли морозы. Мы коченели; зимние рясы в стужу согревать нас не могли.
Очевидно, наш хозяин не очень–то верил правительству, которое в таких случаях расплачивается за арестованных, и во избежание уоытка решил на нас не тратиться.
К нам приставили католического патера Бона — священника, приготовленного для католической «миссии» в России. Выяснилось, что ему было поручено комендатурой препроводить нас в монастырь. Но патер тянул, увиливал, ссылался на какие–то препятствующие обстоятельства… «Скоро Рождество, встретим праздник… У меня в городе друзья, я не хотел бы сейчас уезжать…» и т. д. — словом, долго нас морочил. Объяснялось его поведение старыми счетами со мною. Оказалось, мы во время войны столкнулись с ним в Бродах. Он тогда доказывал, что один из приходов — униатский, а я — что он православный; я восторжествовал, зато теперь он нас томил в гостинице.
Немного скрасил нам пребывание в Тарнополе стороживший нас молодой солдатик — мальчик–гимназист, доброволец–петлюровец. Мы очень с ним сдружились: беседовали, вспоминали стихи Шевченки… В конце концов он стал совсем ручной. Рассказывал нам, как поначалу они в Галиции боялись казаков, потому что их уверяли, что «казаки из ребят суп варят…»: «Мы все попрятались, когда они в село наше пришли, а потом увидали — казаки никого не трогают, с ребятишками играют… видим — прекрасные люди…» — рассказывал солдатик. Жалея нас, он решил нам помочь и заявил: «Я для вас в комендатуре дров украду…» И верно, несколько раз крал и топил нам печку.
Незадолго до праздника пришло из комендатуры распоряжение — отправить нас с митрополитом Антонием в два разных монастыря. Мы решили подать прошение, чтобы это распоряжение во имя человеколюбия было отменено. Нашей просьбе вняли, но мы по–прежнему сидели в гостинице. Патер Бона, несомненно, везти нас до праздников не собирался. Наконец я решил пойти в комендатуру — жаловаться. Там моему приходу удивились: «Как, вы еще здесь? Вы поручены о.Бону — он уже давно должен был вас доставить в монастырь. Мы дадим распоряжение…» Вечером о.Бона выразил крайнее неудовольствие по поводу жалобы и заявил, что все равно до праздников нас не повезет. Обошлось без него. Нам дали в провожатые жандарма и отправили по железной дороге в г.Бучач. Там находился униатский, «базилианский», монастырь.
Приехали мы в Бучач ночью, часа в три–четыре. Нас посадили в грязную вокзальную комнату. На полу окурки, сор, грязь… Пахнет водкой и табаком. Шмыгают мимо нас какие–то подозрительные личности… Слышим — где–то беготня, крики: какого–то еврея–контрабандиста ловят… Атмосфера на станции жуткая, воровская. Сидим мы с митрополитом Антонием усталые, измученные, ожидая, что–то будет с нами дальше…
В 6 часов, еще в темноту, приехала за нами телега на огромных колесах («дробина»), такая высокая, что мы в рясах едва в нее влезли.
Утро сырое, дождливое, туманное. Едем медленно. Сидеть тряско. Наши рясы вымокли. Но вот в мути дождя показались огоньки монастыря. У ворот телега стала. Ждать пришлось долго. Сидим–сидим, никто не идет. Где–то вблизи голоса в темноте перешептываются… Наконец появился монах с фонарем и учтиво обратился к нам: «Извините, никто нас не предупредил. Келий нет… Надо их освободить, приготовить… Пока попросим в приемную». Нас привели в монастырь и устроили в чистенькой комнате с двумя диванчиками. Мы тотчас легли и заснули как убитые.
Долго спать не пришлось — к нам постучали. Проснувшись, мы с удивлением озирались, не понимая, куда мы попали. Нам было предложено, если мы пожелаем, пойти на мессу. Мы решили на мессу идти, но наше положение православных архиереев, сосланных в католический монастырь, казалось нам столь странным, что поначалу вызвало некоторое недоумение, как нам в этой новой обстановке держаться. Митрополит Антоний обсуждал вопрос: можно ли нам, православным, креститься в униатском храме? Решили: да, можно, можно везде, где есть крест.
В храме нас поставили на хоры. Молящихся было довольно много. Мужики в кожухах, бабы… Много исповедников ввиду приближения праздника. После Евангелия, когда священник направился к кафедре говорить проповедь, народ запел: «Дух Святый найдет на Тя и Сила Всевышнего осенит Тя…», а в конце службы вместо запричастного стиха грянул «Ще не вмерла Украина…». Ну, думаю, вот куда политика влезла…
Когда мы вернулись из церкви, кельи нам были уже приготовлены. Все было заботливо устроено. Пришел настоятель — познакомиться и извиниться, что не сразу нам отвели помещение.
Приближалось Рождество. Мы стали к нему внутренно готовиться, но в чуждой обстановке еще ярче вспоминалось наше предпразднество и еще тяжелее казалось заточение… В неомраченной радости встретить Рождество мы не могли, наоборот, великий праздник лишь оттенял наше грустное положение. Лишение свободы вызывало чувство тоски, налегло на душу тяжестью, которую сбросить было трудно: каждая мелочь о ней напоминала. Увидишь на дворе нищего — невольно думаешь: а вот он идет, куда хочет… пробежит собака — и опять та же мысль: и она бежит, куда хочет…
Поначалу нас из монастырского сада не выпускали; потом наша стража смягчилась и нас стали отпускать после обеда в город и даже за город. Но мы предпочитали гулять в прекрасном монастырском саду.
Накануне Нового года, рано утром, в коридоре какое–то движение, голоса… Потом слышим, кого–то по коридору к нам ведут. Опять за нами? Опять арест? Распахнулась дверь, — и радостное изумление… Из Киевской Лавры два монаха [
[88]] привезли нам облачение, церковные сосуды, кадило — все, что нужно для богослужения..; наша записочка, которую мы передали доброму конвоиру, не пропала, он доставил ее в Киево–Печерскую Лавру: вошел в швейцарскую митрополичьих покоев, увидел, что никого нет, положил пакет на стол — и скрылся. Мы писали, что без богослужения нам будет тяжко. Узнав об этом, духовенство и миряне отправили к Петлюре делегацию с просьбой облегчить нашу участь. Петлюра настаивал на одном — чтобы мы для Украины больше не существовали, и заявил, что наше заточение отмене не подлежит. Однако после долгих переговоров он позволил привезти нам все необходимое для церковных служб.
Первое свидание со своими… — какая это была радость! Мы исповедались у приехавшего иеромонаха, а потом в келии отслужили обедню. Служил владыка Антоний, один из нас подавал кадило, остальные пели. Мы были в подъеме, чувствуя великое утешение Литургии…
После праздников стали прибывать в наш монастырь новые лица. Привезли Киевского викарного епископа Никодима вместе с иеродиаконом Николаем, беззаветно преданным ему монахом, добровольно последовавшим за ним в заточение. С такой же преданностью он стал относиться и к нам — окружал трогательной заботливостью: чистил наши сапоги, подметал пол… все исполняя безропотно и со всею любовью.
Потом навестить меня приехал из Почаевской Лавры иеромонах Дамаскин с послушником, который в Почаеве при мне келейничал.
Вслед за ними привезли из Почаева арестованных — архимандрита Виталия и работавшего в типографии иеромонаха Тихона (Шарапова).
Мы расселились так: я с епископом Никодимом жили в общей келии; владыка Антоний один — в другой, а о.Виталий, Тихон и Николай — в третьей. Мы совместно совершали церковные службы в одной из келий, по очереди исполняя ту или иную церковнослужительскую обязанность.
Понемногу жизнь наша наладилась. Мы зажили тихо и спокойно. По вечерам монахи нас приглашали на свои собрания, угощали кофеем, мы слушали их религиозные беседы; иногда они обсуждали интересные казуистические вопросы, и мы с удовольствием следили за их прениями.
Днем мы гуляли по саду. На прогулках стал нам встречаться какой–то незнакомец в военной форме с собакой. Монахи относились к нему с великим почтением; они сказали нам, что этот важный господин «величезна фигура, як ваш Николай Николаевич». Встречаясь с незнакомцем, мы издали с ним раскланивались. Кто–то из монахов потом проговорился, что это один из Габсбургов, внучатый племянник императора Франца Иосифа, наименовавший себя Василием Вышиванным; что он готовится на украинский престол и ради будущей короны перешел в унию. Как–то раз он с нами заговорил на плохом украинском языке. Мы сказали, что украинским не владеем. Он удивился: «Как же вы — украинские епископы — и не говорите по–украински?» Держался он как–то таинственно. Монахи о нем по углам шептались. Что–то во всем его облике было типичное для претендента на пустующий или несуществующий трон…
От нечего делать я стал писать автобиографию. Выдержки из нее иногда читал моим соузникам–епископам, которые меня поощряли.
Наши отношения с монахами улучшились настолько, что они разрешили нам пользоваться фисгармонией, стоявшей в ризнице. Епископ Никодим оказался отличным музыкантом и исполнял разные церковные песнопения. Все шло хорошо, если бы не враждебное отношение к католичеству архимандрита Виталия. Он затевал с монахами споры, обрушивался на них, называя еретиками, отступниками… и как–то раз в запальчивости заявил: «Ваше причастие пища демонов…» Монахи пришли в ярость и в долгу не остались: «Мы думали, вы порядочный человек, а вы хуже собаки!» Я набросился на о.Виталия, но что было сказано, то было сказано… Добрые наши отношения с монахами надорвались: они невольно отождествляли нас с о.Виталием.
Наступила весна… Потекли ручьи. По–весеннему пригревало солнышко… Тут неожиданно к нам приехал архиепископ Алексей Дородицын. Его появление нас смутило. Цели приезда мы понять не могли и так до конца и не поняли. Он объяснял свой приезд добрым намерением начать хлопоты о нашем освобождении. Однако ничего не сделал. С униатскими монахами у него установились сразу простые отношения. С нами он служил и своим чудным голосом скрашивал наши предпасхальные службы.
После Дородицына приехал в монастырь профессор филологии Киевского университета Огиенко. Он работал над переводом православного богослужения на украинский язык. Православный по вероисповеданию, он считал, однако, возможным причащаться у униатов. С ним мы подолгу беседовали и спорили. Он обещал похлопотать о нашем освобождении, но из этого тоже ничего не вышло.
Приближалась Пасха. На душе было грустно–грустно… Заточение томило. Ему не предвиделось конца… И вдруг, в Великую Субботу, на монастырский двор въезжает телега, на ней сидит какой–то монах — и мы в радостном изумлении узнаем иеросхимонаха Иова!.. Он приехал нас исповедать и привез письма, куличи и пасхи. Почаевские монахи с великою любовью писали нам, что лобызают наши узы. Радость нашу в то утро передать трудно…
Иеросхимонах Иов был старец чудной жизни. В Почаеве он исполнял обязанности «гробового» монаха, т. е. находился при гробе преподобного Иова. Когда Лавре грозило взятие австрийцами, он от моих рук принял схиму и остался в Почаеве; потом его австрийцы услали в лагерь для военнопленных. В молодости благодаря исполинскому своему росту он служил в гвардии, и до сих пор в Париже помнят его бывшие преображенцы.
Светлый Праздник мы встретили светло и радостно. Выпросили у настоятеля разрешение отслужить в полночь Пасхальную заутреню и Литургию в келий «почаевцев» — о.Виталия и о.Тихона. Заутреня прошла стройно, мы пропели все пасхальные песнопения. Архиепископ Алексей Дородицын был за регента. Потом все вместе разговлялись.
День Святой Пасхи был солнечный, теплый. Мы гуляли по саду. Уже цвели цветы. Из помещения комендатуры доносилось солдатское пение. Знакомые украинские и вообще солдатские песни о «пташечке–канареечке», напоминавшие о России…
Не знаю, долго ли продлилось бы наше заточение, если бы не изменилось политическое положение Украины. Завязалась борьба украинцев с поляками, для украинцев неудачная. Поляки их энергично теснили. Украина разделилась на Восточную (Киевщину) и на Западную (Галицию) и организовала два правительства, объединявшиеся под верховной властью Петлюры. Во Львове, центральном городе Галиции, заседало правительство, составленное из галичан и возглавляемое Петрушевичем; в Киеве — правительство Петлюры. До нас добежал слух, что поляки взяли Львов; что правительство вынуждено бежать на восток. А потом мы узнали, что бежавшие министры вот уже две недели, как живут в вагонах на нашей станции…
В эти смутные дни украинских неудач нам объявили, что мы свободны, даже предложили доставить нас на Волынь. Мы держали совет — как нам быть?.. Горячие головы — архимандрит Виталий и иеромонах Тихон — заявили, что они возвращаются на Волынь. А мы решили, что ехать с риском попасть в руки одной из бесчисленных банд, разбойничавших на станциях и железнодорожных путях, — не имеет смысла. Наши опасения имели основания: хулиганство и разбой стали повсеместным и повседневным явлением [
[89]]. Когда, направляясь на вокзал для переговоров с одним из министров, я повстречался с какой–то бандой, один из хулиганов хлестнул меня кнутом по плечу. После некоторых колебаний мы решили остаться у поляков, сдавшись на великодушие победителей. Наше положение врагов их врагов (петлюровцев) ставило нас в благоприятные условия и могло нам гарантировать безопасность, даже, быть может, и свободу.
Вскоре украинские министры под напором поляков были вынуждены двинуться дальше, уводя с собою войска [
[90]]. В городке наступила зловещая тишина… Иногда проносились по улице какие–то всадники… Где–то, еще далеко, громыхали пушки. Но вот сидим мы в саду — и вдруг шрапнельные пули жужжат в воздухе… Поляки приближались. Я вспомнил о своих записках и из предосторожности решил их спрятать. В них я изложил мою деятельность в Государственной думе, мои битвы с поляками за Холмский законопроект и т. д. Поначалу думал зарыть записки в саду, но потом решил зашить в клобук под подкладку; иеродиакон Николай помог мне с этой работой справиться.
Поляки вошли в город перед Троицей. В день праздника, во время обедни в нашей келье, я пошел в сад, чтобы наломать сирени для вечерни. Стою у куста, ломаю ветки, и вдруг ко мне подбегают солдаты с криком: «Стой!.. Кто вы?» Я сказал свое имя. «Вас–то нам и нужно… вы арестованы! Где ваши товарищи?» Обедня еще не кончилась, когда они ввалились в наши кельи. Они так нас торопили, что мы едва успели дослужить Литургию. Наскоро собрав вещи в чемоданы, мы последовали за конвоем. У ворот нас дожидались две высокие грязные навозные телеги. Мы побросали на дно наши чемоданы, с трудом вскарабкались на повозки, и лошади шагом поплелись по дороге. Лил сильный дождь. Наши зимние рясы промокли до нитки. Мы попросили конвойных переждать где–нибудь ливень, но они и слышать не хотели. Так плелись мы 15 верст. Ну и праздник!
Наконец мы въехали в местечко Монастыржинско, где полагалась первая остановка, нас подвезли к казенному зданию (Гминному управлению). Первая мысль: слава Богу, под крышей будем… Но под крышей нас ожидала большая неприятность… Нам заявили, что будет обыск, строгий и тщательный, до белья. Бывшие австрийские, а теперь польские, жандармы два часа осматривали всю нашу одежду, прощупывая швы, подпарывая подкладки. Со мной все обошлось благополучно, пока дело не дошло до клобука. Но когда взяли клобук — все пропало… Стали щупать дно, захрустела бумага… «Что у вас — бумаги?» Разрезали подкладку, и мои записки вывалились на стол. «Это — пропаганда?» — «Какая пропаганда в нашем положении…» — отвечаю я. Жандарм скатал бумаги в трубку и наложил печати.
Комната грязная, смрадная. Обстановка неприглядная, вызывающая чувство брезгливости. Смотрю, у крыльца солдаты с винтовками. Легли спать — не до сна… Мрачные мысли не дают покою. Озлобленность поляков против меня я почувствовал в самом факте ареста. Только счетами за прошлое можно было объяснить преследование нас в том беззащитном, бесправном положении, в котором мы находились.
Наутро нам дали чаю и велели снова собираться в путь. По–прежнему дождь… Серое небо… На дороге слякоть… Мы воссели на наши тряские телеги — и тронулись. Впереди нас гнали, скованных рядами, пленных украинцев; мы шагом тащились за ними. Тяжкое путешествие… Пленные, признав в нас русских епископов, арестованных Петлюрой, над нами издевались. Но худшее было еще впереди…
Когда под вечер мы приближались к Станиславову, неподалеку от города нам навстречу попалась толпа пьяных польских солдат с офицером. Солдаты нас окружили, осыпая бранью. Один из них не ограничился словами, сорвал с меня очки и шапочку — и бросил в грязь… По–видимому, он с товарищами был готов и на большее… Неизвестно, чем бы кончилось, если бы офицер не отогнал их нагайкой.
Едем дальше, — встречный солдат–поляк требует обменяться лошадью: «Давайте вашу, ваша лучше…» Едва–едва конвойный отстоял нашего коня.
На закате мы въехали в Станиславов. Нас посадили на вокзале и велели ждать. Погода прояснилась, на станции сновала гуляющая публика, с изумлением разглядывая нас; слышались шутки, остроты, издевательства… Сидели мы так долго, что начальник станции стал звонить кому–то по телефону, спрашивая, что ему делать с нами. «Что ж вы стариков–то на станции забыли? Не могу же я на ночь их тут оставить…» — «Квартир нет, отправьте их в казармы!» — отвечал голос из аппарата. «Как… — в казармы? Что вы!.. На растерзание?» — заступился за нас начальник станции. «Ну, тогда — в «Бельвю»!» — ответили ему.
Уже было темно, когда за нами пришли солдаты и повели в гостиницу «Бельвю». Это был местный публичный дом. Нам дали отвратительную, грязную комнату. По совету митрополита Антония мы легли спать не раздеваясь, в наших тяжелых промокших рясах. Всю ночь мы не спали. Доносились непотребные крики, визги… По коридору бегали бабы, стучали сапогами солдаты, проходя мимо нашей двери…
Утром нам принесли чаю. Ночь была столь тягостная, что митрополит Антоний стал искать выхода из создавшегося положения и предложил обратиться к местному униатскому епископу (Григорию Хомишину) с просьбой заступы и убежища. Переговоры с епископом взял на себя я.
Епископ проживал в прекрасном дворце. Я просил доложить о себе. Лакей вернулся и заявил, что Владыка занят и принять меня не может. «Не сказал ли он, когда я могу его видеть?» — «Владыка не знает, когда он будет свободен…» Дальнейшие переговоры были излишни: епископ меня не хотел принять. Не пожелал ни помочь, ни выслушать.
Тогда мы решили жаловаться коменданту. Но и тут ничего не добились. «Будьте довольны, что хоть так–то вас устроили», — был грубый ответ.
И вот сидим мы по–прежнему в «Бельвю». Безысходность томит, на душе тоска… Вдруг смотрим в окно, какой–то господин идет через улицу и направляется к «Бельвю». Неужели к нам? Так и есть — к нам… Входит в комнату и спрашивает:
– Вы — владыки?
И, услышав утвердительный ответ, восклицает негодующе:
– Боже мой!.. В такой обстановке?! Это невозможно! Это недопустимо! Я устрою скандал… Это позор! Есть же монастыри!.. Наконец, в приют мой можно.
Незнакомец оказался Николаем Семеновичем Серебрениковым. Он долго жил в Варшаве и теперь организовал в Станиславове приют для бывших граждан Российской Империи. О нашем пребывании в «Бельвю» он узнал случайно.
Мы с вечера сдали на вокзале наши чемоданы на хранение. Наутро иеродиакон Николай получил их и, пользуясь проглянувшим солнышком, вынул из них наши рясы, белье и где–то на площадке разложил — посушиться. Серебреников увидал монаха и стал расспрашивать: откуда? кто?.. Узнав, в чем дело, он поспешил в нашу гостиницу.
Этот добрый человек тотчас же побежал хлопотать и к вечеру добился разрешения на наш переезд в его приют. Вдова генерала Болбочана (расстрелянного Петлюрой), проживавшая у него, как раз в тот день уезжала и ее комната оказалась свободной.
И вот мы идем по городу под перекрестными взглядами прохожих. Неприятные минуты… Зато с каким облегчением мы вздохнули, когда после всех перипетий последних двух дней, после грязи, физической и моральной, мы попали в чистую, тихую, приветливую комнатку! Иеродиакон Николай привез с вокзала наши вещи и на другой день, натянув на дворе веревки, досушивал на солнышке нашу промокшую одежду.
Пребывание в этом скромном одноэтажном домишке, где все было так мирно, чисто и светло, что напоминало нам монастырскую гостиницу, было бы полным душевным отдохновением, если б не тревожная мысль об отобранных жандармами записках… Не приведет ли это к каким–нибудь тяжким последствиям? А если приведет, то к каким? Но и эта тревога внезапно и бесследно рассеялась. Случилось чудо…
Н.С.Серебреников нас часто навещал (он проживал в том же доме). Как–то раз он вошел к нам и, потрясая пачкой каких–то листков, ликующе воскликнул:
– Вы свободны!.. свободны!.. свободны!.. — И он протянул мне пачку. Я узнал мои записки…
Случилось это чудо так. Накануне ночью пришел экстренный приказ: всю галицийскую дивизию вместе с полевой жандармерией (за ней мы числились) двинуть на фронт. Она мгновенно снялась, забрав с собой все подсобные учреждения. Дела полевой жандармерии были переданы местному Милицейскому управлению. Состав милицейских был случайный: много мальчишек, недоучившихся гимназистов. Серебреников ежедневно туда наведывался, справляясь о нашей судьбе. Шутник и балагур, он умел говорить с ними непринужденно. Видит, на столе лежит какая–то рукопись, и спрашивает: «Что это у вас за рукопись?» — «Архиерейская какая–то», — отвечает юнец. «Чего там архиереи написали? Наверно, про благочестивые дела да святые места?» — пошутил Серебреников. «Да я тоже думаю, что глупости…» — «А вы дайте мне их почитать, подарите…» — «Ну что ж, берите…» Так мои записки ко мне и вернулись.
Я разволновался, почувствовав близость Божию… Это был один из самых светлых дней моей жизни.
Ликование Серебреникова по поводу нашего освобождения, увы, оказалось преждевременным. Скоро нам объявили, что нас отправляют дальше — во Львов. Мы попросили Серебреникова похлопотать о разрешении ехать по железной дороге, а не на подводах: уж очень утомительно было передвижение на телегах. На другой день пришел жандарм и повел нас на вокзал. Записки я спрятал в чемодан в надежде, что до Львова их довезу, а там найду кого–нибудь, кому можно будет их передать на хранение.
Во Львов мы приехали в сумерки. Как я торжественно въезжал когда–то в этот город! А теперь сразу нас повезли в комендатуру… Знакомое здание, и опять, как и в Станиславове, та же история: все забито, помещения нет. Куда нас девать? Кто–то посоветовал отправить нас к митрополиту Андрею Шептицкому. «Ну, — подумал я, — и странная неожиданность…» Митрополит Шептицкий и я давно и хорошо заочно знали друг друга. Он недавно вернулся из русского плена, в котором пребывал со времени ареста его нашим военным командованием в Галиции вплоть до Февральской революции, когда его освободило Временное правительство.
По приезде в резиденцию митрополита, не успели о нас доложить, он сам вышел на лестницу и радушно: «Пожалуйте, пожалуйте… У меня есть свободные комнаты, будьте моими гостями». Нас ввели в просторное помещение и предоставили каждому по комнате. К ужину пригласили наверх, в покои митрополита. Он был приветлив, гостеприимен, извинялся, что неожиданность нашего приезда лишила его возможности дать заблаговременно нужные распоряжения относительно трапезы… Однако все и так было хорошо.
– Располагайтесь, как хотите, — сказал он, в тот вечер прощаясь с нами. — Если вам удобней завтракать и обедать здесь — милости прошу ко мне. Если внизу — скажите… Делайте, как вам удобней…
Мы сослались на Петров пост, не совпадающий с западным календарем, на некоторые осложнения, которые мы этим внесем… Тем самым вопрос был решен, и мы с тех пор столовались внизу.
На другой день утром мы были приглашены к кофе, а потом прошли с митрополитом на Литургию. Почти всю службу он простоял на коленях: у него болели ноги.
Пробыли мы у митрополита несколько дней и не раз с ним беседовали.
Митрополичий дом находился в монастыре святого Юра (святого Георгия). Здесь был древний униатский собор и дом для духовенства. Таким образом монастырь был одновременно и резиденцией митрополита и местопребыванием капитула. Меня поражало, что в районе монастыря я не видел ни одного человека в светском платье — сплошь сутаны, даже секретари, библиотекари и те в сутанах.
Обстановка митрополичьих покоев была выдержана в восточном стиле. Изумляло количество картин, икон, всевозможных художественных старинных вещей. Это был подлинный музей древнерусской и византийской старины.
– Я люблю иконопись и восточное церковное искусство, — сказал нам митрополит, — оно чище воплощает христианскую идею, чем западное.
Мы ознакомились с книжкой «Царский вязень» («Царский узник»), которая только что появилась в печати и была посвящена митрополиту Шептицкому. Она заключала повествование о том, что он претерпел в русском плену. Его пребывание в России изображалось в сгущенных, мрачных красках; об узнике говорилось в возвышенных тонах, как о мученике; указывались подробности вроде следующей: в келии, где жил узник, пол был протерт до дерева от длительных коленопреклоненных молитв… Все в книжке было несколько преувеличено, чувствовалось намерение создать митрополиту ореол мученичества.
– Как вам жилось в русском плену? — спросили мы митрополита.
– С вами у нас обращались плохо, да и со мной у вас не лучше, — ответил он и рассказал, как фактически сложилась его жизнь в плену.
После ареста во Львове он был выслан в Киев в сопровождении одного монаха и 2–3 священников. В Киеве, в гостинице, он сам посвятил одного из них в епископы. Когда в Юго–Западном крае усилились украинские течения, его препроводили в Курск. Епископ Курский Тихон, человек грубый, давал ему почувствовать, что он узник инославного вероисповедания и во время Литургии, когда диакон возглашал «оглашенные изыдите…», посылал к нему иподиакона сказать, что этот возглас относится к нему… Из Курска его переселили в Суздаль (Владимирской губернии), в Спасо–Евфимиевский монастырь — духовную тюрьму. Тут он попал под начальство архиепископа Владимирского Алексея Дородицына, который впоследствии следовал по фарватеру Петлюры, а тогда еще был заядлым «москалем». Особых неприятностей в Суздале ему не чинили: монашеская братия, простая и доброжелательная, относилась к нему сочувственно, но ей было запрещено с ним общаться. Монахи обменивались с ним записочками, пряча их под камень. Из Суздаля его перевезли в один из монастырей в Ярославле. Отношение местной жандармерии было к нему скверное, а в монастыре жилось ему неплохо. Наступила весна 1917 года — и «оковы спали». Временное правительство его освободило. Со всех сторон посыпались приветственные телеграммы (между прочим, и от П.Н.Милюкова), а весь одиум плена лег на Саблера и на архиепископа Евлогия…
– В книге о вашем пребывании в России много внимания отводится мне, — заметил я. — Но я считаю долгом моей иерейской совести заявить, что все произошло без меня и помимо меня.
– Я знаю, вы ни при чем, это ваши чиновники… — сказал митрополит.
– Но в книге останется след, а фактически было не так…
– Ну кто же будет читать!..
– Во всяком случае, я облегчил свою совесть, сказав вам правду о прошлом.
Мы разговорились, и понемногу у нас пошло на откровенность. Митрополит рассказал, как он при царском режиме инкогнито приезжал в имение к своему другу графу Красинскому в Витебскую губернию и жил под видом торговца свиньями; как рассылал своих эмиссаров по всей Руси скупать русские древности…
Потом мы коснулись религиозных вопросов. В православном богословии он не был глубок, его познания не выходили за пределы самых обыкновенных учебников; любой студент Духовной Академии в этой области осведомлен не меньше, чем он. Но зато в понимании жизни, политики он был драгоценнейший человек для австрийского генерального штаба. Он прекрасно разбирался в вопросах об отделении Украины, об устройстве унии…
– Как вы, представитель польского аристократического рода, возглавляете украинское движение, которое ведет войну с поляками? — спросил я.
Митрополит улыбнулся.
– Вы хотите обвинить меня в ренегатстве? Ну нет… я буду защищаться. Позвольте заметить, что Шептицкие род русский, но в XVII веке окатоличился и ополячился. Предки наши изменили русскому имени. Я исправляю ошибку предков… [
[91]]
На эту тему мы разговорились более подробно. В конце концов из нашей беседы митрополит сделал следующее заключение:
– Наше с вами горе — мы оба слишком любим русский народ.
– Любим, но по–разному… — заметил я.
– Ну, это со временем сгладится…
Митрополит не кривил душой. В его речах чувствовалось искреннее стремление на Восток. Он говорил убежденно. «Восточное православие», Украина, древняя Киевская Русь… все это было его «святое–святых»; он считал их подлинной, ничем не замутненной русской стихией, которую нельзя этнографически отождествлять и политически сочетать с Великороссией. Исторические судьбы и пути Украины и Великороссии различны…
Такого рода искренние беседы сблизили нас. Митрополит показал нам основанный им Национальный Украинский музей — трехэтажное здание, полное сокровищ русской церковной старины… Иконы, панагии, облачения, кадила, церковная утварь… — всего не перечислить. Тверские, вологодские, костромские, рязанские… бесчисленные памятники церковного искусства. И все это скупалось за бесценок по всем углам России, по монастырям, и вывозилось за рубеж…
Потом митрополит показал нам свой монастырь. «Базилианские» униатские монастыри, принявшие устав св.Василия Великого, озападнились, и теперь с целью восстановления восточного монашества в неискаженном виде в монастыре митрополита был введен древний устав Феодора Студита. Настоятелем был второй брат митрополита. Мы осмотрели этот монастырь. Ревностное стремление подражать восточному монашеству чувствовалось среди братии очень сильно. Они производили впечатление фанатиков этой идеи, с воодушевлением относились к своему служению, с восхищением — к поставленному перед ними идеалу. По внешнему виду они были как будто наши: с бородами, в клобуках…
Слух о нашем пребывании во Львове как–то распространился и достиг пришибленных политическими событиями галичан–москофилов. Среди них у нас были знакомые. Кое–кто нас навестил. Встречи были и радостные, и грустные. Трогало внимание, память о нас, но грустно было сознавать крушение наших идеалов, наших общих надежд…
Пришла девочка из русского Очага, учрежденного Ставропигиальным Братством [
[92]], пришли студенты… С одним из них, по фамилии Угнивый, я ближе сошелся и спросил его, не возьмется ли он спрятать мою «крамольную» рукопись, которую я при себе хранить не могу. Он согласился. Однако потом часть моих записок очутилась… в Музее митрополита Шептицкого.
Наше мирное пребывание у митрополита нарушил неприятный инцидент.
Периодически мы должны были являться в комендатуру. Видное положение там занимал генерал Александрович. Поляк по рождению, он служил в русской армии, а потом, с крушением России, перешел на службу к Польше. Мы явились нему, представились. Он встретил нас хмуро, важно и, обращаясь к нам по–польски, спросил, где мы живем. Узнав наше местожительство, стал на нас кричать: «Как! У Шептицкого?! У врага польского народа?!» — «Мы узники, мы не виноваты, нас там поселили…» — сказали мы. «Сейчас же вас перевезут к католическому архиепископу Беличевскому…» — заявил нам Александрович.
И вот мы у католического иерарха… Он оказался хорошим, благородным человеком. Встретил нас учтиво, выслушал внимательно и в недоумении сказал: «Как же так можно? Вам митрополит Андрей оказал гостеприимство, это же обидит митрополита Андрея… Возвращайтесь к нему». — «Это невозможно. Распоряжение комендатуры, чтобы не возвращались», — вмешался конвойный офицер. «Успокойтесь. Ответственность я беру на себя. Вы ни при чем…» — возразил архиепископ.
Мы вернулись к митрополиту.
Потому ли, что митрополит понимал, насколько наше пребывание в Галиции под польской властью небезопасно и грозит нам еще многими неприятными случайностями, но он нам посоветовал домогаться освобождения.
– Что для этого надо предпринять? Как нам действовать? — недоумевали мы.
– Просить через Клемансо. Сейчас обсуждался Версальский договор, Падеревский [
[93]] находится в Париже. Можно написать, попросить…
– Но как это сделать?
– Через французского военного агента во Львове. Вручите ему петицию. Давайте вместе ее напишем…
Шептицкий прекрасно средактировал набросанное нами прошение, в котором мы указали, что, арестованные украинцами, мы вверили себя великодушию польского правительства и просим его об освобождении.
Французский атташе во Львове оказался мой знакомый: мы встречались с ним еще в дни войны в доме генерал–губернатора графа Бобринского. Он проявил полную готовность нам содействовать и осведомился, куда мы по освобождении хотели бы направиться — к Деникину или к Юденичу? Мы заявили, что хотели бы поехать к Деникину, чтобы быть ближе к нашим епархиям. Наша петиция была отослана Клемансо, а мы стали ждать ответа. Ждать его пришлось уже в новых условиях.
Через день–два пришло предписание польской комендатуры выслать нас в Краков.
Опять везли нас под конвоем жандармов. Дорогой мы узнали, что военный комендант Кракова — бывший генерал русской службы Симон. В Житомире, в бытность митрополита Антония архиепископом Волынским, он командовал одним из полков; тогда он приезжал к владыке Антонию с новогодним визитом, они встречались на общественных собраниях, на официальных торжествах… Мы приободрились и, по приезде в Краков, попросили жандарма протелефонировать генералу с вокзала о том, что мы приехали и просим нас сейчас же принять. Жандарм вернулся и сообщил: генерал Симон принять не может, а если мы имеем что сказать ему, то можем написать и передать через конвойного. «Ну, — подумали мы, — и перемена…»
Нас направили в монастырь, расположенный под городом, на берегу Вислы, в местечке Беляны. Это была обитель монахов–молчальников («camaldules»). Устав этого монастыря сочетает уставы Василия Великого и св.Бернара (в основных правилах он близок траппистам). Живут они не общежительно, а в домиках, которых настроено множество. Каждый затворник имеет свой домик с маленьким огородом; по желанию монахи разводят на грядах капусту, землянику, цветы, табак; камальдулы курильщики завзятые, и табак разводят почти все. Монастырские постройки окружает прекрасный сад. Высокие двойные стены отделяют эту обитель молчания от всего мира. Одежду монахи носят грубую, шерстяную, никогда ее не снимая — ни ночью, ни в летний зной; донашивают ее до полной ветхости; периодически монах ее сам стирает в прачечной — и опять на плечи.
Странное впечатление поначалу произвел на нас этот монастырь. Монахи молчат: скользят тенями… Тишину нарушает только стук их сабо: хлоп–хлоп–хлоп… Приветствуют друг друга неизменным «memento mori, frater…» [
[94]] — и опять молчание. На богослужение все собираются в костел. Мрак такой, что едва различаешь фигуры, гробовая тишина, один из монахов служит перед престолом: ни возгласов, ни пения, ни чтения, — только немые жесты, поклоны, движения… Прямо жутко от этой немоты и темноты… Поют они только «девятый час», но их пение более похоже на завывание, чем на пение: от долгого молчания голоса теряют благозвучность и все сливается в одно гулкое УУ… УУ… УУ…
С нами разговаривали только три монаха: настоятель, иногда навещавший нас, магистр (или начальник послушников), очень добрый, веселый старик, старавшийся нас чем–нибудь развлечь, и библиотекарь. Все трое относились к нам ласково и сердечно. Магистр приносил нам ягоды, фрукты, которых в монастырском саду было изобилие. «Я вам, как птенчикам в гнездышко, угощение приношу…» — как–то раз сказал он, указывая на гнездо, которое ласточки свили около нашего окна. Однажды, добродушно посмеиваясь над пением своих собратьев, он спросил: «Слышали, как волки выли?»
Остальные монахи, хоть с нами и не разговаривали, но их доброе, ласковое отношение мы чувствовали. Религиозный подвиг сказывался. Чудные были монахи.
К сожалению, мы жили в окружении не одних монахов, а 7 человек жандармов — «пилсудчиков» неотступно сторожили нас. Ни на шаг без вооруженного конвоя. Даже ночью они не оставляли нас в покое. Часа в два–три ночи стучатся: «Вы здесь?» — «Здесь…» Без вооруженного провожатого мы не смели выйти в сад. Стояла поздняя весна: все в цвету, листва уже густая, в аллеях тень, теплый ветерок… Но прогулки в сопровождении жандарма не доставляли удовольствия, особенно когда конвойный начинал рассказывать, как они, поляки, били «москалей»… Я облюбовал кроликов неподалеку от нашей келии, стал их кормить, носил им капусту. Но и это утешение было отнято: подошел жандарм и строго: «Кто дал вам разрешение ходить сюда? Надо спросить позволение…» Эта зависимость от конвоя так митрополиту Антонию надоела, что он перестал выходить из кельи, устраивал сквозняки, чтобы подышать чистым воздухом, но спрашивать разрешения по поводу каждого шага больше не желал; в результате он простудился и так занемог, что мы взволновались.
Однообразие нашей жизни нарушило неожиданное прибытие генерала Симона, приехавшего к настоятелю пить кофе. Он выразил желание посмотреть на арестованных. Нас вывели в столовую…
– Мы, кажется, с вами знакомы? — обратился генерал к митрополиту Антонию.
– Это не важно, знакомы мы или не знакомы, — сказал митрополит Антоний, — а вот — почему вы нас держите под надзором? Мы старики, кругом стены… — куда же мы убежим?
– Положим… если есть деньги, вы можете передать что–нибудь на волю.
– Какие у нас деньги!..
Разговор прекратился. Мы расстались без рукопожатия.
Через несколько дней после посещения генерала Симона за нами приехал автомобиль и какие–то офицерики объявили нам, что нас повезут в Краков к кардиналу князю Сапеге.
Подъезжаем к кардинальскому дворцу — на дворе черным–черно от тучи сутан: священники, монахи, семинаристы… собрались смотреть на нас. Со всех сторон щелкают кодаки. Нас провели в большой, великолепный зал — и заставили ждать. Ждали мы очень долго. Наконец открылись двери, и в сопровождении генералов, епископов… — многочисленной и пышной свиты, шелестя шелками великолепного одеяния, выплыл кардинал… Маленький, изящный, с напыщенной осанкой и надменным взглядом, он вызывающе поглядел на нас.
– Ваши имена известны, но они окружены ненавистью, — начал он, отчеканивая каждое слово, — вас держат под охраной, чтобы толпа вас не растерзала…
После этого вступления все сели за стол и начали с нами разговор. Митрополит Антоний говорил по–латыни, я — по–польски.
– Мы добровольно отдали себя в руки поляков, надеялись на их великодушие, — сказал владыка Антоний, — а к нам отнеслись, как к преступникам. У нас, на Кавказе, есть дикое, разбойничье племя ингушей: если кто добровольно отдается под их покровительство, тот человек для них священный. А с нами поляки не так…
Переполох… Епископы покраснели, генералы засуетились… «Что такое? Что такое? Какие ингуши?..» Вскоре изящный кардинал подал знак подняться, и все встали. Он издали нам поклонился, — «аудиенция» окончилась.
Нас отвезли обратно в монастырь.
Этот прием у кардинала по всей его обстановке, по тону разговора и обхождения с нами показался нам унизительней неприкрытой жандармской грубости…
Жизнь наша потекла по–прежнему ровно и тихо. Мы попросили у монахов разрешения совершать богослужение. Они на просьбу отозвались. Все нужное: облачение, церковные сосуды, было при нас. В конце коридора стояла статуя Мадонны, а перед ней нечто вроде престола. Тут мы и служили по очереди, а пели вместе. Покупали булочки и карандашом рисовали крестик — это были наши просфоры. Случалось нам служить всенощную в праздники. Беляны, где находился наш монастырь, — излюбленное место загородных прогулок краковских жителей. В праздничный день оживала вся наша округа: мчались по Висле моторные лодки, доносились песенки… А у нас — всенощная… Наше «Хвалите имя Господне» привело к монастырю толпу слушателей. В краковской газете описывали, как мы, арестованные русские епископы, живем, служим и поем в католическом монастыре, причем упоминался «бас архиепископа Евлогия, который далеко–далеко разносится за стены монастыря…» Не только гуляющая публика слушала нас, но и монахи тоже, тихонько собравшись в конце коридора, прислушивались к нашему пению.
Богослужение утешало нас, но чувство ареста нас томило все сильнее. Мучила бессонница. Раздражал конвой. Среди них не было ни одного не враждебного по отношению к нам. Даже украинец–галичанин, заделавшийся поляком, признавшийся, что знает славянский язык и понимает все богослужебные песнопения, не упускал случая заявить о своей ненависти к «москалям», о своем удовлетворении, что поляки «москалей» где–то жестоко побили.
Среди тоскливого нашего прозябания — вдруг весть: в монастыре ожидают приезда краковского воеводы [
[95]].
Митрополит Антоний сидел у себя в келии, а я гулял в палисадничке под нашими окнами. Неожиданно — автомобиль, движение, волнение… засуетились монахи, кого–то встречая, — и сердце сразу почуяло: приехал воевода, и неспроста, — как–то теперь изменится наша судьба…
Высокий гость вместе с настоятелем направился к митрополиту Антонию. Потом я узнал, что в лице владыки Антония всем нам, заключенным епископам, он выразил свое сожаление по поводу нашего ареста, объяснив его печальным недоразумением, неосведомленностью местных властей… — и заявил, что отныне мы свободны. Тон разговора был не только любезный, но даже заискивающе любезный. Очевидно, ответ, полученный из Парижа, повлиял на форму обращения к нам.
Я столкнулся с воеводой при выходе. Меня с ним познакомили. Он и мне подтвердил сказанное владыке Антонию:
– Я привез радостную весть: вы свободны… Но мне бы хотелось, чтобы у вас не осталось неприятного впечатления о Польше. Вы будете возвращаться в условиях, соответствующих вашему сану, — в отдельном вагоне. Вас будет сопровождать до границы польский офицер, а монахи позаботятся, чтобы у вас в дороге была еда, тогда вам не надо выходить на станциях. Теперь остается только заготовить вам бумаги. Дайте ваши паспорта, а я своевременно дам распоряжение и пришлю за вами людей.
Он уехал, взяв с собой наши документы. Мы ликовали и горячо благодарили Бога за освобождение…
Ждать отъезда пришлось дольше, чем мы думали. День идет за днем — ничего нет… Наконец приезжает Серебреников — он уже был в курсе дела и вошел в контакт с властями — и привозит нам не только польские бумаги, но и бумаги из львовской «Légation française» [
[96]], в которой значится, что мы следуем в район расположения армии Деникина и французские власти просят пропустить нас беспрепятственно и оказывать в пути всяческое содействие.
Через два–три дня после этого подкатил к монастырю автомобиль и мы в сопровождении польского офицера, нагруженные провизией, которой щедро снабдили нас монахи, отбыли на вокзал, где нам был предоставлен отдельный вагон I класса. Офицер, наш провожатый, рассыпался в любезностях: «Я к вашим услугам… если что–нибудь в дороге вам понадобится, я к вашим услугам…»
Наш путь лежал через Буковину [
[97]]. Всю дорогу до румынской границы меня не покидала гнетущая тревога: вдруг власти одумаются, задержат, вернут, арестуют вновь?.. Мое тревожное состояние, как я узнал впоследствии, возникло не без основания. Польская печать, прослышав о постановлении нас освободить, подняла травлю: выпускают злейших врагов Польши, надо помешать, надо их задержать… Лишь переехав границу и пересев в обыкновенный вагон на румынской железной дороге, я ощутил радостное, светлое чувство свободы… Отношение к нам пограничных румынских властей, очень вежливое и предупредительное, было тоже приятно–ново: за время плена мы отвыкли от подобного отношения к нам представителей власти.
Едем по Буковине… Богатый, хлебородный зеленый край, о котором без преувеличения можно сказать, что «все здесь обильем дышит…» Недаром Буковину называют «Зеленая Русь», противопоставляя Галиции, которую именуют «Червонная Русь». Нам этот край родной еще и потому, что население его хранит через все века и превратности исторических своих судеб верность православию. Буковина была единственная русская область в пределах Австрии, которая не поддалась унии и сохранила Православную Церковь, возглавляемую Патриархом. Резиденция главы Румынской Церкви — г.Черновицы. Наш путь лежал через этот город, и мы решили повидаться с Патриархом.
Патриарх Румынский Владимир Репта, 86–летний старец, во время войны некоторое время был в русском плену. Мы телеграфировали ему с дороги. На вокзале нас встретил священник с извинением от имени Патриарха, что он принять теперь нас не может, так как должен присутствовать на банкете в честь французского генерала, который находится проездом в Черновицах по важным политическим делам; комнаты нам приготовлены в гостинице. Присутствие столь престарелого иерарха на банкете нас несколько удивило. «А завтра, в воскресенье, Патриарх будет служить Литургию?» — спросили мы. «Нет…»
Мы приехали в гостиницу и легли спать с отрадным чувством освобождения после девятимесячного плена…
Наутро отправились в собор. Духовенство встретило нас с почетом. В алтаре нам поставили кафедры. Служба отправлялась на славянском языке, а проповедь была на румынском. Произнес ее профессор богословия (в Черновицком университете существует православный богословский факультет). Молящихся в соборе было много, по внешнему виду — наши малороссы: все в белых свитках. Как только началась проповедь, — «свитки» валом повалили из храма. Какой смысл слушать незнакомый язык? При выходе из собора народ нас приветствовал, многие кланялись, улыбаясь; целовали руки… Милое впечатление произвели на нас эти буковинцы.
Архимандрит повел нас к Патриарху завтракать.
Патриаршая резиденция в Черновицах поистине царский дворец. Великолепные покои: мраморные колонны, позолота, ковры, картины… Роскошь изящная и красивая, но… за которую почему–то неловко. Несоответствие территориально малой патриархии и великолепия патриаршего дворца меня поразило. Оно объясняется церковной политикой Австрии по отношению к православию: к одной цели она шла двумя путями: прижимая народ, она стремилась обратить его в католичество; а усыпляя роскошью православную высшую иерархию, старалась угасить ее ревность в отстаивании своего вероисповедания. «Живите магнатами, только не путайтесь и не мешайте нам…» — вот позиция австрийской государственной власти по отношению к православным иерархам.
В роскошные патриаршие хоромы мы пришли в рваненькой, затасканной одежонке. Невольно вспомнились мне холмские мужички в Царскосельском дворце… К нам вышел Патриарх, дряхлый, трясущийся старец, и мы проследовали в столовую. Завтрак был отличный, но беседа не клеилась. Патриарх, по–видимому, не мог ни понять, ни почувствовать нашего положения. Трудно было найти надлежащий тон и потому, что в беседе улавливалось тяготение Патриарха к Австрии, и это обрекало разговор на сдержанность и недомолвки.
После завтрака мы вернулись домой и сейчас же уехали на поезде в Яссы.
День склонялся к вечеру. Ехали мы полями, лугами; мелькали села, церковки… Народ, по воскресному дню, высыпал на лужки, девушки в живописных национальных костюмах водили хороводы… Очаровательные идиллические картины! Словно светлое видение дорогой Холмщины… На одной из станций какой–то буковинский православный священник увидал нас в окно и спрашивает: «Вы русские епископы?» Узнав, что мы русские, очень обрадовался и вошел к нам в вагон. «Мы все русское так ценим, так любим, а украинцев мы ругаем…» — сказал он и при этом, действительно, выругался крепким народным словом…
Наутро мы прибыли в Яссы.
О приезде нашем мы предупредили из Черновиц. Нас встретили и повезли к митрополиту Пимену. Подъезжаем, — и тут не обыкновенный архиерейский дом, а великолепный дворец. Богатство, до роскоши… И вновь мы входим в величественные покои в нашем бедном одеянии. Митрополит Пимен встретил нас любезно. Когда я сказал ему, что его дворец прекрасен, он нам объяснил, что каждая епископская резиденция в Румынии одновременно является и резиденцией королевской семьи, когда она посещает какой–нибудь епархиальный центр. Он показал нам королевские покои в своем дворце, поразившие нас богатством убранства: шелка, бархат, золото, гербы… Эта тесная связь правящей династии с Церковью сказывается и тем, что в румынских храмах среди икон вешают портреты короля в военной форме и королевы в европейском платье. Правда, не у алтаря, а на противоположной, западной стене, смежной с притвором, там, где наши русские иконописцы изображали Страшный суд…
Мы приехали утром (нам отвели помещение во дворце), до завтрака оставалось время, и нам предложили осмотреть сад. Он был большой, прекрасно возделанный. Мы полюбовались садом, виноградниками, где виноград уже поспел, и, по предложению митрополита, прошли с ним в собор к мощам мученицы Параскевы (покровительницы Молдавии), которые хранятся в чудесной раке.
Завтрак у митрополита отличался изобилием и изысканностью яств. Он потчевал нас молдаванским вином собственных виноградников. После трапезы мы осматривали ясские церкви, отличающиеся пышностью: много позолоты, блеска, живописи — за счет стильности и художественных образцов церковного искусства.
Наше внимание на улицах обратили на себя извозчики своими женоподобными лицами и пискливыми голосами. Они хорошо говорили по–русски. Это были скопцы, бежавшие из России в Молдавию, потому что наш закон преследовал скопцов, как вредную для государства секту.
По возвращении во дворец мы пили у митрополита чай. В числе присутствующих находился архимандрит Гурий (в настоящее время митрополит Бессарабский). Родом из Бессарабии, он окончил Кишиневскую семинарию; высшее образование получил в Киевской Духовной Академии. Посвятив себя в монашеском сане учебно–педагогической деятельности, он на этом поприще не преуспел и был отправлен в монастырь; в последние годы он стал настоятелем одного монастыря в Смоленске.
Во время беседы за чаем он стал выражать свои румынские националистические чувства.
– Как я счастлив, владыка! — сказал он, обращаясь к митрополиту. — Мечта моей жизни осуществилась, — Бессарабия вошла в состав Румынии… Как это хорошо! Как приятно!..
По отношению к нам, русским епископам, эти слова были бестактны. Мы промолчали…
В Яссах мы прожили дня два, потом митрополит уехал в Бухарест на выборы Патриарха, а мы направились в Галац.
Здесь в прекрасном архиерейском доме нам были приготовлены комнаты. Архиерея мы не застали, он тоже уехал в Бухарест на выборы. Мы ходили на пристань справляться, на каком пароходе мы могли бы добраться до Константинополя. В порту стоял пароход нашего торгового флота «Владимир», он направлялся в Константинополь с какими–то военными грузами. Капитан, рассмотрев наши бумаги, согласился нас взять на борт. Взял он с собою и нескольких офицеров, которые обратились к нему с той же просьбой.
На пристани при посадке на «Владимира» словно из–под земли вырос перед нами… архиепископ Алексей Дородицын… Он вынужден был бежать из Украины и теперь упрашивал нас повлиять на капитана, чтобы тот позволил ему ехать вместе с нами. Иметь его своим спутником нам не хотелось, и мы в ответ на его просьбу инициативы не проявили, но тем не менее при последнем гудке он оказался на палубе.
В Константинополь «Владимир» зашел ненадолго и направился в Новороссийск. Поначалу нам не хотели разрешить сойти на берег, но потом позволили.
Мы остановились на Галате, на Подворье Афонского Андреевского монастыря. Заведовал им о.Софроний, чудный старец, который заботливо за нами ухаживал и старался залечить и наши духовные раны. Помещение Подворья во время войны отобрали под казармы турецких солдат, они привели его в крайне антисанитарное состояние: вонь, скользкие грязные стены, в щелях клопы, тучи москитов от сырости, которая развелась вследствие отсутствия за эти годы отопления. Докучливые мошки до того меня искусали, что пришлось обратиться к врачу: у меня распухло лицо и началась лихорадка.
Среди обитателей Подворья мы встретили бежавшего из Бессарабии архиепископа Кишиневского Анастасия. Румыны хотели его удержать на Кишиневской кафедре, предлагали сделать членом Синода, обещали орден. Но он у румын не остался. Это было ошибкой, потому что, оставаясь в Бессарабии, он сохранил бы там русское гнездо; преемник же его архиепископ Гурий взял линию румынского шовинизма и, не отличаясь умом, пошел на поводу румынских националистов. На Подворье проживал и митрополит Платон; потом он переехал в Константинопольский болгарский экзархат, где устроился преблагополучно под гостеприимным кровом болгарского митрополита.
Константинополь, раскинутый на берегах Босфора, произвел на меня чарующее впечатление. Внутри город очень грязен и шумен. Ослы, носильщики, пьяные матросы, еда на улицах в бесчисленных ресторанчиках, шарманки, крики, сутолока… Особенно многолюдны улицы к ночи, когда спадает жар и веет с моря свежий ветерок.
Храм святой Софии тоже произвел на меня прекрасное, сильное впечатление. Подступы к нему неприглядны: какие–то пристройки, грязь, валяются метлы, сушатся портянки… Но стоит войти в храм — какая красота! Купол, как небо… на стенах фрески. Огромный собор не кажется большим благодаря гармонии архитектурных пропорций.
Митрополит Антоний, я, архиепископ Анастасий и епископ Никодим побывали и в Фанаре у местоблюстителя патриаршего престола митрополита Дорофея. Прием был официальный. Нас провели в зал, где мы были встречены митрополитом Дорофеем в окружении членов Синода. Отсюда все перешли в гостиную, и нам было предложено угощение: сначала «глики» — варенье с холодной водой, затем кофе в крошечных чашечках и, наконец, сигары. От курения, — столь не соответствующего нашему сану угощения, — мы отказались, а греческие архиереи, смеясь над нашим чураньем табака, дружно все закурили. Прием длился минут пятнадцать–двадцать, а потом мы на лодочках вернулись домой. Турок–лодочник, усаживая нас в лодку, подтрунивал над нами: «Купаться хочешь?» — «Нет». — «А зачем воевал?!» — и он расхохотался.
В Константинополе я служил в русской церкви святителя Николая в военном лазарете на Харбиэ. Прекрасная постройка и хорошая, большая церковь. Заведовал всем учреждением бывший морской прокурор Богомолец. Он уговорил меня переехать из Подворья в лазарет. Я этому предложению обрадовался. Здесь все было чисто и благоустроено, после Подворья казалось отдохновительным.
Мы стали собираться в путь–дорогу, в Россию. «Владимир» давно уже ушел, пришлось обратиться к нашим военным властям (во главе которых стоял генерал Драгомиров) с просьбой доставить нас в Новороссийск. Драгомиров обещал посадить нас на какой–то пароход, предупредив, что он старый и маленький. Но мы были готовы плыть на родину хоть на плохом пароходе. Как только разнесся слух о предстоящей отправке нас в Россию, к нам стал прицепляться архиепископ Алексей Дородицын. Мы уклонялись, ссылаясь на то, что митрополит Антоний, я и епископ Никодим являемся в глазах наших военных и морских властей определенной группой русских архиереев. Однако и тут, как в Галаце, архиепископ Алексей опять независимо от нас в Россию как–то проскочил, хотя и на другом пароходе.
Заканчивая мои константинопольские воспоминания, не могу не упомянуть с чувством признательности об отношении к нам в посольствах. В те дни еще повсюду к нашим страданиям относились с уважением.
Прежде чем говорить о моем возвращении в Россию после плена, я скажу несколько слов о значении для меня пережитых в плену испытаний.
Когда в Киеве меня арестовали, я думал, что мне конец… Весь дальнейший период плена прошел под знаком неволи, бесправия, подавленности — горьких, тягостных переживаний. Теперь, оглядываясь назад, вижу, что плен был благодеянием, великой Божией милостью. Господь изъял меня из России в недосягаемость. Я был в России фигурой заметной, колющей глаз, и был бы несомненно одной из первых жертв террора. Плен сохранил мне жизнь. Правда, за эти 9 месяцев сколько было моментов, когда гибель казалась неминуемой, сколько безвыходных тупиков! Но всегда приходила помощь свыше, находился исход из безысходности. В каноне молебном ко Пресвятой Богородице есть чудные слова: «Аще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы нас избавил от толиких бед; кто же бы сохранил до ныне свободны…» — до сих пор, когда я читаю эти слова, всегда они стучат мне по сердцу…
В духовном смысле плен мне принес несомненную пользу. В келии, в тишине и одиночестве, я осмыслил многое, критически отнесся к своему прошлому, нашел недочеты, ошибки, грехи. Политические увлечения, земная напряженность, угар политической борьбы, — все это удаляло от Бога. При правильности идей, самое ведение борьбы за них в атмосфере политических страстей было уклонением от прямого пути. Необходимость в политической борьбе навязывать противникам свою правду, уметь ловить их на слове, пользоваться их ошибками, зорко наблюдать, чтобы не пропустить момента, когда их позиции слабы… вот некоторые психологические черты думской моей деятельности. Государственная дума предстала передо мною с тою ясностью, которая дается лишь беспристрастному наблюдению со стороны. За всю эту правду о прошлом я благодарю Бога. Из плена я вернулся другим, чем уехал, он оставил на мне неизгладимый след.
Переоценил я в дни заключения и многие земные ценности. Как некоторые из них потускнели! При свете sub specie аеtеrnitatis [
[98]] сознание прояснилось и я понял ценность вечных благ. Объективно говоря, в нравственном отношении я был в плену лучше, чем на воле.
Наконец плен со всеми его грозными обстоятельствами, с роковыми моментами, когда, казалось, я был на волосок от гибели, — весь этот опыт зыбкости человеческого существования и опыт чудесного Заступления и Спасения тоже печать свою на душу наложил. Дни плена явили цепь чудес… — реально ощутимое вмешательство Божественного Промышления в мою судьбу, и теперь я знаю опытно, что означает возглас: «С нами Бог!..»
Глава 18. АРХИЕПИСКОП ВОЛЫНСКИЙ Опять на родине (1919)
Мы возвращались на родину после Успения (1919 г.), пробыв в плену 9 месяцев. Эти месяцы прошли для нас, как годы. И вот мы подплываем к русским берегам, уже видим их очертания, уже вырисовываются дома Новороссийска…
На пристани нас встречает огромная толпа. Знакомые и незнакомые: много духовенства, военные, штатские… В толпе и графиня Игнатьева, — она издали веет нам платком.
Не успели мы сойти с парохода, нас обнимают, целуют, приветствуют — встречают как воскресших из мертвых. Оказалось, прошел слух, что мы расстреляны; он добежал до Москвы, до Патриарха, о нас служили панихиды.
Под ногами родная земля… Незабываемое, непередаваемое волнующее чувство родины! Если оно чисто и светло, если не изуродовано шовинизмом, оно одно из самых высоких человеческих чувств — продолжение или расширение той же любви, которая связывает навеки с отцом, с матерью, с семьей.
После радостной встречи на пристани нас привезли в какой–то дом, где нам была приготовлена трапеза. Опять кто–то встречал, приветствовал. Среди собравшихся был и городской голова Сенько–Поповский.
Митрополит Антоний и епископ Никодим остались в Новороссийске, а я решил не задерживаться и выехал в Екатеринодар к брату. Переезд был ужасный: грязь, вонь, клопы… Я ехал в 3–м классе. С братом, который занимал в Екатеринодаре должность члена Окружного суда, я уже давно потерял всякую связь и даже не знал его адреса, поэтому по прибытии в Екатеринодар я направился в архиерейский дом.
Во главе епархии стоял епископ Иоанн [
[99]]. Прежде он был викарием Ставропольского архиепископа Агафодора; теперь Кубань была выделена в особую епархию и преосвященный Иоанн именовался епископом Кубанским и Екатеринодарским.
Владыку я не застал (он куда–то уехал). Архиерейский келейник, бравый казак–кубанец, весьма заботливо устроил мне ночлег, уложив в архиерейскую кровать. Наутро я расспросил о брате (местожительство его было известно), кто–то побежал оповестить его о моем приезде, — и наша встреча состоялась. В тот же день я переехал к брату. Он жил в хорошей квартире и отлично меня устроил.
Я узнал, что с братом стряслась беда. Екатеринодар в период гражданской войны переходил из рук в руки: то красные завладевали городом, то — белые. В первый свой приход большевики потребовали, чтобы Окружной суд свою деятельность продолжал, но ведать делами должны были только два представителя судейской корпорации, остальные увольнялись. Корпорация собралась, бросили жребий — и моему брату (и еще одному члену суда) выпало на долю вершить делами Окружного суда при большевиках. Когда пришли белые, брата притянули к ответу: на каком основании он работал во время оккупации города красными? Военный суд отрешил его от должности; впоследствии уладилось, но тень на него все же была наброшена.
У брата я гостил, отдыхая от всего пережитого. Читал беллетристику: Андреева, Куприна… гулял по Екатеринодару. Какой богатейший край — Кубань! Какое изобилие! Горы овощей, фруктов… Нет, кажется, жителя, который бы в эту пору года не нес с базара себе на завтрак огромного арбуза… Под городом поля подсолнечников — целые десятины желтых шапок! Совсем как в Голландии поля гиацинтов.
Отдохнув немного, я стал подумывать о дальнейшей работе. Мне захотелось установить связь с церковно–административным центром юга. Высшее Церковное управление под председательством Донского и Новочеркасского архиепископа Митрофана находилось в Новочеркасске. Туда я и направился, но по пути заехал в Ростов–на–Дону, который находится от Новочеркасска в полутора часах езды.
Ростов, большой торговый центр всей Донской области, был теперь и центром административным. Здесь скопились все новые правительственные учреждения, а также съехалось и немало беженцев из Великороссии. На вокзале меня встречала толпа знакомых, среди них один холмский священник, о.Симеон Калеин [
[100]], радостно, со слезами, приветствовал меня.
Я остановился в доме протоиерея Молчанова, моего земляка–туляка, — пожилого семейного священника. Его семья — старушка матушка и взрослые дочери — просили меня у них обосноваться. Я на время остался в Ростове, а в Новочеркасске бывал лишь наездами. В это время митрополит Антоний и епископ Никодим были тоже в Ростове. Поначалу нас чествовало местное общество: купцы, профессора, общественные деятели угощали нас завтраками, обедами, устраивали в честь нас приемы в клубах; щедрое купечество, приметив мою невзрачную одежду, посылало мне пакеты с деньгами… — словом, город встретил нас тепло, радушно.
Ростов–на–Дону входил в состав Екатеринославской епархии; теперь же образовалась самостоятельная Ростовская и Таганрогская епархия, и во главе ее поставили преосвященного Арсения (Смоленец). Он имел пребывание в Таганроге, там же находилась в это время и ставка Деникина. Владыка Арсений пригласил меня к себе, и я некоторое время погостил у него; туда же приехал и митрополит Антоний, и мы с ним вдвоем были с визитом у Деникина. Наши дела шли тогда хорошо: линия фронта продвинулась до Орла.
Митрополит Антоний и епископ Никодим наводили справки, как бы им пробраться в Киев. Долго Киев переходил из рук в руки, теперь же пришла оттуда весть, что им вновь завладели белые, — и митрополит Антоний и епископ Никодим поспешили уехать. А я остался: Житомир все еще был во власти большевиков.
Я часто служил в городском соборе. Помню, 8 сентября, в день Рождества Богородицы, я служил в старом соборе, а 14 сентября, в Воздвижение Животворящего Креста, — в новом. Я произносил горячие проповеди перед огромной толпой молящихся, состоявшей сплошь из военных. Дело в том, что наблюдались уже признаки развала: офицеры с сестрами милосердия кутили на вокзалах, лилось вино, множество офицеров бездельничало, уклоняясь от отправки на фронт, замечалась расхлябанность дисциплины… И одновременно среди этой разрухи сколько было проявлено жертвенности, патриотического воодушевления некоторыми юными добровольцами, мальчиками–подростками, учениками средних школ!
Бичом и фронта и тыла был в те дни сыпной тиф. Покойников едва успевали хоронить. Мне случалось служить панихиду на братской могиле. Трупов наложили полный ров, а тщательно не засыпали. Трупный запах ощущался очень сильно.
Однажды на вокзале я увидал солдат, пленных большевиков. Я подошел и спросил их: «Что вы, братцы, — большевики?» — «Да какие мы большевики…» — был ответ. И верно, стоило на них только посмотреть — бессознательное стадо; куда погонят, туда и пойдет. Часть пленных расстреливали, другая — вливалась в белые войска и стреляла в красных. Тяжелое впечатление произвели на меня пленные большевики…
Я был приглашен участвовать в заседаниях Высшего Церковного управления. В одном из заседаний судили архиепископа Екатеринославского Агапита (Вишневского). Он встречал Петлюру в Киеве. Архиепископ Агапит был инспектором Полтавской семинарии в то время, когда Петлюра в ней учился. Из семинарии Петлюру выгнали за какой–то неблаговидный поступок. Когда Петлюра въехал в Киев, архиепископ Агапит встретил его льстивой речью, приветствуя его как «героя» и «освободителя». «Мы с вами давно знакомы…» — между прочим напомнил он. Петлюра промолчал. Потом архиепископ Агапит повел резко украинскую линию. За этот уклон теперь Высшее Церковное управление его и судило. Был поднят вопрос: оставить его на кафедре или уволить? Решили уволить на покой. На его место назначили донского викария епископа Аксайского Гермогена. Однако политические события развернулись так, что он не мог добраться до своей кафедры.
Дальнейшая моя работа в Высшем Церковном управлении свелась к порученной мне ревизии Кубанской епархии. Преосвященный Иоанн, слабый и беспомощный человек, в столь трудное и бурное революционное время наладить управление своей епархии не сумел. В епархиальных делах был хаос, в консистории с ним мало считались, в архиерейском доме командовал архиерейский келейник, простой мужик–казак, о котором я уже упоминал. Он допускал к архиерею только того, кого сам хотел допустить, а других посетителей бесцеремонно выпроваживал. Развал в управлении епархией дошел до крайнего предела, когда священник Калабухов вошел в «самостийную» кубанскую организацию, снял рясу, нарядился в черкеску с кинжалом за поясом и в таком виде представлялся епископу… Владыка Иоанн все это видел, но ничего не делал для того, чтобы его образумить, и не запретил ему даже священнослужения. Я произвел ревизию и представил Высшему Церковному управлению обстоятельный доклад. В нем, вне всяких личных счетов, я изобразил живую, правдивую картину того, что в Кубанской епархии происходило. Собранный фактический материал предрешил суждение Высшего управления об епископе Иоанне. Он давал объяснения, но они оправдать его не могли, — и он был уволен. В состав Высшего Церковного управления входили кроме епископов протопресвитер Г.И.Шавельский и профессор Петербургской Духовной Академии протоирей А.П.Рождественский. Епископ Иоанн уехал в какой–то монастырь и вскоре там умер.
После ревизии делать мне было нечего. Мой знакомый холмский священник пригласил меня к себе в Старочеркасск — старое гнездо донского казачества, его древний исторический центр. Я приглашением охотно воспользовался; мне не хотелось дольше стеснять моих гостеприимных хозяев — о.Молчанова и его милую семью.
Старочеркасск — своеобразный городок: все дома его построены на сваях, чтобы весной, в разлив Дона, вода не заливала жилых помещений. После разлива на берегах остается множество рыбы, которую вылавливают голыми руками. Рассказывают, что в одну хату казака заплыл огромный сом, который ударом хвоста по голове убил старика–хозяина. В городе — старый собор, в котором много церковных ценностей, захваченных когда–то казаками в виде военной добычи: священные сосуды, иконы и проч. Даже сейчас, в трудное время, чувствовалось, что население городка ни в чем не нуждается. Раздолье, богатство, изобилие, доступность земных благ… — вот мое впечатление об этом маленьком казачьем городе. Смотрю, стоит на мосту старичок и вылавливает простым черпаком рыбу. Съездил на хутор к казакам посмотреть, как они живут, — и удивился: живет простой казак, как помещик, яств полный стол; в хозяйстве, видимо, всего вдоволь.
Тут подошел вскоре годовой казачий праздник завоевания Азова («Азовское сидение»). Была панихида, а потом смотр казакам. Приехал атаман А.П.Богаевский, сказал горячую обличительную речь, обвиняя казаков в бездействии, в равнодушии к тому, что происходит на фронте. «Вы тут сидите беспечно, а там солдаты наши голые, разутые, раздетые… Зима надвигается… Недаром большевики злорадствуют: «Скоро придет наш новый союзник — зима!» Действительно, несмотря на богатство казачьей жизни, в атмосфере ее уже чувствовалось разложение.
Меня потянуло на Волынь. Я узнал, что председательница «Белого Креста» госпожа Митрофанова, жена ректора Варшавского университета, эвакуированная со своей организацией в Ростов, снаряжает госпиталь в Киев, освобожденный от большевиков. Я решил воспользоваться удобным случаем и добраться до Киева, оттуда я хотел попытаться проникнуть на Волынь. Председательница с удовольствием откликнулась на мою просьбу, мне оставалось лишь перебраться в один из двух–трех вагонов–теплушек ее подвижного госпиталя. Обстановка больничная, и в том же вагоне доктор и сестры. В дорогу надо было запастись провиантом. Мои добрые знакомые снабдили меня большим количеством сушеной рыбы, — и я сам потащил свою кладь на вокзал. Сижу в вагоне день, два… мы не двигаемся. Комендант, сын холмского священника, хмурится: «Трудно вам будет в пути, владыка, — всюду непорядки, банды… не могу пустить поезда; может быть, наши дела на фронте окрепнут, тогда пущу». А на третий день уже решительно: «Я против того, чтобы вы ехали». И вот я опять тащусь с вещами к о.Молчанову. Опасения коменданта были основательны: поезд подвергся нападению, и много пассажиров было перебито.
Что ж делать дальше? Я сижу в Ростове и жду. На фронте роковой перелом: началось стремительное отступление наших войск. В эти дни у меня разболелись ноги, вновь обнаружилось воспаление вен, и я по совету профессора Варшавского университета Никольского лег в клинику. Ростовские клиники, выстроенные купцами–благотворителями, были прекрасно оборудованы. Я пробыл там недолго и мне стало лучше. Священник, обслуживавший клинику, был кладбищенский и жил рядом с клиникой на кладбище. Он пригласил меня к себе. Я с радостью его приглашением воспользовался, чтобы не обременять собою о.Молчанова.
Наступил конец ноября. Наши войска откатились уже до Харькова Там начался «пир во время чумы». Май–Маевский устраивал вакханалии, дикие кутежи… Слухи о безобразном его поведении распространились по армии. Атмосфера сгущалась. Я узнал что Киев взят; что митрополит Антоний с духовенством проследовал через Ростов в Екатеринодар и ему поручено возглавлять Кубанскую епархию.
Большевики все ближе и ближе… Казаки стали изменять. На фронте не хватало продовольствия, население голодало тоже. Началось массовое дезертирство. Надвигалась анархия…
Генерал Тихменев, заведующий движением, предупредил меня, что мне пора уезжать. Он дал мне отдельный вагон (на вагоне была надпись, что вагон предоставлен мне) и разрешил набрать спутников по моему усмотрению. Прослышав об этом, знакомые и незнакомые стали умолять меня пустить их в мой вагон. Через два–три дня он был набит битком. Военные и штатские, дамы, дети… В числе пассажиров был епископ Гавриил Челябинский. Стоим–стоим на запасном пути, — нас не прицепляют. Среди железнодорожных рабочих уже чувствовалось коммунистическое настроение — ожидание прихода большевиков. Начальник станции бессильно разводил руками; рабочие бездельничали, соглашаясь работать только за взятки. Нам пришлось делать сборы среди пассажиров и давать взятки сцепщикам, смазчикам, кондукторам… В вагоне мы прожили дней восемь. Сели 2 декабря, а двинулись 10–11 декабря. Ехали медленно, с длительными, зачастую не предусмотренными, остановками. Тащились больше суток до Екатеринодара, тогда как обычно туда часов семь–восемь езды. Всюду на станциях толпы солдат с винтовками и без винтовок — отряды в беспорядке отступающей нашей армии… Тучи беженцев; среди них случалось встречать своих знакомых — словом, общая картина разложения…
Екатеринодар… Город превратился в большой военный лагерь. На улицах, на вокзале — всюду военные. И со всех концов к городу наплывают все новые и новые эвакуированные войсковые части, учреждения и беженцы.
Гражданская власть образовала «самостийное» Кубанское управление, даже наставила на границах Кубани таможенные рогатки. В правительстве сочетались два течения: «самостийный» кубанский шовинизм с социализмом левого направления. Но все же оно было умеренным по сравнению с крайним «самостийным» течением казака Быча, священника Калабухова… Генерал Покровский, один из генералов Врангеля, арестовал главарей этой шайки, повесил Калабухова и не позволил снимать повешенного. Это вызвало среди населения большое негодование. Казненного стали считать мучеником, бабы со слезами целовали ему ноги, причитая: «Батюшка!., батюшка!..»
Первое впечатление от Екатеринодара было у меня очень тягостное. Я направился к брату, а потом прошел в архиерейский дом. Тут помещалось Кубанское Епархиальное управление во главе с митрополитом Антонием. В доме — точно ярмарка. Архиереи, монахи, священники… Среди собратьев встретил епископа Гавриила Челябинского, архиепископа Георгия Минского, епископа Митрофана, епископа Аполлинария… и много других. Все обменивались впечатлениями и обсуждали тревожный вопрос: что же будет дальше?
Однажды зашел я в архиерейский дом, сидим мы, раздумываем о положении дел, — и вдруг входит старик, в мещанской чуйке, в шапке, изнуренный, измученный, по виду странник, — и мы в изумлении узнаем в нем… бывшего Петербургского митрополита Питирима. Оказывается, он был сослан в Успенский монастырь, на Кавказе, на горе Бештау. Когда началась эвакуация, он бросился к нам. И теперь, дрожа от волнения, психически потрясенный, он униженно молил нас о помощи: «Не оставляйте, не бросайте меня…» — «Не беспокойтесь, не волнуйтесь, мы не оставим вас…» — сказал я. «Отдохните у меня…» — предложил митрополит Антоний. Неожиданной встречей я был потрясен. Помню митрополита Питирима в митрополичьих покоях… Как он домогался этого высокого поста! Как старался снискать расположение Распутина, несомненно в душе его презирая! Эта встреча осталась в моей памяти ярким примером тщеты земного величия…
В тревожном, гнетущем настроении встретили мы праздник Рождества Христова. И какой мог быть для нас «праздник»! Все на перепутьи, все в тревоге, в неизвестности за завтрашний день… Я служил в военном соборе, митрополит Антоний — в городском.
Тяжкие дни… Внешне мне жилось у брата неплохо, куда лучше, чем другим архиереям, которые, кое–как пристроившись, жили на бивуаках, но душевное мое состояние было подавленное. Вставал вопрос о дальнейшей эвакуации. Надо было хлопотать о заграничном паспорте, о вагоне.
Кубанское правительство выдало мне паспорт без затруднений. Меня спросили, куда я хочу ехать. Я указал Грецию (мне хотелось эвакуироваться в православную страну). С вагоном было труднее, но в конце концов и его нам, архиереям, предоставили — «Ноев ковчег», в котором мы двинулись в Новороссийск, в день Нового года.
Под Новый год я служил, потом встретил праздник у брата, грустно, не празднично. В день Нового года был в церкви, поздравил митрополита Антония и стал готовиться к отъезду. Митрополита Питирима взять с собой не удалось: он заболел, ехать с нами доктор ему не разрешил. Мы оставили его на попечение митрополита Антония, которому власти обеспечили в случае опасности своевременную эвакуацию. Митрополит Питирим проболел с месяц и умер.
Выехали мы [
[101]] из Екатеринодара 1 января в полночь. Шли на станцию в темноте, в проливной дождь, по глубоким лужам, зачерпывая калошами воду, путаясь в длинных рясах. На вокзале темень: освещения почти никакого. На платформах сутолока: солдаты, беженцы, поклажа… С трудом в темноте и сумятице разыскали наш салон–вагон. Вошли, — весь он уже битком набит. Тут и духовенство, и военные, и штатские, и дамы… В салоне чемоданы наложены горой. Тесно. Среди пассажиров в те дни встречались и больные. Сыпняк косил людей беспощадно. Так было и в нашем вагоне. С вечера зашел в наше купе член Государственной думы Кадыгробов: в карманах насованы бутылки удельного красного вина. «Вот, владыки, вам вина…» — предложил он. Было холодно, сыро, и мы с удовольствием вместе выпили бутылку. Он жаловался на головную боль, на ощущение общего недомогания. А наутро узнаем: его в сыпняке вынесли из вагона…
В Новороссийск мы прибыли утром. Нас предупредили еще в пути, что в городе свирепствует сыпной тиф, что все свободные помещения забиты больными. Нам, архиереям, пришлось жить в вагоне. Нас отцепили и задвинули далеко от станции на запасной путь. Тут мы и поселились. Еды у нас не было, денег в обрез, от города далеко, а если и надо было там побывать, приходилось ходить пешком. Надо мной сжалился Сенько–Поповский (теперь он был губернатором) и предложил мне переехать к нему в квартиру, в свободную комнату. Я предложению обрадовался. У него было сухо, тепло; я опять очутился в человеческих условиях. Вместе со мною в квартире Сенько–Поповского жил заведующий лазаретом Красного Креста В.Д.Евреинов. Спутники же мои две недели прожили в вагоне. Дул норд–ост, вагон не топили. Они очень страдали от холода. Епископ Гавриил Челябинский, пробираясь ночью к вагону, попал в нефтяную цистерну и погрузился в нефть по грудь. Железнодорожные рабочие с трудом его вытащили. Ряса промокла, переодеться не во что, в вагоне стужа… К счастью, удалось потом его пристроить в одном церковном доме; там ему отвели в передней уголок, где на сундуке он и спал.
Я познакомился с местным архиереем, преосвященным Сергием Черноморским и Новороссийским, и по его приглашению служил на Крещенье в городском соборе.
Новороссийск представлял сплошной лазарет. В больницах и госпиталях не знали, куда девать больных. Мне довелось посетить одну из больниц.
Епископ Сергий (Лавров), начальник Урмийской миссии, человек неуравновешенный, под влиянием революционных настроений объявил себя принадлежащим к Англиканской Церкви. Его от Православной Церкви отлучили. Во время моего пребывания в Екатеринодаре до Высшего Церковного управления дошли сведения, что он раскаивается, и мы тогда же его воссоединили. Теперь я узнал, что он лежит в сыпном тифе, в одной из больниц для сыпнотифозных. Туда я и направился, чтобы сообщить ему о восстановлении его общения с Православною Церковью и принести некоторое денежное пособие. Трудно себе представить тяжелую картину, которую я увидел… Больные лежали и на койках, и под койками, и в проходах. Стоны, бред… И тут же две сестрички милосердия щебечут о чем–то у себя в комнате. Кругом вопли «Воды!.. воды!.. жажду!..», а сестры равнодушно санитару: «Иван, дай воды!» — и продолжают прерванный щебет. Я был возмущен. Разыскивая епископа Сергия, я случайно натолкнулся на больного члена Государственной думы Антонова: лежит в жару, весь красный… Наконец я отыскал преосвященного Сергия. Когда–то он был красивый, а теперь и не узнать: лицо искаженное, измученное, глаза мутные, губы иссохшие…
– Мой приход — весть, что вы воссоединены, — сказал я.
– Благодарю Бога за болезнь, — зашептал он, — теперь я все понял… Как мелко, глупо то, чего я домогался…
Я посидел с ним недолго — и простился. Засиживаться среди сыпных я побоялся.
Вскоре после этого я встретил на улице князя Ев.Ник.Трубецкого. Он стал уговаривать меня ехать в Сербию. «Повезем туда нашу русскую культуру…» На другой день он заболел сыпным тифом и умер.
Умер в те дни от сыпняка и Пуришкевич. Я его отпевал.
Потом дошел до меня слух, что от паралича сердца скончался в маленьком новороссийском монастырьке архиепископ Алексей Дородицын. Епископ Сергий, человек мало распорядительный, относительно погребения никаких приказаний не дал, и труп в одном белье пролежал дня три в сарае. Я сказал об этом владыке Сергию и предложил ему поручить мне отпевание. Он с радостью согласился.
К назначенному часу я с диаконом прибыл в кладбищенскую церковь. На кладбище пришлось идти пешком. Вхожу в церковь, — служат молебен, толпятся богомольцы, а гроба нет. Спрашиваю: «Где гроб?» Никто не знает. Кладбищенский батюшка пригласил меня зайти к нему в домик, обогреться, выпить чаю, пока он будет наводить справки. Выяснилось, что тело привезут, но надо подождать. Жду–жду… покойника все не привозят. Наконец показались дроги в одну лошадь, на них огромный гроб, на гробе сидит возница; за дрогами идут два–три монаха. Я вышел встретить жалкую процессию. Огромный гроб был так тяжел, что его едва–едва смогли поднять. В церкви открыли крышку… — архиепископ Алексей лежал неубранный, в старом подряснике, в епитрахили. Благодаря морозу разложение еще не наступило. Отпевать пришлось не так, как обычно отпевают архиереев, хоть я и старался, по мере возможности, вычитать все, что по чину погребения в таких случаях полагается. После отпевания спрашиваю: «Где могила?» Оказывается, — на краю кладбища в заросли кустов. Мы долго пробирались по сугробам, увязая в снегу… — Погребение архиепископа Алексея, как и судьба митрополита Питирима, показало мне всю тщету честолюбия, властолюбия…
Одновременно с этими событиями мне приходилось хлопотать о переезде в Грецию. Паспорт у меня был, но как до Греции добраться? Когда я обращался за разъяснениями к нашим военным властям, они отсылали меня в греческое консульство. Вхожу как–то раз в дом, где помещались иностранные консульства, встречает меня сербский представитель и говорит: «Да что вам ехать в Грецию? поезжайте к нам! Мы будем счастливы, мы примем вас с распростертыми объятиями… Россия столько для нас сделала, мы рады хоть чем–нибудь ей отплатить…» Незадолго до этой встречи я получил письмо от графа В.Бобринского, который мне писал, что встречен в Сербии радушно. Предложение сербского представителя, сделанное в столь любезной форме, мне понравилось, и я тут же дал ему согласие. «И отлично, — сказал он, — дайте мне только поскорее список архиереев». Мои спутники, епископы, узнав о проекте ехать в Сербию, предложению тоже обрадовались.
Для перевозки русских беженцев был зафрахтован старенький грузовой пароход «Иртыш».
Сели мы на этот пароход 16 января. Главной персоной среди отъезжающих был Сергей Николаевич Смирнов, управляющий делами князя Иоанна Константиновича, женатого на сербской королевне Елене Петровне. Ему с семьей и еще нескольким лицам были отведены каюты. Нам, архиереям, предоставили уголок в трюмном помещении; там мы потом и расположились на полу, покрытом брезентом… Когда все пассажиры оказались в сборе, я как старший из архиереев служил молебен. Обходя палубы после молебна с кроплением, я оступился и чуть не провалился в открытый трюм; матросы меня поддержали. Перед отходом парохода ко мне бросилась М.Л.Маклакова, провожавшая своего сына Ю.Н., и просила взять его под свое покровительство. Среди отъезжающих оказался и князь Жевахов. С нами ехали Евреинов с лазаретом Красного Креста, Казем–Бек, граф М.Л.Толстой и др.
Когда мы отвалили от пристани и берега начали удаляться, — на душе стало бесконечно грустно… Но самые грустные минуты были впереди. Мы обогнули Крым с остановками в Феодосии, в Ялте: к нам еще подсели беженцы. И вот пароход повернул и стал держать курс в открытое море на юго–запад. За нами виднелся Крым, белый, зимний, весь в снегу, точно в саване. Потом родные берега исчезли… Вокруг лишь беспредельное, взволнованное море, а над нами — небо…
Глава 19. АРХИЕПИСКОП ВОЛЫНСКИЙ В эмиграции. Сербия (1920–1921)
Плавание на «Иртыше» было долгим и мучительным. Битком набитый пассажирами трюм. Лежат вповалку мужчины, дамы, дети… Поднимешься на палубу, — та же картина. Брезент, покрывавший пол в нашем уголке, по зимнему времени от холода не предохранял, я чувствовал его сквозь теплую рясу и за ночь так продрог, что болело все тело. Я не спал до утра. На следующий день Евреинов меня выручил — дал больничные носилки. Денег у нас не было, достаточных запасов хлеба, сыру, сала — тоже. В первые же дни я съел почти все, что взял с собой, хоть и старался экономить. Утром кружка чаю и кусок хлеба — вот все, что пассажиры, «низшая братия», получали. Как мы обрадовались, когда однажды кто–то нам принес миску бульону! Правда, не всем пассажирам было так плохо, как нам. На пароходе были и «привилегированные» — те, кто устроился в каютах: на них готовил пароходный повар; но в помещение «привилегированных» мы и сунуться не смели. Я хотел было пройти через рубку — меня остановили: «Вам, владыка, проходить здесь не полагается…»
Плавание было довольно благополучно, хотя погода была дурная. Ветер, снег… Наш старенький «Иртыш» трещал, скрипел, сотрясался всеми своими снастями, машинами и винтами. По ночам особенно докучал стук машин.
Несмотря на беспомощное и печальное положение большинства пассажиров, нашлись среди них и весельчаки. М.Л.Толстой, неразлучный со своей гитарой, пел частушки, собрав вокруг себя теплую компанию. На палубе стояло несколько бочек вина, которые везли в Константинополь, с расчетом выменять там вино на валюту; кто–то из веселой компании просверлил в одной из бочек дырочку, — и приятели наугощались…
Через 8–10 дней мы подплыли к Константинополю и стали на рейд, выкинув желтый, карантинный, флаг. Появилась полиция, почему–то итальянцы в камзолах и треуголках, словно капралы времен Наполеона. Они зорко охраняли наш пароход, чтобы никто не съехал на берег. Потом прибыл консул и стал проверять документы. Мы просили о разрешении съездить в город — последовал категорический отказ. Вероятно, мы просидели бы весь карантин на пароходе, — но вдруг, видим, от берега отчаливает лодочка и направляется в нашу сторону; в ней сидит старичок–монах; причалил к нам, поднялся по трапу — и ко мне: «Я иеромонах Софроний, настоятель Афонско–Андреевского скита [
[102]], приехал вас пригласить… Поедемте!» — «Как же я поеду? Нас на берег не пускают…» О.Софроний пошептался со стражей (по–видимому, дал взятку) — полицейский удалился на конец палубы и стал внимательно разглядывать небо… О.Софроний посадил меня в лодку, и мы отчалили.
Вылезая на константинопольский берег, я потерял калошу: она упала в воду. Пришлось шлепать по городу в одной калоше. Я навестил некоторых друзей, зашел и в лазарет, где в прошлый приезд жил. Там меня накормили. После недельной голодовки это меня подкрепило. Генерал Ефимович, проживавший в лазарете, узнав о моей беде с калошей, предложил мне воспользоваться своей (вторую он тоже потерял). Она оказалась мне впору и с той ноги, с какой нужно, — словом, смотрю, у меня опять пара калош.
К вечеру я вернулся на пароход, освеженный, с запасом еды для моих спутников.
Еще произошла у нас в тот день беда. Преосвященный Георгий поручил князю Жевахову (ему тоже удалось съездить на берег) разменять русские деньги на французские франки. Пересчитывая привезенную пачку синеньких кредитных билетов, владыка Георгий обнаружил, что в середине наложены синенькие сербские динары… А они в три раза дешевле франков! Досталось за это бедному обманутому князю Жевахову…
На другой день нам объявили, что пассажиры должны ехать мыться в турецкие бани. Пришел катер и отвез нас в городок Тузлу (на константинопольском берегу). Прежде всего нам велели всю одежду сдать в дезинфекционную камеру, а потом уже идти под душ. Я часть одежды спрятал — и хорошо сделал, потому что та, которую я отдал, вернулась из паровой камеры вся жеванная, да и разыскать ее в общей куче было трудно. Принудительное купанье вызвало среди пассажиров возмущение, брань и плач. Было очень холодно; под душами на полу грязной воды по щиколотку, пол каменный. Пассажиры совали взятки, чтобы от мытья в таких условиях отвертеться. Старые, больные женщины плакали. Я надел рясу поверх белья и вмиг проскочил под душем. Все удивлялись: «Как… уже готовы?» После купанья пришлось долго стоять на холодном ветру и ждать катера. Нам заявили, что, пока все не вымоются, мы не поедем. Многие в тот день простудились, заболели. Купанье длилось так долго, что нас сочли нужным покормить. Нам принесли корзины с хлебом и бак с холодным чаем. Лишь вернувшись на пароход, мы немного согрелись, выпив горячего чаю.
После этой карантинной процедуры, которую мы, пассажиры, восприняли как издевательство над людьми в состоянии беженской бесправности и беззащитности, мы двинулись дальше, держа курс на Салоники. Пришли мы туда около 29–30 января (старого стиля), и вновь взвился на нашем пароходе желтый карантинный флаг. Здесь уже никого на берег не спустили. Мы написали греческому митрополиту Геннадию, надеясь, что он нам поможет получить разрешение побывать на берегу и посетить храм св.Димитрия Солунского. Молчание… На рейде мы простояли до 3–4 февраля. За эти дни мы вновь (как и в Константинополе, когда нас принудительно купали) больно почувствовали нашу эмигрантскую беззащитность. Однажды над нами поглумились французские солдаты. К нашему пароходу подплыли шаланды, наполненные навозом, и солдаты раскидали его в воду так, что мы оказались в навозном круге… На нашу психику это глумление подействовало ужасно… Наконец нам объявили, что нам приготовлен поезд в Сербию и мы можем съезжать на берег. Наспех собрав пожитки, пассажиры повалили с парохода. На берегу нас ожидали грузовики. Лишь сев в вагон, мы вздохнули впервые с облегчением. Мотанью по морю — конец! Опять твердая почва под ногами!..
Проехав небольшое расстояние по Греции, мы достигли пограничной станции Гевгелии. Началась проверка паспортов. Мы сразу почувствовали иное отношение: благожелательность, отсутствие придирок, грубости… При пересадке с поезда на поезд начальник станции радушно пригласил нас, архиереев, в свою комнату и угостил закусками и вином. С каким наслаждением после голодовки и при упадке сил мы выпили по стакану вина! Как мы были благодарны этому доброму человеку! Вино нас сразу согрело и подкрепило. На станции всем пассажирам роздали по банке мясных консервов: они показались нам лакомством…
До Белграда мы ехали около суток. Дорогой мы любовались живописной долиной реки Вардара, ущельями, горами… На остановках в Скоплье, Нише… мы могли уже приметить сытость, достаток сербского населения: в витринах лавочек уже белый хлеб… — в нашем беженском представлении несомненный показатель благополучия.
По совету спутников–сербов мы с дороги послали телеграмму митрополиту Димитрию Белградскому следующего содержания: «Пять русских архиереев прибывают (по–сербски «долазят») Белград просим вашего гостеприимства. Евлогий Георгий Митрофан Гавриил Аполлинарий».
В Белград наш поезд прибыл утром 5 февраля. Не успел еще поезд поравняться с платформой, смотрю, стоит мой приятель граф В.Бобринский и машет издали фуражкой. Мы тоже замахали ему из окна. Однако поезд у платформы не остановился: нас сразу отвели на запасной путь и приступили к проверке бумаг. В это время подъехала к вокзалу карета; из нее вышел маленький епископ и направился к нам. Это был преосвященный Досифей Нишский, воспитанник нашей Киевской Духовной Академии, друг русских, а потом завязавший и со мною самые добрые, дружественные отношения. Владыка обратился ко всем нам с радушным приветствием:
– Приветствую вас, владыки, с любовью, а также и всех вас, русских… — обратился к нам преосвященный Досифей. — Мы рады оказать вам гостеприимство за все то, что русские для нас сделали. И это не фразы…
Эти слова были сказаны искренно, горячо.
– Справляйтесь с бумагами, а потом прошу вас пожаловать к митрополиту… — сказал, обращаясь к нам, архиереям, епископ Досифей.
С вокзала нас направили в казарму, в карантин. Тут образовалась очередь к доктору на освидетельствование. Сербские власти боялись тифа. В нашей партии кое–кого оставили в карантине; у одной двенадцатилетней девочки оказалась корь. Граф Бобринский уговорил нас последовать за ним, не дожидаясь освидетельствования. Он провел нас задним ходом, мы прибавили шагу — и выскользнули из казармы. Бобринский посадил нас на трамвай, и мы поехали на окраину города, где он жил, ютясь в маленькой квартире.
Графиня встретила нас радушно и прежде всего предложила помыться. Это было нам необходимо: мы были черны от грязи. Гостеприимные хозяева накормили нас блинами. Во время завтрака мы узнали, что граф Бобринский уже в контакте с митрополитом Димитрием и епископом Досифеем и что нам уже приготовлены комнаты у каких–то радушных хозяек. Князь Жевахов непринужденно объявил Бобринским, что он у них намерен остаться… — и остался.
Мы пришли в новое наше обиталище, отдохнули, а часа в три–четыре отправились представляться митрополиту Димитрию [
[103]].
Нас встретил глубокий старец, добрый, ласковый, чуть с хитринкой, — тип восточного иерарха.
– Будете жить у нас, мы вас устроим, устроим… а теперь идемте ужинать, — ласково сказал он нам.
К ужину собрались все сербские архиереи во главе с епископом Досифеем. Этой трапезы, этого широкого славянского гостеприимства я не забуду никогда… Сколько было проявлено к нам радушия, тепла! И с какою непосредственностью, простотою… Митрополит предложил нам ежедневно обедать в митрополичьем доме, в трапезной членов Синода, но подчеркнул, что пока наше устройство временное, но надо подумать и о более прочном.
– Я предлагаю вам потом расселиться по нашим монастырям. Все будет там к вашим услугам, вам будет предложено полное обеспечение.
На другой день мы узнали, что король Александр выразил желание повидать нас, и мы в назначенный день и час все впятером отправились во дворец.
Король ласково встретил нас, расспрашивал о русских делах, вспоминал Россию… После аудиенции через нашего представителя Штрандмана каждому из нас вручили по 1000 динар. Тут возникло недоразумение с князем Жеваховым; он считал себя членом нашей архиерейской компании, как бывший Товарищ обер–прокурора, и высказал неудовольствие, что мы не разъяснили этого нашему представителю… «А иначе каждый из вас должен поделиться со мною», — заявил он.
Постепенно мои спутники стали разъезжаться по монастырям. Первым уехал епископ Гавриил, потом владыка Аполлинарий, за ним епископ Митрофан и епископ Георгий с неразлучным своим спутником архимандритом Александром.
Я остался в Белграде. Митрополит Димитрий относился ко мне очень хорошо, не отпускал: «Поживите, освойтесь… Может быть, займетесь своими русскими общественными делами…» Он часто приглашал меня к себе, беседовал со мною, перезнакомил со всеми сербскими иерархами, предлагал служить; я получал от него приглашения на хиротонии, на торжества, — словом, он старался меня развлекать.
Жил я теперь у новых хозяек. Епископ Досифей нашел мне комнатку в маленьком домике у вдовы убитого на войне майора Десанки Вучкович и ее старушки матери. Приняли они меня с любовью, относились с редкой заботливостью и брали с меня очень дешево.
Я стал осматривать Белград. Скромные, низкие домики, плохие мостовые, мало внешней культуры и отпечаток провинциализма и Востока, но приятный и милый в своей патриархальности город. Отношение населения к нам, русским, было трогательное. В трамвае кондуктор: «А… русс!» — и отказывается брать деньги за билет.
Белград быстро наводнился русскими беженцами. Жалкое зрелище… В лохмотьях, в рваных шинелях, измученные, истощенные, они шатались без дела по улицам, прилипая к витринам магазинов, здороваясь, перекликаясь друг с другом и сплетничая. Хаотическое состояние неорганизованной и бездельной людской «массы». Потом понемногу стали пристраиваться, находить работу. Возникла инициативная группа «Общества взаимопомощи», за ней стояла какая–то политическая организация, возглавляемая одним из братьев Сувориных. Я побывал тут и там. Грустное впечатление… Словесная потасовка, крики, упреки, обвинения в неправильности выборов и т. д. — ничего серьезного, делового. Я поделился своим впечатлением со Штрандманом. «Мне хотелось бы помочь организоваться массе, — сказал я, — но ничего с нею не сделать…» — «Напрасно ходите, владыка, оставьте их…» Кое–что в этой аморфной массе скристаллизировалось, но я участия в этом процессе уже не принимал, а мирно жил у моих хозяек, занимаясь изучением сербского языка.
Каждый вечер, бывало, слышу: «Господине, молим вас на конференцию». Это значило, на очередной урок мне надо пройти по коридору в кухоньку, где для меня уже приготовлено «церна кафа» (кофе). Помню, как–то раз они мне показали книжку: песенник. В ряду песен первая — сербский гимн. Я на нем не остановился и стал перелистывать дальше, а когда дошел до болгарского гимна «Шуми, шуми, Марица…», мне вспомнилась семинария, где мы, семинаристы, его певали, — и я его запел. Смотрю, лица моих хозяек помрачнели, и они примолкли. В чем дело? «Вы сербский гимн пропустили, а болгарский запели… Так всегда было: «Болгария для русских дочь, а Сербия падчерица…» — объяснили они мне внезапную перемену своего настроения. Однажды вечером, смотрю, они на кухне в сосуде топят снег. «Зачем?» — спрашиваю я. «Так надо», — с лукавой улыбкой отвечает одна из хозяек. А когда вода вскипела, объявили: «Мы вам хочем оперети косу» (вымыть волосы). Я сконфузился, но все же предоставил голову в их распоряжение. Вымыв мне волосы, они расчесали их, окрутили голову полотенцем и отвели в мою комнату, которую предварительно хорошо натопили. Заботливые, милые женщины. Когда впоследствии я приезжал в Белград, я всегда, по их просьбе, останавливался не в отеле, а у них.
Тихая, бездельная жизнь стала меня томить. По предложению епископа Досифея я прочел лекцию о русской революции в большом зале. Она прошла хорошо, но некоторые русские выступили с резкими возражениями: «неверно»… «не так было»… «вы с высоты величия плохо видели»… и проч. Убедившись, что работы в белградской русской общественности для меня не предвидится, я сказал митрополиту Димитрию, что хотел бы уехать в монастырь. Он стал меня уговаривать: «У меня места хватит и хлеба хватит, оставайтесь у меня, живите, занимайтесь вашими церковными делами». Но я подтвердил мое желание уехать. «Ну если так, поезжайте в Карловцы, там укажут вам монастырь…»
Карловцы… Уездный невзрачный городок. Посреди него, в чудном парке, великолепный дворец бывшей патриархии [
[104]]. Тут же в городке семинария, церковный суд и ряд церковных учреждений. Сербский Синод поручил временно управлять Карловацкой патриархией епископу Георгию Летичу.
Епископ Георгий, прекраснейший, добрейший человек, очень культурный, образованный, австрийского воспитания, он встретил меня, как брата, — ласково, радушно, гостеприимно; познакомил с сестрой и племянницей, которые жили при нем в особом доме на дворе патриархии; устроил меня в чудной комнате и обставил так, что все было к моим услугам. Мы с ним подружились. Свое внимание ко мне он проявлял во всем. За трапезой, на которую собиралось человек 20–25 архиереев, протоиереев и чиновников патриархии, где все рассаживались по чинам, он сажал меня всегда справа от себя, выше всех. Роскошь жизни, трапез, архиерейских ряс, великолепные покои дворца… — все это богатство не вязалось с моим бедным одеянием, порой бывало неловко…
Епископ Георгий не отпускал меня. «Не торопитесь в монастырь, поживите у меня…» Я не мог ему отказать и провел в Карловцах почти весь Великий пост.
На Вербной епископ Георгий предложил мне служить Страстные и Пасхальные службы в Новом Саду, большом городе на Дунае. Епископ Новосадский умер, кафедра пустовала, и владыке Георгию хотелось, чтобы Новосадский собор в великий праздник не был лишен архиерейских служб. Я с удовольствием согласился. Владыка Георгий повез меня туда сам в своем прекрасном экипаже. Архиерейский дом в Новом Саду после смерти епископа стоял запертый; спешно организовать отопление и хозяйство было невозможно, — и меня владыка устроил в милой семье одного знакомого адвоката, друга русских.
Адвокат, человек верующий, как и многие сербы, в церковь ходил редко. «Почему вы не ходите в церковь?» — спросил я моего хозяина. «В церкви есть поп, попу мы деньги платим, он за нас молится, а у меня дома и без того дела много…» — ответил он. В сербских храмах народу обычно мало, но свою православную веру они любят и крепко ее держатся.
Страстную и Пасху я провел, как подобает епископу. Меня окружала атмосфера ласки и любви местного духовенства. Среди духовных лиц я встретил священников с университетским дипломом, почитателей В.Соловьева, Достоевского, с которыми они ознакомились в немецком переводе. Весьма образованным человеком оказался и старший «прота» (протоиерей кафедрального собора) маститый о.Чирич. Я с ним быстро подружился.
Церковные службы в Сербии недлинные, о длительности богослужения там не ревнуют. В обрядах есть особенности, которых у нас нет. Погребение в Страстную Пятницу совершается ночью с пятницы на субботу, причем Плащаницу носят по улицам. Помню во время крестного хода пошел дождик и священники старались спрятаться под Плащаницу; старик–братчик заметил это — и назидательно: «Попове! Попове! На полье… на полье…» (т. е. вон… вон…). Пасхальную заутреню служат на рассвете, часа в три–четыре утра, за нею следует Литургия в обычное время.
Ездить от адвоката в собор было далеко, и на эти дни мне приготовили две комнатки в архиерейском доме. Специального розговения в Сербии не бывает, а просто обильный завтрак после обедни. На трапезу собралось много поздравителей.
На другой день один из местных священников пригласил меня служить в свой приходский храм на окраине города. Прихожане там все огородники, садоводы и свиноводы — зажиточные «селяки», которые ведут оживленную и прибыльную торговлю с Веной, сплавляя туда по Дунаю свои товары: овощи, свинину и проч. Храм был набит битком. Я говорил поучение, пытаясь вставлять в свою речь сербские слова. По–видимому, народ меня понимал, потому что от времени до времени отвечал громко по местному обычаю: «Живио»! После обедни священник предложил мне познакомиться с бытом его прихожан. Мы сели в отличный экипаж, запряженный серыми лошадками, и помчались за город. Дорогой я узнал, что выезд послан за мной одним из крестьян–прихожан. Мы объехали дворов пятнадцать. Я заходил к селякам, осматривал их дома и хозяйства. Благополучие полное. Всюду образцовая чистота и внешняя культура: электричество в хлевах, конюшнях и проч. — наследие австрийского культурного быта. Этой части Сербии бедствия войны не коснулись, тогда как вся старая Сербия была разорена и опустошена войною, во время которой погибла треть всего сербского населения. Трудно описать гостеприимство сербских крестьян. Всюду меня упрашивали отобедать, всюду полный стол яств. Пришлось отведать 5–7 обедов, чтобы не обидеть радушных хозяев. Кое–кто из них только что вернулся из русского плена. С какою похвалою они отзывались о русских! «Я был кучером у помещика Екатеринославской губернии, — рассказывал мне один крестьянин, — теперь ему, как всем помещикам в России, плохо. Если бы мне только знать, где он сейчас! Я бы его разыскал, сюда бы привез. За его доброту ко мне все бы свое хозяйство ему отдал, служил бы ему, ухаживал, чтобы он все скорби забыл…» Эти слова, преисполненные горячей благодарности за оказанное когда–то человеку добро, глубоко тронули меня и как–то подкрепили во мне веру в русский народ с его широким любящим сердцем.
По возвращении в Карловцы к милому владыке Георгию я узнал, что он выбрал для меня монастырь Гергетек и что настоятель его, архимандрит Даниил Пантелич, за мной приедет.
Гергетек один из 14 монастырей, раскинутых в лесах «Фрушкой горы» (Фруктовой горы), в 15 верстах от Карловцев. Два горных склона спускаются в долину, покрытые лесами, виноградниками, фруктовыми садами. Эта местность зовется «Сербским Афоном». Все эти монастыри — обширные поместья, с большим хозяйством, с угодьями, с прекрасными садами. Но монахами эти обители сильно оскудели: в каждой, кроме настоятеля и эконома, не больше двух–трех монахов. Живут они помещиками, в полном довольстве. Теперь они гостеприимно принимали русских беженцев: у них находили приют и архиереи, и генералы, и профессора.
Архимандрит Даниил приехал за мной с радостью. Я расстался с владыкой Георгием, который дружески со мной простился и просил не забывать его и наезжать к нему в Карловцы. Мы сели в монастырский экипаж и направились в Гергетек. На пути заехали в чудный монастырь Крушедол, где уже поселился мой спутник по плаванию на «Иртыше» — архиепископ Георгий с архимандритом Александром. Там находится гробница отрекшегося от престола короля Милана и хранятся его знамена и регалии. О.настоятель монастыря архимандрит Анатолий ласково и гостеприимно принял нас, — и мы продолжали наш путь.
Гергетек… Тихое пристанище после долгих моих странствий! Стоял июнь. Природа в полном убранстве. Вокруг монастыря прекрасный сад, полный цветов; среди зелени виднеются гробницы–памятники бывших настоятелей. Началась беспечальная жизнь, та «полная чаша», когда все было к моим услугам.
В нашем монастыре проживал в те дни большой ученый, профессор Киевской Духовной Академии по кафедре истории Русской Церкви о.протоиерей Феодор Иванович Титов. Мы с ним сблизились и много времени проводили вместе: встречались за трапезами, вместе гуляли, читали, вместе принялись за изучение сербского языка, сербской литературы.
Я стал знакомиться с окружающими монастырями. В ближайшие мы ходили с о.настоятелем и о.Ф.Титовым пешком (за 3–4 версты); в более отдаленные — ездили в экипаже. В соседнем монастыре я обратил внимание на родник кристально чистой воды. «Хвалим воду, а пьем вино…» — пошутил о.настоятель. Всюду в обителях меня встречали с простотою, радушием, с тою тонкой деликатностью, которая прививается людям старой культурой и, передаваясь из поколения в поколение, делается уже врожденной. Это я подметил и в монастырях и в местной школе, которую я посетил (учительницей там была сестра о.настоятеля).
Приближался храмовый праздник нашей обители. Меня просили служить, выписали мне из Карловцев архиерейское облачение.
После торжественной Литургии была трапеза, на которую съехалось много гостей: настоятели соседних монастырей, светские дамы, барышни… Русский архимандрит Григорий, живший в соседнем монастыре, может быть, под влиянием доброго сербского вина, завел крикливый богословский спор. Кое–кто это настроение поддерживал, не пренебрегая и «возлияниями». Увидав, что трапеза окончена, но мои сотрапезники не прочь угощаться и дальше, — я ушел. Протоиерей Титов потом сердился, говоря, что надо было не уходить, а воздействовать на присутствующих и попытаться придать застольному нашему собранию более чинный характер. К вечеру в монастырь пришло множество крестьян, — и начались танцы. Танцуют сербы «колы», нечто вроде наших хороводов, сопровождая танцы песнями. Не обошлось без вина: к ночи лица у всех раскраснелись…
Каждый из 14 монастырей справляет свой храмовый праздник, широко и гостеприимно принимая гостей: монахов остальных обителей и местных крестьян. Эти праздники разнообразили монотонную, трудовую монашескую жизнь. Чтобы управлять большими монастырскими хозяйствами, трудиться нужно очень много, а хозяйство во многих обителях было культурное, образцовое.
Изредка я бывал в Карловцах, встречаясь там со знакомыми архиереями. Как–то раз прибыл я туда и был изумлен, услыхав, что мне предлагают отправиться в Женеву в составе сербской делегации на Всемирный съезд представителей христианских Церквей. Сербская иерархия, в своих братских чувствах к нам, пожелала, чтобы на этом Съезде прозвучал голос епископа Русской Православной Церкви.
В состав делегации вошли: преосвященный Ириней (племянник протоиерея кафедрального собора Нового Сада), иеромонах Емельян, известный своей образованностью человек, и я. Всех нас снабдили дипломатическими паспортами и деньгами.
И вот я выезжаю вместе с сербскими делегатами из тихой Сербии в Западную Европу. Не зная иностранных языков и не вовлеченный еще в экуменическую работу, я ехал в Женеву только с горячим желанием сказать на Съезде слово в защиту Русской Церкви, дабы братья по вере, съехавшиеся со всех концов света, узнали, как она страдает… Мне казалось, что, узнав правду, они, если и не будут в силах ее защитить, отзовутся горячим сочувствием на переживаемые ею мучения…
Инициатива этого стремления к сближению и единению всех христианских исповеданий принадлежала Американской епископальной Церкви. Американские епископы во главе с известным епископом Брентом обратились ко всем Церквам христианским с призывом послать своих делегатов на общую Конференцию, на которой они могли бы встретиться и познакомиться друг с другом и обсудить общие вопросы веры и жизни, в которых все церкви если не единомысленны, то, по крайней мере, близки между собою, а также указать те задачи, которые бы способствовали их дальнейшему сближению и единению. Нужно удивляться той христианской ревности и настойчивости, с которой они стучались в двери каждого христианского исповедания; нужно преклоняться и пред теми огромными усилиями и трудами, которые они взяли на себя, чтобы начать и организовать это дело в мировом масштабе. На этот призыв откликнулись очень многие протестантские исповедания, старокатолики… Сочувственно отозвались на этот призыв и Православные Церкви, благословил это дело и Вселенский Константинопольский Патриарх. Только Римский Папа от имени Римско–Католической Церкви отклонил предложение принять участие в Конгрессе, заявив, что Римско–Католической Церкви искать нечего: Истину в полноте она обрела, и если Церкви хотят объединиться, пусть присоединяются к ней… В этом ответе были и гордость и узость: если кто считает, что обладает Истиной, почему ею не поделиться?
Конференция открылась в Женеве (в конце июля старого стиля) торжественным богослужением в огромном, старом соборе святого Петра. Грустное впечатление произвел на меня собор: пустота, голые стены… только одна реликвия — кресло Кальвина, с которого он проповедовал. Не храм, а огромное, нежилое помещение.
С первого же заседания почувствовалось веяние христианского духа единения. Я с интересом следил за речами и дискуссиями; сзади меня в качестве переводчика сидел наш бывший дипломатический представитель М.М.Бибиков, и благодаря ему я был в курсе того, что на заседаниях говорилось. Греки на Конференции выступали весьма активно. Меня поразило, что они были в светских костюмах, сербы этой вольности себе не позволяли. Я добивался слова о Русской Церкви в общем собрании — и встретил сопротивление. К сведениям, которые я сообщал о положении нашей Церкви при большевиках, относились с недоверием… Чудовищно, непонятно, — но европейцы правды не воспринимали; качали головами — и все… Тем не менее мне удалось добиться слова. Я сказал его горячо и предложил резолюцию, в которой выражалось не только сочувствие гонимой нашей Церкви, но и порицание советской власти. Порицание принято не было: «политика» в резолюции Конференции якобы неуместна… Мне было горько. «Эх, европейцы, — подумал я, — вам тепло, спокойно, оттого вы нас и не понимаете…»
В заключительной речи Председатель Конференции высказал радость по поводу сближения христиан, несмотря на различие конфессий. Он говорил о том, что у всех нас один Христос, одно Слово Божие, и на этой основе возможно объединение в христианской любви…
Его прекрасной речью я был растроган до глубины души…
После закрытия Конференции большинство делегатов отправилось в экскурсию на глэтчеры. Поездка эта меня не интересовала, я остался в Женеве у настоятеля нашей Женевской церкви протоиерея С.Орлова, служил, а потом вернулся в Сербию.
Я счел долгом осведомить митрополита Антония о Женевской конференции и послал ему в Константинополь [
[105]] пространный доклад. Одновременно я подал ему мысль о необходимости организовать оторванную от России зарубежную Русскую Церковь. «Много овец осталось без пастырей… Нужно, чтобы Русская Церковь за границей получила руководителей. Не думайте, однако, что я выставляю свою кандидатуру…» — писал я. В ответ от митрополита Антония пришло письмо со следующим отзывом о моем докладе: «Страшно интересно, надо бы доклад напечатать».
В Белграде я несколько задержался, получив приглашение на торжество преобразования Сербской Церкви из митрополии в патриархию. После торжества я вернулся в Гергетек, наезжая изредка в Белград.
Как–то раз по какому–то случаю довелось мне приехать к епископу Досифею Нишскому. Вхожу к нему, — о удивление! — м.Екатерина [
[106]] и мать Нина [
[107]] …Оказывается, епископ Досифей выписал в Сербию весь Леснинский монастырь, эвакуированный из России в Румынию. Мысль о целесообразности эвакуации монастыря в Сербию я когда–то подсказал епископу Досифею, но реализация ее была для меня неожиданностью. Владыка Досифей снесся с м.Екатериной, озаботился, чтобы монахиням была предоставлена баржа, на которую все 70 монахинь со своими котомками, узлами… погрузились и поплыли по Дунаю в Белград. Тут их встретили и, снабдив нужными бумагами, направили в монастырь, в Хопово.
Прибытие Леснинского монастыря имело для Сербии большое значение. Дело в том, что сербское женское монашество уже давно умерло. За последние века в Сербии не было ни одного женского монастыря, и сербы стали считать это вполне нормальным явлением. «Наши сербские женщины неспособны к монашеству», — говорили мне некоторые сербы из мирян. Действительность это суждение опровергла, монашество возникло вновь, лишь только появились женщины, способные к организации монастырей.
Монастырь в Хопове, куда направили леснинских монахинь, был отдан им не в собственность, а на правах пользования церковным имуществом; так велось хозяйство и в других монастырях в Новой Сербии, т. е. в областях, которые достались Сербии после войны. Хозяйственной эксплуатацией их ведал эконом, представитель патриархии. Монахини работали в виноградниках, садах и огородах. Часть доходов оставалась в монастыре для удовлетворения потребностей монашеского общежития, все остальное отсылалось в патриаршую казну. Монастыри в Сербии рассматривались как доходная статья. Это положение дела сказывалось на подборе: во главе обителей стояли обычно хозяйственные, деловые монахи.
Хопово быстро сделалось центром духовно–религиозной жизни. Монастырь стал привлекать паломников, потянулась к нему сербская и русская, главным образом интеллигентная, молодежь. О.Алексей Нелюбов, священник обители (мой земляк–туляк), пастырь прекрасной духовной жизни, привлекал в Хопово многих и вскоре стал любимым духовником притекавших в Хопово молодых интеллигентных паломников и паломниц. М.Екатерина, просвещенная и глубоко религиозная игуменья, всегда умела влиять и воодушевлять молодежь, и к ней тоже потянулись юные души, взыскующие руководства на путях духовной жизни.
К сожалению, экономическая система управления монастырем ограничивала м.Екатерину и расширяться ей было трудно. Она приняла в Хопово несколько сербок. Создалась сербская группа во главе с сербкой м.Меланией; вследствие разности понятий и нравов слиться с русским монашеским ядром сербки не смогли, к ним примкнуло несколько русских монахинь, и обособившаяся группа основала новый монастырь «Кувеждин», сербский. Одновременно стараниями епископа Досифея в Нишской епархии организовались кое–где маленькие сербские монастырьки. В одном из них подвизалась м.Диодора, круглый год ходившая босиком. Отсюда женское монашество перекинулось в другие епархии — словом, погибшее в Сербии женское монашество ожило.
Я вернулся из Карловцев в Гергетек и вновь мирно зажил, занимаясь сербским языком и литературой. Жизнь тихая, безмятежная, но меня она не удовлетворяла: занятия казались поделием — не настоящим нужным делом. Вернуться в Белград и заниматься политикой мне не хотелось (она мне надоела), в ближайшем будущем никакой серьезной работы я тоже не предвидел. Предложение настоящего, полезного дела пришло неожиданно.
Как–то раз в Белграде я высказал желание быть законоучителем. Теперь оно реализовалось. В Сербию эвакуировали 3–4 русских учебных заведения: кадетский корпус, гимназию, два женских института. Один из институтов, Харьковский, нашел себе приют в г.Бечкереке; другой, Донской, — в Белой Церкви. Мне было предложено преподавать Закон Божий в Донском институте. Начальница его, В.Ф.Викгорст, сумела вывезти девочек с Дона в самую последнюю минуту: выпросила у атамана теплушки, насажала девочек — и пустилась в эвакуацию. Заслуга ее большая: она успела вывезти детей из ада, сделала то, что не удалось начальнице Смольного института, которая довезла институток (из Петрограда) до Дона, но эвакуировать их из России не успела: она отправилась на пароход навести какие–то справки или сговориться о помещении и не заметила, как пароход отвалил; ее увезли, а девочки остались и пережили весь ужас женской беззащитности в стане беспощадного врага…
Расставался я с Гергетеком не с легким сердцем. В обители мне было очень хорошо. О.настоятель жалел, что я уезжаю, упрашивал меня остаться или хоть отложить отъезд до их маленького хозяйственного праздника: перед Рождеством в монастырях на «Фрушкой горе» колют свиней, изготовляют всевозможные колбасы и пробуют новое вино, — на день–два патриархия освобождает монастыри от поста, и монашеские трапезы в те дни принимают до некоторой степени оттенок «пира». К сожалению, я должен был торопиться и «праздника» не дождался. Мой монастырский слуга, услужливый и преданный мадьяр Шандор (по–русски Александр), провожал меня чуть не со слезами: «Зачем едете! Останьтесь, не уезжайте…»
В Белую Церковь я прибыл 26 сентября (старого стиля), в день св.Иоанна Богослова.
Маленький, чистенький городок, наполовину населенный австрийцами: немцами и венграми. Меня поселили у немки рядом с институтом, который помещался в бывшей австрийской школе. Я приходил в институтский интернат к утренней молитве, пил там кофе и обедал. На уроки воспитанницы и мы, преподаватели, ходили в мужскую гимназию, помещение которой после 2 часов предоставлялось в наше распоряжение. Воспитанницы и педагогический персонал находились на полном иждивении сербской казны.
Педагогическая корпорация, в состав которой я вошел, была немного пестрая, но все же вся имела ценз и были педагоги. Начальница В.Ф.Викгорст, которую девочки звали «маменькой», любила детей, была добра и заботлива, но дисциплина в Институте хромала. Шумят, бывало, девочки за обедом, В.Ф. на них прикрикнет, а через минуту все по–прежнему. Впоследствии у В.Ф. возникли какие–то недоразумения по поводу путаницы в отчетности и ее уволили, забыв великую ее заслугу своевременной эвакуации детей.
Девочки младших классов, совсем еще маленькие, лет восьми–девяти, были трогательные. Большинство — сиротки: у кого отец убит в гражданской войне, у кого мать потерялась, а кто вообще ничего про родителей давно уже не знает, «Владыка, не знаете ли что про папу?» — спрашивает, бывало, какая–нибудь крошка. А я знаю — убит… Я любил с ними сидеть, рассказывать им сказки, читал, старался их развлечь. Ко мне они привязались. Увидят, что я пришел, — и кричат: «Владыка пришел!..»
Со старшими девочками было труднее. Это были не прежние чопорные институтки, а девушки, которые прошли огонь и воду, изведали и холод и голод, натерпелись всевозможных лишений. Во время путешествия в теплушках, зимою, начальница на стоянках посылала их воровать дрова, чтобы немного согреться в вагонах. Две девочки, дочери мелкого саратовского помещика, вместе с отцом бежали от большевиков в Новочеркасск — проскакали верхом без седла весь путь… Ничего удивительного не было, что дисциплинировать таких молодых девушек было нелегко. Прежнему законоучителю, моему предшественнику, морально подтянуть их не удалось. Я их пожалел, немного с недостатками боролся, и Господь помог… По ночам под окнами интерната собиралась местная мужская молодежь со скрипками, гитарами и распевала серенады («подоконницы» по–сербски); девочки вскакивали — и к окнам. Несколько девиц, в наказание, начальница приказала остричь, а сторож, саратовский помещик, прискакавший с дочерьми на Дон, вооружившись дубиной, разгонял назойливых поклонников. Как–то раз в отсутствие начальницы, во время обеда, в столовую принесли корзину цветов. Что такое? Кто–то мне шепнул, что одна из старших воспитанниц именинница, цветы — ей от какого–то немчика. «Я так люблю цветы… — отнесите в мою комнату», — распорядился я. Потом пришел в класс с разносом: «По какому праву молодой человек подносит вам цветы? Разве он ваш жених? родственник? Цветы подносят и цветы принимают, лишь имея на это право…» Завязался разговор о морали, о жизни. Девушки любили беседы на эти темы.
Маленькие мои ученицы доставляли мне много радости. Они учились во всю мочь и любили блеснуть своим прилежанием. «Почему, владыка, вы меня забыли? Почему, владыка, вы меня не спрашиваете?»
Жил я покойно, работа наладилась, девочки относились ко мне с доверием. Я организовал богослужение в зале интерната, устроил престол, жертвенник; службы совершал по священническому чину, в старенькой фелони, которая мне досталась от прежнего законоучителя; девочки исповедовались, причащались. В большие праздники мы ходили все вместе в городскую церковь. Я познакомился с о.настоятелем и после обедни заходил к нему на кофе.
Перед Рождеством пришла телеграмма от патриарха Димитрия, которая меня очень тронула: он приглашал меня на праздники к себе в Карловцы в гости. Накануне отъезда у институток была елка. Они пели, плясали, играли… И вдруг, среди вечера, появляется какая–то фигура в потрепанной шинели, в разбитых сапогах… — и я узнаю одного из секретарей Высшего Церковного управления Махараблидзе [
[108]]. Он заявил, что заехал ко мне на пути из Константинополя в Белград и привез известие о моем назначении Управляющим русскими православными церквами Западной Европы. «Вам будет послано Высшим Церковным управлением подтверждение моего устного извещения», — сказал он. Оказалось, что назначение состоялось еще в Крыму, но официального уведомления, посланного мне из Крыма, я не получил. Новое назначение привело меня в некоторое замешательство: как наладить управление при отсутствии средств? куда ехать? где его организовать? «Если не удастся обосноваться в Европе, можно управлять из Сербии… — заметил мой собеседник. — У меня есть еще просьба к вам, — продолжал он, — не посодействуете ли вы, чтобы Высшее церковное управление было переведено из Константинополя в Сербию?» Я знал, что в Константинополе членам Управления жилось трудно, тогда как я и некоторые другие архиереи в Сербии благодушествовали; отозваться на эту просьбу было долгом простого человеколюбия; одновременно у меня мелькнула мысль и о том, что в случае моего отъезда в Европу Высшее Церковное управление останется в Сербии.
На другой день в сопровождении Махараблидзе я выехал в Белград.
Патриарх принял меня ласково и гостеприимно. Я выпросил у него согласие на переезд Высшего Церковного управления во главе с митрополитом Антонием в Сербию. «Ну что ж… пусть приезжают, у нас хлеба хватит…» — сказал Патриарх.
На праздниках я получил радостное известие от моего любимейшего младшего брата Александра (я был на 20 лет старше него), моего крестника, что он прибыл в один из портовых городов на юге Сербии. Брат был военный следователь и вместе с врангелевскими войсками его эвакуировали в Сербию. Он написал, что приедет ко мне сейчас же по выполнении необходимых формальностей, а пока просит о нем не беспокоиться.
Перед Крещением я вернулся в Белую Церковь и в ожидании приезда брата и получения официальной бумаги из Константинополя принялся вновь за преподавание.
В конце января пришла телеграмма, подписанная неизвестным мне лицом, извещавшая о тяжкой болезни брата… Я немедленно (на самый праздник Сретенья) выехал. Приезжаю, — брата уже похоронили. Он умер от возвратного тифа, которым заразился еще в пути. По приезде болезнь быстро стала развиваться: группу юристов, в том числе и моего брата, поселили в нетопленом помещении. Пришлось отправить его в больницу, где он и скончался. Никаких вещей после него в больнице не оказалось: очевидно, их разворовали, остался только его дневник эвакуации. Я стал читать — и не мог… Сплошной кошмар… Сколько лишений, унижений пришлось претерпеть нашим войскам при эвакуации! Смерть брата меня сразила. Я не находил себе покоя. Почему на святках я не проехал к нему из Карловцев, не вырвал из дурных условий жизни и не увез с собой!.. Ему было 32 года, он оставил молодую жену с маленькими детьми, вся жизнь еще была впереди… Я сознавал косвенную свою вину и мучился. Пошел на могилку, отслужил панихиду. Товарищи брата рассказали мне о последних его днях…
В глубокой скорби вернулся я в Белую Церковь. Девочки ласково, с любовью утешали меня. Мои сотоварищи–педагоги тоже тепло выражали свое соболезнование. Но рана моя болела долго…
Вскоре пришло извещение, подтверждающее мое назначение Управляющим русскими православными церквами в Западной Европе. Вот его текст:
«Его Высокопреосвященству
Преосвященнейшему Евлогию
Архиепископу Волынскому и Житомирскому.
Сим имею честь уведомить Ваше Высокопреосвященство, что постановлением Высшего Временного Русского Управления Вам вверено управление всеми западноевропейскими русскими церквами на правах Епархиального Архиерея, включая и церковь с приходом в Болгарской Софии и в Букуреште; прочие же русские церкви на Балканском полуострове и в Азии управляются Р.В. Церковным Управлением; все сие впредь до восстановления сношений с Всероссийским Свят. Патриархом.
Председатель В.Ц. Управления
Антоний Митр. Киевский и Галицкий.
2–15 апр. 1921.
№ 318.
Печать: Высшее Русское Церковное Управление.
Назначение Ваше состоялось 2 окт. 1920 г. в Симферополе и подтверждено в начале ноября в Константинополе».
Я счел нужным оповестить о своем назначении некоторых знакомых мне в Европе священников. Между прочим написал и о.Иакову Смирнову, настоятелю посольской церкви в Париже. В ответ получил от него сдержанное письмо, в котором он ссылался на отсутствие каких бы то ни было указаний от своего непосредственного начальства относительно моего назначения. Такого же рода письмо я получил от о.архимандрита Сергия Дабича, бывшего настоятеля посольской церкви в Афинах. Он поссорился с нашим послом в Греции Демидовым, и проживавший там в это время Платон, желая положить конец конфликту, отправил его в Западную Европу на правах благочинного.
Осторожность о.Иакова Смирнова послужила средством к утверждению меня в правах: он запросил архиепископа Серафима Финляндского, не может ли он снестись с Патриархом Тихоном относительно законности моих прав. В результате последовал указ Патриарха, подтверждающий мое назначение (к этому указу я своевременно вернусь).
Вскоре после этого прибыл из Берлина представитель Высшего Монархического совета Н.Д.Тальберг с приглашением приехать в Германию. «Мы облегчим все условия для вашего устройства в Берлине, но только просим вас удалить протоиерея Зноско [
[109]], а взять с собою архимандрита Тихона [
[110]], настоятеля посольской церкви в Болгарии», — сказал Тальберг и вручил мне на организацию управления 10000 марок.
Я с радостью вызвал архимандрита Тихона. Он привез с собой из Софии бумагу — ходатайство русских прихожан в Софии о назначении на его место Лубненского епископа Серафима. Это несколько мои планы меняло (я хотел назначить в Софию протопресвитера Шавельского), но я все же на назначение епископа Серафима согласился.
Начались приготовления к отъезду. Моим преемником в Институте я оставлял протоиерея Николая Александрова; вместе с ним приехал Е.И.Вдовенко, по профессии электротехник, но церковный человек, близко знавший Патриарха Тихона и московское духовенство, часто вращавшийся в этой среде. Я предложил ему быть диаконом при мне и поехать вместе со мною в Европу; он согласился. Перед отъездом он соорудил мне митру из бального лифа жены генерала Поливанова. Кроме митры и старенькой епитрахили, никакого облачения у меня при выезде из Белой Церкви не было. Расставание с Институтом было милое, трогательное. Девочки плакали, провожая меня.
Я заехал в Карловцы проститься с владыкой Георгием. Он подарил мне не новое, но очень красивое архиерейское облачение: шитое шелками по парчовому фону. Из Карловцев я прибыл в Белград, где провел с неделю, разъезжая с прощальными визитами. Затем я, архимандрит Тихон и диакон Вдовенко направились в Берлин. Я решил на пути остановиться в Вене и Праге и осмотреть там наши церкви
Глава 20. АРХИЕПИСКОП — МИТРОПОЛИТ ПРАВОСЛАВНОЙ РУССКОЙ ЦЕРКВИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ Берлин (1921–1922)
В Вене мы остановились в отеле. В столице Австрии в те дни атмосфера была напряженная, суровая. Нет продуктов в магазинах, скудость во всем: кусочки сахару потребляют по счету, ломтики хлеба тоже.
Я разыскал Управление Красного Креста. Его уполномоченный, Шабельский, направил меня в наше посольство; там находилась наша церковь, она была устроена незадолго до войны и отличалась благолепием. Русское посольство состояло под охраной нейтральной державы — Испании. К испанцу, заведующему, и я обратился.
Он повел меня в церковь. Раскрылись двери… — пахнуло затхлостью. Моим глазам представилась ужасная картина… Не храм, а «мерзость запустения»: стены и пол густо покрыты пылью, ступаешь, как по ковру, — остаются следы; иконостас потускнел, и не сказать, что новый; в алтаре на престоле пыль лежит серым покрывалом, паутина свисает лохмотьями… Смотрю… — антиминс!! «Это такая святыня, что ее только архиерей или священник может хранить, позвольте мне взять ее…» — обратился я к испанцу. «Пожалуйста». Смотрю — и запасные Святые Дары!! и Святое Миро… Все брошено, все оставлено… Любезный испанец позволил мне унести и эти святыни.
Вена произвела на меня жуткое впечатление. Я знал, что вся униато–католическая акция по отношению к России ковалась тут. Было чувство, что австрийские жандармы вот–вот нагрянут и опять потащат меня под арест. Мои документы не очень–то меня ограждали. Я тревожился, не спал ночей…
О моем приезде узнал князь Г.Н.Трубецкой и прибыл из Бадена (под Веной). Мы вместе завтракали в Управлении Красного Креста. Тут возник конфликт. Г.Н.Трубецкой ввиду приближения Пасхи просил оставить архимандрита Тихона в Вене. «Мы истосковались без священника, архимандрит Тихон может на второй день Пасхи к вам приехать», — убеждал он меня. Положение мое было трудное: оставить архимандрита Тихона я хотел, но знал, что в Берлине его ждут, а главное, знал, что он оставаться не хочет. Решить этот вопрос я предоставил самому архимандриту Тихону. Он заявил, что уедет вместе со мной.
Встреча с Трубецким мне принесла пользу. Он осведомил меня в общих чертах о положении эмиграции в Европе, и я понемногу начал ориентироваться в том тумане неизвестности, в котором меня застало новое назначение.
Когда мы прибыли в Прагу, сразу почувствовалась более теплая атмосфера. На вокзале нас встретил представитель нашего посольства В.Т.Рафальский, пригласивший меня остановиться у него. Архимандрит Тихон и диакон Вдовенко устроились в отеле.
До войны в Праге у нас была церковь, которую чехи отдали в наше пользование по контракту, — большой, хороший храм св. Николая. Священник его был протоиерей Николай Рышков, энергичный славянский деятель, идейный защитник карпатороссов. Во время войны австрийцы посадили его в тюрьму как шпиона [
[111]], храм у православных отняли, церковную утварь и иконостас унесли — и превратили церковь в костел, отдав его группе ксендзов, которые основали так называемую «Национальную Чешскую Церковь». Эта группа католического духовенства отвергла целибат и зависимость от Рима, кренила к гуситам, а иерархически тяготела к православию. К сожалению, переговоры ее с Сербской Церковью не наладились, и она основала самостоятельную Церковь. Срок нашего контракта на церковь святителя Николая еще не истек, изредка там служил протоиерей Алексей Ванек из чешских колонистов на Волыни, настоятель одной из волынских церквей, вернувшийся на родину; но службы были так редки, что, например, в Вербное воскресенье Литургии не было.
Я принял меры, чтобы восстановить храм в его прежнем виде. По настоянию Рафальского ходатайствовал в министерстве о его возвращении, ссылаясь на контракт. Там ответили: «Столкуйтесь сами с Чешской Церковью». Чех Червинка обещал нам помочь изъять священные сосуды из склада, а также похлопотать, чтобы вернули отнятый иконостас. Приходилось начинать все сначала: собирать, восстанавливать, приводить в порядок.
По совету Рафальского я посетил вместе с ним Крамаржа. Этот видный чешский деятель был женат на русской, богатой москвичке Абрикосовой. В свое время он ездил в Россию, посещал Государственную думу. Прием у Крамаржа был в Вербное воскресенье. Роскошное палаццо в великолепном парке. Многочисленное общество. Великосветский стиль. Среди гостей я встретил Товарища Председателя Государственной думы князя В.М.Волконского.
Крамарж особого сочувствия к бедственному положению Русской Церкви не проявил. «Как я рад, что Русская Церковь освободилась от государства, это дает ей силы обновления через страдания…» — величественно и наставительно сказал он.
Утром в Великий Вторник мы выехали в Берлин. Дорогой я обдумывал мои первые впечатления. Церковные нужды были явны, положение паствы было трудное, организация распалась. Предстояло прежде всего работать над укреплением фундамента.
В Берлин мы прибыли в тот же день поздно вечером. На вокзале нас встретили представитель нашего дипломатического ведомства С.Д.Боткин, председатель Монархического совета князь Ширинский–Шихматов и сенатор А.В.Бельгард, заведующий «Александерхеймом» — «Русским домом» в Тегеле (предместье Берлина).
Этот «Русский дом» возник до войны благодаря инициативе и энергии настоятеля нашей посольской церкви в Берлине, протоиерея о.Алексия Мальцева. В Тегеле он купил большое место, устроил там русское кладбище, выстроил церковь, а напротив, через дорогу, — большой каменный дом, окружив его цветниками и огородом. Садоводство приносило доход: близость Берлина обеспечивала сбыт. Еще до войны о.Мальцев учредил «Владимирское Братство» с целью оказывать помощь русским людям, застрявшим за границей в тяжком положении. Опекаемые Братством лица могли в этом доме найти временный приют, а если они были способны на работу в огороде или в саду, то и заработок, дававший им возможность оплатить проезд на родину. Русская усадьба в Тегеле была наименована «Kaiser Alexander Heim» в память императора Александра III; после русской революции «Kaiser» стерли и она стала называться просто «Alexanderheim». В этом русском убежище была отличная библиотека — множество книг по богословию и литературе на русском и немецком языках. Протоиерей Мальцев любил эпоху Наполеона и отвел целую залу под собрание гравюр, картин и разных предметов, относящихся к излюбленной эпохе. Образовался маленький музей. Во время войны библиотеку и музей порасхватали и вообще дом пострадал от солдатского постоя.
О.Мальцев, практический ярославец, был прекрасный организатор. Не только в Берлине он сумел наладить церковное дело, но настроил церкви с домами и усадьбами и в германских курортах, наиболее посещаемых русскими: в Киссингене, Наугейме, Гомбурге, Герберсдорфе, а также и в Гамбурге.
Протоиерей Мальцев был человек большой, незаурядный. Бывший профессор Петербургской Духовной Академии, умный, высокообразованный, он перевел на немецкий язык почти все наше богослужение, его дом сделался культурным центром русского православия за границей и привлекал многих профессоров наших духовных академий, когда им случалось проезжать через Берлин. Он издавал еженедельный церковный журнал либерального направления. Личное его влияние распространялось широко, даже император Вильгельм его знал и уважал.
В этот самый «Alexanderheim» нас и привезли. Сенатор Бельгард, заведующий убежищем, отвел мне три комнаты, хотя общежитие было переполнено. Тут жили и студенты и дамы — много русских, которые нуждались в поддержке. Бельгард и его супруга Софья Петровна помогали соотечественникам вне узкой политики, смотрели на русское убежище, как на полезное культурное дело, с особым вниманием относились они к русской учащейся молодежи.
Прямо с вокзала, под импровизованный звон рельсовых кусков, повешенных на колокольне вместо колоколов, вошел я в храм святых Равноапостольных Константина и Елены. Меня молча встретил протоиерей Можаровский, бывший мой холмский священник, а потом в гражданскую войну служивший в армии. Вошел я в благоговейном волнении… Первый мой заграничный храм! «Мой храм», — особое чувство… Опять я епархиальный архиерей, опять слышу «Ис полла эти деспота» — и опять звон…
В доме С.П.Бельгард поднесла мне хлеб–соль, и мы провели несколько часов за чаем в мирной беседе.
На другой день архимандрит Тихон с диаконом Вдовенко поехали в наш посольский храм на Унтер ден Линден, а ко мне пришла какая–то депутация (в составе ее были и дамы) от сторонников священника В.Л.Зноско для выяснения его положения в случае прибытия архимандрита Тихона. Зноско утвердился в посольской церкви самочинно, не будучи никем официально туда назначен. Служил он хорошо. Его антибольшевистская книга, крайне правая по духу, создала ему в берлинской эмиграции некоторую популярность. Но у него было и немало противников. Поводом к нареканиям послужили его личная жизнь и личные свойства, которые давали основания неблагоприятно судить о его моральном облике. Отсутствие богословского образования смущало тоже многих.
Одного из делегатов из состава прибывшей ко мне делегации, — беспокойного, нервного старичка Жилинского, — я помнил по Женеве: мне рассказывали, что он доставил там приходу много неприятностей. Я сказал делегатам, что привез нового настоятеля. «А что же будет с о.Зноско?» — последовал вопрос. «О.Зноско будет служить в Тегеле». Мое заявление не понравилось, почувствовалось, что начнутся трения.
В Великий Четверг я впервые служил в нашей посольской церкви. Церковь имени святого Владимира, небольшая, хорошая. Обстановка сохранилась после о.Мальцева в целости, облачения тоже.
Я приехал из Тегеля на трамвае (езды минут сорок) и был встречен при входе в храм о.Зноско с крестом. Встреча была тягостная: о.Зноско бледный, руки дрожат и ни слова приветствия… Тут же архимандрит Тихон и диакон Баротинский и другой диакон — Адамантов, приехавший из Висбадена для посвящения в иереи. Народу собралась полная церковь, много аристократии, помещиков, высших представителей нашей бюрократии и военнопленных из лагерей. Я служил с подъемом, сказал горячую речь. Настроение создалось хорошее, светлое…
После службы я поехал на завтрак к Боткину. Тут я обсудил, у кого мне надо побывать с визитом. Мне сказали, что сторонники о.Зноско группируются вокруг княгини О.В.Лопухиной–Демидовой (тетки покойного П.А.Столыпина). Эта богатая киевская помещица играла в Берлине в те дни большую роль. Держалась она с гонором не только по отношению к соотечественникам, но и по отношению к новым демократическим германским властям. На поклон к ней приезжали германские чиновники, польщенные, что могут побывать на ее великосветских приемах. Когда у нее заболела собачка, она обратилась в Министерство Иностранных дел с заявлением, что ей нужен ветеринар… В министерстве недоумевали, пожимали плечами: «Странно–странно…» — но ветеринара все же послали. В окружении ее оказался и Жилинский, его и о.Зноско она взяла под свое покровительство. У этой важной особы я потом побывал с визитом; ей польстило, что я приехал к ней, к первой.
Второй визит был к князю Ширинскому–Шихматову. Он встретил меня в русской поддевке и высоких сапогах, подчеркивая этим красивым народным нарядом свою преданность родной старине и ее быту.
Неприятное объяснение с о.Зноско состоялось в Страстной Четверг после «Двенадцати Евангелий». Такие дни! А между тем объясниться было необходимо. Сторонники архимандрита Тихона и он сам торопили меня со скорейшим изданием указа о его назначении. При посольской церкви кроме помещения о.настоятеля была еще комната для приезжающих, там можно было отдыхать до и после службы. По окончании «Двенадцати Евангелий» я пошел туда выпить чаю. За чаем сказал о.Зноско о назначении его в Тегель. «За что такая кара?» — спросил он. «Это не кара, не увольнение, а назначение», — ответил я, тем самым подчеркивая неправомочное его положение в посольской церкви. Этим объяснение и кончилось. Теперь оставалось лишь прислать ему официальную бумагу о назначении. Тут возникло осложнение. Канцелярии у меня еще не было, книг для входящих и исходящих бумаг тоже. Я хотел отложить это дело хотя бы до второго дня Пасхи, но конфликт с о.Зноско так в эмиграции обострился, что я счел нужным принять во внимание уговоры сенатора Бельгарда и архимандрита Тихона. Бумага была отослана.
В Страстную Пятницу я служил Царские Часы в Тегеле вместе с архимандритом Тихоном, а в два часа Вынос Плащаницы — в посольской церкви, предоставив сказать «слово» перед Плащаницей новому настоятелю. Зноско эту службу служил в Тегеле.
В Великую Субботу во время Литургии (в Тегелевском храме) я рукоположил в иереи диакона Адамантова. Это первое мое рукоположение в Западной Европе. В это время священник В.Зноско служил в посольской церкви и сказал возмутительную агитационную проповедь: плакал, жаловался, апеллировал к народу, в своих сторонниках подогревал настроение.
Пасхальную заутреню я служил в посольской церкви. Когда ехал из Тегеля в Берлин, испортился трамвай, был уже 11–й час, я волновался, боялся опоздать; не зная немецкого языка, не мог расспросить, долго ли простоим; наконец кое–как добрался. Храм и двор были полны народу, много солдат — военнопленных. Заутреня прошла с подъемом. Я долго христосовался с молящимися. Пасха пришлась на 1 мая по новому стилю. Куда после обедни деваться в 4–5 часов утра? Меня на автомобиле увезла разговляться к себе семья Безак. Елена Николаевна Безак, светская, чистая женщина, по натуре редко цельная, экспансивная, была радушной гостеприимной хозяйкой. Безак жили в Берлине хорошо, широко. Я оставался у них до вечерни, которую поехал служить в Тегель.
Понемногу жизнь стала налаживаться. О.Зноско покинул посольскую церковь, но отдал ключи не сразу, а после затяжных переговоров, вернуть же бумаги не согласился. Я был вынужден формально их затребовать и начать расследование о противлении архиерейской власти.
На очереди стояла теперь организация Епархиального управления. Церковный староста Берлинской церкви вручил мне 1000 марок; это было все, что церковь могла мне уделить. Я стал собирать членов Управления. Кроме меня и архимандрита Тихона в него вошли миряне: сенатор Бельгард, сенатор Нейдгард (казначей), а молодого юриста Дерюгина я пригласил для исполнения обязанности секретаря. Все деятели Епархиального управления получали минимальное вознаграждение, по мере накопления очень скромных епархиальных средств.
В те дни в Берлине наибольшую общественную активность проявляли эмигранты–монархисты, и мне поневоле пришлось жить в монархической орбите. В этой среде шла энергичная подготовка к Монархическому съезду в Рейхенгале. На одном собрании, на котором был поднят вопрос о положении Церкви в восстановлении России, я побывал, но сразу увидал, что ничего нового, творческого в постановке вопроса нет. Собрание сбивалось на старый лад, доходило до крайних утверждений — например, высказывались суждения, что постановления Всероссийского Церковного Собора не имеют силы, потому что не подтверждены императором… Меня пригласили на Рейхенгальский съезд и просили перед открытием его отслужить молебен и преподать благословение.
На Рейхенгальский съезд уже после открытия заседаний прибыл митрополит Антоний. Он сказал прочувствованное приветствие, прослезился, упомянув строчки из лермонтовского «Бородина»:
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать…
Меня просили организовать церковную комиссию. Я организовал ее, но работа в комиссии меня не удовлетворяла: заметен был прежний бюрократический уклон к подчинению Церкви государству. Председатель Крупенский не хотел, чтобы я выступил с докладом, якобы по недостатку времени, а может быть, потому, что не придавал моему докладу важного значения или не считал его совпадающим с основной политической линией Съезда. Не дожидаясь окончания заседаний, я уехал на освящение новой церкви в Брюкенау (близ Киссингена).
Эта церковь возникла благодаря стараниям баронессы Марии Александровны Будберг. Муж ее был русским представителем при Баварском дворе. Богатый человек, он обзавелся большим поместьем в Брюкенау и пользовался популярностью среди местного населения. Когда он задумал устроить там православную церковь, местные власти отвели для нее в ратуше свободное помещение. После революции благоволение кончилось и было велено церковь из ратуши убрать. Барон Будберг умер, вдова его, набожная православная женщина, осталась в своем поместье, а когда поднялся вопрос о ликвидации церкви, перевезла все церковное имущество к себе в павильон усадьбы. Узнав, что я поблизости, в Рейхенгале, она обратилась ко мне с просьбой освятить новый храм. На освящение со мною поехал сенатор Бельгард, и я взял с собою бывшего секретаря нашего посольства в Брюсселе Н.А.Бера, который в то время уже приближался к священству и был посвящен в стихарь, и иеродиакона Феодосия, которого привез с собою в Рейхенгаль митрополит Антоний.
Из Брюкенау я заехал в Киссинген, осмотрел там наш прекрасный курортный храм Преподобного Сергия и отслужил молебен. Все имущество церковное — сосуды, облачения, книги… сохранилось в целости в местном городском сейфе, и я имел возможность их осмотреть.
Отсюда мы уехали в Берлин, куда вскоре прибыл и митрополит Антоний. Высший Монархический совет избрал его почетным председателем, а меня — его заместителем. Я рукоположил Бера в диаконы, а митрополит Антоний, который прожил в Берлине с неделю, рукоположил его в иереи. Тегельский приход пустовал (о.Зноско отказался быть его настоятелем), и я назначил туда о.Бера, одновременно сделав его членом Епархиального управления.
Вскоре по возвращении в Берлин я получил письмо, которое меня и тронуло и удивило, — от профессора богословия Оренбургского университета герцога Максимилиана Баденского. По вероисповеданию католик, он в богословских своих трудах разрабатывал проблему соединения церквей, был последователь знаменитого Загребского епископа Штросмайера, оказавшего огромное влияние на В.Соловьева. Светлый ум, великодушное сердце… В моем лице он выражал горячее сочувствие Русской Церкви и русскому народу в годину страшных бедствий (в 1921 году голод дошел до крайних пределов, до случаев людоедства) и извещал меня, что присылает мне сумму денег на семена, которые желательно было бы препроводить на имя Патриарха (либо деньгами, либо натурой) для распределения их, по его усмотрению, среди нуждающихся. Я купил вагон пшеницы, немецкий Красный Крест взялся его доставить в распоряжение Патриарха; вскоре Патриарх был арестован, и лично от него я не мог получить извещения о доставке семян, но мне кружным путем удалось узнать, что пшеница до крестьян Саратовской губернии дошла.
Приблизительно в это же время (в мае–июне 1921 г.) я получил пакет от Петроградского митрополита Вениамина [
[112]] со следующими важными бумагами: 1) основной, важнейший документ — указ Патриарха Тихона на мое имя об утверждении меня в должности архиерея, управляющего Русской Церковью в Западной Европе; 2) копия этого указа, адресованная на имя Финляндского архиепископа Серафима, и 3) собственноручное письмо митрополита Вениамина — мне.
Привожу текст этих документов.
1) Преосвященному Евлогию, Архиепископу Волынскому и Житомирскому.
По благословению Святейшего Патриарха, Священный Синод и Высший Церковный Совет, в соединенном присутствии, слушали: письмо Преосвященного Финляндского, от 5 марта сего года, по ходатайству настоятеля церкви при Российском Посольстве в Париже протоиерея Иакова Смирнова о преподании указания по поводу постановления Высшего Русского Церковного Управления за границей о назначении Вашего Преосвященства управляющим, на правах епархиального архиерея, всеми заграничными русскими церквами в Западной Европе.
ПОСТАНОВЛЕНО: Ввиду состоявшегося постановления Высшего Русского Церковного Управления за границей считать православные русские церкви в Западной Европе находящимися временно, впредь до возобновления правильных и беспрепятственных сношений означенных церквей с Петроградом, под управлением Вашего Преосвященства, и имя Ваше должно возноситься за богослужением в названных храмах, взамен имени Преосвященного Митрополита Петроградского, о чем и уведомить Преосвященного Митрополита Петроградского, Ваше Преосвященство и Архиепископа Финляндского. 26 марта — 8 апреля 1921 г. № 423.
Член Священного Синода М.Евсевий.
Делопроизводитель Самуилов.
2) Преосвященному Серафиму, Архиепископу Финляндскому и Выборгскому.
По благословению Святейшего Патриарха, Священный Синод и Высший Церковный Совет, в соединенном присутствии, слушали: письмо Вашего Преосвященства, от 5 марта сего года, по ходатайству настоятеля церкви при Российском посольстве в Париже протоиерея Иакова Смирнова о преподании указаний по поводу постановления Высшего Русского Церковного Управления за границей о назначении Преосвященного Волынского Евлогия управляющим, на правах епархиального архиерея, всеми заграничными русскими церквами в Западной Европе.
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду состоявшегося постановления Высшего Церковного Управления за границей считать православные русские церкви в Западной Европе находящимися временно, впредь до возобновления правильных и беспрепятственных сношений означенных церквей с Петроградом, под управлением Преосвященного Волынского Евлогия, имя которого и должно возноситься за богослужением в названных храмах, взамен имени Преосвященного Митрополита Петроградского, о чем и уведомить Ваше Преосвященство.
Марта 26 дня 1921 г. № 424.
Апреля 8.
Член Священного Синода М.Евсевий.
Делопроизводитель Нумеров.
3) В.П.И.
Митрополит
Петроградский и Гдовский
8/21 июня 1921 г.
Петроград.
Ваше Высокопреосвященство
Досточтимейший
Владыка
С своей стороны я даю полное согласие, чтобы в это время, когда почти нет сношений с заграничными церквами, Вы заведовали ими, тем более что это временное заведование Вашим Высокопреосвященством указанными церквами признано и подтверждено и Свят. Патриархом.
Душа моя болела за эти церкви, но помочь им было невозможно.
Вашего Высокопреосвященства покорный послушник
Вениамин, Митрополит Петроградский.
Разумеется, эти документы совершенно укрепили мое каноническое положение; источником своих церковных полномочий я имел уже не Временное Заграничное Церковное управление, а высшую власть Русской Церкви.
Постепенно я вошел в работу и стал расширять сферу моей архиерейской деятельности. Прежде всего я обратил внимание на германские лагери [
[113]], где находилось еще много наших солдат, офицеров, сестер милосердия, священников…
Я начал посещение их с лагеря Вюнсдорф (неподалеку от Берлина), там находилось несколько сот русских. Меня пригласили туда на Пасхальной неделе. Русские в лагерях имели своих священников и всюду устрояли своими руками маленькие, убогие, но трогательные церковки. В Вюнсдорфе священником был о.Владимир Лотоцкий, бойкий молодой человек, но не совсем примерный пастырь, в плену довольно распустившийся. Мой приезд, архиерейское служение в переполненной народом бедной церковке, до слез трогательная наша встреча… — были великой взаимной радостью. Я обошел бараки лагеря. Какое убожество! Стены и полы в щелях, отовсюду дует, неприглядная обстановка… Я поговорил с измученными, исстрадавшимися соотечественниками [
[114]], утешал их, слова лились непроизвольно. Наши встреча и беседа были обоюдным утешением. Начальство лагеря, важные немецкие командиры, по отношению ко мне были вежливы, снимались вместе с нами на фотографиях и всячески старались выказать свое благоволение.
Потом я посетил другой лагерь — Кведлинбург. И тут тоже церковка, бедная, убогая, с бумажными иконками, с колоколом из кусочков рельс. Зато староста, капитан Малинин, с такой заботливостью относился к ее благоустройству, что можно поистине сказать, что он отдавал храму всю душу. Во главе прихода стоял протоиерей Шафрановский. Бараки не лучше, чем в Вюнсдорфе: жалкие койки, соломенные тюфяки, неблагоустроенное помещение… В прачечной работали русские женщины, родственницы заключенных в лагере. Заведовала ею жена одного дивизионного командира. «Была когда–то барыней, прачки у меня стирали, а теперь я научилась и сама стираю не хуже», — просто сказала она.
Та же обстановка и в лагере Целлэ. Настоятелем лагерной церкви был протоиерей о.Николай Подосенов, с академическим образованием; он имел большую семью, ходил в каком–то жалком белом пиджачке, часто приезжал в Берлин, где добрые люди ему помогали.
После объезда лагерей я устремил свое внимание на Париж.
Б.А.Татищев, староста Парижской церкви, прислал мне ласковое приветствие с просьбой посетить парижский приход. Я стал готовиться к отъезду. Облачение у меня было, а мантии не было. Тут подвернулся счастливый случай. Приехал из Висбадена священник о.Адамантов и показывает пожертвованное какой–то дамой бархатное платье. Диакон Вдовенко осмотрел его и дал свое заключение: «Выйдет отличная мантия». В Париж я поехал уже с мантией.
Я прибыл во французскую столицу за три дня до праздника святого Александра Невского (30 августа). На вокзале меня встретили М.А.Маклакова, о.Иаков Смирнов, о.Николай Сахаров, Т.А.Аметистов и отвезли на рю Дарю, где в квартире настоятеля о.Иакова Смирнова мне было приготовлено помещение.
Первое богослужение в Парижской церкви не произвело на меня впечатления благолепия. Многое было примитивно, даже убого. Приходский совет во главе с графом В.Н.Коковцовым и А.Ф.Треневым устроил мне встречу. Я сказал приветственное «слово».
Я пбзнакомился с причтом, с Приходским советом, заметил нелады среди его членов, отсутствие дисциплины, увидал бунтарское настроение одного из псаломщиков (Леоновича).
На другой день по моем приезде пришел ко мне однорукий протоиерей Соколовский с крестом на Георгиевской ленте; эту боевую награду он получил за то, что ходил в атаку на немцев с бомбою и в этом бою потерял руку. О.Соколовский обратился ко мне с жалобами на невнимание к нему, герою войны, Приходского совета, который не соглашается провести его в штатные священники при Александро–Невской церкви, тогда как бывший Министр Иностранных дел Сазонов этого желает… Резкий, вызывающий тон его речи, острый взгляд глаз заставили меня быть осторожным: я отвечал уклончиво. Он возил меня к некоему Брянчанинову на какое–то собрание приходской оппозиции, где дебатировались церковные вопросы в духе Всероссийского Церковного Собора и клеймился старый, затхлый дух, который якобы характеризует приходскую жизнь Парижской церкви. Потом я понял, что священник Соколовский хотел меня поссорить с Приходским советом и причтом, которых он вооружал против себя своим желчным характером и неосновательными претензиями.
В Париже я пробыл около двух недель. Город поразил меня богатством, изобилием продуктов (белый хлеб!), потреблением их без всякого учета. В Берлине мы привыкли к крайней экономии во всем.
К празднику Воздвижения Креста (14 сентября) я приехал в Лондон. Меня сопровождали протодиакон о.Н.Тихомиров и диакон о.Вдовенко. По прибытии в Лондон о.Вдовенко спохватился, что забыли захватить мою мантию. Пришлось телеграфировать, и на другой день мантия прилетела на аэроплане. Я остановился у бывшего нашего морского агента Волкова и его супруги Веры Николаевны; они привезли меня к себе домой прямо с вокзала.
В Лондоне меня ожидали тяжелые впечатления. Настоятель посольской церкви, престарелый протоиерей Евгений Смирнов, революции не испытал, привык иметь дело с важными, знатными людьми, служить послам, в домашнем укладе придерживался великосветского тона и, гордый и надменный по натуре, не мог разобраться в психологии эмигрантской массы, нахлынувшей в Лондон (главным образом с северного, «белого», фронта), не понимал ее и только раздражался.
Посольский храм находился при доме настоятеля. Раньше там покойников не отпевали, потому что матушка о.Смирнова не выносила их присутствия в том же здании (покойников отпевали на кладбище), теперь приходилось о таких порядках забыть, все изменилось. К о.Смирнову приставали люди с новыми, с его точки зрения недопустимыми, требованиями. Он был в ужасе. «Демократия! Большевики какие–то наехали! Хотят командовать! Это же власть толпы…» — возмущался он. Эмигранты группировались вокруг своего батюшки о.Лелюхина, которого они привезли с собою и отдавали ему предпочтение. Это тоже был повод к неудовольствию о.Смирнова. А между тем провести о.Лелюхина во вторые священники при посольской церкви было необходимо. О.настоятель отправился с жалобой в Министерство Иностранных дел. Возмущение и страдание его были искренние: он не понимал, что в России произошло и что русские люди испытали… На заседаниях Приходского совета он горячо спорил, возражал, а ему кричали: «Вы наемник! Вы не учитываете постановлений Всероссийского Церковного Собора!..» — словом, атмосфера вокруг Лондонской церкви сгустилась, и было ясно, что старцу–настоятелю с новой церковной общественностью не совладать. Старые и новые взгляды противостояли друг другу непримиримо. О.Смирнов, не привыкший считаться с какими бы то ни было заявлениями псаломщиков, теперь был вынужден выслушивать заявления и требования каких–то пришлых русских людей, столь не похожих на его прежних, чопорных, благовоспитанных прихожан. Я пытался его уговаривать: «Будьте снисходительны, приласкайте их…» Но о.Евгения переубедить было трудно. Бедный старик не выдержал этого натиска новых людей, скоро захирел и скончался.
В общем Лондонский приход оставил впечатление какого–то тяжелого кризиса: новая жизнь врывалась бурно и беспорядочно.
После недельного пребывания в Лондоне я направился через Париж в Ниццу.
В Ницце другая картина. Большой, чудный собор в русском стиле, с прекрасными колоколами. Служил в нем полуслепой старичок–священник о.Александр Селиванов, необразованный, из диаконов. Староста князь Волконский просил меня утвердить этого бедного старичка настоятелем. Экономической базой прихода заведовал член Приходского совета Андрей Степанович Чудинов, богатый, щедрый благотворитель, который в одну из первых наших встреч вручил мне большую сумму на бедных.
В Ницце скопилась в те дни активная политическая группа эмиграции, возглавляемая Великим Князем Кириллом Владимировичем. К этой группе примыкали и некоторые другие его родственники, а из духовенства старался играть роль бывший настоятель посольской церкви в Афинах, архимандрит Сергий Дабич. Он жил в отеле на широкую ногу, устраивал приемы, на которых бывали и Великие Князья. Настроения в местной эмиграции царили чисто политические, атмосфера была сгущенная, монархическая, реставрационных вожделений не скрывали. О большевиках говорили как о временном прерыве монархического строя, а затем наступит старая привольная жизнь…
На Ривьере мне предстояло осмотреть еще две церкви: в Канне и в Ментоне.
В Канне у нас небольшая, но красивая церковь. Настоятелем ее долгие годы был протоиерей Григорий Остроумов. Он привык смотреть на свой приход, как на вотчину или на поместье, которое отдано ему в полное и даже наследственное владение. С первой же встречи я почувствовал настороженность — не посягну ли я на его «владение». «Вы не обидите… я и дети должны здесь доживать свой век». Однако дети его прямого отношения к церкви уже не имели: сыновья совсем офранцузились и от церкви отошли, а зять его, диакон, женатый на его дочери, заделался таксистом и даже на мою встречу не явился.
О.Остроумов сказал мне, что Великий Князь Николай Николаевич проживает в Антибах, неподалеку от Канн: «Не забудьте нашего великого человека, окажите ему честь…» Я решил съездить к бывшему Верховному Главнокомандующему. Оба брата, Николай Николаевич и Петр Николаевич, жили вместе, рядом, в двух виллах. Я был приглашен к завтраку. Из нашей беседы выяснилось, что в Антибах к монархическим притязаниям Великого Князя Кирилла Владимировича относились враждебно, считали, что он законных прав на престол на имеет, и приводили доказательства.
После завтрака я посетил художественную мастерскую Великого Князя Петра Николаевича. Простой, смиренный человек, Петр Николаевич отдавал все свои досуги искусству и, мечтая о реставрации женского монастыря в Киеве, основанного его матерью, подготовлял соответствующие художественные образцы.
Потом я проехал в Ментону. Здесь у нас маленькая, но прекрасная церковь во имя Скорбящей Божией Матери, просторный дом (построенный когда–то для туберкулезных) и вилла «Innominata», где жил священник. Настоятель Ментонской церкви протоиерей Н.Аквилонов, застигнутый революцией, остался в России, и теперь в приходе шла борьба двух священников, участников Великой войны на французском фронте: кому из них быть настоятелем? Прихожане раскололись; одни стояли за о.Н.Цветаева, другие — за о.Д.Барсова. Я назначил священника Барсова в Баден под Веной, а о.Цветаева оставил в Ментоне, тем самым конфликт был улажен. Однако были и другие трения — шли раздоры в Братстве св.Анастасии. Покровительницей его была Вел. Кн. Анастасия Николаевна, но она от Братства отошла и передала председательские функции своему секретарю Палтову, не состоявшему даже членом Братства. Это было грубым нарушением устава — отсюда раздор. В это время в Ницце проживал маститый старец, протоиерей Сергий Протопопов, бывший настоятель церкви в Висбадене. Этот священник, прекрасной души, был одарен композиторским талантом и написал Литургию. В молодости он был настоятелем Ниццкой церкви; ему как старому члену Братства я поручил созвать общее собрание Ментонского Братства, провести это собрание под своим председательством и восстановить деятельность этой организации. Однако Палтов постановлений собрания не признал; затеялся судебный процесс, не оконченный и до сего дня; Братство попало под секвестр французских властей [
[115]].
Объехав Ривьеру, я направился через Париж в Висбаден.
Златоглавый Висбаденский собор — достопримечательность, о которой даже упоминается в путеводителе Бедекера. Кроме собора есть еще другая небольшая церковь, дом, лес и кладбище — словом, большое церковное имущество.
В Висбаденском приходе раздоров я не нашел, но приход был совсем мертвый. Настоятель о.Адамантов об оживлении приходской жизни особых забот не проявлял. За всенощной, на которой я присутствовал, храм был почти пустой — три–четыре молящихся. Псаломщика нет, священник о.Адамантов и за диакона и за псаломщика (если не считать любителя Ю.Н.Маклакова, подтягивавшего на клиросе).
Я принял кое–какие меры, чтобы оживить приход.
В Берлин я вернулся к 22 октября, к празднику Казанской иконы Божией Матери. Погода стояла уже осенняя, холодная.
Дорогой диакон Вдовенко схватил воспаление легких и тяжко проболел до Рождества.
Объезд приходов обнаружил большое расстройство церковно–приходской жизни во всех мною посещенных приходах, но особенно тяжелое впечатление оставили Ментона и Висбаден.
По возвращении в Берлин я получил письмо от Патриарха Тихона: он предлагал мне отправиться в Америку для ревизии Североамериканской епархии. Ее глава, епископ Александр, так запутался в финансовых операциях с церковным имуществом, что паства заволновалась, запротестовала…
Перед революцией Североамериканской епархией управлял епископ Евдоким. Личная его жизнь давала повод к обоснованным нареканиям, и епископ Евдоким воспользовался благовидным предлогом — необходимостью присутствовать на Всероссийском Церковном Соборе — и покинул Америку с тем, чтобы больше туда не возвращаться… Епископа Евдокима заменил епископ Александр Канадский (Немоловский). После революции финансовое положение Североамериканской епархии стало критическим. Субсидии, которые раньше отпускал Священный Синод, прекратились, отсутствие материальной поддержки казалось затруднением временным, мысль о каких–нибудь практических путях для самостоятельного добывания средств еще не созрела, — и епископ Александр, в хозяйственных делах человек неопытный, послушался каких–то советчиков и заложил наши церкви до собора в Нью–Йорке включительно. Это обеспечило на время оплату духовенства, но когда наступили сроки платежей по закладным, платить было нечем. Поднялись протесты, возникли серьезные трения с карпатороссами — словом, положение создалось запутанное и тревожное. Митрополит Платон проживал тогда в Америке как гость и в разрешении конфликта принять участия не мог. Распутывать путаницу предстояло мне. Председатель Русского Православного общества взаимопомощи в Америке протоиерей И.Коханик прислал мне денег на дорогу. Я написал митрополиту Платону и епископу Александру о письме Патриарха с предложением ревизовать Североамериканскую епархию. В ответ от обоих — уверения, что мой приезд излишен. «Ради Бога, не приезжайте, для ревизии не стоит приезжать… Если бы вы деньги привезли, — ну тогда другое дело…» — писал митрополит Платон; а епископ Александр энергично заявлял, что мой приезд бесцелен: «…К какому бы заключению ревизия ни пришла, я все равно останусь, у меня много сторонников…» На основании этих писем я написал Патриарху, что при таких обстоятельствах возложенного на меня поручения выполнить не могу и предложил поручить ревизию митрополиту Платону. Патриарх мне ответил, что это нецелесообразно: «Владыка Платон в этом деле не беспристрастен…» Вскоре я получил предложение от нашего архиерейского Синода в Сербии: «Съездите в Америку и исполните приказ Патриарха». Я это предложение отклонил, и вот почему.
Во время моей поездки во Францию началась подготовка к Карловацкому съезду, который Высшее Церковное Управление под председательством митрополита Антония постановило созвать текущей осенью. Карловацкий съезд, задуманный как продолжение линии Рейхенгаля, был теперь уже не за горами. На Съезде должны были разбираться и дела моей епархии. Почему же под благовидным предлогом меня хотят устранить? Я решил, что на Съезде мне быть надо и от поездки в Америку отказался. Теперь сознаю, что надо было слушаться Патриарха, не рассуждая…
Североамериканскую епархию спас бывший посол Временного правительства Бахметьев. Он дал деньги на выкуп наших церквей. Епархиальное собрание приходов возвело епископа Александра в сан архиепископа и послало акт об этом постановлении на утверждение Патриарха. Патриарх его утвердил.
Наступила осень (1921 г.). Я стал собираться на Съезд в Карловцы.
Конституция Съезда была такая. В него вошли все члены Высшего Церковного Управления; пребывающие за границей русские епископы; члены Всероссийского Церковного Собора; и делегаты: а) от русских православных приходов в разных странах, б) от военно–морских церковных кругов, в) от Штаба Главнокомандующего русской армией, г) от монашествующего духовенства; и кроме того, ряд лиц, приглашенных по личному усмотрению митрополита Антония как заведующего русскими православными общинами в Сербии, митрополита Евлогия как управляющего церквами в Западной Европе, архиепископа Анастасия как управляющего православными общинами в Константинополе и епископа Вениамина как управляющего военно–морским духовенством.
Делегатами от моей епархии на Съезд поехали: архимандрит Тихон, о.Подосенов, сенатор Бельгард, князь Ширинский–Шихматов, о.Н.Сахаров, о.Троицкий, граф Граббе, князь П.С.Волконский, о.Лелюхин, о.Бер, генерал Гулевич и др.
К Съезду необходимо было подготовить дело о.Зноско. Следствие о его деятельности я поручил о.Подосенову. Человек добросовестный и точный, он собрал весьма внушительное «досье». По закону, прежде чем судить обвиняемого, надо вручить ему обвинительный акт: может быть, обвиняемый найдет что–нибудь сказать в свое оправдание. О.Зноско просил разрешения приехать в мою канцелярию, чтобы рассмотреть собранный материал. Я разрешил. Он приехал, ему вручили папку, он уселся в уголке и стал читать бумаги. В канцелярии было много народу. О.Зноско попросил дать ему возможность заняться своим делом в какой–нибудь другой комнате. О.Бер повел его к себе. От времени до времени кто–нибудь из нас наведывался, чтобы последить за ним. Он усердно перелистывал документы и что–то все писал. Когда подошел час завтрака, я позвал его в столовую, но о.Зноско отказался: «В этом доме, где я так настрадался, есть не буду…» — и продолжал писать. Во время завтрака, когда псаломщик зашел в комнату, чтобы взять пакет с хлебом, о.Зноско, стоявший у открытого окна, быстро его захлопнул. После завтрака я ушел к себе отдохнуть, предоставив о.Беру наблюдать за о.Зноско. Стало уже темнеть. О.Зноско заявил о.Беру, что ему надо на минутку удалиться… Он ушел — и не вернулся. Бросились к папке — «дело» из нее исчезло, а вместо документов пачка простой бумаги… Несомненно, в ту минуту, когда псаломщик вошел за хлебом, он и выкинул «дело» в палисадник, а потом подобрал его — и скрылся. Мы предали его духовному суду и представили его к лишению сана, но для утверждения постановления епархиальный архиерей должен направлять подобные приговоры в высшую инстанцию. Вот почему я подготовлял дело о.Зноско к Карловацкому съезду [
[116]].
В Карловцы я выехал в сопровождении архимандрита Тихона и о.Подосенова. Пока мы возились с визами и паспортами, остальные делегаты незаметно уехали. Была какая–то политика, чтобы опередить меня и чтобы я не попал к началу Съезда. Может быть, кому–то было нежелательно, чтобы меня выбрали в Товарищи Председателя, а может быть, были какие–нибудь другие соображения, — не знаю…
Когда мы прибыли на Съезд, президиум был составлен: Председатель — митрополит Антоний и четыре Товарища Председателя: 1) архиепископ Анастасий, 2) протоиерей о.Орлов, 3) А.Н.Крупенский и 4) князь Ширинский–Шихматов.
Я узнал от епископа Вениамина, возглавлявшего Константинопольскую делегацию, что монархисты на Съезде хозяева положения и что, по–видимому, они поведут его по политической линии… Я узнал также, что Карловацкий съезд, именовавший себя «Церковным собранием», переименовывался единогласным решением присутствующих членов в «Русский Всезаграничный Собор». В самом начале Съезда устроили враждебную демонстрацию бывшему Председателю Государственной думы М.В.Родзянко, который должен был удалиться.
Обсуждение общецерковных вопросов проходило спокойно. Оживленно обсуждали проблему обложения, причем мои приходы подверглись наибольшему обложению: их считали богатыми.
Гвоздем Съезда было заявление «Собора» о восстановлении в России династии Романовых. Предполагалось направить особое «Обращение» в Лигу наций и ко всем правительствам держав, дабы оповестить о состоявшемся постановлении. В отделе «Духовное возрождение России» Марков прочел доклад, в котором изложил основные мысли проекта «Обращения». Они сводились не только к утверждению самого принципа монархизма, но и подчеркивали политическую миссию Карловацкого съезда — заявить от имени всего русского народа, что Дом Романовых продолжает царствовать… «Если мы здесь не вся Церковь, то мы та часть Ее, которая может сказать то, чего сказать не может оставшаяся в России Церковь. Монархическое движение в России растет. Это подтверждается теми многочисленными письмами, которые получаются из России… Письма эти — голая правда, и скоро заплачет тот, кто им не поверит. Народ русский ждет Царя и ждет указания этого Царя от Церковного собрания… Мысль обращения: Дом Романовых царствует, и мы должны его отстаивать…» — вот отрывок из речи докладчика.
Перед голосованием «Обращения» были долгие и жаркие дебаты в продолжение двух–трех заседаний. Я уговаривал наиболее влиятельных монархистов: «Поберегите Церковь, Патриарха… Заявление несвоевременно. Из провозглашения ничего не выйдет. А как мы отягчим положение! Патриарху и так уже тяжело…» Марков обратился ко мне: «Что с вами? какая перемена!..» Единомышленники его тоже яростно на меня напали. Я защищал свои убеждения и не раскаиваюсь. Тон был мною взят верный. Мои опасения за Церковь и Патриарха, увы, впоследствии оправдались… Митрополит Антоний, в политических вопросах детски наивный, не мог учесть последствий рокового «Обращения к православным русским беженцам за границей», явно монархического по содержанию и продиктованного эмигрантскими политическими страстями.
При голосовании 2/3 голосов высказалось за «Обращение», 1/3 — против. 34 члена, в их числе и я, остались при особом мнении и подали мотивированное заявление следующего содержания:
«Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что данная большинством Отдела «Духовного возрождения России» постановка вопроса о монархии с упоминанием при том и династии носит политический характер и, как таковая, обсуждению Церковного Собрания не подлежит; посему мы в решении этого вопроса и голосовании не считаем возможным принять участие. Архиепископ Евлогий, архиепископ Анастасий, епископ Аполлинарий, епископ Вениамин; протоиерей Троицкий, протоиерей М.Слуцкий, епископ Сергий, протоиерей Руденко, архимандрит Антоний, Н.Квасков, И.Никаноров, Ненарокомов, В.Вернадский, епископ Максимилиан, протоиерей П.Беловидов, протоиерей С.Орлов, архимандрит Феодосий, иеромонах Иоанн, протоиерей Д.Трухманов, В.Розов, генерал Соловьев, протоиерей И.Лелюхин, С.Троицкий, протоиерей В.Виноградов, протоиерей М.Конограй, В.Чистяков, С.Колоссовский, Е.Киселевский, Е.Ковалевский, Е.Москов, протоиерей Н.Сахаров, протоиерей Стельмашенко, Н.Львов».
Корреспондентом на Съезде от эмигрантской печати был журналист Александр Иванович Филиппов. Информацию о Съезде он печатал в издаваемой в Париже газетке «Общее Дело», изобличая монархический активизм Карловацкого собрания. Газетка попала в Москву, а в результате — отягчение участи Патриарха и мстительно–жестокий суд над Петроградским митрополитом Вениамином… Только злой дух мог продиктовать «Обращение», принятое на Карловацком съезде…
2 декабря Съезд закрылся, и делегаты разъехались.
Из Карловцев я проехал в Прагу. Настоятелем Пражского прихода я назначил протоиерея Стельмашенко (из Киева). Он окончил университет и Духовную Академию, а потом был директором основанной им собственной гимназии. Человек ловкий, энергичный, о.Стельмашенко успел, однако, кое с кем в приходе перессориться и возбудить к себе недружелюбное отношение. С чехами он тоже не ладил. Добывая отнятую церковную утварь, которую кто–то не хотел отдавать, он пожаловался в Министерство.
О.Стельмашенко упросил меня съездить с ним к Товарищу Министра Иностранных дел, чеху–легионеру, побывавшему в Сибири (прежде он был в Киеве врачом). Я согласился. В беседе с Товарищем Министра я старался поддержать наши законные притязания на отнятое имущество, ссылался на контракт и т. д., сказал, что хотел бы за время пребывания в Праге все уладить.
– А у вас надолго виза? — спросил меня Товарищ Министра.
– У меня виза транзитная.
– Ах, — транзитная… Тогда вы должны уехать сегодня же с вечерним поездом. Я скажу, чтобы понаблюдали за вашим отъездом… во избежание неприятностей.
Я был вынужден покинуть Прагу.
Проездом в Берлин я остановился в Дрездене. Настоятелем здесь был назначенный мною холмский священник о.Можаровский. Ему удалось сорганизовать группу прихожан, и в приходе чувствовались жизнь и теплая атмосфера. Я отслужил в воскресенье Литургию и уехал в Берлин.
Приближалось Рождество Христово. Мы стали готовиться к праздникам. Мне приходилось постоянно ездить на службы из Тегеля в посольскую церковь на Унтер ден Линден. Утомительное, беспокойное путешествие. Долгая езда на трамваях, пересадки, ожидание на пересадках, дождь, туман, на улицах грязь… В длинной рясе — беда! Помню, я сел в трамвае, распустив рясу по грязному полу, а какой–то попутчик мне по–русски: «Подбери рясу–то! Это же не Царевококшайск…» После всенощных, которые затягивались до 9 часов, приходилось возвращаться в непогоду, во тьме (фонарей было мало), шлепая по лужам, а доедешь до Тегеля, до дому еще ходьбы минут десять. Приезжал промокший, усталый. Особенно тяжко было путешествие перед обедней. Приедешь в храм утомленный, и нет свежести духа, столь необходимого для служения Литургии.
На Рождестве произошел эпизод, который мне праздник немного отравил.
В первый день Рождества зашел ко мне в комнату, где после обедни я пил чай, какой–то господин и отрекомендовался чиновником сербского посольства. Я предложил чаю. Он мне рассказал, что в посольстве на Рождественские дни все разъехались, он один, ему скучно, — вот он и пришел в наш храм помолиться. Из его реплик я заключил, что ему известны наиболее видные сербские иерархи. Узнав, что я на другой день служу в Тегеле, он сказал, что тоже туда приедет. И верно, — приехал. Я позвал его к завтраку в нашу общую столовую. Он уклонился: «Нет, уж позвольте остаться в вашей комнате… я никого здесь не знаю, мне бы не хотелось…» Я не настаивал. Во время завтрака он постучался в столовую: «Можно мне пока погулять на кладбище?» — «Пожалуйста…» С прогулки он не вернулся. Хватился я моих золотых часов, оставленных в комнате, — нет часов… Сербский посланник потом смеялся: «Ну и доверчивость!» Расследование ни к чему не привело, хоть мне и принесли альбомы с фотографиями воров. Ну где ж узнать!
30 декабря (старого стиля) я получил телеграмму с извещением о смерти настоятеля Брюссельской церкви протоиерея Александра Смирнопуло. Надо было ехать на похороны, спешно добывать визы и т. д. Я успел побывать накануне Нового года на детской елке, устроенной русско–немецким обществом, и отслужил там молебен. Новогоднюю ночь провел в вагоне. Меня сопровождал диакон Вдовенко.
Я выписал на погребение настоятеля Парижской церкви о.Иакова Смирнова. Прибыл и греческий архимандрит из Антверпена. В Брюсселе церковь маленькая, примыкающая к дому настоятеля. Певчие полубельгийцы–полурусские выговаривают слова песнопений с акцентом. За регента старичок, сын бывшего псаломщика. Похоронную процессию я повел из церкви до самого кладбища: в Бельгии это разрешается.
Я познакомился с бельгийской паствой, и она объединилась вокруг меня.
О.Смирнов попросил меня заехать в Париж. На Крещенье я служил в церкви на рю Дарю. В этот приезд я приобрел нового священника. Ко мне пришел бывший Обер–Прокурор Святейшего Синода П.П.Извольский и поведал о своем желании принять священный сан. Я был этому рад. В Париже я пробыл недолго, рукоположил Извольского в диаконы и уехал в Лондон. Здесь группа прихожан подарила мне часы, прослышав о краже моих часов в Берлине.
По возвращении в Париж я рукоположил П.П.Извольского в иереи и предоставил ему выбрать один из трех приходов: Ниццу, Флоренцию или Брюссель. В Ницце и во Флоренции у него было много близких и знакомых, Брюссель был город более ему чужой, но Брюссельский приход был наиболее ответственный — и мы, обсудив все обстоятельства, решили, что надо — в Брюссель. О.Петр был священнослужителем еще неопытным, по выражению митрополита Антония о новичках, «не отличал вечерни от «Богородицы», но это затруднение уладилось. Псаломщик Парижской церкви Стасиневич, кандидат богословия и отличный уставщик, попросил у меня разрешения последовать за о.Петром в Брюссель. Я охотно согласился. С его помощью о.Петр вскоре прекрасно усвоил устав.
В Ниццу я назначил о.Подосенова, о.М.Стельмашенко, не ладившего с приходом и чехами, перевел во Флоренцию, а о.Гр.Ломако (из Константинополя) послал в Прагу.
В этот мой приезд во Францию поднялись уже серьезные разговоры о моем переселении из Берлина в Париж. На общественно–церковных собраниях в здании нашего посольства ко мне обращались представители различных эмигрантских групп, а также и отдельные лица с просьбой обосноваться во Франции, с выражением пожеланий, чтобы я на переезд согласился. Среди этих лиц — В.В.Неклюдова, ставшая впоследствии во главе парижского сестричества. В Приходском совете был поднят вопрос о практической стороне моего переезда, о том, где мне жить, если я перееду. Старосте Лелянову пришла мысль отвести мне квартирку из трех комнаток в нижнем этаже одного из двух церковных домов при церкви на рю Дарю. Квартирка была нежилая. Одна из комнат находилась в распоряжении старосты: он там считал деньги; во второй стоял манекен матушки о.Сахарова и были сложены какие–то ее вещи; третья — кладовка.
С меня взяли слово, что на Пасху я непременно в Париж приеду.
Вернувшись в Берлин, я вновь занялся своими делами.
В конце февраля (или в марте) среди берлинской эмиграции распространился слух о прибытии кого–то из Москвы с известием, что Патриарх возвел меня в сан митрополита. Я не поверил. Но вот как–то раз на одном литературном собрании прихожан подходит ко мне протодиакон и говорит: «А ведь — верно! Приехали из Москвы какие–то коммерсанты, и в кармане у них патриарший указ на Ваше имя…» — «Вы путаете, что–нибудь не так…» — ответил я. «Нет, — верно! Завтра они приедут к вам». На другой день, действительно, указ был мне вручен. Вот его текст:
Преосвященному Евлогию, бывшему Архиепископу
Волынскому и Житомирскому.
По благословению Святейшего Патриарха, Священного Синода слушали: предложение Святейшего Патриарха, от 14/27 января сего года, о возведении Вашего Преосвященства в сан Митрополита с пожалованием Вам белого клобука и креста на митру, во внимание к тридцатилетней (в том числе 20–й год в архиерейском сане) отлично–усердной службе Вашей, неустанным заботам и трудам по воссозданию Холмщины, ходатайству иерархов Украинского Священного Собора в 1918 г. и к высокому положению Вашему как заведующего западноевропейскими русскими церквами.
ПОСТАНОВЛЕНО: Согласно настоящему предложению Святейшего Патриарха, Ваше Преосвященство, во внимание к тридцатилетней отлично–усердной службе Вашей и другим отмеченным в предложении Святейшего Патриарха обстоятельствам, возвести в сан Митрополита с предоставлением права ношения белого клобука и креста на митре. О чем уведомить Ваше Преосвященство. Января 17/30 дня 1922 г. № 64.
Член Священного Синода, Архиепископ Серафим.
Делопроизводитель Н. Нумеров.
На Пасхе я получил трогательное письмо от Патриарха. Начиналось оно с поздравления с Новым годом.., затем текст обрывался, и продолжение письма было уже на другой странице. «Начал писать Вам на святках, а кончаю перед Пасхой… а тем временем мы Вас возвели в сан митрополита…» — писал Патриарх. Далее следовало поздравление «Христос Воскресе!» и сообщение о здоровье и судьбе некоторых иерархов в России.
В Крестопоклонную всенощную князь Ширинский–Шихматов поднес мне на блюде белый клобук. Я надел его, сказал «слово», в котором отметил символику события, совпавшего с началом Крестопоклонной недели…
На Пасху я уехал в Париж. Мысль о переезде окончательно созрела. Я жил, как и в прошлые приезды, у настоятеля протоиерея Смирнова. Предназначавшуюся для меня квартиру уже приводили в порядок: мыли, чистили, ставили печки, унесли сложенные там вещи…
После Пасхи я вернулся в Берлин, но вскоре вновь выехал во Францию. На этот раз в Париже не задержался, а поехал в Ниццу, на освящение на местном кладбище храма, переделанного из часовни. В Ницце я почувствовал сильное недомогание, у меня появились некоторые симптомы так называемой maladic de Meniere: начались припадки рвоты, головокружение, тошнота и другие болезненные ощущения. Я поспешил вернуться в Берлин.
Оправившись несколько от утомительного путешествия на юг Франции, я выехал в сопровождении архимандрита Тихона в Дрезден на храмовой праздник (24 мая). Церковь в Дрездене была в свое время построена Семеном Семеновичем Викулиным в память святого Симеона Столпника Дивногорского. На пути в Дрезден я вновь испытал мучительные приступы моей болезни.
По возвращении в Берлин в первых числах июня я получил указ Патриарха Тихона следующего содержания:
Управляющему Русскими православными церквами за границей
Преосвященному Митрополиту Евлогию.
По благословению Святейшего Патриарха, Священный Синод и Высший Церковный Совет, в соединенном присутствии, слушали: предложение Святейшего Патриарха, от 28 марта (10 апреля сего года), следующего содержания: «Прилагаю при сем номера «Нового Времени» от 3 и 4 декабря 1921 года и 1 марта 1922 года. В них напечатаны послания Карловацкого Собора и обращение к мировой Конференции. Акты эти носят характер политический, и, как таковые, они противоречат моему посланию от 25 сентября 1919 года. Поэтому:
1) я признаю Карловацкий Собор заграничного русского духовенства и мирян не имеющим канонического значения и послание его о восстановлении династии Романовых и обращение к Генуэзской Конференции не выражающими официального голоса Русской Православной Церкви,
2) ввиду того, что Заграничное Русское Церковное Управление увлекается в область политических выступлений, а с другой стороны, заграничные русские приходы уже поручены попечению Вашего Преосвященства, Высшее Церковное Управление за границей упразднить,
3) Священному Синоду иметь суждение о церковной ответственности некоторых духовных лиц за границей за их политические от имени Церкви выступления.
По обсуждении изложенного предложения Святейшего Патриарха
ПОСТАНОВЛЕНО: 1) Признать «Послание Всезаграничного Церковного Собора чадам Русской Православной Церкви, в рассеянии и изгнании сущим», о восстановлении в России монархии с царем из дома Романовых, напечатанное в «Новом Времени» от 3 декабря 1921 года, № 184, и «Послание Мировой Конференции от имени Русского Всезаграничного Церковного Собора», напечатанное в том же «Новом Времени» от 1 марта сего года за № 254, за подписью Председателя Российского Заграничного Синода и Высшего Церковного Управления за границей Митрополита Киевского Антония, — актами, не выражающими официального голоса Русской Православной Церкви и ввиду их чисто политического характера не имеющими церковно–канонического значения; 2) ввиду допущенных Высшим Русским Церковным Управлением за границей означенных политических от имени Церкви выступлений и принимая во внимание, что, за назначением тем же Управлением Вашего Преосвященства заведующим русскими православными церквами за границей, собственно для Высшего Церковного Управления там не остается уже области, в которой оно могло бы проявить свою деятельность, означенное Высшее Церковное Управление упразднить, сохранив временно управление русскими заграничными приходами за Вашим Преосвященством и поручив Вам представить соображения о порядке управления названными церквами, и 3) для суждения о церковной ответственности некоторых духовных лиц за границей за их политические от имени Церкви выступления озаботиться получением необходимых для сего материалов и самое суждение, ввиду принадлежности некоторых из указанных лиц к епископату иметь по возобновлении нормальной деятельности Священного Синода при полном, указанном в соборных правилах, числе членов. О чем, для зависящих по предмету данного постановления распоряжений, уведомить Ваше Преосвященство. Мая 22/5 дня 1922 г. № 349.
Член Священного Синода Архиепископ Фаддей Астраханский.
Делопроизводитель Н.Нумеров.
Указ ошеломил меня… Возложенное на меня поручение было столь ответственно, столь сложно… Как я с ним справлюсь? Как мне его в жизнь провести?
Я написал письмо митрополиту Антонию и приложил к письму копию указа. В ответ — телеграмма: «Volonté du Patriarche faut accompar venex immédiatement» [
[117]]. Если бы не мучительная моя болезнь, я бы направился в Карловцы немедленно, но мой врач, доктор Голубев, уговорил меня поехать в Киссинген полечиться. «В таком состоянии, в каком вы сейчас, в далекое путешествие отпускать вас страшно…» — сказал он. Я уехал в Киссинген.
Здесь я провел четыре недели. Жил в церковном доме при нашем храме Преподобного Сергия, изредка служил вместе с о.Бером, который тоже сюда приехал. Я отдохнул, стал чувствовать себя лучше и в начале августа направился в Сербию. На пути остановился в Баден–Бадене, где в храмовой праздник, в Преображение, отслужил Литургию.
По приезде в Карловцы я почувствовал сразу, что здесь за лето настроение изменилось. Сформировалась оппозиция указу Патриарха. Слышались речи о том, что «указ вынужденный — не свободное волеизъявление Патриарха; что его можно не исполнять». Я доложил в заседании Высшего Церковного Управления об указе; секретарь Управления Махараблидзе прочел докладную записку, в которой приведены были доводы, доказывавшие, почему с патриаршим постановлением можно не считаться. Я заявил, что тон взят недопустимый по отношению к главе Русской Православной Церкви и я ухожу… Собрание перешло к голосованию. Резолюция большинства гласила: «Отсрочить выполнение указа впредь до выяснения обстоятельств, при которых он был издан». Я выступил с «особым мнением». Настроение в собрании создалось напряженное…
На другой день прибыл запоздавший архиепископ Анастасий. Он заявил, что, по его убеждению, «волю Патриарха исполнить надо», но так как в указе сказано: «Предоставить архиепископу Евлогию соображение относительно организации Управления…», то Высшее Церковное Управление следует упразднить, но созвать в следующем году новый Собор для устроения нового Управления, а тем временем архиерейский Синод сделает подготовку к нему, испросит разрешения сербских властей и соберет нужные материалы. Епископ Вениамин с этим предложением не согласился: «Митрополит Евлогий должен взять управление в свои руки без всякого Собора, а если необходимо Синод временно сохранить, то надо, чтобы митрополит Евлогий — не митрополит Антоний — был его председателем». Тут мне следовало и проявить власть, заявить, что отныне указы Карловацкого Синода для меня силы не имеют, что я исполню волю Патриарха… Но я, ради братского отношения к собратьям–архиереям, закинутым в эмиграцию, во имя любви к митрополиту Антонию, старейшему зарубежному иерарху, с которым меня связывала долголетняя духовная дружба, ради всех этих сердечных, может быть сентиментальных, побуждений… пренебрег Правдой — волей Патриарха. В этом была моя великая ошибка, мой большой грех перед Богом, перед Матерью Русской Церковью и перед Святейшим Патриархом Тихоном, и в этом заключалась главная причина не только моих личных бед, но и источник всех дальнейших нестроений в жизни зарубежной Церкви. Глубоко сознаю свою вину и приемлю все эти испытания как справедливое «наказание за преступление», хотя и содеянное во имя любви к моим собратьям — карловацким епископам и особенно митрополиту Антонию. В таких случаях самая любовь оборачивается враждою… Любовь, не основанная на Правде, уклоняется от того «исполнения», которое нам указано в словах псалма 84: «Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой…»
В Карловцах мне было тяжело. Я не чувствовал понимания искренности моих побуждений и был рад, когда внешние обстоятельства заставили меня спешно покинуть Сербию. Мне телеграфировали из Парижа о краже в храме на рю Дарю: воры похитили дарохранительницу, ценное Евангелие и еще некоторые вещи. Почти одновременно пришла и другая телеграмма: «По поручению Великого Князя Кирилла Владимировича очень просим немедленно приехать в Париж».
Приезжаю… Ко мне явились какие–то генералы во главе с генералом Сахаровым и какие–то сановники с просьбой съездить к Великому Князю Кириллу Владимировичу в Сен–Бриак — отслужить там молебен и благословить на царствование… Дня два уговаривали меня сторонники нового монарха. Я отказался.
В эти дни у меня окончательно созрел план, как реализовать мой переезд в Париж. Медлить было нельзя. Но прежде чем переехать, надо было организовать свое Епархиальное управление в Париже. Этим делом я и занялся. Так как исполнявший обязанности секретаря моего Управления в Берлине Дерюгин был человек неумный и плохо справлялся с делами, то я пригласил на эту должность Т.А.Аметистова, который усиленно меня об этом просил. Это был интересный субъект: очень способный, он после гимназии прошел курс Санкт–Петербургской Духовной Академии, а затем поступил в кавалерийское училище; после училища он окончил Академию Генерального штаба; участвовал в Великой войне, получил Георгиевский крест и окончил службу полковником. По своим способностям и разносторонней службе он был очень удобен. Одновременно с этим я стал присматриваться к местному духовенству и к служащим при церкви лицам.
Настоятель Александро–Невского храма о.Иаков Смирнов [
[118]] с первых же встреч с ним произвел на меня очень приятное впечатление. Долговременное пребывание священником за границей — в Дрездене, Стокгольме и (с 1896 г.) в Париже — не вытравило из него черт сельского батюшки. Неречистый, молитвенный, церковный, он сочетал в себе детскую чистоту души с образованностью: был в молодости доцентом Петербургской Духовной Академии по греческому языку. Богослужение он совершал с глубоким благоговением; случалось, читал молитвы и Евангелие прерывающимся от слез голосом. Он был прекрасным духовником: чутко и глубоко понимал движения человеческой совести и умел дать нужный, отвечающий духовному настроению и полезный для жизни совет и при этом был трогательно скромен: «Ах, — говорил он, — какая это исповедь, когда видишь сотни ожидающих… Разве можно как следует всех выслушать и всем сказать нужное слово — один грех…»
Второй священник Александро–Невской церкви о.Н.Сахаров, заграничной складки, уравновешенный, спокойный… В 1936 году по смерти о.Иакова он занял место настоятеля [
[119]].
Протодиакон о.Тихомиров, из диаконов Александро–Невской Лавры, в молодости обладал могучим голосом и некоторое время служил в церкви Зимнего дворца. Потом его перевели в Рим, а оттуда — в Париж. Заграничная жизнь наложила на него отпечаток внешней европейской культуры.
Псаломщиком при Парижском храме долгие годы был М.М.Фирсов. Чистенький старичок, одетый не без франтовства, старомодно–учтивый, полный сознания своего достоинства. Сослуживцы прозвали его «генералом».
Второй псаломщик Леонович, кандидат богословия, был большой скандалист, и я решил его уволить. Его с трудом удалось выселить. Полиция вынесла вещи из его помещения во время его отсутствия.
Третий псаломщик Стасиневич, как я уже сказал, последовал за о.Петром Извольским в Брюссель; образовалась вакансия, на которую я наметил диакона Вдовенко. Ко мне пришел однорукий священник о.Соколовский и заявил протест, почему я назначаю о.Вдовенко, а не его… «Это всегда так, — грубо и дерзко сказал он, — мужика–келейника предпочитают священнику…»
Диакон Вдовенко, который сопровождал меня всюду с первых дней моего назначения Управляющим Западноевропейской епархией, человек честный, преданный, трудолюбивый, бывал неуравновешен, даже грубоват. Впоследствии у него возникали недоразумения с сестрами парижского сестричества — и по самым ничтожным поводам. Так, например, слышу как–то раз в прихожей крик, гвалт… В чем дело? Смотрю, впереди Вдовенко с золоченым Евангелием в руках, за ним гурьбой сестры… «Засыпали порошком все украшения?..» — негодует Вдовенко. Сестры волнуются: «Защитите нас от него! Он ничего не понимает… ему бы сапоги чистить!»
Не могу не упомянуть и консьержку (привратницу) церковной усадьбы Надежду Антоновну Звонилкину. Это маленькая, быстрая пожилая женщина, энергичная, властная и не всегда сдержанная на слово. Впоследствии, когда я поселился в своей парижской квартире, я оценил всю ее преданность своему делу и все заботы обо мне. Она зорко следила за тем, кто ко мне приходит, и, если посетители были незнакомые и казались ей подозрительными, она подглядывала в щелочку, прислушивалась, а когда визитеры, по ее мнению, чрезмерно долго засиживались, стучала в дверь: «Владыка, вам надо, кажется, куда–то ехать?..»
Регентом церковного хора был Кибальчич. Пел хор неплохо, но певчие, французы, произносили славянские слова с французским акцентом.
В этот мой приезд в Париж (сентябрь–октябрь 1922 г.) я ближе сошелся с нашим посольством. В.А.Маклакова я знал раньше, а с М.Н.Гирсом познакомился только теперь. Он мне понравился. В его лице я приобрел дружескую поддержку. По ходатайству представителей эмигрантской общественности профессора М.В.Бернацкого, И.П.Демидова и д–ра И.И.Манухина М.Н.Тирс ассигновал мне 2000 франков ежемесячной субсидии на содержание Епархиального управления — образовался необходимый основной фонд. В лице М.Н.Тирса я встретил энергичного противника соглашения с Карловацким Синодом, он меня уговаривал вести свою линию, не соглашаясь ни на какие уступки.
Наладив парижскую епархиальную организацию, я выехал в сопровождении Т.А.Аметистова в Берлин. Необходимо было ликвидировать там все дела.
Расставаться с обитателями «Alexanderheim’a» было тяжело. Мы сжились, свыклись…
Аметистов принял опись дел, счетов и прочие материалы епархиального делопроизводства. С секретарем Дерюгиным [
[120]], которого я уволил, возник конфликт. Он моего постановления признавать не пожелал, требовал обоснованной мотивировки, готов был даже подать в суд в том случае, если бы Управление его уволило, не уплатив ему жалования за несколько месяцев вперед.
Я распрощался с паствой после Литургии. Архимандрита Тихона, по–видимому, мой отъезд не печалил: пребывание епархиального архиерея его стесняло, а ему хотелось развернуться…
Я приехал в Париж под Рождество. Начался новый период моего служения — парижский.
Глава 21. МИТРОПОЛИТ ПРАВОСЛАВНОЙ РУССКОЙ ЦЕРКВИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
1. ПРИХОД КАФЕДРАЛЬНОЙ АЛЕКСАНДРО–НЕВСКОЙ ЦЕРКВИ
Первые мои впечатления по приезде в Париж на постоянное жительство были отрадные. Чудесный большой храм, образованное, достойное уважения духовенство, толпы молящихся. Наплыв богомольцев был так велик, что храм не вмещал всех собравшихся, была давка; на церковном дворе, даже на улице перед церковью — всюду толпился народ. Кого–кого только тут не было! Люди всех состояний, возрастов и профессий: бывшие сановники и придворные, военные в затасканных френчах, интеллигенция, дамы, казаки, цыганки, старухи, дети… В холод, в непогоду — все такие же огромные толпы. Я, бывало, беспокоюсь, что люди мокнут под дождем, а один прихожанин иронически отозвался о толпившихся на дворе: «Дворяне» посудачить приходят…» В этих словах была доля правды, поскольку храм на рю Дарю стал в полном смысле слова живым центром эмигрантской жизни. В церковь шли не только помолиться, но и встретиться в церковной ограде со знакомыми, обменяться новостями, поговорить о политике, завязать какие–нибудь деловые связи. Однако главным побуждением была потребность помолиться. В народной толпе чувствовался большой духовный подъем. Скорбные, озлобленные, измученные люди тянулись к храму как к единственному просвету среди мрака эмигрантского существования. Они несли сюда свои печали, упования и молитвы; тут забывали свое горе, обретали надежду на какое–то лучшее будущее. В первые годы религиозное усердие эмиграции было трогательное. Несмотря на горечь и ужас жизни, веяло религиозной весной, не было в людях той безнадежности, того уныния, которые овладели душами впоследствии.
Духовный подъем церковного народа мне передавался. Я входил в жизнь моей паствы, сливался с нею, стали завязываться знакомства, возникали личные отношения. Но очень скоро я понял, что организовать церковноприходскую жизнь мне будет нелегко. Богомольцев тысячи, но все люди случайные, не объединенные в единую семью. Я чувствовал себя потонувшим в этой неорганизованной толпе и, должен сознаться, поначалу ею не овладел. На кого мог я опереться? На духовенство? Оно было просвещенное, достойное, но никогда не имевшее большого прихода. Контакта с нахлынувшей эмигрантской массой у него и быть не могло. Два мира, две психологии… Духовенству надлежало понять, чем эмиграция жила, а этого понимания ожидать от него было невозможно. Эмиграция — новое, невиданное явление — внесла в тихую церковную усадьбу на рю Дарю суету, беспорядок, непонятные притязания… и духовенство, не понимая своих прихожан, неспособное их объединить, ограничивалось добросовестным исполнением церковных служб и треб. Низшие клирики тем менее разбирались в том, что происходило.
Поначалу была надежда найти опору в Церковноприходском совете, но и она, к сожалению, не оправдалась. Он организовался на основании постановления Московского Церковного Собора, допускавшего участие мирян в управлении церковными делами. В состав его вошли (за немногими исключениями) бывшие сановники, генералы, чиновная интеллигенция — люди народной массе далекие, а по политической окраске почти все одинаковые — крайне правые. Когда в «Последних Новостях» появился рассказ Минцлова «Тайна», в котором разработана тема об Иуде–предателе в Евангельской трагедии, небезызвестная в богословии, в Церковном совете поднялась буря, — и члена Совета, бывшего члена Государственной думы (кадета) И.П.Демидова, помощника редактора «Последних Новостей», исключили как левого из состава Совета большинством голосов против одного — д–ра И.И.Манухина, выступившего с особым мнением в защиту Демидова и вскоре из протеста покинувшего Приходский совет. Мои усилия поднять в Совете интерес к более интенсивной церковноприходской жизни, к запросам церковного народа ни к чему не привели. В заседаниях обсуждали бесплодные вопросы. Товарищ Председателя граф В.Н.Коковцов отозвался о занятиях Совета не без иронии: «Наш Совет интересуют только два вопроса: о сторожах и о гробах» [
[121]]. Сюда же надо присоединить споры, тянувшиеся месяцами, о выселении из церковного дома озлобленного, а потом запрещенного, бывшего военного протоиерея священника Соколовского, о регенте Огородникове, о псаломщиках… Сколько речей, пикировок, жарких прений по поводу мелочей! Вскоре я убедился, что в отношении духовной организации церковного народа на Совет рассчитывать нечего.
Оставалось еще Приходское собрание, созывавшееся периодически. В зал вливалась «улица» — случайные люди, понятия не имевшие не только о церковном настроении, о церковной работе, но и об общественной дисциплине. Речи и дебаты превращались в болтовню о дрязгах, о кляузах, являли борьбу мелких самолюбий и злобных страстей. Однажды дело дошло до того, что г.Н. оскорбил словом г–жу Б., тогда г–жа Р. вступилась за оскорбленную и ударила по лицу г.Н., а тот вернул даме заушение… Это не помешало собранию тут же избрать г.Н. членом Церковного совета и помощником старосты… При таком составе Приходского собрания и столь удручающих нравах, что могли дать периодические заседания с участием мирян! Ничего… Я был в ужасе от этих собраний, в горьком разочаровании, что проваливается идея соборности, что сейчас она неосуществима; мне казалось, Московский Церковный Собор идеализировал наш церковный народ, верил, что он проникнут церковным духом, а реальность была иная: не подготовленные всем своим прошлым к церковной жизни, наши прихожане приносили на собрания свои низменные житейские инстинкты, превращали их в какой–то «базар». Наши парижские приходские собрания напоминали худшие земские уездные заседания. В оправдание можно сказать одно: если б народная жизнь в России развивалась нормально, то и тогда бы понадобились годы и годы, чтобы внедрить соборное начало. Первое время были бы тоже неудачи и безобразные явления, тем более они были понятны в эмиграции с ее больной психологией.
Однако я буду несправедлив, если в обзоре деятельности наших приходских организаций не отмечу положительных явлений.
Защита правового положения и забота об экономическом благополучии прихода заслуга Парижского Церковного совета.
Должен отметить, что редкую энергию и ревность о церкви проявил Товарищ Председателя Церковного совета граф В.Н.Коковцов. Его деятельность в Приходском совете заслуживает быть особо отмеченной. Несмотря на преклонный возраст, сколько забот и труда отдал он Парижскому приходу! За 17 лет до сего дня ни одного пропущенного заседания Совета! Фактически он руководил заседаниями, помогая престарелому настоятелю о.Иакову Смирнову. С таким же ревностным попечением относился он к экономическому состоянию прихода. Все сметы, все финансовые отчеты разрабатывались под его руководством.
Наше экономическое положение было поначалу блестяще: паства усердно несла свои жертвы; видные финансовые деятели, к которым обращался граф Коковцов за денежной поддержкой, также обильно давали свои пожертвования. Благодаря благополучному состоянию церковной казны храм содержался в порядке, производился необходимый ремонт, были очищены стены от копоти, которая наслоилась на прекрасной иконописи.
Несмотря на эти положительные стороны деятельности Приходского совета, оживить церковную жизнь он не мог. Поневоле приходилось часто действовать самому независимо от него.
Прежде всего я решил выправить богослужение. Духовенство привыкло к сокращенным службам. Я его не виню — сказывалась прежняя выучка, но времена эти уже миновали, и нужно было, хоть в какой–то мере, вернуться к некоторой полноте и стройности богослужебного устава. Мне пришлось мягко, но упорно преодолевать старые привычки. Кое–кого из клириков это не устраивало, а у некоторых прихожан, привыкших к кратким службам домовых церквей, вызывало неудовольствие. «Я хожу в нижнюю церковь, там служба короче», — сказала Великая Княгиня Елена Владимировна. «Что же, вы хотите, чтобы обедня длилась не больше часу?» — спросил я. «Да». — «Дурная придворная привычка…» «А… вы большевик!» — заметила Великая Княгиня.
По средам, после Литургии, я ввел молебен с акафистом Божией Матери, привлекавший немало благочестивых людей, особенно женщин.
По инициативе члена Приходского совета П.П.Извольского [
[122]] были организованы еженедельные «беседы» под председательством о.Н.Сахарова. Посетителей бывало довольно много. Читались доклады на темы о вере и Церкви, за ним следовал обмен мыслей, иногда живой и интересный. Эти собрания будили религиозное сознание и имели просветительное значение.
В первый же год моего приезда я организовал сестричество. Привлечение женщин к церковной работе было давним моим стремлением еще в России. На эту тему я в свое время беседовал с игуменьей Леснинского монастыря Холмской епархии м.Екатериной. В дореволюционную эпоху, при бюрократизме в Церкви, народным силам было трудно проявить себя в церковной жизни. В революционные годы после Московского Церковного Собора приходы ожили, народ стал опорой Церкви. Кое–где появились женские кружки — сестричества, — ревностно защищавшие церкви, охранявшие благолепие храмов, благочиние церковных служб. Во время гонений сестричества исповеднически отстаивали церковное имущество, прятали и хранили церковные святыни, спасали священников… Большую услугу оказали они Церкви.
Все это я знал и решил за границей воспроизвести такие же прицерковные женские объединения. Первое сестричество при моем содействии организовалось еще в Берлине. Опыт был удачный. Во главе встала деятельная Е.Н.Безак, сестры дружно сплотились вокруг церкви и не только заботливо обслуживали храм, поддерживая чистоту и порядок, но развили и широкую благотворительную деятельность — посещали лагери военнопленных, больницы и дома для умалишенных, оказывая соотечественникам моральную и материальную поддержку.
По примеру Берлина мне хотелось организовать сестричество и в Париже. Господь послал подходящего человека — Веру Васильевну Неклюдову.
В.В.Неклюдова [
[123]] была личность незаурядная. Старая девица, институтка, фрейлина, она имела за собою опыт общественной работы. Во время войны она состояла в Стокгольме в организации Красного Креста, взявшей на себя попечение о наших военнопленных в Германии и Австрии; через В.В. шла вся переписка с лагерями. Мать ее по происхождению была гречанка, и это сказалось на темпераменте В.В. Экспансивная, горячая, она имела редкий дар воодушевления, которое невольно передавалось и ее сотрудницам. Некоторая нервность обусловливала неровность ее характера: восхищение каким–нибудь человеком сменялось ополчением против него, обожание — неожиданным «ноги моей не будет!». Душа чистая, добрая, преисполненная идеализма и редкая по цельности. Ко мне она относилась с глубокой преданностью. Новому делу она отдалась самоотверженно, и работа быстро и успешно наладилась. Пока В.В. была старшей сестрой, жизнь в сестричестве била ключом.
Сестры заботились о порядке в храме, украшали его в праздники зеленью или цветами, ведали починкой облачений.
Отмечу и просветительную деятельность сестричества. Оно создало «четверговую» церковноприходскую школу в здании русской гимназии. Здесь детей обучали Закону Божию, русскому языку, географии и истории России. В те годы школа работала успешно. В.В.Неклюдова каждый четверг бывала там и лично следила за всем. Стоило законоучителю о.Николаю Сахарову запоздать на несколько минут, — к матушке телефонный звонок: «Верны ли ваши часы? Уже 2 часа, а батюшки нет…»
Первые летние колонии для эмигрантской детворы возникли тоже по инициативе В.В. и ее трудами совместно с сестрами. Великое благодеяние! Сколько детей, протомившись весь год в подвалах либо в мансардах, попадали на лоно природы, на свежий воздух и простор! Устраивали сестры для детей и «елочки» на Рождестве и розговенье на Пасхе.
Все эти начинания требовали расходов. Приходилось обращаться к добрым людям за пожертвованиями. Тут В.В. была неутомима. Бывало, всех обегает, всех обклянчит, претерпит немало неприятностей, а деньги все же соберет. В одном банке директор, какой–то грек, приказал секретарю: «Дайте ей 10 франков», В.В. вскипела: «От себя вам дам 10 франков!..»
Очень широко развило сестричество благотворительную деятельность. Сестры собирали ношеное платье, белье, обувь и раздавали нуждающимся; оказывали и денежную помощь. Посещали они и одиноких русских в больницах, приносили им на Пасхе куличи, яйца; хоронили безродных больных. Тогда денег еще на все хватало. Были взносы, были пожертвования. Дежурную сестру с тарелочкой «на бедных прихода» неизменно можно было видеть в притворе храма за всеми церковными службами, а эмиграция поначалу денег на добрые дела не жалела. Ежегодно в кассу сестричества притекало тысяч пятьдесят — шестьдесят — сумма огромная по сравнению с последними годами.
Раз в неделю вечером, по пятницам, сестры собирались ко мне на чай. Бывали доклады, потом следовали по поводу них беседы. Особенно оживилась деятельность сестричества при о.Георгии Спасском.
О.Георгий Спасский был до революции священником Черноморского флота. Уже тогда он занимал видное положение, а когда после Крымской эвакуации наш флот ушел в Бизерту, значение его, как духовного водителя эмиграции, в Бизерте еще больше возросло. После ликвидации флота в Бизерте по требованию французских властей о.Спасский приехал в Париж. Наше духовенство включить его в штат не соглашалось, и я сделал его разъездным священником, отвел ему квартирку в церковном флигеле и положил из сумм Епархиального управления 500 франков в месяц жалованья. Он должен был сопровождать меня в поездках по епархии, помогать мне основывать приходы, по моему поручению умиротворять распри в приходских советах на местах и т. д. Понемногу я все же втиснул его в наш приход третьим священником. Он весьма оживил приходскую жизнь.
Одаренный человек, прекрасный оратор, литературно образованный, довольно светский (любитель театра), он являл тип священника нового склада. В России такие священники встречались, но большинство подобных духовных лиц были люди мало церковные, требы исполняли кое–как, зато увлекались чтением лекций на религиозно–философские темы. В о.Спасском этого уклона к рационализированию вопросов веры и Церкви не было. Молитвенный, церковный, глубоко религиозный, он любил служить и служил с подъемом, любил причащаться; не свысока, а истово и смиренно исполнял требы, ревновал о службе Божией, о ее полноте и благолепии. По воскресеньям в 5 часов он служил молебны с акафистом, а после них вел религиозные беседы. Собиралось довольно много молящихся, преимущественно его искренние почитатели. Эти беседы имели несомненно просветительное значение. Проповеди его были блестящи по форме, живы, энергичны, хоть и не очень глубоки по содержанию. Любил он читать и лекции с благотворительной целью. Я назначил его духовным руководителем сестер. О.Георгий внес в сестричество дух единения и умел возбудить в них интерес к религиозным вопросам. По пятницам он вел систематические беседы: первый год — краткий курс апологетики, второй — толкование Священного Писания, третий — толкование богослужения. Изредка для сестер он служил Литургию, это способствовало развитию в них сознания духовного единства.
Но главная заслуга о.Георгия Спасского, которую необходимо отметить, — его умение входить в индивидуальное общение с душами. Он являл пример настоящего пастырства, той Seelensorge, которая лежит в основе пастырского служения. О.Спасский становился другом, наставником тех, с кем духовно общался, посещал своих духовных детей и в каморках и в подвалах, назидал и утешал, одаривал кого крестиком, кого просфорой, образком или молитвенником, помнил всех именинников и именинниц, все особо памятные в семьях дни… Он обо всех заботился и во все входил. Иногда ему случалось за день побывать в 25–30 домах. Себя он не жалел нисколько. Неудивительно, что он надорвался и сгорел в этом непосильном, ревностном труде. О.Георгий Спасский был, несомненно, выдающийся священник. Он скончался скоропостижно от разрыва сердца 16 января 1934 года во время чтения своей лекции «О догмате»; она была вводной в цикле лекций, в которых он предполагал дать анализ и критику религиозно–философских и богословских трудов наших современных мыслителей: о.С.Булгакова, Бердяева и др. В роковой вечер, говоря о догмате, о.Георгий сказал несколько слов о знаменитом авторе «Догматического богословия» митрополите Макарии, которого его современники–богословы обвиняли в либерализме, упомянул и о скоропостижной и загадочной его кончине в купальне, вызвавшей когда–то немало кривотолков. Не успел о.Георгий рассказать об этом, — ему сделалось дурно, и тут же на эстраде он скончался…
При жизни популярность о.Спасского была велика, и смерть ее не умалила. Гроб с останками покойного оставили в помещении при нижнем храме Александро–Невской церкви. Там он стоит и поныне [
[124]], неизменно убранный свежими цветами. Некоторые почитательницы о.Георгия в своей преданности его памяти доходят до фанатизма и истерики, и даже гроб его превратили в предмет почитания.
Кем можно было заменить покойного о.Георгия? После некоторого раздумья я остановил свой выбор на о.А.Ельчанинове. Это был тоже пастырь незаурядный: чуткий, высокодуховный, учитель молодежи, литературно образованный и весьма начитанный в аскетической литературе. Но Господь не судил ему проявить своих дарований в нашем приходе. Он послужил одну неделю и внезапно, в Страстной Понедельник, в церкви перед службой тяжко занемог. С ним случился припадок — проявление давней его болезни. Больного отнесли домой. Мучился он долго, болезнь никакому лечению не поддавалась, и после пяти месяцев ужасных страданий о.Ельчанинов скончался.
На его место я назначил молодого игумена о.Никона Греве, воспитанника нашего Богословского Института, человека горящей веры и подвижнического духа. Он и поныне служит Церкви Божией, теперь уже в сане архимандрита [
[125]].
Из других членов клира, кроме уже названных мною, следует упомянуть псаломщика–регента Н.П.Афонского. Он бывший студент Киевской Духовной Академии, мобилизованный в Великую войну, потом офицер императорской и добровольческой армий, оказался человеком с недюжинным музыкальным талантом. Я нашел его в одном из германских лагерей, потом он некоторое время работал в моей канцелярии и был назначен псаломщиком в Висбаден, оттуда я перевел его в Париж. Он так прекрасно поставил хор, что сделался любимцем русской эмиграции, участвовал в концертах с Шаляпиным и даже два раза был приглашен с хором в Америку, где имел большой успех.
Наконец, не могу не вспомнить я добрым чувством молодежь, прислуживающую мне в качестве иподиаконов, свещеносцев, рипидчиков и т. д. Эти милые мальчики, моя «гвардия», как я их в шутку называю, с высоким церковным усердием, бескорыстно — под руководством старшего иподиакона П.Е.Ковалевского, человека самоотверженно преданного Церкви, — украшают мое архиерейское богослужение. Ковалевский объединил их в особое братство, которое дало много молодых церковных работников.
2. УСТРОЕНИЕ СТАРЫХ ХРАМОВ И ПРИХОДОВ
Моя епархиальная деятельность развернулась не сразу. Сперва я все внимание сосредоточил на Александро–Невском приходе, а когда Приходское управление было налажено, я занялся устроением Епархиального управления.
В Епархиальный совет я пригласил наиболее деятельных членов Приходского совета: а) от духовенства: протоиерея И.Смирнова, протоиерея Н.Сахарова и протоиерея Г.Спасского и б) от мирян: графа В.Н.Коковцова, Е.П.Ковалевского, Н.И.Шидловского, профессора А.В.Карташева, Б.А.Татищева (старосту). В секретари взял Т.А.Аметистова. К сожалению, Карташев, занятый политикой в «Национальном союзе», посещал наши заседания редко. Наиболее активными работниками были граф Коковцов, Шидловский и Ковалевский.
За все эти годы граф Коковцов был в Епархиальном управлении (так же как и в Приходском совете) моей главной опорой. Он живо и горячо относился ко всем вопросам, которые выдвигала епархиальная жизнь, а его государственная подготовка, широта горизонтов и дисциплина труда делали его незаменимым членом Епархиального совета.
Н.И.Шидловский (бывший член Государственной думы) оказался идеальным казначеем. Кристально честный, до педантизма точный и строгий, он не терпел ни малейшей путаницы в отчетах. «Казенные деньги особенно требуют строго морального отношения к ним», — говорил он. Для него просчет в 50 сантимов был столь же нетерпим, как и в 500 франков. Крайняя его щепетильность оказала мне огромную услугу.
Секретарь Епархиального совета Т.А.Аметистов [
[126]] тоже был подходящим человеком. Я знал его давно и выбрал в секретари потому, что сочетание в нем образованности светского человека и традиций духовной школы считал ценным. Это был человек даровитый, работоспособный, но, к сожалению, не всегда строгий к себе, увлекающийся…
Когда Управление было организовано, в Епархиальном совете прежде всего возник вопрос об определении отношений нашей епархии к Карловацкому Синоду, которые запутались вследствие неполного исполнения воли Патриарха. В зависимости от этого печать неопределенности налегла на всю мою епархиальную деятельность. (Выяснению истории моих взаимоотношений с «карловцами» за парижский период моего архипастырского служения я посвящу отдельную главу.) Затем я направил свое внимание на храмы и приходы, основанные в разных странах и городах Западной Европы до войны, а теперь входившие в состав моей епархии. За годы войны и революции церковная жизнь в них пришла в упадок, надо было принять меры, чтобы вновь ее наладить.
ГЕРМАНИЯ
Больше всего церквей в свое время было построено в Германии стараниями неутомимого строителя протоиерея А.П.Мальцева [
[127]] и основанного им в Берлине Владимирского Братства. Это были прекрасные, просторные храмы, отличавшиеся благоустройством и снабженные всем необходимым для церковного обихода. На судьбу этих церквей за 15 лет эмигрантского их существования имели влияние и политические сдвиги в германской политической жизни и разногласия в нашей зарубежной Церкви.
Признание большевиков германским правительством повлекло за собою передачу им здания бывшего посольства в Берлине вместе с посольской церковью, где после моего отъезда в Париж настоятелем был архимандрит Тихон. Пришлось искать помещения для церкви на стороне. Нам помог пастор Мазинг, бывший настоятель Анненкирхе в Петербурге. В Берлине он открыл русско–немецкую гимназию с интернатом на Находштрассе и, узнав про нашу беду, предложил нам помещение при гимназии. Возникла милая, уютная церковка, куда архимандрит Тихон из посольского храма и перебрался. С настоятельством его в этой церкви связана моя первая в эмиграции хиротония.
В своих письмах ко мне, уже в 1923 году, архимандрит Тихон начал намекать на желательность возведения его в сан епископа: «Я не из честолюбия пишу об этом, это нужно для пользы Церкви…», а несколько позже заявил уже без обиняков: «Я хочу быть епископом». К честолюбивому заявлению я отнесся сдержанно, но скоро обстоятельства сложились так, что я принужден был заколебаться. Приблизительно в то время появился на берлинском горизонте некто Троицкий. Он засыпал русскую колонию благодеяниями: взял на себя ремонт церквей, изъявил желание содействовать их расширению и переустройству… словом, почти в каждом донесении, поступавшем к нам в Епархиальное управление, упоминались все новые и новые его «щедроты». В ответ мы благодарили и посылали наше архипастырское благословение. В конце концов, Троицкий дал понять, что в дальнейшем его благотворительная ревность будет зависеть от того, посвящу я архимандрита Тихона в епископы или не посвящу. Я поехал в Берлин (в 1924 г.), чтобы выяснить этот вопрос на месте. Прихожане церкви на Находштрассе единодушно поддержали притязания своего настоятеля и пожелания церковного старосты — благодетеля Троицкого. Одновременно я узнал, что и в Карловцах эту хиротонию одобряют и благословляют; Тихон и там уже успел подготовить для этого почву. Я сдался и после Пасхи весной (1924 г.) посвятил архимандрита Тихона во епископы.
Тяжелое чувство осталось у меня от этого торжества… Речь нареченного во епископы обычно бывает как бы исповеданием его отношения к Церкви, а архимандрит Тихон произнес напыщенное «слово» о своем научном богословском творчестве, «которое он готов принести в дар Церкви…» В ответной речи я счел нужным подчеркнуть нескромность его заявления: «На весах Божественного Провидения все это имеет малое значение…» — сказал я. Тяжелое мое чувство было прискорбным предчувствием… Епископ Тихон с его непомерным честолюбием оказался главным виновником моего разрыва с карловцами. После Карловацкого Собора 1926 года он стал ожесточенным моим противником и грубо вытолкал моих священников из церкви на Находштрассе. Произошла эта постыдная сцена перед всенощной. Священники о.Григорий Прозоров и о.Павел Савицкий должны были служить. О.Савицкий стоял уже у престола; вошел епископ Тихон — и со всего размаху оттолкнул его… Нам пришлось с Находштрассе уйти и устроиться на новом месте.
Мы сняли маленькое, скромное помещение. Приход захирел. О.Савицкий ушел в школьные законоучители, а о.Прозоров, бывший профессор Политехникума, неактивный, придавленный революцией, оживить приходской жизни не мог. При моем втором столкновении с митрополитом Сергием Московским он меня покинул и перешел к митрополиту Елевферию. Некоторое время его заменял, без особого успеха, о.Н.Езерский, и наконец, приход возглавил о.Иоанн Шаховской, человек даровитый, высокого аскетического склада, подвижнического духа, пламенный миссионерский проповедник. Он привлек сердца; приход ожил и процвел. Когда епископ Тихон выстроил новый храм, который наименовал собором, и покинул Находштрассе, мы вновь туда перебрались.
Ближайшей помощницей о.Иоанна Шаховского стала бывшая сестра милосердия Кауфманской общины В.Масленникова (в эмиграции приняла монашеский постриг с именем Марфы). Во время войны она была командирована в Германию и Австрию для посещения лагерей военнопленных и справилась с поручением прекрасно. Потом объехала наши русские лагери военнопленных и, найдя вопиющие непорядки и злоупотребления с довольствием и проч., подняла на ноги кого следовало и во многом улучшила положение заключенных. В результате — нарекания, что она держит руку немцев. В эмиграции она опять отдалась общественной работе. С помощью подруги, графини Шак, она наняла в Берлине дом и организовала столовую для детей и для взрослых, отпуская ежедневно до 250 обедов, кому бесплатно, а кому за самую ничтожную плату. В доме была устроена церковка. Начинание прекрасное. Русская колония его очень ценила. Мать Марфа вложила в него много любви, посетители встречали теплое, участливое отношение, это привлекало к устроительнице все сердца; русская колония единодушно считала ее своим добрым гением. К сожалению, это чудное начинание по строго монашеским соображениям было ликвидировано о.Иоанном…
Наш храм в Дрездене в начале эмиграции возглавил протоиерей Можаровский [
[128]], бывший священник Холмской епархии. Добрый, честный пастырь, тип «сельского батюшки». Недостаток общей культуры сказывался в общении с прихожанами, по преимуществу интеллигенцией, но все же со своей задачей справлялся он очень хорошо; привлек в приход проживающих в Дрездене греков. В последние годы (1935 г.), когда он состарился и ослабел, я послал ему помощника о.Сергия Шимкевича [
[129]], воспитанника нашего Богословского Института, образованного священника, говорящего по–немецки.
Настоятелем церкви в Баден–Бадене был о.Михаил Шефирцы (из Бессарабии), священник из военнопленных. Простенький, тихий батюшка. В первые годы эмиграции в Бадене скопилось довольно много русских и приход ожил, потом ряды поредели и церковная жизнь стала замирать. В настоящее время эта прекрасная церковь почти без прихожан. Она содержалась главным образом благодаря поддержке Двора герцогини Евгении Максимилиановны, гробница которой находится в этом храме.
В Висбадене настоятелем церкви я застал престарелого протоиерея о.Сергия Протопопова [
[130]]. По старости и болезни глаз он уже не мог исполнять своего служения. Тогда я посвятил в священники местного диакона о.Павла Адамантова, окончившего Казанскую Духовную Академию, и назначил его преемником о.Протопопова. О.Адамантов не мог создать живого прихода. По натуре человек черствый и эгоистичный, он не проявлял должного попечения о пастве. Случалось, в Пасхальную ночь, когда в Висбаден съезжались на заутреню русские не только из Висбадена, но и из окрестных городов Рейнской области, о.настоятель после службы уходил разговляться в свой прекрасный, обширный церковный дом к своей семье [
[131]], не подумав об устройстве общеприходского розговенья хотя бы по подписке; бесприютные, голодные богомольцы были принуждены бродить по городу до утра в ожидании первого поезда или трамвая. Постоянно возникали недоразумения между прихожанами и о.настоятелем по поводу церковных доходов. Приход в Висбадене богатый, но прихожан очень мало; прекрасный наш храм, упомянутый в Бедекере, привлекал туристов, за осмотр взималась плата, пополнявшая приходскую казну. Вокруг этих церковных сумм страсти разгорелись. Эмигрантской бедноте хотелось к деньгам прикоснуться, а о.Адамантов к ним никого не подпускал. Пререкания перешли во вражду, и смута привела к печальному концу. При поддержке епископа Тихона прихожане добились секвестра церковного имущества германскими властями, как имущества выморочного, — и передали его приходу епископа Тихона. Положение для о.Адамантова создалось тягостное, и он перешел в Карловацкую юрисдикцию. Так у меня отняли этот храм и приход вследствие интриг епископа Тихона и бездеятельности о.П.Адамантова.
Храм в Лейпциге я унаследовал в печальном виде. Его начали строить перед войной в память русских воинов, погибших в великом сражении Наполеона с союзниками, именуемом «битвою народов» (в 1813 г.); несколько тысяч русских воинов покоилось под сводами этого храма–памятника. Постройку закончить не успели, и она была оставлена на попечение консула, а потом куратора — банкира Доделя, члена строительного комитета. Однако куратор о ней не пекся, и в военное время она фактически была брошена на произвол судьбы; храм разрушался, подвергся двум ограблениям, штукатурка местами обвалилась, стекла потрескались и кое–где вывалились… В этом состоянии я его и застал. При нашей бедности положение было безвыходное. Но вот неожиданно, Божиим Промыслом, выход нашелся…
Русский латыш, разбогатевший за годы войны, почувствовал угрызение совести и, для изглаждения грехов, ассигновал 100000 марок на ремонт этого храма; отремонтировал он его основательно. Когда все было готово, упомянутый куратор, банкир Додель, через своего представителя обратился ко мне с просьбой освятить храм. Я освятил его и назначил настоятелем о.Александра (в монашестве Алексия) Недошивина из Южина, бывшего Управляющего Казенной палатой. Однако мы не могли считать храм нашей собственностью: надо было еще внести 300000 марок Доделю — остаток невыплаченной ему за постройку суммы. Я вспомнил, что в свое время был записан в члены строительного комитета; имя мое в числе других членов комитета было выгравировано на наружной стене храма. Это дало мне возможность восстановить комитет и приступить к сбору пожертвований. Сбор длился 10 лет. Деньги мы собрали и храм выкупили. Великой благодарности заслуживают о.Недошивин и его сотрудник, церковный староста А.Н.Фену, усердно потрудившийся в этом деле. Теперь, когда тяжесть выкупа с наших плеч снята, перед нами неожиданно встал тревожный вопрос: не отнимут ли от нас наше имущество? О.Недошивин, успешно закончив порученное ему дело, приход покинул. Наладить приходскую жизнь ему не удалось. Его заменил молодой целибатный священник о.Мануил Есенский.
В настоящее время положение наших церквей и приходов в Германии трудное. В сущности, в той или иной мере оно было сложным почти в течение всего эмигрантского периода. Внутри приходов повели с нами борьбу «карловчане». Нам удалось удержать большинство церквей. Но теперь дамоклов меч снова занесен над нами… Нам угрожает переход всех церковных имуществ в ведение германских властей с передачей их православному духовенству правительственной ориентации. Правительственные акты о секвестре церквей и передаче признанному властями епископу Тихону еще не везде осуществлены. Епископ Тихон и его сторонники стараются добиться добровольного согласия приходов о переходе в его ведение. Под влиянием морального давления некоторые приходы обращаются ко мне за благословением, спрашивают: «Нужно ли это делать?» — я отвечаю: «Поступайте согласно совести», они колеблются: «А мы без вашего благословения не хотим…» Этой неопределенностью позиции и смущением душ пользуется епископ Тихон и в своей агитации против меня не пренебрегает демагогическими приемами и даже инсинуацией: «Митрополит Евлогий оторвался от родной Церкви, ушел к грекам… подчинился политически французам…» — вот его клеветнические на меня наветы [
[132]].
ФРАНЦИЯ
Во Франции до войны кроме Александро–Невского храма в Париже у нас было еще пять церквей: в Ницце, Канне, Ментоне, Биаррице и в По. Все эти церкви потребовали церковно–административного переустройства ввиду наплыва беженцев, изменивших состав прихожан.
В Ницце с первого года эмиграции образовался сильный и многочисленный приход. Особенно живо и широко стала развиваться приходская жизнь с приездом (в 1925 г.) архиепископа Владимира [
[133]]. Он был изгнан из Польши за протест против «временных правил», которые польское правительство ввело для Православной Церкви и которые владыка Владимир считал для нашей Церкви унизительными. Высокопреосвященный Владимир поднял приход в Ницце экономически и морально. Подобрал хороший клир, организовал сестричество, сумел сплотить паству. Чистый, святой жизни архипастырь–молитвенник привлек сердца прихожан. Помощником его после ухода к «карловчанам» о.Подосенова был священник Вл.Любимов [
[134]] и священник о.Ельчанинов [
[135]]. За приход в Ницце я мог быть спокоен [
[136]].
Приходская жизнь в Ментоне после долгих ссор и недоразумений между прихожанами из–за священника протоиерея Цветаева и протоиерея Н.Аквилонова, перешедшего к «карловчанам», наладилась, когда о.Аквилонова сменил в 1925 году протоиерей Григорий Ломако, которого я перевел сюда из Будапешта. О.Г.Ломако, старый, опытный священник, сумел взять в руки и церковь и состоящий в ведении Братства св. Анастасии «Русский дом», который был отдан в аренду Красному Кресту для осуществления его благотворительных целей. Церковь обслуживала преимущественно обитателей и обитательниц «Русского дома», старичков и старушек, среди которых разделение на «евлогиан» и «карловчан» постепенно сглаживалось. Священник занимал несколько комнат в церковном доме на вилле «Innominata», которая также управлялась Советом Братства; были попытки устранить священника от участия в делах Братства и вообще отделить церковь от Братства. Слава Богу, попытки эти не удались.
С приходом в Канн было у меня немало осложнений. Настоятель, престарелый протоиерей Остроумов, давно уже привык распоряжаться церковным имуществом бесконтрольно, на том основании, что оно было приобретено его стараниями. В моем лице он встретил противодействие, и я потребовал уточнения вопроса о церковной природе этого имущества и строгой отчетности в нем; тогда он ушел к «карловчанам» и увлек значительную часть своего прихода. «Карловчане» сделали его протопресвитером, а потом даже епископом в пику мне и для борьбы с архиепископом Владимиром.
Когда о.Остроумов меня покинул, мои приверженцы в Канн сгруппировались вокруг его племянника, псаломщика Алексея Селезнева, окончившего духовную семинарию и много лет служившего за псаломщика, хорошего, честного человека. Я посвятил его в священники и открыл небольшой приход вблизи Канн — в Канн ля Бокка, где усердием прихожан воздвигнут маленький, но очень уютный и со вкусом украшенный храм святого Тихона Задонского.
В Биаррице у нас был прекрасный храм во имя святого Благоверного князя Александра Невского с домом для священника. Настоятелем его я назначил иеромонаха Андрея Демьяновича; он приехал сюда из Флоренции со своей матерью. Иеромонах Андрей окончил Петербургскую Духовную Академию, но ни высшее образование, ни монашество ни на что его не воодушевили. Равнодушный ко всему, он, кажется, ничем, кроме прогулок по окрестностям Биаррица со своей собакой, не интересовался. Однажды я приехал осмотреть приход, прожил там несколько дней и не смог скрыть то тяжелое впечатление, которое произвело на меня его служение. Вскоре в приходе начались дрязги, и о.Андрей уехал в Советскую Россию, где поносил меня в советском «живоцерковном» журнале. На его место я взял о.Церетелли (бывший полковник). Благочестивый, чистый и духовный человек, горячего сердца. Его военное прошлое приблизило к нему проживавшего в Биаррице принца А.П.Ольденбургского со всем его окружением. Приход оживал во время сезона, но в остальное время был обречен на безлюдное, материально трудное существование: средства прихода зависели от удачного сезонного съезда и случайных пожертвований приезжих. Много помогал храму Великий Князь Борис Владимирович.
Церковь в По, переделанная из закрытого костела, по своему внешнему виду не типично православный храм; при церкви было два церковных домика. Вследствие тяжелого материального положения, в котором оказалась церковь, настоятелю протоиерею Попову пришлось один из домиков продать.
Поначалу я к протоиерею Попову расположился и перевел его в Копенгаген, где он стал духовником проживавшей там Императрицы Марии Феодоровны. Но в Копенгагене протоиерей Попов не привился, и ему пришлось вернуться обратно. Когда начался раздор с «карловчанами», он перешел к ним.
АНГЛИЯ
О положении Лондонского прихода в самом начале эмиграции я уже говорил. После смерти протоиерея Смирнова первым настоятелем из эмиграции был протоиерей И.Лелюхин. Под влиянием тяжкой семейной драмы (жена и дочери, оставшиеся в России, уклонились в коммунизм), раздавленный этим горем, он с трудом справлялся со своим служением. Тогда ему в помощь я посвятил в священники местного псаломщика В.Тимофеева; он окончил Петербургскую Духовную Академию, 15 лет прожил в Англии и мог быть связью с англичанами. Выдвинул я и диакона Феокритова, человека очень хорошего, обладающего прекрасным голосом и свободно владеющего английским языком: я сделал его протодиаконом [
[137]]. О.Тимофеев назначением вторым священником доволен не был. Я намекнул о.Лелюхину, чтобы он подал прошение о переводе в другой приход, его друзья ополчились против меня. В конце концов о.Лелюхина все же удалось перевести во Флоренцию. На освободившееся место мне следовало назначить о.Тимофеева, а я, чтобы импонировать англичанам, выписал из Финляндии архиепископа Серафима, который, лишенный кафедры, сидел тогда в монастыре на Коневце в заточении. Архиепископ Серафим внес в лондонскую паству смуту, а потом возглавил там «карловчан».
Посольскую церковь мы вскоре потеряли по недостатку средств для оплаты аренды; тогда англичане дали нам огромный храм, в котором после раскола мы и «карловчане» стали служить по неделям, а в праздники по очереди. Один храм, один престол, а антиминсы разные… С одного амвона и наша проповедь, и брань «карловчан» по моему адресу… Положение в церковном смысле нелепое, а в житейском — соблазнительное.
По уходе архиепископа Серафима в стан моих противников я выписал из Германии протоиерея Н.Бера, благочестивого, высококультурного священника. Англичане назначением этим были вполне довольны: епископ Лондонский отметил однажды это в разговоре со мною. Зато о.Тимофеев назначением о.Бера был обижен и тоже ушел к «карловчанам». Кроткому, тихому о.Беру вести борьбу с нашими противниками было очень трудно, и до сих пор мы с «карловчанами» связаны общим храмом. Кротость массу не воодушевляет, и наш Лондонский приход не процветает ни в духовном, ни в материальном отношении. Карловацкая часть прихода в лучшем материальном положении, потому что туда отошла часть богатых коммерсантов и аристократии из крайних правых монархистов. Настоятелями в Лондоне «карловчане» посылают самых боевых людей: епископ Николай, громя меня, так увлекся, что сломал свой посох, а священник Б.Молчанов из студентов Богословского Института, мною посвященный, доходит до фанатизма в своем антиевлогианском настроении. Жаль, что наш Лондонский приход не процветает, так как это важнейший центр экуменического движения; здесь все нити нашего сближения с Англиканской Церковью, где источники материальной помощи бедствующей Русской Церкви [
[138]].
БЕЛЬГИЯ
О.Петр Извольский, первый назначенный мною в Брюссель настоятель [
[139]], был замечательным, образцовым священником. В нем сочетались смирение и кротость, столь трогательные в бывшем важном сановнике, со стойкостью, с умением стать авторитетом в глазах прихожан. К своему служению он относился с ревностью неофита, вложил в него все свои дарования. Прихожане его единодушно почитали, а для меня о.Петр был утешением. Очень к нему был расположен знаменитый кардинал Мерсье.
Когда возник раскол с «карловцами», о.Петр удержал большую часть прихода. Его стараниями при церкви была устроена школа для детей. К сожалению, о.Петр заболел неизлечимой болезнью (саркома) и долго угасал.
Преемником о.Извольского стал преосвященный Александр (Американский). После Америки он попал в Константинополь, откуда турки его выселили вместе с другими русскими, протомив при высылке дня два в тюрьме. Владыка Александр приехал в Париж и оказался в самом неопределенном положении. Я предложил ему настоятельство в Брюссельском храме. Он энергично взял там бразды правления и быстро завоевал широкие симпатии. Оригинальной складки архипастырь. Истовый в служении (служит ежедневно), аскет, постник, проповедник агитационного американского типа с политическими оттенками в содержании своих проповедей, по политическим взглядам монархист–легитимист. На богослужениях он поминает всех монархов Европы, служит в национальных трехцветных поручах, с такими же трехцветными ленточками на трикириях; в царские дни на церковном доме по его распоряжению развеваются русские национальные флаги…
Помощником у архиепископа Александра был сначала младший священник Георгий Цебриков, пришедший к священству из интеллигенции; даровитый, образованный, но крайне самолюбивый. О.Извольский не сочувствовал его рукоположению в священники, а архиепископ Александр содействовал; однако вскоре о.Цебриков перешел в католичество.
Другим помощником был молодой священник Георгий Тарасов, прекрасный, кроткий, высоконравственный пастырь; он имел такую же прекрасную жену–христианку, которая всецело отдала себя служению Христу и Церкви; к сожалению, она скоро умерла.
Владыка Александр [
[140]] не очень хозяйственный управитель, усердный молитвенник, отзывчивый на всякие нужды прихожан. Он отлично справлялся с приходом. «Карловчане» противостоять его боевому темпераменту не могут. Они стараются скомпрометировать его, распространяя клеветнические брошюрки, в которых подвергают пересудам его американское прошлое, но успеха брошюрки не имеют.
Архиепископ Александр сумел завоевать расположение паствы и бельгийских общественных и правительственных кругов. Впоследствии декретом Бельгийского короля 8 июня 1937 года наша церковная организация в лице архиепископа Александра, получающего свои полномочия от меня, получила и государственное признание; все другие церковные юрисдикции по этому статуту считаются диссидентами. Это событие было отпраздновано торжественным богослужением — молебствием пред началом Литургии, в день святителя Николая, в большом англиканском храме при многолюдном стечении народа. Секретарь архиепископа — Думбадзе вводил в церковь и устанавливал на приготовленные места дипломатических представителей православных держав и членов местного городского управления. Молебен был, так сказать, церковно–гражданского характера с возглашением множества многолетий и вечной памяти; закончился он пением бельгийского гимна. Была, конечно, торжественная трапеза. Вообще это событие, имеющее несомненно огромное значение для правового положения Русской Православной Церкви в Бельгии, было отпраздновано необычайно торжественно.
ЧЕХОСЛОВАКИЯ
До приезда в Прагу преосвященного Сергия из Польши, откуда его выслали (так же как и архиепископа Владимира) за отказ подписать унизительный конкордат, прочной церковной организации при священниках о.Стельмашенко и о.Г.Ломако у нас в Праге не было [
[141]]. Владыка Сергий, чуждый всякого властолюбия, от настоятельства уклонялся, но я все же убедил его взять приход в свои руки.
В самом начале своего служения в Праге преосвященному Сергию пришлось выдержать тяжелую борьбу с неким архимандритом Савватием, чехом, получившим образование в Казанской Духовной Академии и оставшимся на русской церковной службе смотрителем духовного училища. С наступлением революции он перекочевал на родину, в Прагу, и, конечно, мечтал сделаться настоятелем нашего Пражского прихода.
Однако наша русская колония с ним не ладила, и о.Савватий направил свою деятельность в другую сторону. При помощи чешского деятеля Червины и своих друзей он составил петицию к Вселенскому Патриарху об образовании самостоятельной православной Чешской Церкви, для чего вместе с Червиной поехал в Константинополь. Там его посвятили в епископы «всея Чехии», а Червину в протопресвитеры. Явившись в Прагу в звании епископа, он стал теснить преосвященного Сергия. Храм святителя Николая правительство оставило в общем пользовании нашего прихода и епископа Савватия. И вот, бывало, приедет преосвященный Сергий служить, а епископ Савватий, отстранив его, становится на настоятельском месте. Владыка Сергий смиренно становится сбоку. Это положение продолжалось недолго: на выборах Чешской православной общины епископ Савватий не получил достаточного количества голосов — и он остался не у дел, а православных чехов возглавил епископ Горазд, принявший посвящение от Сербского Патриарха. Хотя нашим искренним другом мы считать его не могли, но все же он не допускал тех форм вторжения в наш приход, как это делал его предшественник.
Приходская жизнь под водительством владыки Сергия забила ключом. Скромный, простой, смиренный, преосвященный Сергий обладал редким даром сплачивать вокруг себя людей самых противоположных: знатные и незнатные, ученые и неученые, богатые и бедные, правые и левые… — все объединились вокруг него в дружную семью.
Владыка Сергий живет убого, в одной комнатке, на 4–м этаже, у старушки–чешки. Эта скромная квартира привлекает многих. По четвергам владыка Сергий устраивает «чай» — на столе появляется самовар. Кто–кто на этих «четвергах» только не перебывал! Молодежь — студенты — забегают к нему иногда и без приглашения подкрепиться или переночевать. Гостеприимный владыка отличный хозяин; на кухне у старушки–чешки он сам и грибы солит, и варенье варит, и рыбу маринует. Можно встретить его и на базаре с огромным черным мешком в руках. Кто из его друзей не знает этого примечательного мешка, столь хитрого устройства и столь необычной емкости, что в нем помещается кипящий самовар? Приятный сюрприз иногда для хозяев, когда владыка Сергий приходит в гости…
Помню, приехали мы с архиепископом Владимиром как–то раз в Прагу и остановились у преосвященного Сергия. В комнате тесно: мы, кроме нас студенты (ночевать пришли), посреди комнаты стол с самоваром, с посудой… — как на ночлег устроиться? Ничего, устроились. Мне предоставили кровать, высокопреосвященному Владимиру — диван, владыка Сергий лег под столом, а студенты — на полу в передней. Неудивительно, что Пражский приход ожил, когда во главе его стал пастырь, который живет только для других, совсем не думая о себе.
При владыке Сергии в Праге образовалось Братство под покровительством известного политического деятеля Крамаржа. Жена Крамаржа, недавно скончавшаяся (рожденная Абрикосова, из семьи московских богачей), была его председательницей. Она и секретарь Братства Миркович хотели, чтобы Братство заменило приход. На это согласиться нельзя было: в приходе выборное начало сочетается со строго проведенным иерархическим началом, а в Братстве не так: выборный председатель Братства — лицо, наделенное широкими полномочиями. После некоторых неприятных недоразумений, много испортивших крови владыке Сергию, г–жа Крамарж и Миркович из Братства ушли. За время их участия в этой организации Братством была построена на русском кладбище церковь успения Божией Матери — очень красивый художественной архитектуры храм, украшенный мозаикой и иконописью.
Кроме Праги были у нас отличные храмы в трех чешских курортах: в Карлсбаде (ныне «Карловы Вары»), в Мариенбаде («Мариански Лазни») и во Франценсбаде («Францишковы Лазни»); все три построены тем же неутомимым строителем о. Мальцевым. Сейчас они находятся в ведении кураторов–чехов.
Благодаря личному авторитету преосвященного Сергия среди русских и симпатий к нему чешского общества положение наше в Чехословакии хоть юридически и неопределенно, но фактически устойчиво: пока храмы — наши, и вопрос о том, на правах ли собственности, или по праву владения они считаются за нами, просто не ставится. Всем этим положением мы обязаны преосвященному Сергию, который среди чехов поддерживает движение в пользу православия.
У владыки Сергия отличный помощник — его правая рука архимандрит Исаакий, воспитанник нашего Богословского Института. Умница, дипломат, самоотверженный работник. На всех общественных собраниях, где нужно сказать хорошую речь, чтобы она произвела впечатление, выступает о.Исаакий.
АВСТРИЯ
Я уже рассказал о том состоянии, в котором я застал нашу церковь в первый мой приезд в Вену [
[142]]. Мне удалось наладить приход, поручив его священнику Авениру Дьякову (из довоенных диаконов этой церкви). Но о.Авенир оказался не на высоте, и его пришлось заменить. Приехал и бывший до войны настоятель Венской церкви протоиерей Рождественский. Он проживал в Швейцарии и все ждал, когда какое–нибудь начальство призовет его к исполнению священнослужительских обязанностей. Ждал тщетно, наконец вернулся в Вену, больной, крамольный, служить уже не мог и скоро умер, завещав свою библиотеку нашему Богословскому Институту. По увольнении А.Дьякова я назначил архимандрита Харитона, бывшего ректора Волынской семинарии. В Польше митрополит Дионисий назначил его в сельский приход. Я пожалел его, выписал в Вену. Он вел приход плохо и в конце концов ушел к «карловчанам». Я заменил его сначала священником Д.Колпинским, перешедшим ко мне из католичества; через некоторое время он заболел нервным недомоганием, опять вернулся в католичество и скоро умер. Я заменил его хорошим батюшкой старого типа протоиереем Ванчаковым. Приход в Вене маленький, слабенький, едва влачит существование. «Карловчане» открыли параллельный приход, который возглавляется приехавшим из России епископом Серафимом Ляде, немцем по происхождению; но и ему не удалось создать сильный приход. Недалеко от Вены, в Baden hei Wien, также организовалась, главным образом трудами князя Г.Н.Трубецкого, приходская община, настоятелем которой я назначил протоиерея Д.Барсова, но он вскоре умер; община была приписана к Венскому приходу, а потом совсем закрылась.
ИТАЛИЯ
В Италии у меня было два прихода — в Риме и во Флоренции — и три церкви: в Меране, в Бари и в Сан–Ремо. В 1924 году я все их объехал.
Наша церковь в Меране, маленькая, уютная, помещается в «Русском доме», построенном купчихой Бородиной для приезжающих из России больных туберкулезом. Теперь достоянием покойной благотворительницы заведовала 90–летняя старуха Фаина Ивановна Мессинг, бывшая ее приближенная. Она сдавала комнаты приезжавшим русским и хранила имущество, но бесконтрольно. Священник Флорентийского нашего прихода, к которому приписана Меранская церковь, о.Иоанн Куракин вмешался в это дело и настоял на организации комитета по управлению домом и церковью. В комитет вошли три итальянца и двое русских.
Во Флоренции у нас чудный храм, самый красивый из всех храмов моей епархии. Двухэтажное здание в русском стиле, много прекрасных икон, живопись лучших живописцев… С настоятельством этого храма было у меня немало неудач.
Поначалу приход возглавлял глубокий старец протоиерей о.Левицкий; он неудачно выбрал себе помощника — иеромонаха Андрея [
[143]], которого затем я перевел в Биарриц. Его сменил о.Стельмашенко (из Праги), умный, образованный, но человек крутого нрава. У него испортились отношения с прихожанами, и мне пришлось его назначить в Тегельскую церковь. До Берлина он не доехал: на пути остановился в Париже, провел у меня вечер, а ночью скоропостижно скончался от грудной жабы.
В бытность о.Стельмашенко настоятелем во Флоренции, со мной случилось весьма неприятное приключение.
В нижней церкви нашего Флорентийского храма мне показали чудный иконостас, который попал сюда из домовой церкви фон Дервиз, владельца прекрасной виллы под Флоренцией. Иконостас лежал без употребления. Мелькнула мысль: вот бы его купить для Сергиевского Подворья! И тут же надежда, что какой–нибудь благотворитель его для нас выкупит. Что же? Не успел я вернуться из Италии в Париж, является ко мне молодой человек, скромного, смиренного вида, несколько удививший меня манерой припадать передо мной на одно колено. «Верно, обыностранился…» — подумал я. Он назвал свою фамилию; я имел основание отнестись к нему доверчиво. Молодой человек сказал, что до него дошли слухи о моем желании купить иконостас, и заявил, что он хочет его выкупить и пожертвовать. «Надо облегчить совесть… я хотел бы в память матери…» Он пригласил меня к себе на завтрак. Я в сопровождении о.Иоанна (Леончукова) посетил доброго молодого человека. Жил он под Парижем в собственном домике рабочего типа. У него недурная библиотека. Он показывал нам портрет своей матери. Мы у него совершили панихиду и позавтракали. Все говорило за то, что его намерение помочь нам искренно, а осуществление ему материально посильно. Он попросил меня дать ему письмо на имя о.Стельмашенко, в котором я бы рекомендовал его как покупателя. Я согласился. Желая овладеть доверием о.Стельмашенко, молодой человек прямо въехал в его квартиру и поселился, как добрый знакомый, как друг. Ради благотворительной цели продажа иконостаса состоялась по очень низкой цене (7000 франков), а прихожане прибавили еще к иконостасу иконы и лампады… — на доброе дело! Упаковку и отправку имущества молодой человек произвел через транспортную контору с необычайной быстротой и ловкостью в отсутствие о.Стельмашенко, и лишь только все из церкви было вывезено — пропал… О.настоятель тщетно ждал его возвращения — наконец пошел справиться в транспортную контору — и что же? Оказывается, все ящики направлены в Париж, но не нам… Я получил отчаянную телеграмму от о.Стельмашенко. Иконостаса мы так никогда больше и не видали…
После о.Стельмашенко я перевел из Лондона во Флоренцию о.Лелюхина. К сожалению, и здесь несчастный о.Лелюхин с горя не справился со своим служением.
Наш приход во Флоренции по составу аристократический. Главную роль играет прихожанка, попечительница храма княгиня М.П.Абамелек–Лазарева, миллионерша, владелица чудесного поместья Pratolino. Ее управляющий, по фамилии Галка, тип московского приказчика, был церковным старостой; потом он принял католичество, сбрил седую бороду и вынужден был должность старосты оставить; однако нашими церковными делами он продолжал интересоваться и всячески старался воздействовать на княгиню, чтобы она взяла о.Лелюхина под свою защиту…
Приход во Флоренции долго меня мучительно тревожил. Потом все понемногу устроилось. Бывший член Государственной думы князь Куракин после нескольких лет тяжкого эмигрантского существования приблизился к Господу настолько, что я посоветовал ему принять священство. Я направил его сначала в Милан, а потом во Флоренцию. Он взял приход в руки, сумел его поднять. Княгиня Абамелек–Лазарева сначала была в оппозиции, а теперь примирилась с новым настоятелем и с новым старостой.
Экономически приходу было до сих пор неплохо, но потом он лишился довольно крупной суммы дохода: в крипте храма, в усыпальнице, покоились останки королевы эллинов Софии (сестры Вильгельма II) и короля Константина; за эти гробницы греки нам платили 7000 франков в год. Осенью 1936 года гробы перевезли в Афины.
В Бари у нас были еще недостроенные церковь и дом для паломников — имущество нашего Палестинского общества, богатейшей организации, раскинувшей свои центры в Сирии и по всей Палестине. Наши паломники в благочестивых своих странствиях направлялись и в Бари.
Во время моей поездки по Италии (в 1924 г.) я посетил Бари. Мне хотелось отслужить молебен у самых мощей святителя Николая. Ксендзы не позволили: «Мы не имеем права разрешить… надо обратиться к епископу». Епископ ответил уклончиво: «Не от меня зависит, надо запросить Рим…» Я послал телеграмму в Рим, прождал два дня — ответа не последовало. Я помолился у святых мощей и направился в Рим.
«Вечный город» произвел на меня незабываемое впечатление. Сколько памятников христианской древности! Величие непобедимой силы христианства нигде так не чувствуешь, как в Риме, особенно в катакомбах. Кучка бесправных рабов, бедняков, последних нищих… скрывавшаяся во мраке пещер, совершая святую Евхаристию на гробах мучеников, накопила такую духовную силу, такую мощь, что, хлынув из подземелий в мир, опрокинула твердыню Рима. Воинственная римская государственность, грозная, непобедимая, вынуждена была склониться к подножию Креста. Когда ходишь по Риму, живо ощущаешь «поток времен», историческую эволюцию культур. Античная культура, христианство первых веков, средневековая с расцветом и упадком папства, Ренессанс, наконец, культура нового времени… — все осязательно представлено, все запечатлено в памятниках зодчества, скульптуры, живописи, прикладного искусства. Одна культура наслаивалась на другую. Как примечательна хотя бы церковь Supra Minerva — храм Пресвятой Девы, воздвигнутый над древним языческим храмом богини Минервы… Я побывал и в соборе святого Петра. Впечатление величия, а духовного, молитвенного настроения нет.
В Риме (в 1924 г.) у русских собственной церкви еще не было, для богослужений нанимали зал в одном благоустроенном доме. (Впоследствии русская колония устроила церковь в особняке, унаследованном по завещанию от графини Чернышевой.) Служил архимандрит Симеон, хороший, вдумчивый монах; впоследствии из личной преданности митрополиту Антонию он перешел к «карловчанам», но не считал Карловацкий Синод канонически полномочным органом церковного управления и от продвижения во епископы неизменно уклонялся.
Во время моего пребывания в Риме у меня завязались отношения кое с кем из католиков. Ко мне явились князь Александр Волконский, о.Абрикосов и нареченный во епископы монсиньор д’Эрбиньи (d’Herbiny), директор Institut Pontificale Orientale, где культивируется и по сей день так называемый «восточный обряд». Поднялся вопрос о соединении Церквей, и между нами произошел следующий диалог:
– Как вы, Ваше Высокопреосвященство, к этому относитесь?
– Святая идея, — ответил я, — но история наложила на этом пути столько камней… Прежде чем говорить о соединении, надо путь расчистить, все камни удалить.
– Какие камни?
– А ваша пропаганда, — вербовка душ… Вы поступаете неправильно. Когда это касается взрослых, — не горюю: они имеют свою совесть, сами за себя отвечают; но когда вы улавливаете «малых сих» в приютах, в школах… — это недопустимое насилие над детскими душами.
– Где?.. где?..
– Хотя бы в Бельгии, — деятельность таких лиц, как Сипягин.
– Это недоразумение… фанатизм некоторых аббатов, игумений… Святой Отец этому не сочувствует…
– Католичество славится дисциплиной… Если из Рима пригрозят пальцем, все подчинятся. Есть еще камень на пути — удушение православия в Польше.
– Ах, эта Польша!.. Польское духовенство проедено политикой!
– Да, проедено, но от этого не легче…
Мои собеседники стали приглашать меня побывать в их институте и спросили, не заеду ли я к св.Отцу. Я упомянул о молчании Ватикана в ответ на мою телеграмму из Бари. — «Ах, это небрежность папской канцелярии…» — «Не думаю, — в заключение сказал я, — что мое посещение доставит удовольствие Его Святейшеству…»
После Рима я намеревался съездить в Неаполь и осмотреть раскопки Геркуланума и Помпеи, но, получив известие, что в Париж приехал владыка Анастасий, я пожертвовал интересной поездкой и поспешил домой.
Епископа Анастасия только что выслали из Константинополя. Там он произносил зажигательные политические речи на Афонском Подворье. Константинопольский Патриарх предостерегал его, советовал учитывать обстановку, помнить, что пользуется гостеприимством турецкой державы, но владыка Анастасий с этим предостережением не посчитался и потому ему запретили священнослужение. Он уехал из Константинополя.
ШВЕЙЦАРИЯ
В нашей Женевской церкви еще до войны настоятелем был протоиерей Сергий Орлов. К нему в Швейцарии привыкли. Он пользовался авторитетом, в стране обжился, устроился крепко, даже разбогател: приобрел виллу. Человек осторожный, умеющий в бурное время ориентироваться… Мы с ним сверстники по Московской Духовной Академии (я был на 1–м курсе, когда он был на 4–м). В начале эмиграции я у него исповедовался. Карловацкий раскол нас разобщил. Пережить наш разрыв мне было больно… Церковь в Женеве во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста небольшая, но прекрасная, с чудным звоном. Приход небольшой, спокойный, буржуазный…
ГОЛЛАНДИЯ
Настоятелем нашей церкви в Гааге был долгие годы о.Алексей Розанов, священник семинарского образования, не очень ревновавший о своем приходе. Церковь, устроенная в доме батюшки, со входом через его гостиную, привлекала преимущественно его друзей и знакомых, а богомольцы со стороны идти в квартиру батюшки иногда и не отваживались. Приход, и без того малочисленный, захирел. После смерти о.Розанова я назначил в Гаагу иеромонаха о.Дионисия, горячего, энергичного молодого человека, окончившего Богословский Институт.
ШВЕЦИЯ
Храм в Стокгольме наш самый старый храм в Западной Европе (он был основан при Петре Великом). Настоятелем его я застал престарелого священника протоиерея Петра Румянцева, школьного коллегу о.Иакова Смирнова. Впоследствии появился ему помощник — о.Александр Рубец, бывший воспитатель Императорского Александровского лицея. Он читал курс русского языка в Упсальском университете, а в Стокгольме имел свою домовую церковь. Я рукоположил его в священники и после смерти о.Румянцева хотел сделать его преемником, но между ним и прихожанами возникли недоразумения, он от настоятельства уклонился и продолжал служить в своей домовой церкви, изредка выезжая для служб и треб в Осло.
Русская колония восстала против о.А.Рубца по следующему поводу. Одно книгоиздательство заказало ему книгу о советских писателях. Ничего общего с коммунизмом не имея, о.А.Рубец, заработка ради, взял заказ и написал ряд критических отзывов, для советской литературы весьма не лестных. Но книгоиздательство оказало ему медвежью услугу — изобразило на обложке серп и молот. Это эмигрантов возмутило. Я разобрался в обвинениях и ничего криминального в действиях о.А.Рубца не нашел.
РУМЫНИЯ
Наша церковь в Бухаресте в первые годы эмиграции существовала благополучно. Возглавлял ее священник о.Игнатий Коневский. Храму покровительствовал Румынский Патриарх и старый наш посланник в Румынии, магнат Уральский, католик–поляк Поклевский–Козелл. Потом все переменилось. Внезапно умер о.Коневский. Румыния признала большевиков, Патриарх Мирон, чтобы покончить с большевистскими притязаниями, отдал нашу церковь сербам. Это было, конечно, неправильно, но все же лучше, чем передача большевикам…
В Бессарабии, где все церкви были раньше наши, мы подверглись утеснению, волна насильственной румынизации захлестнула церковную жизнь: введены были новый стиль и богослужение на румынском языке. Славянское богослужение сохранилось лишь в одной, кладбищенской, церкви в Кишиневе. «Карловчане» пытались осесть в Румынии, но их арестовали и посадили в тюрьму.
ДАНИЯ
В Копенгагене у нас была небольшая, но очень хорошая благоукрашенная церковь и небольшой приход. Пребывание Императрицы Марии Феодоровны для приходской жизни имело большое значение. В начале эмиграции настоятелем был архимандрит Антоний Дашкевич, из флотских иеромонахов, когда–то плававший на императорской яхте. Императрицу о.Антоний развлекал, умел рассказывать анекдоты. Поначалу я отнесся к нему хорошо, а потом, разглядев, изменил к нему отношение и стал его подтягивать. «Карловцы» вызвали его, посвятили в епископы и отправили на Аляску, поручив ему на пути произвести следствие относительно деятельности в Америке епископа Александра. Между ним и владыкой Александром были старые счеты. Под видом дознания епископ Антоний собрал кучу всякого обывательского мусору, а до Аляски так и не доехал, вскоре возвратился назад и умер в Югославии.
На его место я послал протоиерея Н.Попова (из По), а потом назначил достойнейшего, умного, благоговейного старца о.Леонида Колчева (из Константинополя). Императрица меня благодарила за это назначение. Когда Дания признала большевиков и они затеяли судебный процесс с целью завладеть нашей церковью, о.Колчев сумел ее отстоять. В 1928 году Императрица Мария Феодоровна скончалась. О.Леонид ее напутствовал. По кончине я получил от него телеграмму: он вызывал меня на похороны. Я прибыл в Копенгаген и совершил чин погребения. На похоронах встретился с Великой Княгиней Ольгой Александровной, познакомился с ее двумя детьми, прелестными мальчиками Тихоном и Гурием, и узнал, что Великая Княгиня живет на ферме, занимается огородничеством и садоводством, сама возит в город землянику на продажу, а для этого встает на заре и выезжает на восходе солнца. От всего ее рассказа о своей скромной, трудовой жизни веяло духом смиренного величия… Добрая, истинная христианка.
БОЛГАРИЯ
В Софии настоятелем нашей церкви я застал архимандрита Тихона, которого я взял с собою в Берлин [
[144]]. Одна часть прихожан просила меня на его место назначить протопресвитера Георгия Шавельского; другая — епископа Серафима (Лубненского), который проживал в Константинополе и был не у дел. Я назначил епископа Серафима. Назначение не из удачных. Епископ Серафим создал в приходе неприятную атмосферу нездорового мистицизма — пророческих вещаний, видений…
Болгарскими церковными делами я не интересовался. Болгарию, строго говоря, Западной Европой считать нельзя, к тому же там был самостоятельный епископ. Нашу церковь в Софии большевики потом отобрали, отдали болгарам, а епископу Серафиму пришлось устроиться на стороне в маленькой церковке. Когда возник раскол с «карловцами», он меня покинул и стал одним из ярких представителей «карловчан». Против о.Сергия Булгакова он написал обличительный труд — толстый том в несколько сот страниц, очень примитивный и в научном отношении незначительный.
Кроме Софии у нас в Болгарии есть еще храмы: на Шипке, в Варне и несколько других.
3. НОВЫЕ ХРАМЫ И ПРИХОДЫ (Сергиевское Подворье. Богословский Институт)
Налаживая церковную жизнь в существовавших уже раньше в Западной Европе наших церквах, я одновременно много внимания уделял созиданию в моей епархии новых храмов и приходов. Истории их возникновения и существования я посвящу целый отдел и прежде всего расскажу, как мне удалось с помощью Божией и при поддержке моей паствы создать Сергиевское подворье — первый новый храм. Возникновение его положило начало широкой храмоздательной деятельности в моей епархии — осуществление соборных усилий нашей зарубежной Церкви.
СЕРГИЕВСКОЕ ПОДВОРЬЕ
Александро–Невская церковь всех молящихся не вмещала. Я с болью наблюдал, что многие богомольцы, стремившиеся попасть в храм, оставались за дверями. Тревожило меня и чувство неудовлетворенности деятельностью нашего прихода: церковная жизнь ключом не била, образцовым кафедральный приход считаться не мог. Эти соображения и побудили меня направить свою деятельность по новому пути. Я задумал создать несколько новых церквей, прежде всего в Париже. У меня была тайная надежда, что в этих новых церквах создадутся очаги более деятельной церковноприходской жизни. Первым осуществлением моего желания было Сергиевское Подворье. Возникло оно прямо чудом.
Озабоченный мыслью об устроении второго храма в Париже, я обратился к князю Г.Н.Трубецкому и М.М.Осоргину [
[145]] и просил помочь мне в этом деле. Мы начали с того, что ходатайствовали перед французским правительством о предоставлении нам, в воздаяние заслуг русских воинов на французском фронте, какого–либо помещения для храма; мы просили, — хотя бы во временное пользование до возвращения нашего на родину, — предоставить нам одно из отчужденных по праву войны немецких зданий, а если его нам дать не могут, то хоть отвести нам участок земли, где бы мы уже сами выстроили церковь. К сожалению, этот план не удался, и тогда у нас возникла мысль купить для означенной цели какое–нибудь секвестрованное здание.
М.М.Осоргин нашел подходящую усадьбу под № 93 по рю де Кримэ. Это было бывшее немецкое учреждение, созданное пастором Фридрихом фон Бодельшвинг: немецкое общество попечения о духовных нуждах проживающих в Париже немцев евангелического исповедания устроило там детскую школу–интернат. Это учреждение помещалось в нижнем этаже здания, а в верхнем была устроена кирка.
Осоргин повез меня на рю де Кримэ. Я осмотрел усадьбу. Она мне очень понравилась.
В глубине двора высокий холм с ветвистыми деревьями и цветочными клумбами. Дорожка вьется на его вершину к крыльцу большого деревянного здания школы, над его крышей виднеется маленькая колокольня кирки. Кругом еще четыре небольших домика. Тихо, светло, укромно: с улицы, за домами, усадьбы не видно, и уличный шум до нее не доходит, со всех сторон ее обступают высокие стены соседних домов, словно от всего мира закрывают. Настоящая «пустынь» среди шумного, суетного Парижа. «Вот бы где хорошо нам устроиться, — вслух подумал я, — и не только открыть приход, но и пастырскую школу…»
К сожалению, вся усадьба была в плачевном состоянии. С 1914 года, с начала войны, зданий не только не ремонтировали, но оставили без всякого присмотра; временно здесь жили солдаты, отправлявшиеся на фронт. Теперь правительство дало распоряжение продать усадьбу с аукциона за номинальную сумму в 300 000 франков. Чтобы иметь право приступить к торгам, надо было предварительно внести залог в размере 5 процентов с назначенной суммы, т. е. 15 000 франков.
В моем распоряжении в это время был епархиальный денежный фонд как раз на эту сумму. Осоргин об этом знал. «Не рискнуть ли нам выступить на торгах?» — сказал он, не задумываясь над тем, откуда взять остальную сумму, если бы имущество на торгах осталось за нами. Не веря в возможность покупки, я все же, смеясь, дал Осоргину согласие, однако с оговоркой, что в успех дела поверить трудно: «Какие же мы покупатели! Какая дерзость! Столько земли… найдутся конкуренты. Где же нам с ними состязаться?» В таком настроении я разрешил Осоргину внести залог и явиться на аукцион с тем условием, чтобы цену сверх 300 000 франков он поднимал лишь с крайней осторожностью и, во всяком случае, не превышая 310 000 франков.
Торги были назначены на Сергиев день, 18 июля. Была среда. После Литургии я должен был служить акафист. Направляясь в церковь, встретил именинника — бывшего министра Сергея Дмитриевича Сазонова. Про торги он слышал и доброжелательно сказал: «В добрый час! Преподобный Сергий вам поможет…» Не успел я по окончании службы разоблачиться, вдруг входит Осоргин и радостно объявляет: «Поздравляю… торги в нашу пользу за 321 000…» Я напустился на него: «Что вы сделали? Разве это возможно! Через месяц, к 18 августа, надо внести 35 000, иначе нотариус купчей не составит? а остальную сумму надо в декабре? Откуда взять такие деньги?!..» Я решил, что мы попались и нам не выпутаться. Обратился за советом к графу Коковцову — он отнесся к нашему делу неодобрительно: «Охота вам связываться? Бросьте!.. Хлопоты, неприятности… Откажитесь… 15 000 пропадут, что ж делать! Здоровье дороже». Мне было и 15 000 жалко, и не знал я, откуда до 35 000 добрать. Стал объезжать некоторых знакомых — и что же?! Кто две, кто три тысячи дает… К 18 августа собрал все 35 000. Далось это не легко, волнений было много. У меня начались сердечные припадки, моя давняя болезнь (Меньера) усилилась: в церкви почти ежедневно бывали головокружения и рвота. Мне посоветовали съездить полечиться в Royat. Там, наедине, я все обдумывал, что делать дальше. Надежда на Бога сменялась отчаянием: 270 000 надо внести в ноябре… — откуда их взять? Такую огромную сумму у кого просить? И кто сможет справиться с этим труднейшим и сложным делом — осуществить покупку имущества, а потом им управлять? Я не считал себя опытным хозяином. Тут впервые возникла мысль вызвать из Берлина настоятеля Тегельской церкви архимандрита Иоанна Леончукова [
[146]]. В бытность свою председателем всех свечных заводов Русской Церкви, о.Иоанн приобрел большой хозяйственный опыт и не раз был командирован за границу для покупок воска и проч. Я вызвал о.Иоанна в Royat. Он успокаивал меня, но, по–видимому, в душе сомневался не меньше, чем я. Кое–как докончив курс лечения, я вернулся в Париж и тотчас образовал комитет по изысканию средств для приобретения Подворья. Председательство взял на себя князь Б.А.Васильчиков, членами вошли: архимандрит Иоанн, протоиерей Георгий Спасский, князь Г.Н.Трубецкой, Осоргин, Вахрушев, Каштанов, Шидловский, Ковалевский, граф Хрептович–Бутенев, Никаноров, Липеровский, Аметистов. Комитет собирался то у меня, то у Вахрушева. Отношение к задуманному делу в русском обществе было различное: люди деловые, финансисты, смотрели на покупку, как на неосмотрительный шаг, а люди с преобладанием идеализма над практическими соображениями стояли за дерзание. С.Н.Третьяков, прежде чем высказаться «за» или «против» покупки, послал архитектора от Торгово–промышленного комитета осмотреть здание; тот дал заключение неутешительное: разрушения велики, ремонт будет стоить дорого. Третьяков высказался против приобретения усадьбы. Несмотря на разногласия, сбор пожертвований начался, — и деньги потекли… Э.Л.Нобель пожертвовал 40 000 франков, А.К.Ушков — 100 фунтов, М.Н.Гире внес единовременно тоже крупную сумму и т. д. Посыпались и мелкие пожертвования: от различных эмигрантских объединений и от отдельных лиц; бедные рабочие, шоферы несли свои скромные трогательные лепты. Много было пожертвований от «неизвестного» [
[147]]. Стал нарастать подъем. Дамы приносили серьги, кольца… Казначей Шидловский едва успевал писать квитанции на все эти взносы и приношения. А тем временем срок платежа приближался… Мне советовали решиться на какую–то финансовую операцию с закладом, но устроить ее было сложно. В эти тревожные дни пришел ко мне один приятель и говорит: «Вот вы, владыка, так мучаетесь, а я видел на днях еврея–благотворителя Моисея Акимовича Гинзбурга, он прослышал, что вам деньги нужны. Что же, говорит, митрополит не обращается ко мне? Я бы ему помог. Или он еврейскими деньгами брезгует?» Недолго думая, я надел клобук — и поехал к М.А.Гинзбургу. Я знал, что он человек широкого, доброго сердца и искренно любит Россию. На мою просьбу дать нам ссуду, которую мы понемногу будем ему выплачивать, он отозвался с редким душевным благородством. Ссуда в 100000 его не испугала (а эта сумма нас выручала), он дал нам ее без процентов и бессрочно. «Я верю вам на слово. Когда сможете, тогда и выплатите…» [
[148]] — сказал он. Благодаря этой денежной поддержке купчая была подписана, и мы немедленно приступили к капитальному ремонту зданий. Он длился всю зиму. Мне хотелось освятить храм не позже св. Четыредесятницы, чтобы дать возможность богомольцам посещать на Подворье великопостные службы.
Освящение состоялось 1 марта в Прощеное Воскресенье. Подворье было приобретено в день памяти Преподобного Сергия Радонежского; в этом я усмотрел особенное благословение этого святого угодника и посвятил храм и всю усадьбу его святому имени, назвав его «Сергиевское Подворье». Храм имел еще довольно убогий вид и все еще напоминал кирку: иконостас, взятый из походной военной церкви, мало икон, мало лампад… Народу собралось очень много. Среди молящихся были и иностранцы: французы и др. Служба прошла с большим подъемом. Архимандрит Иоанн в своей приветственной речи при встрече меня старался разъяснить (так же как и я потом в «слове» перед Литургией) религиозно–нравственное значение Сергиевского Подворья для русской эмиграции, а через нее и для христианского инославного мира, среди которого, по попущению Божию за грехи наши и наших соотечественников, мы рассеяны: нашу судьбу можно сравнить с судьбой Израиля в Вавилонском плену; те же очистительные тяжкие страдания изгнанничества, то же возвращение к родной вере и Церкви, то же влияние своей религиозной жизни — веры и культа — на окружающую чужеземную среду; по мысли основателя, Сергиевское Подворье — новый светоч православной богословской науки и христианской жизни, яркая лампада Православия, возжженная от обители Преподобного Сергия на чужбине, чтобы она светила и близким и дальним, и своим и чужим, и русским и иностранцам… — Начался торжественный обряд освящения храма, за ним последовал крестный ход со святыми мощами и Божественная Литургия. Перед ее началом я сказал «слово»:
«Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь… День нашей великой радости, день веселия духовного, наше светлое духовное торжество, наш православный русский праздник. На горе сей ныне, воистину, воссияла благодать Божия; вдали от родины, в самом сердце западноевропейской культуры, засветился огонек нашего родного Православия, воссияла малая и еще не устроенная обитель, посвященная имени нашего великого молитвенника Русской Земли — Преподобного Сергия, не только угодника Божия, но и собирателя и устроителя Русского Государства.
Некогда, более 500 лет тому назад, он создал свою обитель в глуши лесов, в непроходимых дебрях пустыни. Мы устрояем эту новую обитель среди шумного города, очага всемирной цивилизации; но если взглянуть на эту цивилизацию оком христианина, то вся она, хоть и на христианских началах построенная, но давно оторвавшаяся от этих нравственных основ своих, не представляет ли пустынь еще более дикую, сухую и бесплодную, нежели суровая пустыня Сергиева…
Обитель Сергиева приютила в своих стенах высшую духовную школу, и наша ныне созидающаяся обитель имеет своей задачей те же просветительные цели, так же думает дать приют нашей русской молодежи, ищущей богословских знаний, ищущей Бога, горящей огнем желания послужить святой Церкви родной. Она стремится к тому, чтобы не погас этот священный огонек, чтобы питомцы ее были светильниками светозарными и горящими, чтобы понесли они этот свет туда, на родину, которая так нуждается в этом свете. И для всех нас — как бы хотелось! — чтобы здесь создался светлый и теплый очаг родного Православия, чтобы и сюда притекали православные русские люди, измученные, истерзанные душой, как некогда притекали изнемогавшие под игом татарским наши предки в обитель Преподобного Сергия и получали утешение и запас бодрости душевной, обновляя душевные силы для борьбы с житейскими невзгодами. Мало этого, — хотелось бы, чтобы и наши иностранные друзья, представители западного христианства, нашли дорогу в эту обитель. Теперь они внимательно и чутко прислушиваются к нашему восточному Православию, живо им интересуются. Ведь и средства на это святое дело в значительной мере нам дали иностранцы. Нужно показать им красоту и правду Православия. Да будет сей храм местом сближения и братолюбивого общения всех христиан. Пусть не укрывается этот град, вверху горы стоящий, и пусть не поставляется светильник под спудом, но да светит всем не только в храме, но пусть люди и издали видят его свет.
Вы скажете, что я мечтаю. Да, мечтаю, или, лучше, предаюсь своим молитвенным чаяниям. Далеко еще до их осуществления. Мы создали храм рукотворный, но он еще совсем не устроен: все в нем, как и в начальной обители Преподобного Сергия, «убого, нищенско, сиротинско». Но положен уже крепкий фундамент этого духовного строительства, благодать Божия сегодня освятила место сие. На этом твердом фундаменте будем строить храм духовный, нерукотворенный — напечатлевать образ святого Православия в юных душах учащихся здесь и широко являть этот прекрасный образ всем притекающим сюда с молитвою. Да услышит молитву их здесь сам великий молитвенник за Русскую Землю — Преподобный отец наш Сергий.
Низкий поклон мой в этом святом месте всем, кто принес сюда свои трудовые жертвы и особенно трогательные лепты бедняков, рабочих, бедных женщин, которые жертвовали свои последние серьги, кольца, желая остаться «неизвестными». Да воздаст Господь всем добрым жертвователям сторицею. Не престанет возноситься о них горячая молитва под освященною сенью этого храма, и не о них только, а обо всех русских людях, труждающихся и обремененных, в отечестве и в рассеянии и в скорбях сущих, и, наконец, о мире всего мира, о благосостоянии святых Божиих Церквей и о соединении всех здесь Господу помолимся. Аминь».
По окончании Литургии был устроен скромный «чай». Я обратился к присутствующим с кратким «словом» — благодарил всех потрудившихся в деле созидания Сергиевского Подворья и сказал, что сегодняшнее торжество особенно знаменательно: оно выходит за пределы Парижа, Франции и вообще русской эмигрантской Церкви, оно отзывается и в многострадальной России… «Я имею основание думать, — сказал я, — что Святейшему Патриарху Тихону известно об учреждении здесь Сергиевского Подворья и Духовной Академии. Святейший молится за нас и благословляет нас оттуда. Молитвенно пожелаем, чтобы Господь сохранил его на многие лета».
Присутствующие с воодушевлением пропели Святейшему Патриарху многолетие.
В течение Великого поста я часто приезжал на Подворье. Богослужение все еще в убогой обстановке, с маленьким хориком, которым управлял Осоргин, было трогательно. Оттенок монашеского уклада, старинные напевы, подлинный молитвенный подъем среди молящихся… — вот отличительные черты этих служб. Одновременно налаживалось и приходское управление. Организовался Приходский совет [
[149]]. Старостой выбрали П.А.Вахрушева, человека делового и энергичного. Благодаря его распорядительности первая Пасхальная заутреня привлекла множество богомольцев: он заарендовал автобусы, которые и развозили под утро молящихся в разные концы Парижа. Заутреня прошла с большим подъемом. На Пасхе на Подворье было устроено розговенье. Собралось много детей, родители, сестры Александро–Невской церкви… Был многолюдный крестный ход. Чудная картина! Это собрание прихожан в пасхальную ночь и это детское розговенье на Пасху, когда дети после вечерни шли с возжженными свечами вокруг храма при пении пасхальных песнопений (а также веселые детские «елки» на Рождество Христово), вошли потом в обычай Подворья.
Благодаря жертвенному порыву добрых людей храм весьма скоро приобрел благолепный вид и был снабжен всем необходимым.
Великая Княгиня Мария Павловна изъявила желание пожертвовать большую сумму (до 100000 франков) на внутреннюю отделку Сергиевского храма, в память своей благочестивой тетушки, замученной большевиками, — Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Художественная роспись его, сооружение иконостаса и прочие работы по украшению храма были жертвенно, безвозмездно исполнены талантливым художником Дмитрием Семеновичем Стеллецким. Все преобразилось до неузнаваемости: стены, своды потолка покрыла художественная роспись. Художник вдохновлялся в своем творчестве лучшими образцами фресок древнерусских церквей и монастырей до начала XVI века (Ферапонтова монастыря и др.); в прекрасный многоярусный иконостас, в левый его придел, вставили царские врата XIV века, приобретенные у какого–то антиквара за 15000 франков. Известная балерина А.М.Балашева пожертвовала большую древнюю икону Тихвинской Божией Матери. Отдельные лица и семьи (иногда анонимно) жертвовали иконы, лампады, воздухи, предметы церковной утвари, одежды для аналоев и облачения для священнослужителей… Немецкая протестантская кирка скоро превратилась в чудный православный древнерусский храм.
Несмотря на то, что Подворье находится в отдаленном углу Парижа, где проживает мало русских, храм Преподобного Сергия благолепным своим устройством, истовым уставным богослужением привлекал великое множество богомольцев. Образовалось религиозное тяготение к обители Преподобного Сергия, потребность там побывать, там помолиться, т. е. возникло отношение к нему как бы к месту паломничества. Жизнь прихода стала быстро развиваться. Скоро стараниями старосты П.А.Вахрушева в усадьбе был устроен свечной завод, снабжавший церкви епархии хорошими восковыми свечами. Потом открыли амбулаторию для бедных, где бесплатно принимали больных близкие к Подворью русские врачи.
Для меня было великою радостью процветание этого нового храма и прихода. К сожалению, с течением времени эта горячая ревность стала остывать и приходская жизнь начала заметно клониться к упадку. Повлияло на это — возникновение в Париже других приходов в местах более густо заселенных русскими эмигрантами. Очевидно, не хватало молитвенного настроения и серьезного понимания того значения, которое в нашей эмигрантской жизни имеет Сергиевское Подворье, иначе русские люди старались бы хоть иногда преодолевать неудобства дальнего расстояния и посещали бы прекрасный храм Преподобного Сергия.
БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ
Мысль о создании Богословского Института созрела у меня не сразу. Сначала я не знал, открыть ли пастырскую школу, или высшую богословскую. К окончательному решению я пришел на Конференции Русского Студенческого Христианского Движения. Я стоял близко к этой организации, объединившей вокруг себя группу наших профессоров. В эту группу вошли: А.В.Карташев, В.В.Зеньковский, С.С.Безобразов, молодой профессор, только что прибывший из Сербии, и др. Я устроил совещание с ними и в результате наших переговоров решил открыть высшую богословскую школу, которая должна была отвечать двум заданиям: 1) продолжать традиции наших академий — нашей богословской науки и мысли; 2) подготовлять кадры богословски образованных людей и пастырей. Одновременно мы постановили пригласить в состав профессоров о.Булгакова и Флоровского, которые тогда проживали в Праге. Председатель Всемирного Комитета Христианского Союза молодых людей д–р Мотт живо отозвался на наш проект и дал нам на организацию нового учреждения крупную субсидию. Мы решили обратиться к церковной общественности Англии и Америки с просьбой тоже оказать нам братскую поддержку. Окрыленные надеждой, вернулись мы после Конференции в Париж.
Созданию Богословского Института — единственной русской богословской школы за границей — я придавал огромное значение. В России большевики закрыли все духовные академии и семинарии; богословское образование молодежи прекратилось, образовалась пустота, которую наш институт, хоть в минимальной мере, мог заполнить. Ряды духовенства там тоже сильно поредели, а мы могли готовить резервные кадры священства; потребность в образованных священниках чувствовалась в эмиграции, могли они понадобиться и для будущей России. Открытие Богословского Института именно в Париже, в центре западноевропейской — не русской, но христианской — культуры имело тоже большое значение: оно предначертало нашей высшей богословской школе экуменическую линию в постановке некоторых теоретических проблем и религиозно–практических заданий, дабы православие не лежало больше под спудом, а постепенно делалось достоянием христианских народов.
Богословский Институт образовался быстро — в первый же год существования Подворья. Сразу по возвращении с Конференции Христианского Движения мы приступили к разработке устава и программы. Профессор Безобразов (ныне игумен Кассиан [
[150]]) устроился в скромной комнатке на Подворье и занялся подготовительной работой. После Пасхи приехали протоиерей С.Булгаков и другие профессора, и мы решили открыть прием студентов. Хотя была весна, а систематические занятия было решено начать лишь осенью, мы приняли все же десять человек; надо было, чтобы за лето они обжились и прошли под руководством институтских преподавателей краткий подготовительный курс.
С осени работа в Институте окончательно наладилась. Поначалу картина учебной жизни была трогательная. Внешний вид помещений: аудиторий, дортуаров, трапезной… был скромный, примитивный, граничивший с бедностью, но среди этого убожества веял подлинный церковный дух. Храм Подворья, к тому времени уже благоустроенный, благолепный, стал центром институтской жизни. Ежедневное посещение церковных служб было для студентов обязательно. Богослужение, как я уже сказал, отличалось строгостью церковного стиля, напоминая монастырские службы. Воспитанники были одеты в подрясники и походили на послушников. Трапезу они вкушали молча, слушая чтение «прологов» или «житий». Этим строго монашеским направлением институтской жизни наша богословская школа обязана епископу Вениамину, который по моему приглашению прибыл из Сербии еще на Пасхе и занял должность инспектора.
Епископ Вениамин много дал Институту, хотя был далеко не образцовым администратором. Его повышенная эмоциональность и воодушевление идеалом монашества оказывали на студентов благотворное влияние; в их среде возникали духовный подъем, высокая религиозная настроенность. К сожалению, эта же повышенная эмоциональность обусловила и некоторые отрицательные черты епископа Вениамина: непостоянство, шаткость, противоречие в решениях и поступках. На него нельзя было положиться. Как–то раз я это высказал ему. «Вы мне не доверяете?» — спросил он. «А доверяете ли вы себе сами? Поручитесь ли вы за то, что будете говорить и делать через один–два года?» — в свою очередь, спросил я. Епископ Вениамин промолчал. Через год он покинул Институт, увлеченный созданием какого–то прихода в Сербии (в Белой Церкви), потом охладел к нему, вновь вернулся к нам, а спустя два года опять нас покинул и перешел в юрисдикцию митрополита Литовского Елевферия, т. е.Москвы.
Среди профессоров Института по праву первое место занял А.В.Карташев, бывший доцент Петербургской Духовной Академии по кафедре русской церковной истории, которую он вынужден был покинуть из–за своего либерализма. Когда разразилась Февральская революция, А.В. вошел в состав Временного правительства и занял пост Министра Исповеданий. Выдающийся, редкий талант, богословски глубоко образованный человек, ученый, в котором есть «школа».
О.Сергий Булгаков, занявший в Институте кафедру догматического богословия, — крупная величина, богослов большой образованности и дарования. Его прошлое не похоже на обычный путь наших духовный академий. Истину православия он выносил долгим и тяжким жизненным опытом. В начале своей научной деятельности он был марксистом и преподавал политическую экономию в Киевском политехникуме, но марксизм его пытливый ум не удовлетворил; в поисках Истины он пришел к идеализму, от идеализма — к христианству, от христианства — к православию, от православия — к священству. Какое надо было иметь богатство души, сколько выстрадать, сколько пережить, чтобы этот путь проделать! Во время революции о.Сергий вошел в состав членов Московского Церковного Собора и был близок Патриарху. Священный сан он принял не без влияния своего друга о.Павла Флоренского и был рукоположен ректором Московской Духовной Академии преосвященным Федором [
[151]]. Патриарх все откладывал срок его посвящения. «Вы нам полезнее в сюртуке», — так мотивировал Патриарх отсрочку.
О.Сергий отдался служению Церкви Божией со всем пламенем очищенной страданиями души. Он сделался ревностным пастырем–молитвенником, прекрасным проповедником и духовником, священником, с трепетным благоговением совершающим таинство святой Евхаристии. В области богословской науки он оказался плодотворнейшим писателем. Им написано несколько замечательных богословских книг. На всех богословских трудах о.Сергия лежит печать большого таланта. Его произведения вызывают критику — упреки за уклон от чисто православного миросозерцания, главным образом в области софиологии. Ему ставят на вид некоторую смутность очертаний его учения о Софии, в котором видят влияние учения В.Соловьева, отсутствие конкретных определений для его выражения, нечеткость мыслей. Подчеркивают и его недостаточно благоговейное отношение к авторитету святых отцов Церкви, слишком свободную их критику, тогда как православная Церковь чтит их как носителей и выразителей Священного Писания, как нормы для всякой новой богословской мысли, которая утверждается «согласием отцов» (consessus patrum). Эти уклонения о.Сергия от традиций нашего богословия объясняются отсутствием у него «школы», того фундамента, который закладывался в наших духовных академиях. Мирская философия от Платона и Плотина до В.Соловьева оказала на о.Сергия большое влияние, хотя святоотеческую литературу он знает превосходно. Этот «мирской» пафос, который наложил свой отпечаток на богословское творчество о.Сергия, нарекания и вызывает. Однако все, даже сами обличители о.Сергия, признают, что в его сочинениях есть глубина, есть талантливое творчество, открывающее новые горизонты для дальнейшего развития православной богословской науки. В должности инспектора Богословского Института о.Сергий имел большое влияние на студентов. Он стал их духовником, другом, советчиком, и авторитет его в студенческой среде огромен. Но административные, инспекторские обязанности не соответствуют философскому складу о.Сергия — он более философ, нежели администратор.
Курс патрологии был поручен Г.В.Флоровскому (ныне протоиерей [
[152]]). Первые годы эмиграции он провел в Праге, где при университете был образован русский юридический факультет во главе с Новогородцевым, которого выбрали деканом (о.Сергий Булгаков и Флоровский были там лекторами). Поначалу чехи широко раскрыли двери для русской эмиграции и в Праге скопилось много наших профессоров и студентов. О.С.Булгаков и его друзья основали там «Братство святой Софии». По рекомендации о.Сергия я выписал Флоровского в Париж. Он с большой ревностью занимался своей специальностью и путем усидчивого труда достиг широких знаний. За эти годы преподавательской своей деятельности в нашем Институте он издал большой труд «Вселенские Отцы Церкви» (в двух томах) и «Пути русского богословия».
«Священное Писание Нового Завета» преподает о.Кассиан (С.С.Безобразов), серьезный и глубокий профессор, пользующийся большой популярностью среди студентов. Человек прекрасного сердца и глубокого религиозного чувства, он живет интересами студентов, входит в их нужды, умеет их объединить, дать почувствовать теплоту братского общения. По пятницам к о.Кассиану в его две мансардные комнатки на Подворье собирались студенты для дружественной беседы за чаем. О.Кассиан их верный друг, помощник и заступник. Не раз случалось ему своим заступлением отводить какую–нибудь репрессивную меру, которую я готов был наложить на провинившегося студента. «Лишить стипендии!» — решаю я. А о.Кассиан мягко: «Но есть, владыка, извинительные обстоятельства… Я свидетельствую…»
Философию читает В.В.Зеньковский [
[153]], сильный, незаурядный философ, ученый–педагог (организатор Педагогического кабинета), посвятивший себя и широкой общественной деятельности. В эмиграции он состоит председателем Русского Христианского Студенческого Движения. Опытный руководитель, любящий молодежь, он очень популярен среди юношества. Человек золотого сердца, кроткий, жертвенно преданный своему долгу.
Г.П.Федотов читает: 1) историю западных исповеданий и 2) агиологию. Даровитый, вдумчивый ученый с тонким аналитическим умом.
Архимандрит Киприан (Керн) — пастырское богословие. Очень образованный, культурный человек, строгий монах.
Б.П.Вышеславцев — нравственное богословие.
Н.Н.Афанасьев — каноническое право.
В.Н.Ильин — литургику и философию.
П.Е.Ковалевский и Б.И.Сове — древние языки.
Кроме того, в числе преподавателей: иеромонах Лев Жилле (французский язык), монахиня Евдокия (английский язык), В.В.Вейдле и К.В.Мочульский.
Сейчас мы имеем уже двух своих молодых преподавателей: П.Т.Лютова и Б.И.Сове. Оба они — воспитанники нашего Института; по окончании его попали на стипендии в Оксфордский университет, где окончили богословский факультет и получили степень магистра [
[154]].
Профессора Богословского Института не ограничиваются одним преподаванием, но одновременно участвуют в Экуменическом движении, читают доклады на разнообразных конференциях; внесли они свой вклад и в богословскую литературу: за эти годы ими написано много печатных работ.
Состав студентов в Богословском Институте пестрый, совсем не тот, что в наших духовных академиях, куда попадали подготовленные к богословским наукам воспитанники семинарий. Нам приходилось принимать офицеров, шоферов… лиц самых разнообразных профессий и биографий. По уставу мы должны были требовать от поступающих диплом средней школы, но что это были за школы, какую подготовку они им давали, — разбираться в этом мы не могли. Важно было одно: большинство поступающих были люди убежденные, идеалисты, через Церковь пришедшие к решению посвятить себя церковному служению. Полумонашеским строем они не тяготились, напротив, чувствовали себя в нем, как в своей стихии. Некоторые из воспитанников еще студентами приняли монашество и стали прекрасными монахами–миссионерами, монахами–пастырями, подвизающимися в миру, попадая иногда прямо из Института в какой–нибудь приход в отдаленном захолустном углу нашего эмигрантского рассеяния. Трудная миссия… Куда труднее, чем наша когда–то! Перед нами, окончившими духовную академию, открывалось в миру педагогическое поприще, мы делались членами учительской корпорации, в которой были свои традиции, свои моральные устои. Монахи нашего Института нередко вынуждены начинать свое служение среди прихожан, на которых беды и скорби эмигрантского существования оставили тяжкий след: распущенность, пьянство, внебрачное сожительство и другие виды морального разложения нередко характеризуют быт и нравы приходской среды. Одиноко несут свой подвиг наши монахи. Спасает их возраст (в большинстве не моложе 35 лет) и глубокая, горячая преданность родной Церкви. Они лучшие представители духовенства в моей епархии. Мое утешение… Некоторые студенты по окончании курса приняли священный сан без монашества. Живется им в приходах трудно. Иногда оклад жалованья нищенский. Бывают дни — приходится голодать, разве разве кто–нибудь из прихожан покормит. Иногда священник вынужден искать заработка на пропитание на стороне; 4–5 дней работает на Фабрике, а в субботу и в воскресенье исполняет свои священнослужительские обязанности.
Конечно, наши студенты не без недостатков. Скахывается неподготовленность к богословской науке. Нет у них богословского мышления, нет сноровки разбираться в философских и богословских построениях. Лекции сдают, а с курсовыми сочинениями беда, они для них иногда трудность неодолимая. Эти недостатки не мешают им быть впоследствии примерными пастырями С радостью могу сказать: они украшение Русской Церкви в изгнании.
За 11 лет существования в Богословском Институте воспитывались 133 студента: 46 — из Франции, 23 — из Болгарии, 11 — из Польши; 4 — из Финляндии; 1 — из Литвы, 10 — из Югославии; 10 — из Эстонии; 2 — из Румынии; 1 — из С.А.С.Ш.; 17 — из Чехо–Словакии; 6 — из Латвии; 1 — из Германии. Из них 52 рукоположены в священный сан и работают на приходах в разных странах, 3 преподают богословские науки.
Экономическая сторона существования Богословского Института неопределенна, зыбка, всецело зависит от благотворительности. Нас поддерживали англичане, американцы и русская эмиграция давала, что могла; до 1930 года Институт существовал сносно: иностранцы нам помогали щедро. С 1931 года начались перебои. Эмиграция обеднела, Америка уже не жертвует и половины прежней суммы; только англичане свою дотацию еще не уменьшили. Жалованье профессоров пришлось сократить до минимума. Случается, что и этих малых окладов мы вовремя выплатить не можем. Нет денег на самые необходимые расходы: на ремонт, на покупку книг, на шкафы для пожертвованной библиотеки… В последние годы студенты сами пришли Институту на помощь. Институтский хор под управлением И. К. Денисова объезжал Англию, Голландию и Швейцарию, всюду давая концерты. Прекрасное исполнение древних песнопений, старинные распевы привлекали много слушателей, и студенты наработали за эти годы в пользу Института 50 000 франков.
Немало нашему Богословскому Институту вредят карловцы, стараясь подорвать к нам доверие как среди русских, так и среди иностранцев.
4. НОВЫЕ ХРАМЫ И ПРИХОДЫ (Германия, Чехословакия, Бельгия, Италия, Норвегия, Голландия, Швейцария)
Потребность в новых храмах возникла в первые годы эмиграции и была вызвана условиями беженского существования.
Александро–Невская церковь и Сергиевское Подворье захватывали лишь тонкий слой беженцев, а эмигрантская масса расселившаяся в отдаленных кварталах Парижа и в пригородах, в храмы не попадала, не говоря уже о тех тысячах эмигрантов, которые осели в фабричных и промышленных районах в провинции. Все эти эмигранты жили бесцерковно. Отсутствие церковного влияния сказывалось: люди морально опускались и духовно дичали. Некрещеные дети, незаконное сожительство, огрубение нравов, распущенность… Там, где храмов не было, положение казалось безвыходным; но и в Париже дело обстояло не лучше. Съездить в храм к обедне всей семьей — значило истратить на автобусы и метро больше, нежели бюджет рабочего позволяет. Старым, больным людям приходилось приезжать издалека, тогда как, будь церковь под боком, они бы усердно ее посещали
Все эти явления и соображения заставили меня задуматься о значении малых приходов и церквей. Мне припомнилась церковная жизнь Древней Руси, те светлые времена, когда она была подлинно религиозная «Святая Русь». Когда говорили «и на нашей улице праздник», это была не поговорка, а бытовая реальность, которая впоследствии эту поговорку породила, т. е. когда на каждой улице, на каждом перекрестке русские люди имели «свою» церковку — праздновали «свой» храмовый праздник и каждому прихожанину до «своей» церкви было «рукой подать». Тогда пастырь знал каждого прихожанина, каждую семью, все их печали–радости, все семейные обстоятельства… всех крестил, венчал, исповедовал, хоронил… Связь с приходом была живая крепкая. Потом начался период грандиозных соборов и церквей (особенно в Петербурге и в Москве). По 25000 прихожан на храм! Фактически это значило, что огромное количество верующих лишалось нормальной церковной жизни. В причте церкви Знамения Божией Матери (в Петербурге) состояло 12–15 священников. Отслужив свою чреду, каждый из них два месяца мог заниматься своими личными делами: с прихожанами связан он не был. И как эта связь могла возникнуть? Богомольцы приходили в церковь и недоумевали, к кому из 10–15 священников обратиться. В Исаакиевском соборе рабочие часто не могли дождаться очереди на исповедь: «Стоишь–стоишь, смотришь — срок свободных часов и прошел», — жаловались они. Не говоря уже о том, что в этих громадных соборах молящиеся ничего не видели и не слышали в задних рядах. Безбожно мало было церквей и в той фабрично–заводской зоне, которая опоясывала Петербург, Москву и другие большие промышленные наши города. В некоторых районах этой зоны вообще церквей не было. Неудивительно, что там появлялись наши «старцы Иванушки», процветали секты, и уж совсем неудивительно, что рабочие, никем духовно не окормляемые, потянулись к марксизму. Печальный период…
В эмиграции древняя традиция малых церквей воскресла.
Как они возникали?
Инициатива шла снизу. По свободному почину нескольких лиц, осознавших потребность в храме, возникала инициативная группа и вступала в сношения со мною — либо обращалась ко мне письменно, либо делегировала кого–нибудь для переговоров. Первый вопрос, который я посланцам ставил, был следующий: можете ли вы нанять (или получить) помещение для церкви и обеспечить священнику прожиточный минимум? Если ответ был утвердительный, я направлял священника и организовывал приход; если нет, создавалась община, которую обслуживал разъездной священник, от времени до времени посылаемый Епархиальным управлением. Начало самоокупаемости было общим экономическим принципом для всех новых приходов: епархиальный центр со своей нищенской казной содержать причт и храм не мог. Обычно прихожане жертвенно самооблагались. Поначалу приход своего храма не имел, богослужение совершалось либо в наемном помещении, либо в каком–нибудь помещении в церковном здании наших инославных братьев (обычно протестантов), оказывавших нам эту братскую услугу. Вокруг этих церковок завязывалась приходская жизнь, возникали благотворительные и просветительные учреждения: школы, читальни, детские колонии, столовые… Впоследствии обычно возникал «свой» храм, созидавшийся дружным усилием прихожан. Иногда устроение прихода шло быстро, иногда приходская жизнь долго не могла наладиться.
Приступая к описанию церковноприходского строительства в моей епархии, я сначала сделаю обзор наших достижений вне пределов Франции, а потом перейду к новым храмам и приходам во Франции.
Прежде всего я скажу несколько слов о Германии, где организовались два прихода еще до моего переезда в Париж.
ГЕРМАНИЯ
Данциг
Первый приход, возникший в моей епархии, был приход в Данциге. Волна беженцев занесла сюда военного священника Миллера. До войны он был псаломщиком Житомирского собора, на войну пошел братом милосердия и как–то продвинулся в диаконы, а потом в священники. После развала лазаретной церкви он увез с собой много церковных предметов: антиминс, кадило и проч. — все эти предметы теперь очень пригодились. Образовательного ценза он не имел, репутация у него была небезупречная — ходили слухи о несовместимой со священным саном браваде: штатское платье, песни под гитару… В приходе пошли раздоры, держать себя о.Миллер не умел. Я старался конфликт уладить, посылал для умиротворения архимандрита Тихона, но безуспешно. Пришлось о.Миллера отставить, и он с горизонта куда–то скрылся.
На место о.Миллера я назначил священника из военного лагеря Кведлинбурга [
[155]] — о.А.Шафрановского. Он был священником в Калишской губернии, во время наступления попал «под немца» и был препровожден в лагерь. Здесь, в период революционных дней, вслед за перемирием, он вел борьбу с лагерными «революционерами», пожелавшими хоронить покойников в красных гробах… О.А.Шафрановский своих покойников отстаивал. Из обитателей лагеря он организовал братство с полумонашеским уставом. Пастырь напряженной духовной жизни, молитвенник, о.Шафрановский являет тип священника–подвижника.
Данцигский приход существует по сей день [
[156]]. Помещается церковь в наемном здании при ратуше, тут же и комнатка о.настоятеля.
Воиново
В этом же, 1921 году завязался приход на границе Пруссии и России, неподалеку от пограничных пунктов Вержболово — Эйдкунен. В этой части Пруссии осело много наших старообрядцев, бежавших за рубеж от жестоких преследований их в XVIII веке. Они расселились на хуторах среди Мазурских болот; жили хорошо, безбедно, самобытно, переняв кое–что из внешних достижений германской культуры. Большинство из них «беспоповцы»: ни храмов, ни священников — только моленные и руководство начетчиков и начетчиц. Из этой однородной массы староверов в конце XIX века выделились «единоверцы», т. е. староверы, признавшие нашу церковную иерархию, но сохранившие свои обряды. Основоположником единоверческого движения был инок Павел Прусский. В 80–х годах он сознал свое заблуждение, принял православие и сделался архимандритом–миссионером. Необразованный человек, но большого ума, он написал под руководством профессоров Московской Духовной Академии свои литературные труды о расколе и единоверцах. За собою он увлек часть старообрядцев в России и в Пруссии.
Прусских единоверцев окормлял из Берлина о.Мальцев (изредка наезжал к ним). Во время войны они попали в драматическое положение: по душе русские, а служить надо в германских войсках. Немцы с этим считались, поступали разумно — посылали их на итальянский фронт или назначали на нестроевые должности.
Когда я обосновался в Германии, я посылал к ним раза два–три священника для переговоров, нельзя ли им объединиться в общину и соорудить свой храм. Первым моим посланцем был о.Диодор Колпинский, которого вскоре пришлось сменить. В юности после кадетского корпуса он перешел в католичество, а в эмиграции вернулся опять в православие. Он пришел ко мне в Тегель, исповедался — и я его принял. У него была любовь к русской старине, и я решил его направить к старообрядцам. Однако вскоре обнаружилось, что ему со своим служением не справиться, и я назначил на его место о.Александра Аваева.
О.Александр, бывший офицер гренадерского полка в Москве, покинув полк, отправился в Оптину Пустынь, где спустя некоторое время стал рясофорным монахом. После мобилизации он попал на фронт, а там его вскоре взяли в плен. Участие в войне монашеского духа в нем не угасило. Когда он пришел ко мне и я с ним побеседовал, — я посоветовал ему принять священство. Он с радостью за совет ухватился. Священник из него вышел прекрасный: скромный, беззаветно преданный своей пастве. Он стал служить по старообрядческому уставу, сошелся с приходом, стал любимым батюшкой. Один из крестьян пожертвовал землю, о.Александр стал собирать деньги на построение храма. Выстроили прекрасную церковь и под одной с нею крышей — помещение для школы, для о.настоятеля и для сторожа.
Меня пригласили на освящение храма. Незабываемая поездка! Отрадные впечатления… Я с наслаждением прожил там с неделю.
Ехать пришлось через польский коридор. На станции меня радостно встретили крестьяне и повезли в храм. Дорогой встречались «беспоповцы» — старухи, бабы… Завидя меня, отворачивались, плевались, но все же украдкой старались подсмотреть, что за архиерей приехал…
С вечера в храме была всенощная. Длилась она с шести часов до часу ночи. Служба исполняется у староверов без малейших пропусков. Певчие знают слова песнопений наизусть, и поет почти вся церковь. Я стою на правом клиросе, на виду — никуда не уйдешь, а они все читают и читают, поют и опять читают… без малейшего утомления! Шестопсалмие прочитала девочка лет десяти–двенадцати — художественно. Ни одному псаломщику так не прочитать. Молятся староверы истово, стоят благоговейно. Мужчины в поддевках — на одной стороне, женщины в платочках — на другой. Ни одной шляпки. Ни одного бритого лица. Дисциплина среди молящихся железная — не смей присесть, не смей уйти. А если какая–нибудь девушка и вздумала бы отважиться уйти, — все старухи на нее зашипят. После службы я поделился своими впечатлениями с батюшкой. «Это — что… — сказал он, — а вот канон Андрея Критского — это действительно может сверх сил показаться. После каждой стихиры три земных поклона. Более тысячи земных поклонов! Но они к ним привыкли: бьют их, опускаясь на руки, так легко и ловко, — точно мячики от полу отскакивают…»
На следующий день было освящение храма, а после торжества меня повезли по хуторам и повсюду радушно угощали. Живут старообрядцы богато, извлекая доход главным образом из фруктовых садов, собственных или заарендованных у помещиков, и живут крепчайшим старым русским бытом, благоговейно храня древние церковные традиции. Столько лет прожили среди германской культуры — и не поддались, хоть кое–какими плодами ее и воспользовались. Так, например, есть у них прекрасная немецкая школа, а рядом своя, церковноприходская, где учатся по часослову и псалтыри. Достойные уважения, трудолюбивые, крепкие люди.
На освящение пришли посмотреть некоторые «беспоповцы». Я узнал об этом и за обедом спрашиваю моих сотрапезников: не надо ли мне заехать с визитом к «беспоповцам»? А один древний старик, который еще сражался под Седаном, мне в ответ: «Пустяки все это, пустяки… ну а если уж поедете, ничего у них не ешьте, меня, столяра, из кошачьей миски там кормить хотели». Я все же счел нужным к «беспоповцам» съездить.
Приезжаю… Маленький домик в прекрасном цветущем саду. Кругом во все стороны волны белых цветов… Близ дома сидит молодая, красивая, с «нестеровским» лицом девица, в белом платочке, читает книжку — совсем «Аленушка»… Вышла игуменья. Умная, она никакого угощения мне не предложила, а повела в моленную. Какая красота! Какие иконы! Старинное письмо, драгоценные серебряные и золотые оклады… «Беда, беда у нас большая стряслась — Владычицу во время войны у нас украли, Владычицу украли…» — плакалась игуменья. Когда вышли из моленной, повстречали старуху–начетчицу. «Иларюшка!.. Иларюшка!.. — окликнула ее игуменья. — Поди–ка сюда, к нам умные люди приехали, нам бы у них поучиться…» Иларюшка, сумрачная молчаливая старуха, подсела рядом на скамейку. Однако беседа с суровой старицей не вязалась. Потом я узнал, что после меня скамейку омывали святой водой. А со мной хитрили: «Нам бы поучиться…» Старик–столяр торжествовал: «Я же вам говорил!»
Организованный мною у единоверцев приход просуществовал все эти годы, не доставив мне ни единой неприятности. О.настоятель обслуживал и маленькую общинку в Кенигсберге, выезжая туда раза два–три в год. Не так давно он организовал в своем приходе женскую монашескую общину. Дух Оптиной Пустыни сказывается на всей его пастырской деятельности.
Епископ Тихон написал о.Аваеву отвратительное письмо с целью склонить его на разрыв со мною. «Митрополит Евлогий может ваше имущество передать грекам… — писал он, — вам неприлично не переходить ко мне, находящемуся в согласии с германскими властями…» Я предупредил о.Аваева о замысле епископа Тихона — распутал все сплетение наговоров, дал директивы быть корректным с германской властью, а если она поставила бы вопрос об юрисдикции ребром, предложил собрать прихожан и посоветовал предоставить им самим решить этот вопрос по совести. На законном основании германская власть захватить имущество прихода не может: это его собственность.
ЧЕХОСЛОВАКИЯ
Братислава
В конце 1923 года я стал получать письма из Братиславы с просьбами об организации там прихода и о назначении священника. После некоторых поисков я остановил свой выбор на о.Сергии Четверикове.
В России о.Сергий был законоучителем в Крымском кадетском корпусе, а в эмиграции устроился в Сербии. В 1924 году он прислал мне прошение о переводе в Братиславу, где жил его сын. Желание его меня обрадовало. Я знал, что о.Сергий священник выдающийся, высокого пастырского настроения, аскетического монашеского духа и знаток русского монашества и старчества. Он хорошо изучил труды родоначальника движения (в XVIII веке) по обновлению православного монашества и основоположника старчества Паисия Величковского; побывал и в Нямецкой Лавре (в Румынии), где в свое время этот великий подвижник трудился [
[157]]; духовно был связан о.Сергий и с Оптиной Пустынью, был близко знаком с жизнью и творениями оптинских старцев, написал книгу «Оптина Пустынь». Я с радостью перевел о.Четверикова в Братиславу. Приход наш в Братиславе надо признать счастливым. Все настоятели его, начиная с о.Четверикова и до сего дня, выдающиеся пастыри.
Братислава, столица Словакии, город университетский, в котором проживает много русских студентов. О.Четвериков поставил приход отлично и Братиславой не ограничился, а стал простираться и далеко за ее пределы. В Словакии разбросано немало русских гнезд — семьи чехов–военнопленных, вернувшихся из России женатыми на русских. О.Четвериков развил широкую миссионерскую деятельность по всей Словакии, окормлял до десяти таких гнезд. Однако Братислава была не по нем: для него — мала. Он мог развернуться шире и влиять на больший круг людей. Скоро нашлось для него новое поприще.
Руководители «Христианского движения» умолили меня назначить о.Сергия настоятелем церкви «Движения». Я горячей просьбе уступил и выписал о.Сергия из Братиславы. Там — драма: жалобы, слезы, упреки… — я отнимаю любимого батюшку, я обижаю. Господь помог смягчить горечь: преемником о.Сергия я назначил иеромонаха о.Никона (Греве) [
[158]], который справился с трудной задачей — примирил со своей личностью паству, оплакивавшую его предшественника.
О.Никон с самоотверженностью отнесся к своему пастырскому долгу, отлично повел приход, уделяя особое внимание детям: школам, детским праздникам и проч. Продолжал он и линию миссионерской деятельности о.Четверикова. Он разъезжал по Словакии, навещая своих духовных детей. И в каких подчас тяжких условиях! В 20–градусные морозы по снежным равнинам в открытых санях, в плохонькой ряске… Бесчисленные панихиды на кладбищах, в морозные дни. Полное пренебрежение к своему здоровью, удобству, покою. И всюду службы, требы, духовное руководство, когда необходимо слово назидания, утешения или совета… Сердца приверженцев о.Четверикова смягчились, ко мне полетели благодарственные письма. Приход жил полной жизнью. К сожалению, и этого любимого пастыря пришлось от паствы оторвать. По смерти о.А.Ельчанинова я перевел о.Никона на его место в кафедральный храм в Париже. В случаях крепкой спаянности пастыря с паствою разрыв всегда болезнен. Опять начались слезы, протесты, волнения… И опять потребовалась некоторая борьба. Я принял свое решение, желая предназначить о.Никона к более высокому служению и учитывая состояние его здоровья. Работа в Братиславе была ему физически не по силам. Он себя не щадил, от постоянных служб на кладбищах, на холоду, у него стала развиваться болезнь горла, перевод в Париж мог быть спасением. Почти перед самым отъездом о.Никона прибыл из Карпатской Руси иеромонах Михаил (в миру Дмитрий, по профессии инженер). В г.Мукачево, епархиальном центре Карпатской Руси, он занимал место настоятеля кафедрального собора. Какие–то недоразумения заставили его уйти, и он приехал в Братиславу к своему другу о.Никону, у которого и поселился. О.Михаила я и назначил преемником о.Никона.
О.Михаил тип монаха–аскета, монаха–мистика, миссионера. Все настоятели Братиславского прихода по своему духовному типу одинаковы: пламенная вера, мистический склад души, аскетические подвиги, ревностное, до самоотверженности, отношение к долгу. Из них наиболее склонен к мистической жизни о.Михаил.
Брно (Моравия)
Брно — большой университетский город. Русских студентов там множество. Здесь оказался священник — чех о.Ванек, прибившийся из России. На Волыни он окончил духовную семинарию, был настоятелем прихода близ Здолбунова: там поселились чешские колонисты. В Брно вокруг о.Ванека сгруппировались богомольцы, главным образом студенты и их родственники. Организовалась община текучая, студенческая по составу.
О.Ванек очень хороший батюшка, горячо преданный православию. Чистоту православия он блюдет строго и в отношении к церковной дисциплине не допускает послаблений или новшеств. Так, например, от участия в похоронах с музыкой, когда музыканты шествуют в процессии среди хоругвей, наигрывая печальные мотивы, он отказывается, считая это заимствованием у католиков.
БЕЛЬГИЯ
Льеж
Начало церковному объединению в Льеже положил о.Владимир Федоров, доблестный священник, связавший свою личную жизнь еще в Константинополе с судьбою детского приюта г–жи Кузьминой–Караваевой, основанного ею в 1918 году.
Г–жа Кузьмина–Караваева, энергичная женщина, переехала со своим приютом из Константинополя в Бельгию, в Намюр, а потом в Льеж, где устроилась в помещении о.о.иезуитов. Спустя некоторое время о.о.иезуиты пристанище отняли. Начальница не растерялась, забрала детей (их было человек около пятидесяти), приехала в Брюссель, высыпала детвору, как из мешка, на вокзале, а сама пошла искать по городу, куда бы с приютом пристроиться. Долго голодные и холодные дети сидели, ожидая, пока их начальница не объехала благотворительные инстанции и пока наконец добрые брюссельские дамы не сжалились и не оказали посильной помощи…
За 18 лет этот приют дал воспитание не одной сотне русских детей и многих поставил на ноги, вывел в люди. Из питомцев этого приюта есть уже инженеры, студенты, один учится в Богословском Институте, девочки выданы замуж и т. д.
Протоиерей Владимир Федоров, человек удивительного смирения и самоотвержения. Из любви к детям разделял с ними всю нерадостную их судьбу, вместе с ними голодал, терпел нужду, и никогда у него не было мысли покинуть приют и попросить себе более обеспеченного положения. Он отдал детям себя всецело, и, конечно, его духовное нравственно–воспитательное влияние на детей огромно. С самого начала он устроил при приюте храм и был бессменным его настоятелем. Редкой души человек, он имеет одну странную особенность — терпеть не может собак, и собаки это чувствуют. Нерасположение к собакам особенно усилилось после того, как однажды маленькие щенки начальницы, по недосмотру хозяйки, ворвались в церковь и произвели там бесчинство, вбежали в алтарь и, играя, разорвали церковную завесу… «Когда я вижу даму, которая нежно несет свою собачку на руках, мне хочется, — говорил он, — ударить палкой по собаке и по даме — и крикнуть: «Ласкайте детей, а не собак!»
По переезде приюта в Брюссель я назначил в Льеж (в 1926 г.) о.Дмитрия Троицкого (он был настоятелем Берлинской церкви в Тегеле). В те годы еще веял в Бельгии дух великого кардинала Мерсье. Католики дали нам дом, но весьма скоро от братской услуги ничего, кроме ее формальной стороны, не осталось. Ксендз Ducranne повел энергичную пропаганду, начались придирки, утеснения, — о.Троицкий, человек непокладистый, дал отпор, завязалась с патером борьба, и в конце концов нас из дома выселили… Пришлось искать для церкви новое помещение. Нашли его сначала в частной квартире, а потом в бывшей католической капелле, которую германцы во время оккупации превратили в конюшню. Католики считали ее оскверненной и передали городу, а муниципалитет отдал ее какому–то музыкальному обществу для спевок и занятий. Представители русской колонии вступили с этим обществом в переговоры и получили разрешение служить в капелле два раза в месяц всенощную (в одну из суббот) и обедню (в одно из воскресений). Если большой праздник бывал на неделе или требовал лишнего дня, приходилось рассчитывать на люоезность и обращаться с особым ходатайством.
Помещение капеллы было огромное, неуютное. Иконостаса не было. Для каждой службы надлежало церковь устраивать заново, а потом иконы и церковную утварь прятать в чуланчик под лестницей. О.Троицкий ничего не сделал, чтобы найти какой–нибудь исход из печального положения. У него обострились отношения с Приходским советом, начались дрязги, и я после Епархиального съезда решил отправить его в «Русский дом» в Sainte–Genevieve а на его место в Льеж поставил священника Сергия Синкевича. О.Синкевич окончил Одесскую семинарию, а потом был домашним учителем у помещика Сухомлинова. Так до старости он и прожил. В эмиграции ему захотелось вернуться на путь священства. Но дух пастырства из него уже выдохся; он утратил привычки, связанные со священством, как говорится, «не умел больше ступить», во всем сказывался мирской человек, чиновник, любивший светский образ жизни, — например, устроить чай, даже с картами, а приход был «между прочим». Церковная жизнь увядала. Ссоры в Приходском совете, дрязги, сплетни, затхлый дух… Службы в капелле отправлялись кое–как. Приход разваливался…
В 1931 году я заменил о.Синкевича молодым священником Валентом Роменским, окончившим Богословский Институт. Он женат на швейцарке из семьи протестантских миссионеров, подвизавшихся в Африке, она приняла православие. Благочестивая, прекрасная женщина. О.Валент отдал приходу всю свою молодую энергию. Человек умный, толковый, пламенный и предприимчивый, в семейной жизни обремененный тяжкими заботами, он ринулся самоотверженно в приходскую работу. Приход стал неузнаваем. О.Роменский не мог примириться со временным церковным помещением, с невозможностью совершать великопостные и праздничные службы и начал искать выхода из создавшегося положения. Он объединил прихожан, вокруг него они сдружились, общими усилиями достали у города помещение — запасные комнаты какого–то городского музея, — и через полтора года Льежский приход уже имел чудную церковку в два света, со стильным иконостасом (XVII в.), исполненным Обществом «Икона» по заказу какого–то анонимного жертвователя. Я приезжал па освящение. Церковь — имени святого Александра Невского и преподобного Серафима Саровского. Она одна из лучших в эмиграции. А десять лет не могла русская колония своей церковноприходской жизни наладить! О.Роменский оживил и воскресил приход. Он издает приходский листок — скромный ежемесячник, печатаемый на ротаторе, в котором находит отражение все, что прихожан волнует или интересует. Он организовал сестричество, отзываясь на сознанную некоторыми прихожанками потребность религиозного объединения. Устав, присланный мне на утверждение, я одобрил; составлен он умно.
«Карловчане» параллельно нам открыли свою церковь, но их приход стал быстро хиреть и захирел настолько, что священник впал в крайнюю нужду, даже голодал. По инициативе о.Валента в пользу него в нашем приходе собрали деньги — благородный, красивый порыв, истинно христианский.
Лувен
Еще при о.П.Извольском открыта была приписанная к Брюсселю община в Лувене, организовавшаяся в общежитии русских студентов. В Лувенском университете обучалось много наших студентов на стипендии покойного кардинала Мерсье, истинного отца и благодетеля нашего юношества. Студенты устроили и оборудовали маленькую церковь во имя мученицы Татьяны (по ассоциации с Московским университетом, где была церковь святой Татьяны; отсюда знаменитый «Татьянин день» — праздник университета и всей московской интеллигенции). Я несколько раз с большой радостью служил в этой церкви, где студенты завели хороший церковный хор, церковное хозяйство, сами были старостами… Обслуживали эту церковь помощники Брюссельского настоятеля — сначала священник Г.Цебриков, а потом о.Г.Тарасов, организовавший церковную общину в Генте.
Шарлеруа
Шарлеруа большой центр добычи угля. В шахтах работает много русских и в составе инженеров тоже их немало (они довольно хорошо здесь зарабатывают).
В 1927 году организовался церковный комитет во главе с инженером Кудрицким и обратился ко мне с просьбой прислать священника. Я направил туда о.И.Ктитарева. Сначала церковные службы бывали в католическом костеле. Отмечу редкое явление: ксендз d’Armigny пошел нам навстречу, помог наладить богослужение, предоставив нам возможность пользоваться, когда нам надо, помещением костела.
О.настоятелю было в Шарлеруа трудновато. Прихожан было мало. О.Ктитареву негде было развернуться, он мечтал о более широком применении своих дарований, а черная работа в маленьком приходе казалась ему не по нем. Я перевел его в Коломбель, а сюда назначил о.А.Ванчакова, которого, однако, пришлось вскоре послать в Вену. Некоторое время Шарлеруа обслуживал о.Дейбнер, перебежчик, то от нас к католикам, то от католиков к нам обратно, но я быстро оттуда его взял и назначил протоиерея Д.Владыкова (Харьковской епархии), священника–миссионера, который в эмиграции священствовал в Карпатской Руси.
О.Владыков — старенький, семидесятилетний батюшка. Энергии от него ожидать трудно, но опытный и тактичный, он держит приход в порядке. Приходская жизнь не процветает, едва теплится. Объясняется эта хилость и тем, что многие наши инженеры разъехались, а оставшейся группе прихожан трудно содержать священника. О.настоятель по три месяца не получает «прожиточного минимума», и уж, конечно, не хватает средств в приходской казне на какие–нибудь благотворительные или просветительные начинания. В 1937 году я посетил приход и утешил доброго пастыря о.Владыкова [
[159]] — возложил на него митру, сняв со своей головы. Трудно живется в Шарлеруа и пастырю и пасомым…
Антверпен
Община в Антверпене сначала приписалась к Брюсселю, и владыка Александр посылал туда то протоиерея Вл.Федорова (из приюта Кузьминой–Караваевой), то священника о.Г.Тарасова, то еще кого–то. Когда объединение немного укрепилось, я направил туда молодого священника о.С.Тимченко.
Наша Антверпенская церковь помещается в запасном зале протестантской кирки. Большой, светлый зал. Прихожан мало, но большинство из них зажиточны; беженской бедноты нет.
Антверпен — огромный порт. Много матросов. Заходят сюда корабли и из СССР. Случается, что кто–нибудь из советских моряков забегает в нашу церковь. В порту есть русские грузчики. О.Тимченко организовал для них общество взаимопомощи.
В настоящее время приход возглавляет священник А.Насальский (Богословского Института), а о.Тимченко я перевел в Стокгольм.
Священнику в Антверпене в материальном отношении живется очень трудно; быть может, было бы совсем невозможно, если бы местный староста, доктор Орлов, не оказывал ему гостеприимства. Помогают натурою и некоторые другие прихожане, но часто у священника нет денег на самые необходимые расходы [
[160]].
ИТАЛИЯ
Милан
Еще в 1924 году в Милане образовался церковный комитет и стал хлопотать об организации богослужения. Русских в Милане проживает мало. Я дал распоряжение настоятелю нашей Флорентийской церкви о.Стельмашенко съездить в Милан, созвать приходское собрание и сорганизовать приписную ко Флоренции общинку. Так общинкой Миланское церковное объединение до 1930 года и продержалось. Туда наезжали священники из Флоренции — сначала о.Стельмашенко, а потом о.Лелюхин.
В 1930 году в Милане случайно очутился о.Соколов, уволенный мною из Крезо. Он быстро тут сориентировался, и вскоре ко мне из Милана поступило прошение о назначении его священником. Так как до о.Соколова церковная жизнь общинки что–то не ладилась, я просьбу исполнил и назначил его настоятелем. Энегии и общительности у нового настоятеля было хоть отбавляй. Он всех соотечественников перезнакомил, сам быстро завязал житейские взаимоотношения со многими лицами и семьями, умело эти знакомства поддерживал и укреплял. Понимания глубокого значения пастырской деятельности у него не было, но, бойкий и предприимчивый, он сумел русскую колонию расшевелить. Потом пошли какие–то недоразумения, и о.Соколов без всякого давления с моей стороны прислал мне прошение об увольнении (он хотел ехать в Америку).
На место о.Соколова я назначил священника о.Куракина [
[161]]. Для Миланского прихода это было приобретением. Добрый, влиятельный пастырь, высококультурный и глубоко благочестивый, он сумел стать нравственным авторитетом для паствы, поднять престиж настоятеля, объединить около церкви всю колонию, которая стала жить нормальной церковной жизнью. Русские в городах Северной Италии прослышали о нем и стали приглашать к себе; тем самым его служение стало и миссионерским.
В 1935 году я перевел о.Куракина во Флоренцию, а в Милан направил о.Аполлона Сморжевского, окончившего Петербургскую Духовную Академию и бывшего преподавателя Виленской духовной семинарии. В эмиграции он был рукоположен во священники в мое отсутствие преосвященным Иоанном (Леончуковым). Пожилой человек, опытный, солидный, о.Сморжевский стал хорошим, влиятельным священником. Он уделяет внимание просветительной деятельности — читает лекции; устроил новую церковь в более просторном и удобном помещении.
В настоящее время в Миланской церкви есть и диакон — о.Алексей Годяев (Вятской семинарии), бывший офицер. В эмиграции он попал в Германию без знания немецкого языка, быстро там освоился, научился языку, поступил в Мюнхенский политехникум и отлично его окончил. Одновременно он брал уроки пения (у него баритон). Для усовершенствования в этой области он направился в Париж, поступил на службу к инженеру Махонину и продолжал серьезно заниматься пением. Заметные успехи его окрылили, и он уехал довершать свое музыкальное образование в Милан. Тут он женился. Склонный к церкви, он стал псаломщиком, а потом я рукоположил его в диаконы. Мечта его быть когда–нибудь протодиаконом. Но я хочу посвятить его в священники. Он одаренный для этого пути человек. Я узнал, что в Генуе проживает много греков и русских и в Турине есть православные люди тоже. Это подало мне тогда мысль сказать диакону Годяеву: «Если сумеете где–нибудь сорганизовать общину — сделаю вас священником…»
НОРВЕГИЯ
Осло
Община в Осло сорганизовалась в 1930 году. До 1933 года ее обслуживал священник из Стокгольма, приезжавший на праздники, а в 1933 году о.Александр Рубец [
[162]] образовал там сплоченную организацию, избравшую Приходский совет. В 1936 году я назначил о.Александра настоятелем этого норвежского прихода. Живет он в Стокгольме, а на каникулярное время и в праздники перебирается в Осло. «Карловчане» пытались было скомпрометировать о.Александра и настроить против него нашего консула в Осло, но это им не удалось. Жизнь там течет спокойно.
ГОЛЛАНДИЯ
Гаага
Как я уже сказал [
[163]], до назначения иеромонаха Дионисия (Лукина) приход в Гааге был малочисленный, слабый, жизнь в нем едва–едва теплилась. О.Дионисий, молодой пастырь, энергичный, ревностный, был глубоко потрясен картиной духовной запущенности и омертвения, когда в праздник Вознесения Господня в церковь пришли только… три человека! Для возрождения прихода он решил во что бы то ни стало устроить особый храм, отделив церковь от квартиры настоятеля. Необходимость проходить через квартиру священника весьма стесняла (как это потом выяснилось) верующих людей и вообще не способствовала привлечению их к церковной жизни. Для этого надо было перестроить домик консьержа у входа в церковный сад. Впоследствии в конце 1937 года о.Дионисий свой план осуществил. Поначалу денег не было. О.Дионисий принялся усердно собирать пожертвования; на его призыв живо откликнулись не только русские (их было мало, и они бедны), но и наши голландские друзья — протестанты, старокатолики… Нашелся очень хороший русский архитектор, из голландцев, живших в России; он сделал удобный и красивый план приспособления домика под храм. И вот 12 декабря 1937 года назначено было его освящение.
Я приехал на торжество вместе с живущим в Бельгии архиепископом Александром. Мы были встречены с большой радостью. На торжество явились не только прихожане, но инославные — наши голландские друзья. Чин освящения прошел и торжественно и умилительно. Один образованный голландец, д–р Гендрикс, оказался таким любителем православного богослужения, что несколько лет подряд на Страстную неделю и на Пасху ездил в Москву, чтобы наслаждаться там нашим богослужением. «В моей жизни было два замечательных, радостных момента, которых я не забуду до смерти: пасхальное богослужение в Москве и освещение храма в Гааге», — сказал он.
В этот мой приезд я задержался в Голландии почти целую неделю. Меня возили по разным городам для ознакомления с достопримечательностями. На другой день после храмового торжества мы поехали в Саардам, где подробно осматривали домик Петра Великого. Скажу откровенно, что он произвел на меня очень сильное впечатление. Суровая простота, даже грубость, обстановки, самые малые размеры — все давало такое яркое представление о том Русском Великане, который умел на троне быть работником («то мореплаватель, то плотник»). Замечательно, с какою любовью относятся голландцы к этому памятнику: чтобы предохранить старое деревянное здание от разрушения, они заключили его в каменный футляр. Из наших русских Государей здесь был, кажется, один Александр II. На площади, вблизи домика, стоит памятник, сооруженный Императором Николаем II: Петр долбит лодку (по известной гравюре).
Отсюда мы поехали в Амстердам, где городские власти устроили нам официальный прием в Ратуше; затем я посетил нашу православную церковь в подвальном помещении одного протестантского храма; все там было очень сиротливо, убого, прихожан очень мало. По–видимому, священник о.Николай Щербович–Вечор (из офицеров) не сумел зажечь в приходе огня святой ревности о Церкви. Теперь этот маленький и нежизненный приход закрылся. Довольно примечательна личность протестантского настоятеля храма, давшего приют нашему приходу. Он из какого–то непонятного озорства возбудил в печати вопрос о том, на каком языке говорил в раю змей с Евой. За это неуместное глумление над Библией он был устранен от службы, но не послушался и продолжал служить. «А число прихожан у вас в связи с этим очень уменьшилось?» — спросил я. «Наоборот, очень увеличилось», — ответил он. Обедали и провели вечер мы у гостеприимного болгарского консула–голландца, вся семья которого (в том числе и некрещеные дети) была принята мною в лоно Православной Церкви и состоит теперь в приходе о.Дионисия.
Вспоминая эту поездку в Голландию, хочу еще упомянуть о посещении г.Роттердама. Нам хотели показать этот огромный мировой порт, куда собираются торговые суда целого света. На маленьком, изящном пароходике, попивая чай, мы медленно объезжали порт. Зрелище было грандиозное: великое множество кораблей всех стран демонстрировали свои торговые предприятия; несколько жутко было созерцать это напряженное соревнование человеческих стяжаний, капитала… Но особенно приковали мое внимание горы леса — прекрасные, ароматные, тщательно обделанные доски, на нашей родной земле выращенные и нашими братьями, их принудительным трудом, кровью и потом политые… Может быть, какой–нибудь бедный больной епископ, в жалких лохмотьях, замерзая от стужи и изнывая от голода, под грубые оклики палачей рубил и обделывал эти деревья, не думая, что его собрат за границей в тепле и сытости будет смотреть на его труд… И как бы для усиления этого впечатления пред нами вырос огромный, черный, мрачный пароход, наполненный русским лесом, с надписью «Ворошилов». До чего стало больно и как–то стыдно!..
После осмотра порта нас повезли в Ратушу, где нам была устроена встреча; бургомистр с бокалом в руке приветствовал нас речью; я отвечал ему через переводчика. И вдруг на хорах орган заиграл что–то знакомое, родное. Прислушиваюсь — Господи!.. — «Боже, Царя храни»… Мы — я и мои русские спутники — были потрясены до глубины души, а у наших дам покатились из глаз обильные слезы… Вот какие голландцы: это одна из очень немногих стран, которая до сих пор политически не признала большевиков; она угостила нас нашим старым национальным гимном, но это не мешает ей вести оживленную торговлю с теми же большевиками… Как все сложно, антиномично! Но во всяком случае, великая благодарность милым, добрым голландцам за то, что они так тепло, так радушно встретили русского епископа–беженца, изгнанника из своей родной страны!
ШВЕЙЦАРИЯ
Цюрих
Цюрихский приход — последний, возникший при мне вне Франции.
В Цюрихе существовал Карловацкий приход, но в нем начались раздоры из–за места священника о.Владимира Гусева, скромного и усердного пастыря, стяжавшего крепкие симпатии среди прихожан. О.Гусев был несправедливо обижен архиепископом Серафимом и насильственно переведен из Цюриха, несмотря на защиту и ходатайство за него прихожан. Эти пререкания между прихожанами и архиепископом Серафимом закончились тем, что священник вместе с большинством своих прихожан перешел в мою юрисдикцию. Противно вспоминать, к каким недостойным мерам прибегали его враги, чтобы не пустить о.Гусева в Цюрих…
Но прихожане дружно сплотились вокруг батюшки, разоблачили всю ложь обвинений и отстояли своего доброго пастыря. Когда он водворился в Цюрихе, я направился туда, чтобы дать благословение новому моему приходу и наладить его церковную жизнь. Встречен я был с большой радостью. В течение недели мне удалось закрепить наши позиции. Дай Бог приходу устоять против всех козней вражиих!
В Цюрихе я познакомился с интересным учреждением протестантской Церкви, называемым «Дом диаконов и диаконисс». Это огромное учреждение–больница, где будущие диаконы и диакониссы подготовляются для служения делу христианского милосердия, самоотверженно и, конечно, безвозмездно ухаживая за больными. Отсюда они посылаются с такого же рода миссией во все стороны. Очень интересен в этом Доме храм, имеющий престолы разных протестантских исповеданий, представители которых там служат поочередно, осуществляя экуменическую задачу. Из этого Дома пришел к нам в Богословский Институт в качестве вольнослушателя принявший православие Иван Гюммерих, постриженный в монашество (рясофор) под именем Ферапонта. Он пользуется большим авторитетом в этом Доме. Если бы впоследствии его деятельность была тесно связана с этим прекрасным учреждением, — открылись бы широкие перспективы для православной миссии, и нужно было бы устроить и православный алтарь в этом экуменическом храме. Но, разумеется, «Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущие».
5. НОВЫЕ ХРАМЫ И ПРИХОДЫ (Франция)
После моего переезда из Берлина в Париж процесс образования новых храмов продолжался. Об условиях эмигрантской жизни во Франции, на этот процесс влиявших, о моих побуждениях ему всячески содействовать — я уже сказал. Теперь расскажу о том, при каких обстоятельствах каждый из этих приходов возник к как сложилась его церковная судьба.
ХРАМЫ В ПАРИЖЕ И В ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ
Кламар
Одной из первых церквей, возникших под Парижем, был полуприход — полудомовая церковь в Кламаре. Там поселился граф К.А.Бутенев–Хребтович и многочисленные его родственники: Трубецкие, Лопухины… Граф Хребтович нанял барскую усадьбу и решил для себя, своей родни, для всех чад и домочадцев устроить церковь. Через месяц в саду усадьбы уже виднелась церковка: ее заказали на одной столярной фабрике, которая с точностью и воспроизвела представленный ей архитектурный проект. Оставалось организовать богослужение.
В это время прибыл из Константинополя пожилой священник — о.Александр Калашников. Я назначил его в Кламар: покойное место. При жизни Хребтовича и Г.Н.Трубецкого Кламарская церковка процветала, после их смерти она несколько заглохла, но потом вновь поднялась благодаря новому священнику — старцу о.Михаилу Осоргину, родственнику Трубецких. (О.Калашникова я перевел в «Русский дом» в Сен–Женевьев.) Осоргин приехал со своими детьми из советской России. В прошлом — кавалергард, а потом губернатор, он в 1905 году покинул губернаторский пост, потому что принципиально не мог подписать приговор к смертной казни. Человек религиозный, благочестивый, еще в свою бытность в России он устроил в своем имении церковь. Во время большевиков Патриарх сделал его «благовестником» и он проповедовал по церквам. По приезде в эмиграцию, где его сын М.М.Осоргин был устроителем, а потом псаломщиком Сергиевского Подворья, я познакомился с ним и посоветовал ему принять священный сан. Вскоре состоялось и рукоположение. Я направил его в Кламарскую церковь к его родне. Старец он хороший, чистой души, ревностный в служении. Среди своих многочисленных родственников в Кламаре он как бы патриарх над всем родовым объединением: судит и мирит, обличает и поощряет, а также крестит, венчает, хоронит. Пастырь добрый, евангельский… [
[164]]
Галлиполийская церковь
(Париж)
В 1925 году Общество галлиполийцев сняло помещение для своих собраний на rue Маdеmoiselle и устроило там же церковь во имя Преподобного Сергия Радонежского, отделив перегородкой лишь алтарь. Перегородка до потолка не доходила, и церковь, служившая одновременно и помещением, где собирались галлиполийцы со своими семьями потанцевать, поиграть в карты, посидеть в буфете и т. д., очутилась в неподходящей обстановке. Благовоние фимиама — и запах табачного дыма… Всенощная идет — и тут же приготовления к обеду или танцевальному вечеру.
Священника о.Малинина (приехавшего из Болгарии) галлиполийцы держали в черном теле, на мизерном жаловании. Косноязычный, забитый, какой–то странный, он самостоятельной линии не вел, а делал, что ему приказывало галлиполийское начальство, а когда возник Карловацкий раскол, поспешил уйти к «карловчанам». Церковь удержалась. Я назначил на место о.Малинина другого священника — о.П.Бирюкова (из учителей). Человек малообразованный, слабохарактерный, тоже безропотно исполнял распоряжения тех генералов и полковников, которые им командовали. При таких условиях церковная жизнь не могла развиться. Галлиполийская церковь оставалась рядовой военно–походной [
[165]]. Обычные церковные службы, торжественные панихиды, молебны однополчан, юбилейные дни.
После о.П.Бирюкова я назначил о.Виктора Юрьева, воспитанника нашего Богословского Института и стипендиата Кнютанжского прихода. Прекрасный священник. Галлиполиец, он привлек к себе всеобщие симпатии прихожан. О.Юрьев состоял и до сих пор состоит деятельным членом «Христианского движения» [
[166]].
Бийанкур
Инициативная группа из членов «Русского рабочего союза во Франции» обратилась ко мне в 1926 году с просьбой послать в Бийанкур священника для служения в большие праздники. Я послал о.М.Шифирцы. Он положил основание будущего приходского объединения, учредив комитет по устроению прихода. Однако церковноприходская организация наладилась не скоро: ни помещения, ни постоянного священника еще не было. Бийанкур обслуживали посылаемые мной священники: о.Д.Соболев, о.Г.Леончуков и др. Наконец, я направил туда молодого, только что мною рукоположенного, священника о.Н.Успенского [
[167]], кандидата Киевской Духовной Академии. Он начал устраивать постоянную церковь в помещении, которое ему для этой цели отвели при ресторане. Соседство для богослужения неподобающее: хлопают пробки, стучат посудой, доносится громкий говор, хохот… Но изменить положение тогда еще было трудно. О.Успенский пробыл в Бийанкуре недолго и уехал в Америку. После его отъезда вновь встал вопрос: кого в Бийанкур назначить?
Я решил направить туда о.Алексия (Киреевского), пожилого афонского иеромонаха, года два тому назад прибывшего с Афона во Францию. Назначил я его не без колебаний. Он около тридцати лет прожил на Афоне, привык к уединению. Монах строгого афонского устава, отшельник, — как ему справиться? Как ему заложить основание церковной общине? Как ввести в рамки церковной жизни разношерстную, недисциплинированную эмигрантскую массу? Но о.Алексий довольно искусно провел церковную ладью между подводными камнями, хоть далось ему это не легко. Он проявил предусмотрительность, энергию, такт, уменье, когда надо, был настойчивым. Настоятельство его совпало с началом карловацких раздоров, и о.Алексию пришлось выдержать первый натиск моих противников. Он стал замечать, что часть прихожан и членов Приходского совета — против меня, против него и вообще враждебна тому каноническому чиноначалию, на котором приход созидается. О.Алексий пожаловался мне. Я исключил зачинщиков из прихода за противление власти законного епископа и велел собрать Приходское собрание для выбора новых членов. Приходское собрание было очень бурное. Вынесли резолюцию против «карловчан» — зачинщиков, а Маркову [
[168]], одному из самых ярых агитаторов со стороны, который явился на собрание с тем, чтобы перед самым его началом вписаться в члены прихода и сорвать собрание, было предложено покинуть зал за неподчинение распоряжению председателя. Марков заупрямился, но появление полицейского ажана сломило его сопротивление… Собрание закончилось благополучно.
Постепенно о.Алексий стал приход чистить, т. е. освобождать его от представителей того течения, которое вносило политические страсти в церковную работу и стремилось подчинить церковь крайне правой политической идеологии. Один за другим ушли Тальберг, Лотин, Гуненко… Приход стал успокаиваться, устраиваться, официально зарегистрировался в соответствующих французских административных инстанциях. Все шло хорошо, как вдруг — новое потрясение…
Против о.Алексия началось враждебное движение, возглавляемое одним из членов Приходского совета. Разлад возник вследствие того, что Приходский совет, в делах «мирских» не доверявший настоятелю–монаху, хотел ведать всеми церковными делами сам. О.Алексий, крепкий, неподатливый, когда вопрос коснулся его настоятельских прав, оказал сопротивление. Тогда противники взяли окольный путь и старались всячески его очернить. Начались кляузы, придирки, обличения… — подлинная травля. «О.Алексий подписывает бумаги на панихидном столике… о.Алексий любит вино… в алтаре нашли пустой флакончик… о.Алексий оскорбил старосту — выразил чувство удовлетворения, когда тот пригрозил, что уйдет…» Весь этот отвратительный вздор я отверг с негодованием. Тогда недруги о.Алексия решили взять его измором — перестали ему выплачивать деньги на содержание под предлогом очередных неотложных расходов на церковь. С такого рода замаскированной забастовкой бороться трудно, тем более что о.Алексию не на что было жить. Мне пришлось его от Бийанкура отчислить.
На место о.Алексия я назначил о.Иакова Ктитарева, образованного петербургского протоиерея, известного, опытного законоучителя [
[169]]. В первые годы эмиграции он был законоучителем русской гимназии в Пшебове (Чехословакия), потом настоятельствовал в Шарлеруа (Бельгия) и в Коломбеле (Франция).
С именем о.Ктитарева связан переход Бийанкурской церкви в постоянное помещение. Пустой, неустроенный барак постепенно превратился в богато украшенную церковку. Это созидание церковного благолепия сопровождалось приходскими бурями. Постоянные споры, недоразумения, смены старост… У о.Ктитарева создалась репутация настоятеля, с которым старосте не ужиться. «Он съедает старосту…» — говорили о нем. Дело было в том, что о.Ктитарев, человек умный, энергичный, умел держать Приходский совет в руках и староста обычно оставался в одиночестве. Тут конфликт между о.настоятелем и старостой и завязывался. С одной стороны, обличали настоятеля за его якобы расточительность; с другой — возвеличивали очередного блюстителя церковной казны за бережливость. Конфликт разрешался тем, что староста уходил, а новый оказывался выбранным из сторонников о.настоятеля. Новичок старался перещеголять своего предшественника–недруга и доказывал приходу свои преимущества большим усердием и рядом полезных нововведений и приобретений для украшения церкви. Побуждения, может быть, и невысокие, а практический результат хороший — церковка обогащалась, украшалась. Конечно, будь о.Ктитарев послабее, его бы заклевали. На Приходских собраниях поднималась буря. Нужна была вся стойкость о.Ктитарева, чтобы ей противостоять. Нужна была и популярность в приходской массе. Деятельный, неутомимый пастырь, прекрасный проповедник, опытный руководитель «бесед», — он завоевал симпатии широких кругов бийанкурцев. На Приходских собраниях старосты обычно оставались в меньшинстве. Таких «жертв» о.Ктитарева кроме д–ра Серова было еще три. Д–ра Серова заменил сенатор А.Н.Неверов [
[170]], сенатора — купец Волков, типичный староста старого закала. Он породнился с о.Ктитаревым: его сын женился на дочке о.настоятеля. Новые родственники вскоре перессорились. О.Ктитарев и Волков — натуры властолюбивые. «Нашла коса на камень», — кому–то надо было с дороги уйти. Ушел Волков, но решил в отместку устроить на стороне свою собственную церковь в расчете, что она подорвет существующий приход. Свою церковь он устроил, но ничего у него не вышло. Со священниками он не ладил…
После Волкова старостой был А.И.Кузнецов, владимирский фабрикант, по образованию инженер–технолог. Он носился с широкими проектами культурно–просветительной работы. Первое, что сделал, — снял барак, который наименовал «Барак Просвещения». Затем поехал в Англию собирать деньги на осуществление своих церковно–просветительных планов, но успехом его усердие не увенчалось. Не вышло также ничего серьезного у него из проекта пересмотра инструкции церковным старостам, в которой, конечно, роль старосты очень возвеличивалась. Он учредил «старостат», состоявший из старосты и двух помощников, и хотел, чтобы подобные «старостаты» создались во всех наших Парижских церквах и объединились в особую корпорацию. Роль старосты он понимал так: «По ту сторону линии иконостаса (в алтаре) — попы, по сю — мы, и попу тут не место. Поп может сказать, что петь, но как петь — это уж дело мое…» При всей склонности ко всякого рода начинаниям, Кузнецов сделал немного, и лишь чудные подсвечники — работа его собственной фабрики, — которые он принес в дар церкви, остались памятью о его «старостате». Вначале он всей душой был предан о.Ктитареву, хлопотал, чтобы мы дали ему митру, а как митру мы дали, раздоры и начались. Когда у него, четвертого по счету старосты, назрел конфликт с о.настоятелем, все четыре «жертвы» о.Ктитарева: доктор Серов, сенатор Неверов, Волков и Кузнецов — явились ко мне и настаивали, чтобы я о.Ктитарева «убрал». Я ответил, что могу удалить о.настоятеля только по суду. Тогда посыпались клеветнические обвинения и всякий вздор. Чего–чего только не плели!..
А между тем приход рос и креп. Последний, пятый, староста — старичок С.П.Павлов, бывший староста Одесского кафедрального собора, работал тихо и мирно до конца своего избрания.
После него старостой был избран Г.А.Гончаров.
Осенью 1936 года я перевел о.Ктитарева в Александро–Невский храм на место второго священника [
[171]]. Последним его делом в Бийанкурском приходе было учреждение женского содружества для благотворительной работы и ухода за церковью.
На место о.Ктитарева я назначил в Бийанкур о.Александра Чекана. Он учился в Петербургской Духовной Академии, но занятия вследствие начавшейся войны пришлось прервать. Высшее образование о.Чекан получил в Болгарии, в Софии, где он долго был секретарем «Христианского движения» и в качестве активного работника много потрудился по организации финансовых кампаний, курсов, кружков… Его жена блестяще кончила псаломщицкие курсы и смогла быть мужу отличной помощницей; она возглавляла женское содружество при Бийанкурской церкви; прекрасная, глубоко церковная женщина.
О.Чекана я назначил очень быстро, дабы приход не пустовал (приходу пустовать нехорошо). В Бийанкурской пастве поднялись протесты: почему нас, прихожан, не спросили? По уставу мы имеем право предложить нашего кандидата!.. Два члена Приходского совета в знак протеста вышли из его состава. Обсуждение волнующего вопроса решено было вынести на общее Приходское собрание. Я заявил, что критическое обсуждение действий епископа в общем собрании недопустимо. Все улеглось. О.А.Чекан привился. Его рвут на части. Он ведет живую просветительную работу, будит паству, ее организует… Каждое лето он устраивает детскую колонию (до 200 детей). Объединил он и все общественные организации Бийанкура; они начали работать совместно с приходом. За 7 лет у о.Чекана не было ни одного недоразумения с Приходским советом [
[172]].
Медон
Начало церковной общины в Медоне положил о.А.Калашников. В большие праздники он приезжал сюда из Кламара и служил в частном помещении. Его сменил о.Борис Молчанов (из студентов Богословского Института). Потом создалась инициативная группа (в нее вошли: Витт, Быченская, Морозова и др.) и стал налаживаться приход.
В Медоне жил тогда инженер Чаев, изобретатель «соломита» — особой смеси соломы и глины, пригодной для построек легкого типа или для временных сооружений. Чаев стал строить храм из своего «соломита» на собственном участке. Не успели подвести здание под крышу — возникла ссора между о.Молчановым и комитетскими дамами (Быченской и Морозовой). На общем Собрании половина членов высказалась за о.Молчанова, половина — против. Я священника не поддержал, высказался за комитетских дам. В результате, лишь только начался Карловацкий раскол, о.Молчанов меня покинул и увлек за собою храмоздателя Чаева и некоторых прихожан. Остальные остались без храма. На помощь пришли благодетели Я.В. и М.Ф.Ратьковы–Рожновы. Они купили землю, заложили постройку, и весной я уже освятил церковь. С помощью разных благоустроителей она быстро украсилась. Художница Рейтлингер (ныне инокиня Иоанна) всю ее расписала, немного стилизованно разработав темы Апокалипсиса, но, в обещем, удачно справившись с работой. Мы благополучно водворились в новом помещении.
На место о.Молчанова я назначил о.Андрея Сергеенко, молодого священника, незаурядного, начитанного в мистической литературе и склонного к мистической жизни. Повышенная религиозная настроенность, способность увлекаться каким–нибудь религиозным начинанием и увлекать за собой последователей, напряженная мистическая атмосфера… — вот характерные черты настоятеля Медонского прихода, невольно отражающиеся на жизни его паствы.
Сначала все в Медоне шло хорошо, а потом пошли раздоры. В центре распри оказались о.настоятель и Быченская с братом, много потрудившиеся по созиданию церкви [
[173]]. С той и с другой стороны оказались натуры властные, неуступчивые. Кончилось уходом Быченской и нескольких прихожан. Приход умиротворился, но от времени до времени вспышки бывают.
О.Сергеенко работает с воодушевлением. У него есть дар влияния на людей, что дает ему повод, по молодости лет и по неопытности, притязать на роль «старца». Кое–кто из медонцев называет его: «младостарец…» О.Андрей устраивает у себя на дому собрания, на которых некоторые его последовательницы обучаются медитации; сидят молча, медитируя над предложенной им темой, и не смеют шелохнуться, «чтобы не нарушить богомыслия батюшки», который тем временем сидит запершись в своем кабинете. Изредка он, тоже молча, проходит через комнату медитирующих…
Этот уклон к мистике не мешает о.Андрею быть деятельным работником.
Повел о.Андрей и миссионерскую борьбу с баптистами, которые в Медоне свили себе гнездо. Он увлек несколько студентов Богословского Института и сорганизовал маленькое общество борьбы с сектантством. Некоторые из студентов (например, о.Дионисий, настоятель церкви в Гааге) подчиняются его духовному авторитету и становятся его учениками; другие — подпадают под его влияние.
Очередное увлечение о.Андрея — организация скита в каком–то глухом уголке, в 30 км от Медона. Он купил там 200 метров земли (по 1 франку за метр), достал камион и уезжает туда со своими последователями для построения своими руками хижины–скита и разработки участка. Предполагалось в будущем начать подвиг скитожительства для преуспевших на путях мистических. А пока были лишь совместные поездки и совместный труд — нечто среднее между partie de plaisir и попыткой людей, увлеченных идеалом монашества, вообразить себя пустынножителями.
Последнее увлечение о.Андрея — изучение еврейского языка и еврейской Библии для миссионерской работы среди евреев.
Шавиль
В 1926 году один из шавильских русских жителей, г.Седашев, взял на себя инициативу обратиться ко мне с просьбой — прислать на Пасху священника. Я послал о.А.Калашникова (настоятеля Кламарской церкви). Он положил начало церковной организации; несколько раз наезжал и совершал службы, чередуясь со стареньким священником о.Ф.Фащевским, и образовал комитет, в который вошли: Седашев, графиня Мусина–Пушкина, Добрынина, Березина, Дубасова… Некоторое время священники еще менялись, потом я поставил постоянного — о.Георгия Федорова.
О.Федоров — сын профессора Варшавского университета, умершего во время революции. Мать перешла в католичество и повлекла за собою сына, тогда еще воспитанника кадетского корпуса. Он попал к иезуитам, очутился вскоре в Риме, где был зачислен в семинарию, а потом посвящен в диаконы. Долго идти по этому пути он не смог, ему изломали и исковеркали душу, и он принес свой диаконский орар к моим ногам. Я пожалел его и определил в Богословский институт. Семинарская подготовка в Риме дала ему немало полезных познаний, и я, убедившись, что ученого богослова из него все равно не выйдет, рукоположил его вскоре в священники и отправил в Шавиль.
Среди шавильских прихожан был некто Иван Максименко, имевший влечение к служению церковному. Я зачислил его вольнослушателем в Богословский Институт, потом рукоположил в диаконы и направил тоже в Шавиль.
В это время Приходский комитет уже устраивал скромную, даже убогую, церковку во имя Державной Божией Матери в невзрачном помещении бывшего гаража.
Об обретении иконы Державной Божией Матери известно следующее. Во время революции икону нашли на чердаке церкви в селе Коломенском, имении наших московских царей. Одной женщине во сне явилась Богородица и сказала: «Моя икона лежит в пренебрежении, пойди к священнику и скажи…» Сон повторился дважды, — и женщина повеленное исполнила. На иконе Богоматерь изображена сидящей на троне с атрибутами царской власти: в одной руке у нее держава, в другой–скипетр. Чудо обретения этой иконы было воспринято, как воссияние идеи державности Царицы Небесной в лютое время крушения русской державы. Слухи о чудесной иконе стали распространяться, и в храм начал стекаться народ. В 1917 году икону носили в Москве по церквам и всюду, где она появлялась, собиралась толпа богомольцев. Когда священник (нашедший икону) хотел вставить ее в кивот и, не найдя соразмерного, решил подпилить ее снизу, ему во сне явилась Богоматерь и укорила: «Зачем подпилил ноги…» Для Шавильского храма была написана копия этой иконы.
О. Федоров настоятельствовал недолго. Изломанный, зараженный католическим духом, он был преисполнен сознания своей настоятельской непогрешимости и стал проявлять ту меру безапелляционности всех своих постановлений, которая вызывала скандалы. Он не допустил ко Кресту церковного старосту Дубасову за то, что она вышла из храма без его благословения; не допустил одного из членов причта до причастия, потому что тот, будто бы перед причастием, подавая теплоту, сказал: «А огурчики–то у меня уродились хорошие…» Я услыхал про скандалы, увидал, что о. Федоров приход не созидает, а разоряет, и заменил его о. Георгием Шумкиным, добрым, кротким, молитвенным священником.
При о. Шумкине храм благоустроился. Поступили пожертвования иконами, церковными вещами… соорудили новый иконостас; икону Державной Божией Матери вставили в массивный кивот и устроили для нее особое возвышение. Храм приукрасился. Богомольцы стали приезжать из Медона, Кламара и Парижа.
Старостами были: сначала Дубасова, потом Добрынина, после нее генерал Кандырин, весьма неудачный ктитор, оставивший о своем заведовании храмом неприятное воспоминание…
О.Шумкин активной творческой работы вести не мог. Приход материально беднел, не вносил в кассу Епархиального управления своей доли дохода и постепенно хирел. Увидев это, я перевел о.Шумкина в Гренобль, а в Шавиль назначил о.Максименко, диакона Шавильской церкви, которого по ходатайству некоторых шавильских прихожан я рукоположил в священники.
О.Максименко, бывший небольшой чиновник по переселенчеству в Сибири, вольнослушатель Богословского Института — батюшка простой, добрый по натуре, настойчивый, предприимчивый. Сначала все прихожане были за него, а потом начались протесты. Группа шавильцев, почитающая себя «духовной аристократией», стала жаловаться, что о.настоятель не отвечает ее тонким «богословским запросам». Между тем о.Максименко твердо шел своей дорогой и решил построить свой храм. Он открыл сбор пожертвований «на кирпичики», так наименовались квитанционные книжки, по которым прихожане собирали лепты на построение храма. Пожертвования поступали по мелочам, а в результате вскоре же удалось купить 300 кв. метров земли. Решено было строить церковь «миром», т. е. обойтись без помощи наемных рабочих, а трудиться самим по мере сил и досуга. И вот стали общими усилиями копать, подвозить материал, строить… Женщины готовили и привозили обед строителям. О.Максименко работал впереди всей артели, а за ним уже все остальные. Постройка быстро подвигалась вперед… И вдруг — разлад… из–за крыши. Одни стоят за купол, потому что этого требует эстетика; другие — за обыкновенную двускатную крышу, потому что это дешевле и не требует 4 столбов, которые, поддерживая купол, затеснят всю площадь. Подрядчик Чернобровкин стоял за купол, о.Максименко — за крышу. Обратились к архитекторам. Они приводили эстетические доводы и поддерживали Чернобровкина. Я старался их убедить, что реальные наши возможности вынуждают нас благоразумно предпочесть скромную двускатную крышу. Конфликт продолжался. Чернобровкин ожесточился и потребовал увоза своего материала с постройки, а также возмещения каких–то убытков. Прений и ссор было много. Я ездил умиротворять противников. Один раз пришлось разбираться в подробностях распри, сидя в недостроенном храме на ящике среди наваленных досок, кирпичей и каких–то ведер, а на тяжущихся и на меня сеял мелкий, частый дождик: из–за ссоры все еще не было ни купола, ни крыши… В конце концов все уладилось, благоразумие возобладало, и церковь выстроили с двускатной крышей.
О.Максименко терпеливо вынес все эти бури, но далось это нелегко. Освящение храма было торжественное. Народ плакал, когда я в моем «слове» говорил о том, как трогательно шавильцы созидали свою церковь. О.И.Максименке в воздаяние его пастырских трудов, особенно за построение храма, я дал камилавку [
[174]].
Летом 1936 года в Шавиле возник новый конфликт. Там организовалась группа «Трудового Христианского Движения», возглавляемая двумя лицами, принявшими швейцарское подданство, — Ладыженским и князем Куракиным. Когда министерство Блюма реализовало свою программу рабочего законодательства, некоторые шавильцы не по политическим взглядам, а просто по экономическим соображениям записались в СЖТ. Группа «Трудового Христианского Движения» постановила записавшихся в СЖТ из своей среды исключить, о.Максименко заступился за членов СЖТ: они хотели облегчить свое материальное положение, это компромисс из–за куска хлеба, не «швейцарцам» их обличать, переменившим подданство ради свободы передвижения, т. е. ради удобства ездить по Европе без хлопот о визах… Ко мне полетели жалобы на о.Максименку. Я дознался, в чем дело, и разъяснил жалобщикам, что они, переменив подданство, сами пошли на компромисс с жестокой жизнью; в подобных случаях от обличения приходится воздерживаться.
Аньер
В 1931 году возникла инициативная группа для организации богослужения в Аньере. Во главе ее был граф Граббе (впоследствии Донской атаман), граф Бенигсен и Стахович. «Аньерцы» пришли ко мне просить благословения на открытие общины и устроение храма для обслуживания русских, проживающих в Аньере, в Леваллуа–Перрэ, Буа–Коломб, Курбевуа и Безоне. Я доброе начинание благословил и поручил о.Иоанну Шаховскому собрать Приходское собрание. Оно состоялось в Курбевуа в музее лейб–гвардии казачьего полка [
[175]].
Образование прихода, порученное мною иеромонаху Иоанну (Шаховскому), прошло успешно. Нужда в церкви была настоятельная, и русские люди дружно поддержали добрый почин. О.Иоанну остаться в Аньере не пришлось, я перевел его в Берлин, а сюда назначил молодого иеромонаха Мефодия Кульмана (Богословского Института), который начатое дело и продолжал.
Прежде всего надо было найти помещение для церкви. Отыскали особнячок на рю дю Буа, №7–бис, расположенный столь близко от полотна железной дороги, что дом ежеминутно сотрясают пролетающие поезда. В нижнем этаже устроили церковь, а остальное помещение, кроме комнаток для о.настоятеля и для псаломщика о.Петра Попова (Богословского Института), отдали внаем с целью извлечь небольшой доход в пользу церкви.
О.Мефодий, молитвенный, аскетически настроенный монах, чуткий к человеческой совести, вложил в приход всю свою душу, и он стал быстро развиваться. Создалась небольшая, но красивая церковка, украшенная прекрасными иконами, заботливо устроенная, уютная. Организовались просветительные и благотворительные учреждения. Широкую благотворительную деятельность развил приход во время забастовки шоферов. Русским шоферам выдержать ее было трудно, примкнуть к ней пришлось поневоле, а как было ее пережить без сбережений, да еще людям семейным? Для некоторых лиц положение создалось безвыходное. О.Мефодий спешно наладил специальную помощь — обращался к русскому обществу с воззваниями и лично выпрашивал пожертвования у добрых людей. В результате наши бедные шоферы сравнительно благополучно пережили тягостную для них забастовку. Кроме временной благотворительной помощи организована была и постоянная для нетрудоспособных и для неимущих членов прихода. В церковном доме отвели помещение для призрения престарелых женщин, а при церкви устроили трапезную для нуждающихся прихожан. Между церковным народом и церковью возникло общение, по духу своему напоминавшее времена первохристианства. О.Мефодий входил во все интересы прихожан, особенно много внимания уделяя детям в организованной им церковноприходской школе; он не только обучал их Закону Божию, но и играл с детьми и сделался таким их другом, что одна из девочек попросила свою мать: «Мама, купи мне, пожалуйста, икону о.Мефодия…» При церкви сгруппировалось в единую семью и молодое поколение: скауты, витязи..; аньерская молодежь приходила на рю дю Буа, чтобы и в церкви побывать и чтобы на церковном дворе в свои игры поиграть, а то и просто забежать в церковную библиотеку за новой книжкой. Благодаря самоотверженной работе о.Мефодия приход проявил кипучую энергию. Я нередко посещал Аньер и всегда выносил от прихода самое светлое впечатление. Атмосфера теплоты, уюта, греющей христианской любви, единой христианской семьи — вот отличительные черты этого примерного прихода.
Постепенно Аньерская церковь стала делаться тем культурно–просветительным центром, который начал притягивать к себе местных и окрестных русских жителей. При церкви создалась хорошая библиотека с правильной выдачей книг, наладилась газетка «Приходский листок», в которой обсуждались нужды прихода и давались сведения о разных его предположениях и начинаниях. О.Мефодий устраивал просветительные лекции и собеседования, приглашая лекторов из Богословского Института или из «Христианского движения». Уделял внимание миссионерству; узнает, что кто–нибудь увлекается сектантством или теософией, — он постарается с этими лицами встретиться и побеседовать, посещая их иногда даже на квартирах.
В 3–4 года приход так расширился, что церковь стала тесна и летом всенощную уже приходилось служить на дворе. Он один из самых деятельных и самых популярных приходов. У о.Мефодия много духовных детей. Пастырская его деятельность непрерывно развивается, а авторитет его все растет. Он исполняет обязанности законоучителя в приюте «Голодная Пятница», часто, по приглашению, посещает больных в нашей больнице в Вильжюиф, имеет уже много почитателей по всему Парижу.
Аньерская церковь и ее настоятель пользуются симпатией владельцев нашего церковного особняка г–на Фужери (судебный следователь по делу Горгулова). Он и его семья, люди религиозные, отнеслись к русским жильцам благожелательно. Свои симпатии они сочли религиозно оправданными, когда как–то раз на Пасхе чуть было не погибли в автомобильной катастрофе. Спасение они приписали особому Божию покровительству в награду за те льготные условия, на которых они сдали нам особняк под церковь. Фужери пришли к о.Мефодию и просили, несмотря на то что они католики, отслужить благодарственный молебен.
Аньерский приход положил основание благотворительному учреждению на стороне. Отделение для призрения престарелых женщин стало тесно, другие приходские учреждения тоже расширились и требовали более просторного помещения. Поэтому решено было перебраться со старушками куда–нибудь на сторону. Заведующая Е.Л.Лихачева, принявшая монашество под именем Мелании, и ее две помощницы–монахини [
[176]] сорганизовали общежитие для своих подопечных в Розэй–ан–Бри (полтора часа езды автокаром от Парижа). Была нанята, весьма дешево, усадьба с садом и огородом. Летом превратили пустующую часть дома в «Дом отдыха» преимущественно для прихожан Аньерского прихода, но решено было, при случае, брать пансионеров и со стороны. Уклад жизни ввели полумонастырский. Ежедневно Литургии и молитвы до и после трапез. Успех «Дома отдыха» превзошел все ожидания. Условия жизни оказались столь удобны, приятны и материально доступны, что с первого же летнего сезона все свободные комнаты оказались заняты и даже кое–кому пришлось отказать. Монашеская атмосфера в «Доме отдыха» очень нравилась пансионерам. Способствовало популярности общежития м.Мелании и отношение сестер к приезжим, преисполненное теплотой, добротой и лаской. Бывали дни, когда число пансионеров достигало сорока. К сожалению, с таким наплывом приезжих сестры едва справлялись. Недостаток рабочих рук — серьезное препятствие для развития этого прекрасного и полезного учреждения. Потребность в таком тихом церковном приюте ощущается среди русских круглый год, и зимой, даже в самые глухие месяцы, там проживало несколько пансионеров.
Сначала церковь в Розэй обслуживал священник Аньерского прихода. Я посылал оттуда очередного помощника о.Мефодия. Обычно эти обязанности я возлагал на новичков, только что окончивших Богословский Институт. Начать пастырское служение под руководством о.Мефодия я считал для них полезным. Сперва вторым священником в Аньере был целибатный священник о.Андрей Насальский, потом о.Болдырев. Впоследствии я назначил их к м.Мелании уже самостоятельными священниками. Посылал я туда о.Дионисия (Лукина) и иеромонаха Евфимия.
Деятельность о.Мефодия имеет большое значение. Настоятельство в Аньере поставило его в центре громадного фабрично–заводского района и дало возможность духовно руководить большим Аньерским приходом и его общинами [
[177]]. Влияние церкви стало проникать в среду русских рабочих. Многие из них годами пребывания вне церковной жизни опустились, растеряли моральные принципы, забыли заветы христианской веры. Сколько некрещеных русских детей разыскал о.Мефодий! Сколько внебрачных сожительств! Благодаря неутомимой деятельности Аньерского настоятеля многие дети были крещены, а родители их повенчаны. И очень многие русские люди вернулись в лоно родной Церкви.
К Аньеру приписана домовая церковь приюта для престарелых в Гаренн–Коломб.
Пти Кламар
В этом предместье Парижа поселилась группа русских. Большинство из них уезжали с утра в Париж на работу, а к вечеру возвращались в свои семьи. Они организовали общество, которое купило землю, разбило ее на участки и распределило между своими членами для постройки домиков. Образовался «Союз домовладельцев», которому пришла мысль оставить один участок для церкви и культурно–просветительных начинаний. Начало создания церковноприходской общины было мною поручено настоятелю Шавильского прихода священнику И.Максименко. Он хотел купить готовый деревянный барак и перенести его на отведенный участок. Но оказалось, ввиду близости авиационного завода деревянные постройки в Пти Кламаре запрещены. На этом деятельность о.И.Максименко по устроению церковной жизни в Пти Кламаре прекратилась.
Продолжателем явился священник М.Осоргин, настоятель в Большом Кламаре. Временно церковь устроилась в домике тяжко увечного инвалида Кашкина.
Первым настоятелем в Пти Кламаре был священник Василий Заханевич, инвалид гражданской войны, человек очень болезненный. Он организовал постоянный приход в Пти Кламаре. Одновременно возник план постройки каменного храма. Не успели к постройке и приступить — начались споры о том, кто собственник храма. «Союз домовладельцев» считал юридическим лицом себя, а Кашкин доказывал, что юридическим лицом должен быть приход под главенством Епархиального управления. В конце концов Кашкин одолел, и через год церковь была готова. Все хлопоты по постройке Кашкин вынес на своих плечах. При о.Заханевиче освятить храм не удалось. Он заболел, и я должен был его уволить, после чего он перешел в юрисдикцию митрополита Елевферия.
После о.Заханевича настоятелем в Пти Кламар я назначил священника Михаила Черткова. Пожилой человек, бывший земский деятель, он в церковном смысле был совсем неопытный; от неопытности бывал застенчив, что мешало ему освоиться с положением эмигрантского пастыря. Не умел он попросту подойти к людям, их расшевелить, воодушевить…
Во время настоятельства о.Черткова состоялось освящение церкви. Потом образовался дамский комитет, который занялся внутренним устроением храма и вскоре привел его в благолепный вид. При церкви открыли школу. Отмечу полезную деятельность о.Черткова по оказанию помощи туберкулезным.
Он сблизился с Ф.Т.Пьяновым и м.Марией (Скобцовой), занимавшимися нашими туберкулезными в парижских больницах. Положение этих несчастных, разбросанных по разным госпиталям, было очень печальное, даже безвыходное, вследствие невозможности после окончания острого периода попасть в санаторию, ибо французские санатории были для них, как бедных иностранцев, закрыты; нельзя было попасть и в единственную санаторию Красного Креста: там требовалась плата, для многих из них недоступная. Они обрекались оставаться годами в больницах без надежды вырваться оттуда и часто повторно там заражались. Эта обреченность доводила их до отчаяния…
Случайно я посетил госпиталь Ларошфуко, где нашел человек двадцать пять наших туберкулезных. Озлобленные, нервные, они жаловались мне на свою заброшенность, на отсутствие внимания со стороны русского общества: «Мы томимся здесь годами… годами видим только эти стены и знаем, что отсюда для всех нас дорога одна — на кладбище… Нас забыли… Красный Крест изредка раздает нам по пяти франков… — и это все. Хоть бы некоторым из нас, хоть бы одному–двум больным, попадать в санаторию — и то был бы просвет в нашей темной жизни… Каждый из нас будет жить надеждой на удачу, как живут люди в ожидании выигрыша в Национальную лотерею…»
О.М.Чертков не только усердно посещал больных, не только как священник утешал, наставлял их, освящал Святыми Тайнами, но вместе с деятелями «Православного Дела» м.Марией и Ф.Т.Пьяновым нашел доступ к Министру Здравоохранения Лафону [
[178]]. По их совету я написал Министру письмо и получил неожиданно благоприятный ответ: русских туберкулезных больных будут принимать бесплатно за счет государства во французские санатории. Эта мера имела огромное значение: сотни туберкулезных — выздоравливающих устроились во французских санаториях под Парижем и в провинции. На санаторское лечение русских, с тех пор как постановление вошло в силу, Министерство Здравоохранения истратило уже около полумиллиона франков. Не говорю уже о том, как эта мера благоприятно повлияла на настроение больных: успокоила, утешила их страждущие души. Это достижение — большая заслуга о.Черткова.
Церковь Преподобного Серафима Саровского
(Париж)
В 1932 году, когда галлиполийцы перенесли свою церковь из 15–го аррондисмана в 16–й (на rue de la Faisanderie), священник О.П.Бирюков, вскоре покинувший галлиполийцев, задумал с группой друзей вновь открыть церковь на прежнем месте (на rue Mademoiselle), чтобы не оставлять эту часть города без храма. Они пришли ко мне и изложили свой план. Я его одобрил.
О.Бирюкову осуществить проект не удалось. За его мысль ухватился о.Дмитрий Троицкий, который нашел себе энергичного помощника в лице М.М.Федорова, организатора студенческого общежития на rue Lecourbe, № 91. Это общежитие помещалось в старом особняке в глубине двора, застроенного какими–то невзрачными бараками. Один из этих бараков решили отвести под церковь. Необыкновенный барак! Строители сохранили деревья, мешавшие постройке, и оставили в крыше отверстия для стволов; теперь, когда барак превратили в храм, одно дерево оказалось посреди церкви, вокруг него теснятся и к нему прислоняются молящиеся, а другое — в алтаре, и, случается, на него священнослужители вешают кадило… Церковь посвятили памяти Преподобного Серафима Саровского. Даже приукрашенная, она сохранила какой–то милый, скромный вид, напоминая любимую пустыньку Преподобного, куда медведь к нему приходил.
О.Троицкий отдал все свои силы на организацию храма и прихода. Он ходил по домам, терпеливо разъяснял значение нового церковного объединения. Ему удалось создать крепкий, с воодушевлением работающий Приходский совет и привлечь в старосты прекраснейшего человека — М.Н.Любимова, способного загораться всей душой, когда надо для церкви что–нибудь полезное осуществить, сведущего и в технике отчетности (по профессии он бухгалтер). Во время гражданской войны о.Троицкий служил среди казаков, и в Приходском совете теперь оказались тоже казаки: Акулинин, атаман Богаевский и др. В состав Совета вошли кроме казачьей группы — Калитинский, специалист по истории древнерусского искусства, и Н.В.Глоба — бывший директор Московского художественного Строгановского училища, тоже большой его знаток и человек тонкого художественного вкуса; он расписал весь барак иконами и орнаментами, и благодаря его искуснейшей росписи церковка приобрела прекрасный вид.
Понемногу в приходе стали возникать разные полезные начинания. Открыли «четверговую» церковноприходскую школу, кассу помощи семьям умерших прихожан, сорганизовали очень хороший хор, ввели частое богослужение (по субботам заупокойную Литургию с общей панихидой).
Кто–то принес в дар церкви реликвию с частицами мощей Преподобного Серафима, и эта святыня стала как бы символом возрожденной на чужбине «Пустыньки». О.Троицкий умел способствовать горению духа, в приходе почувствовался прилив живых церковных сил. В маленьком храме скоро стало тесно, пришлось подумать о расширении. Решили использовать навес над двором и сделать пристройку из «соломита». Но как собрать нужные деньги? При входе в храм вывесили план пристройки; чертеж был разбит на клеточки — «кирпичики», лепта в 15–20 франков давала право «кирпичик» зачеркнуть и вписать свое имя. В год все клеточки были зачеркнуты.
Создал о.Троицкий и объединение русских женщин, наименованное «Серафимо–Дивеевская община». Во главе ее поставили сестру Мартынову, одну из лучших сестер Александро–Невского сестричества. Сестер в «Серафимо–Дивеевской общине» немного — восемнадцать–двадцать, но они не инертная масса, а усердные работницы. Чувствуется в них горение сердца. Они поддерживают порядок в храме, чинят облачения, ревностно занимаются благотворительностью.
Приход Преподобного Серафима один из самых жизненных, самых сильных приходов. Многих наших александро–невских прихожан он отбил от нас. У о.Троицкого есть инициатива, он умеет поддерживать авторитет пастыря. Привлекает он к себе русских людей и всем своим психологическим складом. Он часто посещает своих прихожан, входя во все обстоятельства их жизни. Это старый священник–бытовик, а в душах и нравах эмигрантов быт сидит крепко [
[179]].
Озуар ля Феррьер
Русский поселок в Озуар ля Феррьер возник приблизительно так же, как в Пти Кламар. Местные собственники разбили свою землю на участки и стали участки дешево распродавать. Русские охотно покупали эти земельные клочки, строили на них домики и перебирались сюда с семьями. С утра в Париж на работу, а к вечеру домой в Озуар на лоно природы. В Озуаре лес, луга… Весной такое обилие ландышей, что их вывозят грузовиками, а летом много ягод, грибов…
Сначала по просьбе местных жителей я посылал в Озуар священника на праздники, но вскоре возникла мысль об организации общины и устроения храма. Ко мне явился местный житель г.Малиженовский (одно время он был псаломщиком в Бийанкурской церкви) и, ссылаясь на семинарское свое образование (хотя семинарии он не кончил), просил меня, чтобы я рукоположил его в священники. Он обещал пожертвовать участок земли в Озуаре для построения церкви, рассчитывая стать ее настоятелем. Я навел справки о нем. Отзывы меня не удовлетворили. Однако от категорического отказа я воздержался и направил Малиженовского в Богословский Институт, чтобы там его проэкзаменовали. Испытания он не выдержал, и я в рукоположении ему отказал. Он рассердился. В Озуар я направил священника о.Александра Чекана, который тогда был нештатным священником при церкви «Христианского движения». Он собрал Приходское собрание, на котором Малиженовский заявил собравшимся, что даст землю лишь при условии, если его сделают священником. Толпа загудела протестом; и в результате прений было постановлено — купить самим 300 кв. метров земли и построить церковь. Образовался строительный комитет во главе с о.А.Чеканом. Малиженовский со своей неудачей не примирился и обратился к Карловацкому архиепископу Серафиму. Местные приверженцы «карловцев» постановили строить параллельно нам. Между обеими сторонами вспыхнула вражда, раздоры, даже, кажется, дело дошло до «оскорбления действием»… А тем временем о.Чекан самоотверженно работал по организации прихода и по созданию храма. Несмотря на малочисленность и бедность прихожан, на неблагоприятную обстановку, через год церковь была готова — хорошенькая, каменная, с паркетными полами. Создалась трудом самих прихожан. Работали все, кто только мог и умел. Одни исполняли землекопные работы, другие были каменщиками, третьи плотниками и т. д. «Карловчане» выстроили свой храм, но куда хуже нашего.
В награду за труды я перевел о.Чекана в Бийанкур, а в Озуар направил пожилого иеромонаха Евфимия Вендт (Богословского Института), по профессии инженера, — прекрасного, тонкой души, культурного человека. К сожалению, жизнь сильно его помяла: на фронте во время гражданской войны он попал в плен к большевикам, они его мучили, пытали, издевались, и пережитый ужас наложил на его психологию тяжкий след. Физически и морально он и теперь был полубольной. Когда прошлым летом в начале министерства Блюма начались забастовки, митинги, появились процессии с красными флагами, с пением «Интернационала»… о.Евфимий был сам не свой и стал умолять, чтобы мы дали ему возможность выехать из Франции. В те дни о.Евфимию пришлось пережить тяжкое потрясение. Он проходил по парку Бют Шомон, к нему подбежали какие–то хулиганы и стали требовать: «Поп рюс! давай папиросу!..» А когда узнали, что папирос нет, один из безобразников ударил его в грудь кулаком. О.Евфимий потом лежал больной и долго не мог оправиться от нравственного шока…
Настоятельство о.Евфимия в Озуаре оживления в приход не внесло. Церковка (во имя Святой Троицы) блещет красотой и чистотою, но паства малая, чувствуется в ней какая–то сиротливость, неуверенность в своих силах. О.Чекан умел вселять бодрость, а о.Евфимий поддается настроениям прихожан. Надежную опору он нашел в лице старосты Т.М.Старченко, старого кубанского казака. Этот «столп прихода» — маленький, бодрый человек, из рыболовов, а теперь деревенский лавочник в Озуаре. Живет своим домом вместе со своей большой семьей: сыновьями, невестками, племянницей, внуками…
Клиши
В 1933 году в Клиши образовалась церковная общинка. Сначала мы приписали ее к Сергиевскому Подворью, с назначением для нее постоянного священника — О.Константина Замбржицкого (бывший полковник), образованного, энергичного, горячего человека. Местный пастор (Мароже) отнесся к нашей колонии по–братски: узнав, что мы ищем помещение под церковь, предоставил нам запасной зал в протестантском школьном здании.
Начало русским культурным организациям в Клиши положило «Национальное объединение», которому оказало помощь «Христианское движение» в лице Ф.Т.Пьянова, снабдившего учебниками открывшуюся там школу. «Национальное объединение» — светская организация — сначала хотело существовать не только от прихода независимо, но имело притязания подчинить себе церковный приход, а церковь превратить в церковь «Национального объединения» наподобие наших домовых церквей. О.Замбржицкий на это не согласился и требовал обратного соотношения: «Национального объединения» при приходе, а не приход при «Национальном объединении». Загорелась борьба. Я стоял за параллелизм: церковь имеет свой устав, «Национальное объединение» — свой, эти организации могут существовать рядом, друг друга не поглощая и не подчиняя, церковь помогает светской организации молитвами и освящением, оцерковлением ее жизни, а члены «Объединения» входят в состав прихода. Конфликт затянулся. Выйти из него помог пастор — он заявил, что даст «Объединению» помещение лишь при условии, если организация будет связана с митрополитом Евлогием и с приходским священником. При содействии преосвященного Иоанна было достигнуто примирение. В состав Приходского совета выбрали несколько видных членов «Объединения» — и все устроилось отлично. Когда «Объединение» задумало организовать вечер с танцами, Приходский совет, по указанию священника, счел неудобным официально принимать в нем участие, но само «Объединение» почло своим долгом уделить часть сбора в пользу церкви.
Клиши один из жизненных, деятельных приходов. Приходский совет подобрался отличный. Храм расписан и заботливо украшен. Кроме школы, уделено много внимания и общей культурно–просветительной работе — устраиваются собрания с чтением докладов, лекций, за ними следуют прения или беседы. Русская колония в Клиши живет напряженной церковной и общественной жизнью.
Отмечу одно отрадное, но, к сожалению, очень редкое явление, привившееся в Клиши, — устройство Съездов представителей нескольких приходов. Приезжают гости из Аньера, Курбевуа, Шавиля, Сен–Мора… — иногда человек около ста, и в течение 3–4 дней Конференции доклады чередуются с дискуссиями и беседами. Поет хор. К концу Съезда приезжаю и я. Съезд посвящается всегда какой–нибудь одной теме, например: «Значение молитвы», или «Россия и Зарубежье в церковном отношении», или другие какие–нибудь всех интересующие вопросы. На данную тему читают и говорят либо лекторы и ораторы своего прихода, либо кто–нибудь из гостей. Недавно зародился проект более планомерной организованной деятельности приходов. Возникла мысль устраивать эти трехдневные Съезды то в одном приходе, то в другом, чтобы преодолеть психологию приходской замкнутости, привычку жить интересами «своей колокольни», отсутствие чувства братства приходов. Проект отвечает нарождающемуся стремлению к взаимному пониманию, желанию взаимопомощи и устранению разъединенности приходов: трудно приходу, но он и не подумает попросить помощи у более сильного прихода–соседа. Дай Бог, чтобы это разобщение изжилось и приходы связались между собою в одну дружную семью, наподобие возникших в России после революции Союзов приходов.
Монруж
Честь открытия этого прихода в фабричной зоне Парижа принадлежит «Православному Делу» — организации, как я далее расскажу [
[180]], созданной трудами м.Марии (Скобцовой) и Ф.Т.Пьянова. Сначала устроили школу, потом — церковь. Настоятелем я назначил о.Валентина Бахста.
О.Валентин, из прибалтийских немцев, воспитывался во Владивостоке, окончил в Париже протестантский университет, получил место пастора и женился на протестантке. Но протестантизм ни его, ни его жену не удовлетворил, и они повлеклись к православию. Однако Бахст продолжал еще некоторое время исполнять обязанности пастора в реформатской церкви. Потом он стал проситься в наш Богословский Институт. Я принял его сразу на 3–й курс: он был хорошо подготовлен в университете, но ему не хватало специальных знаний, надлежало пройти курс православной догматики, истории православной церкви, нашего канонического права, литургики и пастырского богословия. В один год он все это одолел и просил меня о рукоположении во священники. Я его рукоположил и отослал под Суассон в помощники о.Г.Жуанни, организовавшему там детскую колонию.
Колонией управлял о.Жуанни. Человек практической сметки, вел он ее недурно. О.Валентин сначала ему помогал, а потом взял колонию в свои руки и проявил, заведуя ею, много усердия и самоотверженности: сам жил нищенски, а детей кормил хорошо. Вскоре приют закрылся, и безработный о.Бахст остался на иждивении у м.Марии. Положение его было неприятное. Здесь подвернулся проект организации прихода в Монруже.
Помещение церкви в Монруже весьма скромное. В нижнем этаже устроили церковь, в верхнем отвели одну комнату под школу, а другую отдали батюшке. Средств на содержание священника у прихода почти нет; каждая хозяйка приносит ему что может и оставляет свое приношение у двери его комнаты. Я умилялся апостольским нравам; сперва умилялись и прихожане, потом среди них начались трения, поднялся ропот: «Батюшка немец… батюшка протестант… и зачем матушка за регента? как смеет нас иностранка учить!.. Мы сами знаем…» Много натерпелись батюшка с матушкой, много перестрадали… Видя их скорбные глаза, я старался их поддержать. Конфликт объясняется привычкой русских людей к священнику–бытовику, новизной и некоторой чуждостью им того типа батюшки, который являет о.Бахст. Пастырская ревность у него громадная, а считаться с нашими привычками он не умеет. Проповедь его длится час, а прихожане длинных проповедей не выдерживают — уходят курить, нервничают… Не в меру повышенное представление о своем настоятельстве тоже не отвечает нашим представлениям о батюшке, и авторитетное заявление О.Валентина: «Я — сказал…» не производит желаемого впечатления. Постепенно недоразумения сглаживаются. О.Бахст побеждает кротостью, самоотверженностью, бескорыстием и терпением. Вообще о.Валентин достойный батюшка, чистой души, пламенного духа.
По собственной инициативе о.Валентин открыл приписную общинку в Плесси–Робинзон. Там предполагают создать церковку благолепную. Один из прихожан, столяр, по воспоминаниям о церкви в своем кадетском корпусе, спроектировал ее, задумав устроить в ней разукрашенный иконостас. О.Бахст разнес проект: «Безвкусица! Нам сейчас катакомбы нужны, не разукрашенные церкви!..» Прихожане ворчат и плачутся: «Зачем катакомбы? Мы не хотим в катакомбы!..»
Постепенно организовался самостоятельный приходик с постоянным священником (первым его настоятелем был протоиерей о.И.Лелюхин), и началось спешное устроение церкви в здании старой мэрии — помещении, предоставленном французами бесплатно.
К весне 1937 года храм был уже устроен и украшен. 26 мая я вместе с благочинным о.Д.Троицким посетил Плесси–Робинзон и служил молебен перед иконой Иверской Божией Матери, покровительству которой храм посвящен.
Сен–Морис
В этом предместье Парижа скопилось много русских. Храма нет, и до ближайшего священника далеко. Состояние колонии плачевное: некрещеные дети, семьи в развале… Ф.Т.Пьянов натолкнулся на все эти прискорбные явления и доложил мне. Я стал посылать священников: сперва о.Шпортака (приехавшего из Польши), потом о.Лелюхина и иеромонаха Игнатия (Богословского Института). В Сен–Морисе сняли помещение для церкви — студию со стеклянным потолком и при нем комната–конура для священника. Церковь устраивали сами прихожане. Нашлись среди них столяры, плотники, резчики, живописцы. Конура оказалась нежилой: в холод от топки образовывался пар и буквально нечем было дышать. Я указал на это обстоятельство, тогда прихожане ассигновали деньги на наем комнаты для священника.
Рядом с приходом, по примеру Клиши, организовалось «Национальное объединение», поставившее себе целью иметь собственную школу, библиотеку и независимо от прихода вести широкую просветительную работу — устраивать лекции, диспуты, литературные вечера, концерты… Сейчас же (совсем как в Клиши) завязался спор: церковь при «Национальном объединении» или «Национальное объединение» при церкви? Разумеется, обе организации — братские, существовать они должны параллельно, друг друга не поглощая, друг другу помогая; а церковь и школа остаются вне этих параллельных линий, они должны объединять дружные усилия и «культурников», и «церковников». О.Игнатий, недостаточно толковый настоятель, нормальных отношений с «культурниками» наладить не сумел, и вследствие этого мелочи приобрели неподобающее им значение. Так, например, «культурники» устроили танцы в богослужебные часы, а о.Игнатий сказал с амвона: «А вот безбожники во время службы танцуют…» «Культурники», задетые за живое, обиделись: «Как… мы–то безбожники?!» Дабы впредь избежать поводов к столкновениям, я поставил о.Игнатия под ответственное руководство владыки Иоанна (Леончукова). На освящение дома «Русской национальной культуры» «Объединение» пригласило меня и (чтобы обойти о. настоятеля) благочинного о. Д. Троицкого. Недавно я ездил на освящение с преосвященным Иоанном и о. Игнатием и старался растолковать членам «Объединения» норму их взаимоотношений с приходом: члены «Объединения» входят в приход, а прихожане — в «Объединение»; русская культура построена на церковном основании, и русскую душу нельзя понять без исторического православия. Указывал на пример старообрядцев, которых много в Жуанвиле, где есть у них церковь и священник; потому они и крепки в своих национальных началах, что глубоко преданы своей Церкви. Слушали, видимо, с удовольствием, но боюсь, не обиделись бы «церковники», что я поехал в «Объединение» к «культурникам»…
Исси ле Мулино
Церковь в Исси ле Мулино возникла благодаря усердию русских инвалидов. Поначалу в большие праздники по их просьбе Епархиальное управление посылало им священника; эти праздничные службы стали привлекать местных православных жителей. Тогда, в 1937 году, инвалиды устроили в своем помещении маленькую церковь и просили дать им постоянного священника. Я назначил о. Жуанни. Просуществовала эта домовая церковь всего два года. В 1939 году она закрылась.
Севр
16 ноября 1938 года я освятил новый храм в «Доме отдыха» имени протоиерея о. Георгия Спасского. Дело построения этого храма имеет свою историю, связанную с тем, что тело почившего о. протоиерея до сих пор остается не преданным земле [
[181]]. Четыре года оно стояло в нижней церкви нашего Александро–Невского храма. Пылкие, истерические поклонницы почившего создали культ его имени, собирались у гроба, украшали его цветами, некоторые у гроба даже исповедовались и т. д. Создавалась нездоровая атмосфера кликушества. Я несколько раз требовал погребения тела; мне обещали, но потом обещания не исполняли; выведенный из терпения, я настоял, чтобы оно было исполнено. Тогда поклонницы перевезли гроб в усыпальницу при одном протестантском храме в Париже. Бедный о. протоиерей! Каким мытарствам подвергли его тело неразумные поклонницы…
Тем временем ночитатели о. Георгия составили комитет его имени и организовали «Дом отдыха» (платное убежище). Дела комитета пошли хорошо, и он устроил при «Доме» небольшую, но очень уютную и красивую церковку.
Сен–Женевьев де Буа
Прежде чем говорить о церквах в Sainte–Geneviève des Bois, я расскажу о возникновении там «Русского дома».
«Русский дом» для престарелых возник по инициативе кн. Веры Кирилловны Мещерской. Она открыла в Париже пансион для богатых американок, нуждавшихся в приобретении некоторого светского лоска, и счастливый случай привел к ней миллионершу мисс Доротею Педжет. Молодая девушка так полюбила кн. Мещерскую и ее сестру Елену Кирилловну Орлову, что в память своего пребывания в пансионе захотела что–нибудь сделать для эмиграции. Кн. Мещерская подала мысль помочь престарелым нетрудоспособным нашим соотечественникам.
Мисс Педжет купила в Sainte–Geneviève des Bois чудную старинную усадьбу: прекрасный дом с флигелями, службы, большой парк, сад,… — когда–то владение одного из наполеоновских маршалов. Убежище для престарелых было посвящено имени Императрицы Марии Феодоровны. Оно было так необходимо для эмиграции, что центральный дом сейчас же заполнился и для новых пансионов пришлось отвести второй дом, а потом и третий. Когда и эти дома не могли вместить всех призреваемых, расселили старичков и старушек вокруг усадьбы у местных жителей. Благотворительница поставила «Русский дом» на широкую ногу. Поначалу нужды не было ни в чем, все было вволю. Своих подопечных мисс Педжет любила, приезжала навещать, о них заботилась, их баловала. На большие праздники старалась их получше угостить, посылала авионом индеек, гусей… Однажды в день французского национального празднества 14 июля предложила всех пансионеров (250 человек) перевести на сутки в Париж, чтобы дать возможность полюбоваться фейерверком, который устраивает на Сене в этот день парижский муниципалитет. Была снята роскошная вилла с видом на реку, специально для этого дня навезли много дорогой мебели, провели электричество, комнаты спешно привели в порядок. Были закуплены в изобилии вина, фрукты, кондитерские изделия; был заказан грандиозный ужин с шампанским. Затея обошлась тысяч в сорок — пятьдесят… Широкая, но странная затея. Дряхлых старичков и старушек везли в грузовиках с опасениями, что до Парижа всех живыми, быть может, и не довезут. Фейерверк вряд ли мог доставить большое удовольствие этим престарелым людям. Но доброй мисс Педжет хотелось дать бедной русской аристократии, хоть на один день, иллюзию былой привольной, богатой жизни.
Необходимость иметь церковь при «Русском доме» стала очевидной вскоре же по его открытии. Старички стали болеть, умирать. Начались соборования, панихиды, погребения… За организацию церкви взялся директор «Русского дома» генерал Вильчковский и один из призреваемых — князь М.С.Путятин, оба обладающие тонким художественным вкусом. В помещении, примыкающем к гостиной (где пансионеры играют в бридж), они устроили прекрасный храм в древнерусском стиле и посвятили имени святителя Николая Мирликийского Чудотворца.
Первым настоятелем церкви был протоиерей Димитрий Троицкий, о котором уже упоминалось (приходы в Коломбеле и Льеже), — умный священник, но с властным характером. Сначала все шло хорошо. За ектенией возглашалось прошение о «благоверном всероссийском царственном доме и многострадальной родине нашей…», обитатели «Русского дома» благоволили к о.настоятелю и он к ним, ценил тонкость их светских манер и изящество культурных навыков. А потом начались нелады. О.настоятель в тонкой культуре своих прихожан разочаровался…
Я перевел о.Троицкого в Галлиполийскую церковь, а из Кламара сюда — протоиерея о.Калашникова, прекрасного, доброго пастыря и культурного человека. В России он занимал высокий пост в Министерстве Финансов.
Вопрос о происхождении, чинах и титулах играет в «Русском доме» роль немалую. Рассказывают следующий анекдот, характеризующий психологию призреваемых.
На местном кладбище разговаривают три старушки, выбирая себе место для вечного упокоения; заспорили об одном наиболее видном месте.
– Мой муж был губернатор…
– А мой — генерал–лейтенант…
– А мой… — начала третья старушка и замялась… — кто же был мой? Ах, запамятовала…
– Да вы же незамужняя!.. — запротестовали спутницы.
– Ах да, действительно, я не была замужем… — смущенно сказала бедная старушка.
Диаконом в «Русском доме» до самой своей смерти был о.Евгений Вдовенко, не ладивший с о.Троицким, но мирно уживавшийся с престарелым и часто болевшим о.Калашниковым. В помощь больному настоятелю я дал молодого священника — врача Льва Липеровского.
Врачом «Русского дома» официально числится Е.Н.Бакунина [
[182]].
С «Русским домом» в Sainte–Genevieve des Bois связан проект особого храма на русском кладбище, отведенном специально для русских местной французской администрацией.
Уже много старичков и старушек покоилось на кладбище [
[183]]. Часто русские предпочитают хоронить своих близких в Sainte–Genevieve, а не на парижских кладбищах потому, что здесь постоянно творится православная молитва и как–то приятнее лежать среди своих соотечественников. К сожалению, юридически оформить проект построения этого нового храма нам не удавалось. Местные власти не разрешали строить церковь на самом кладбище. Тогда был приобретен небольшой участок земли рядом с кладбищем для построения на нем храма во имя Успения Божией Матери.
Образовался строительный комитет под моим председательством; главными деятелями комитета были: княгиня Вера Кирилловна Мещерская и Михаил Михайлович Федоров. Первая благодаря своим широким связям, главным образом с иностранцами, привлекала крупные пожертвования, а второй организовал очень широко сложное дело собирания пожертвований среди эмиграции.
Самое дело построения храма, план и его осуществление, было поручено художнику–архитектору Альберту А.Бенуа, который построил храм–памятник на могилах русских воинов на кладбище в Sainte–Hilaire le Grand (близ Мурмелона). Архитектор Бенуа — замечательный человек не только как художник, но и как нравственная личность: скромный, до застенчивости, бескорыстный, самоотверженный труженик, он совершенно безвозмездно отдает Святой Церкви свой огромный труд. Храм Sainte–Genevieve он спроектировал в новгородском стиле XV и начала XVI века. Это было и очень красиво и идейно связывало нас с Матерью Родиною — святой Русью.
По мере продвижения постройки шел сбор пожертвований. М.М.Федоров развил удивительную энергию. Я едва успевал подписывать воззвания, а также письма с выражением благодарности за всякую жертву, как бы она скромна ни была. Только неутомимой энергией М.М.Федорова можно объяснить успех дела: в течение одного года мы собрали среди бедной эмиграции около 150000 тысяч франков. Настоящее чудо!
9 апреля 1938 года была закладка храма, а летом 1938 года началась его постройка. Она шла очень быстро. В ноябре 1938 года он был уже вчерне готов и мы поднимали на него крест. Летом 1939 года около храма появились две новые постройки: звонница, также в новгородском стиле (впоследствии с шестью колоколами [
[184]]), и домик для священника и церковного сторожа. Тогда же было устроено центральное отопление. Теперь оставалось только закончить роспись внутренности храма и установить иконостас.
Роспись храма взял на себя тоже художник–архитектор А.А.Бенуа. Он начал свою работу в марте 1939 года и безвозмездно трудился над этим делом вместе со своею женою. Бедная женщина едва не погибла, поскользнувшись на неустойчивой лестнице. Только в конце работы ему стали помогать некоторые женщины–доброволицы и граф Г.А.Шереметев, который поселился при храме в смиренном звании псаломщика. Искусный каллиграф и знаток славянского письма, он сделал надписи, которые понадобились при внутренней отделке храма. Прекрасный иконостас был расписан обществом «Икона». Столярные работы по сооружению иконостаса и проч. выполнены инженером–технологом И.М.Грековым в мастерской при «Русском доме».
Работы по росписи храма задержали день его освящения, которое сначала предполагалось сделать в Успение, а потом отложили до 1/14 октября и приурочили к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. В это время по болезни я проживал в «Русском доме» и очень тревожился, смогу ли я по состоянию своего здоровья (глухота и общая слабость) совершить чин освящения, очень красивый и очень продолжительный. В дни, предшествовавшие освящению, я плохо слышал и у меня был столь мне знакомый припадок рвоты, продолжавшийся с вечера до полуночи. Но накануне праздника мне стало легче настолько, что я решил совершить освящение во что бы то ни стало и поехать ко всенощной; шел сильный дождь; возвращались в темноте и в слякоть. «Как–то будем завтра совершать освящение?» — с тревогой думал я. Ночью спал плохо, не давала покоя мысль о завтрашнем дне…
К утру дождь перестал. Было свежо. Самочувствие удовлетворительное. Когда поехал в церковь, погода уже разгулялась. Слышал я в то утро хорошо.
Вхожу в храм, уже расписанный и освобожденный от лесов… «Боже, как хорошо, дивно!..» — невольно вырвалось из души. Так поражен был я красотою храма… С бодрым духом, с благоговением приступил я к освящению. Когда со святыми мощами пошли свершать крестный ход вокруг храма, брызнули на нас яркие лучи солнца и еще больше подняли настроение. Трепетало сердце, когда я при входе в храм, пред закрытыми дверями, возглашал вдохновенные слова псалма: «Возмите врата князи ваша и возмитеся врата вечная, и внидет Царь славы», а певчие изнутри вопрошали: «Кто есть сей Царь славы?» И растворялись двери, и я со словами: «Господь сил, той есть Царь славы» вошел в освященный храм, неся на главе святые мощи… Сколько я в своей жизни освятил храмов (думаю, не менее ста) и всякий раз не могу без трепета душевного переживать этот дивный момент… Ясное, почти летнее солнце светило в узкие окна храма до самого конца богослужения. У всех настроение было светлое, приподнятое, «точно на Пасху…», как выразилась одна старушка.
Конечно, я очень устал в тот день, но душа моя ликовала, переживая это светлое торжество… В своем «слове» после освящения я старался выразить глубоко волновавшие меня чувства радости и благодарности Господу Богу, даровавшему бедной русской эмиграции на чужбине, но на своих родных русских могилах, воздвигнуть такой чудный храм, быть может, лучший памятник русского зодчества за границей. О красоте его можно судить по тому, что местные власти предлагали нам записать его как «monument historique» в своих путеводителях по Франции.
«…С нами разделяют сегодня нашу радость и все почившие братья и сестры наши, нашедшие себе вечное упокоение у подножия этого храма», — сказал я…
Ликующий, торжествующий возвратился я в свое уединение в «Русском доме». На душе было так легко, так светло, что на время как будто забылись все угнетающие меня недуги. Чувствовалось, что совершено святое русское дело… «Бог знает, — думалось мне, — быть может, это последний [
[185]] храм, который мне суждено было освятить… И я, подобно древнему летописцу, могу теперь сказать: «Еще одно, последнее сказание — и летопись окончена моя, Исполнен долг, завещанный от Бога мне, грешному…»
Да будет благословенно имя Господне отныне и до века…
Аминь.
ХРАМЫ В ДЕПАРТАМЕНТАХ ФРАНЦИИ
Лилль
Одним из первых провинциальных приходов организовался приход в Лилле (в департаменте Нор). В городе католический университет. Для группы русских студентов В.Н.Лермонтова (родная сестра братьев Сергея, Евгения и Григория Трубецких) основала общежитие, выпросив для этой цели помещение у о.о.иезуитов. На чердаке иезуитского дома она устроила церковку, а студенты общежития организовали благочестивое содружество с церковным укладом: общая молитва перед трапезой и после нее, посещение церковных служб… Содружество проявляло и повышенную патриотическую настроенность — по окончании обеда, стоя лицом к портрету Государя, студенты пели «Боже, Царя храни!». Я осведомился: «Какого царя?» Мне объяснили: «Не царя, а идею монарха». Окормлял общежитие очередной разъездной священник, которого я посылал из Парижа (о.Иоанн Леончуков, о.Тимофеев, о.Фащевский…). Студенты составили хор. Постоянной организации не было.
В Лилле много русских рабочих, потребность в церковной организации назрела, и я подсказал студентам мысль объединиться всей местной русской эмиграции в общину. Однако что–то с общиной поначалу не удавалось. Завязался узел лишь в 1926 году. Первым ее священником был о.Димитрий Соболев.
Привез о.Соболева во Францию епископ Вениамин из Сербии и мне очень его расхваливал. К сожалению, лестного отзыва о.Соболев не оправдал. В приходе начались сплетни, дрязги, скандалы… На его место я вскоре назначил о.Иоанна Попова, распорядительного донского казака, толкового священника, с моральными устоями, с бытовыми привычками сельского батюшки. Он работал на автомобильном заводе, был шофером и лишь изредка служил по церквам. Я уговорил его поехать в Лилль.
О.Попов образовал в Лилле церковную общину, сплотив все элементы эмиграции. В чердачной церкви стало тесно, о.о.иезуиты давали понять, что существование православной церкви в их здании им неприятно… — и общине надо было подумывать о новом помещении. На помощь пришел протестантский пастор. Он уступил нам в здании кирки комнатку при библиотеке. Там до этой осени (1936 г.) наша церковь и помещалась.
Лилльский приход имеет ныне своеобразную конструкцию. Завязавшись в Лилле, он оказал влияние на окружающие местечки, где осели русские, и там вскоре возникли свои маленькие общины, приписавшиеся к Лилльскому приходу. Таких общин–приходов сейчас семь: Блан–Миссерон, Валансьен, Омон, Дане, Туркуан, Рубэ, Булонь сюр Мэр.
Священник по установленному порядку служит по очереди в этих городках по воскресеньям, а в праздники члены общин съезжаются в Лилль, в метрополию, а когда бывают общеприходские собрания, — делегируют своих представителей. Маленькая церковка была тесная, неуютная, неблагообразная; хотелось устроиться лучше, поудобнее, но при о.Попове ни один из проектов не осуществился. Он подал прошение о переводе в Южин (в Савое), его просьбу я удовлетворил, а на его место в Лилль назначил окончившего Богословский Институт целибатного священника о.Павла Пухальского. Бог помог о.Пухальскому быстро освоиться с приходом и собрать деньги на построение храма (вернее, о.Пухальский успешно закончил сборы, начатые о.Поповым). За одно лето в 3–4 месяца построили храм в честь святителя Николая Чудотворца, светлый, просторный, с куполом. Недавно, 29 ноября 1936 года, я освятил его.
На освящение съехались прихожане из всех окрестных городков. Торжество прошло с подъемом и дало всем участникам чувство удовлетворения. После скитаний по чужим углам — свое гнездо, «свой» православный храм!
Лилль город католический, по духу клерикальный центр того Движения, которое известно под именем католичества «восточного обряда». Возглавляют это Движение о.о.доминиканцы. Они усвоили практику православной церковности и организовали церковь «восточного обряда» (имени св. Василия Великого) при Center Dominicain d'Etudes Russes «Istina» и стали издавать журнал «Russie et Chretiente». Этой осенью церковь «восточного обряда» закрыли и доминиканский центр перевели в Париж. В последний мой приезд в Лилль на освящение храма я осведомился, много ли было за эти годы обращений в католичество. Мне ответили: «Мало… ничего у них не выходит».
Лион
В Лионе образовалась большая колония русских эмигрантов. Здесь много фабрик и в самом городе и в предместьях, преимущественно искусственного шелка (вискозы и окраски тканей), где работа хорошо оплачивается и не требует затраты сил, но связана с риском отравления.
В 1924 году из Константинополя в Лион приехал генерал Максимович с семьей. Максимовичи — потомки последнего прославленного перед самой революцией русского святого, святителя Иоанна (Максимовича) Тобольского, — семья религиозная, церковная. Уже в Константинополе генерал занимался церковной деятельностью, а в Лионе, в одной из комнат своей квартиры, открыл свою домовую церковь и выписал из Константинополя священника — о. Андрея Мишина, которого он еще там облюбовал. Властный, нетерпимый человек, генерал Максимович распоряжался в церкви, как помещик в своей усадьбе, и в конце концов вызвал протесты и нарекания со стороны священника и богомольцев. О. Мишин приехал ко мне с жалобой. Я поддержал его и посоветовал сорганизовать инициативную группу и устроить самостоятельную приходскую церковь; дал ему церковную утварь, антиминс… — все, что нужно. Прихожане сняли зал в помещении какого–то музыкального общества, где богослужение и наладилось. К сожалению, положение церкви бивуачное: иконостас после службы приходится разбирать. Потом возникли еще две приписные общины: в Дессин и в Поншерюи, где устроили хорошенький, маленький храм. О. Мишин, слабый, бестактный человек, поставить себя в приходе не сумел. Начались дрязги, ссоры, недоразумения, жалобы… Поначалу я поддерживал его, но потом убедился, что он пастырь не по приходу.
В Лионе проживала семья князей Оболенских. Княгиня, бойкая, энергичная особа, хотела явить себя церковной деятельницей и организовала школу. Когда я приехал в Лион, она меня пригласила к завтраку. Я дал понять, что следовало бы пригласить и священника… На завтраке произошел скандал. Член Приходского совета, бывший член Государственный думы Евсеев, вместо приветствия, разразился обвинительной речью против о. настоятеля. Я оборвал оратора: «Ваши слова — оскорбление гостеприимству… Я выслушаю вас, но в другой обстановке». Не умел о. Мишин противостоять и приходским распрям. Нельзя было на него и положиться, что он сумеет вести приход в столь бойком центре, как Лион. Католическое влияние в Лионе сильное. Город связан с именем св. Иринея Лионского, отца Церкви II века. Здесь были замучены в темнице священномученик Пофин, святая Бландина и др. В наше время это резиденция католического примаса Галлии архиепископа Лионского. О.о.иезуиты организовали в Лионе общину св. Иоанна Златоуста и поставили во главе о.Тышкевича. Католики обхаживали нашу молодежь и вели широкую пропаганду так называемого католичества «восточного обряда». Натиск Рима чувствовался… А тут еще «карловчане» открыли приход во главе с военным священником о.Пушкиным, бойким, бесшабашным человеком, который не прочь был и кутнуть со своими прихожанами из военных; приятный, близкий им по душе, он мог отвлечь прихожан от о.Мишина. Тогда я решил перевести о.Мишина куда–нибудь в другое место; он заупрямился, перешел к «карловчанам» и открыл приход, параллельный приходу о.Пушкина.
На место о.Мишина я назначил о.Луку Голода из Польши (бывшего Холмского священника). Он был в числе духовенства, не принявшего конкордата с польской государственной властью. За непримиримость посидел в тюрьме и был запрещен в служении; потом бежал за границу. О.Лука повел приход прекрасно, сумел сплотить прихожан, привить им чувство единства, стойкости, преданности своей вере и Церкви. Никакие соблазны — ни католические, ни карловацкие — прихода не смущали. К сожалению, о.Голод вновь отправился в Польшу бороться за непримиримость с польской властью.
Настоятельство в Лионе я передал о.Порфирию Бирюкову (из церкви галлиполийцев). Он с трудом справляется с приходом. В Лионе много эмигрантской детворы — на «елку» собралось до 600 детей, а приход до сих пор не сумел организовать школу… Дети утопают в волнах иностранной культуры, теряют язык, забывают веру. Живой, яркий период настоятельства о.Луки сменили серенькие приходские будни. А между тем в Лионе жизнь ставит перед приходом задачи весьма серьезные…
Марсель
В Марселе, в этом большом портовом городе, осело очень много русских. Большинство работало в порту — грузчиками. Жили беспорядочно, грязно, шумно, в лагере, так называемом «Camp Victor Hugo»: от военного времени остались пустые бараки столь ветхие, что ветер дул изо всех щелей и в бурю любой из них мог рухнуть.
Первый приход в Марселе имел свою церковь на корабле. В порту застряло несколько наших пароходов торгового флота. На одном из них была церковка, обслуживаемая братом капитана этого парохода Брилева — о.Петром Брилевым. Бывать в этой церковке обитателям «camp russe» было трудно: корабль где–то далеко в порту, когда до него еще из лагеря доберешься, церковь маленькая, тесная, надо брать в порту пропуск на корабль, а лагерная наша публика на глаза соваться портовому начальству не очень–то любит… — словом, ко мне стали поступать жалобы на все эти неудобства. Я дал распоряжение, чтобы о.Петр служил по очереди: одно воскресенье — на корабле, другое — в лагере; но о.Брилев (Одесской семинарии), почтенный старик, не очень энергичный и подвижной, распорядком этим тяготился. Тогда я решил основать второй приход уже в самом лагере.
Священником в этот лагерный приход я назначил о.Авенира Дьякова (из Вены [
[186]]). Церковь устроили в бараке «на курьих ножках». Бедно… щели… ветер гуляет… Случалось, собаки забегали. А барак, где жил священник, как–то раз ночью, когда задул мистраль, рухнул, как карточный домик. Проснулся о.Авенир — над головою небо… дождь льет. Сначала о.Авенир своим прихожанам понравился и сам с ними быстро сошелся. А потом пошли скандалы. Пьянство… — о.Авенир их не обличает… Я его уволил.
Вскоре наши корабли велено было продать. О.Брилев ликвидировал корабельный храм и вселился в лагерь. Было ему там нелегко — он привык к иной обстановке. Однако приходская жизнь при нем освежилась, он объединил вокруг себя лучшие элементы, нашел хорошего старосту, который устроил библиотеку. Неутомимо выпрашивая повсюду книги, стучась во все двери, староста набрал до 1000 томов, которые стали приносить приходу франков 500–600 ежегодного дохода (часть этой суммы шла на покупку новых книг, другая — в приходскую кассу).
Очередной катастрофой для Марсельской нашей братии было постановление городских властей — бараки сломать. Поднялся прямо вой… Что делать? Куда деваться? Кое–как стали перебираться в город. Для церкви и для батюшки сняли помещение. Заработки в порту у наших неплохие, безработицы почти нет, но работа грузчиков ужасная, изнурительная. Церковь для большинства наших собратьев единственное утешение. Старый батюшка у них пользуется заслуженным авторитетом и уважением.
«Карловчане» устроили параллельный приход и играют на струнках патриотизма и крайнего национализма. Храм они открыли имени святителя Гермогена. Когда король Александр Сербский был убит, первую панихиду служили «карловчане».
Кнютанж (Эльзас)
Весной 1924 года как–то раз на собрании Александро–Невского сестричества появился не знакомый мне священник и отрекомендовался о.Семеном Великановым. Первое впечатление он произвел на меня несколько странное. Длинные седые волосы, нервная речь, рваненькая ряса… Я узнал, что он приехал со своей паствой из Польши работать по контракту на огромный металлургический завод в Кнютанже (около Меца), во главе которого стоит директор monsieur Charbon, французский инженер, в свое время работавший на одном из заводов Донецкого бассейна и свободно владеющий русским языком. О.Семен и его паства — остатки русской армии, разоруженной в Польше. Там же, в Польше, архиепископ Владимир [
[187]] рукоположил его в священники и поставил во главе группы соотечественников. По приезде в Кнютанж русская колония расположилась в бараках, выпросив барак и под церковь. Хор (прекрасно спевшийся еще в Польше) русские рабочие привезли с собой. Церковь быстро устроилась, богослужение наладилось, а хор чудным своим пением стал привлекать в храм французов.
Осенью того же 1924 года я посетил Кнютанж.
Маленькая, чистенькая, убогая церковь… Чувствуешь, что все, до мелочей, создано трудами благочестивых бедных людей. О.Семен, ревностный, самоотверженный священник–бессребреник, приятно поразил меня своим горячим, ревностным отношением к пастырскому долгу. Осень… холодно… а он в одной рваненькой ряске (я подарил ему свою, хоть и моя была тоже не новая). Я узнал, что о.Семен живет в мансарде и питается кое–как; сам на спиртовке себе обед варит: один день кашу, другой — компот… «Очень удобно, — рассказывал он мне, — перед обедней поставлю кастрюлю на огонь, а приду из церкви: готово!» Рабочие поселки в окрестностях Кнютанжа, где тоже живут русские, он объезжает на Пасхальной неделе «на собственном автомобиле», т. е. попросту обходит их пешком. Немудрый, простой священник, но преданный пастве всей душой. Благодаря глубокому пониманию пастырского долга и подвижнической жизни он достиг крепчайшей спайки с приходом. Когда приходу нужны деньги для каких–нибудь неотложных нужд, о.Семен возит хор по ближайшим городкам и зарабатывает деньги. Впоследствии из церковного хора выделился другой под названием «Гусляр».
При церкви возникла школа для детей, которую назвали моим именем. Организовали ее солидно, не кустарно; развернули несколько отделов. Заведовал школой комитет во главе со старостой генералом П.Н.Буровым (теперь по профессии он маляр, и мне довелось его видеть подвешенным в малярной люльке с кистью в руках). Преподавательский персонал подобрался отличный, и дети поступали из школы прямо в иностранные лицеи.
Несмотря на бедность, приход имел своих стипендиатов в нашем Богословском Институте (о.Виктор Юрьев, ныне священник Введенской церкви, воспитанник Кнютанжа), посылал всегда делегатов на съезды «Христианского движения» и от времени до времени приглашал из «Движения» к себе докладчиков. Детский вопрос, благотворительный, просветительный — всему уделили внимание, все хорошо поставили. Церковноприходская жизнь процветала все эти годы, процветает и по сей день.
В первый приезд в Кнютанж я зашел к директору. От него я услышал самые хорошие отзывы о русских рабочих. «Скромные, честные интеллигентные люди и без претензий, — сказал директор. — И священник прекрасный, заслуживает глубокого уважения. Когда он о чем–нибудь меня просит, я не в силах ему отказать. Для этого достаточно мне просто его увидеть…» Не отказал директор, между прочим, в весьма важном — построил «Русский дом», в котором теперь помещается церковь и школа.
Свою ревность о.Семен простирает и за пределы Кнютанжа: в Нанси, где есть русские студенты, в Люксембург (там есть общинка в Эше), в Прирейнскую Германию (есть общинка в Саарбрюкэ). Всюду разъезжает без виз. «Крест надену — вот и вся моя виза…» — говорит о.Семен. Любящий отец для прихожан, он, однако, умеет, когда нужно, проявить и власть. Для любительского спектакля сестричество выбрало пьесу «Монашка» — о.Семен усмотрел в ней поношение монашеству и чуть было не закрыл сестричество. «Если так, не надо и сестричества!..» Не без труда я этот конфликт уладил.
Приход в Кнютанже я навещаю ежегодно. Он мое утешение. Каждый мой приезд и для меня и для прихожан, взаимно, радостная встреча и живое общение в любви…
Монтаржи
Неподалеку от Парижа (езды от Gare de Lyon часа два–три), в городке Монтаржи имеется большое предприятие резинового производства. Среди рабочих много русских. Каждый год под Пасху и под Рождество направлялась оттуда к нам петиция: просим прислать священника. Я посылал разъездного священника: о.Спасского [
[188]], потом о.Иоанна Церетелли (при котором община и преобразовалась в приход), затем о.Феодора Каракулина, из старых военных священников, участвовавшего в гражданской войне в составе Дроздовских частей (псаломщиком при нем в России состоял Виноградов, ныне архимандрит Исаакий). О.Феодор, хороший священник, правильно понимающий пастырские задачи, деловито принялся за устроение прихода.
Администрация завода дала барак для церкви (я приезжал на ее освящение), но барак этот, затиснутый среди других бараков, для нового своего назначения подходящим не был. Русское население в Монтаржи разношерстное. Далеко не все — люди верующие. Помню, служу я весной, окна открыты, из соседнего кабака доносится пьяное пение: «Пей, тоска пройдет…» Какая–то компания нарочно хулиганит, чтобы богослужению мешать.
О.Каракулин стал постепенно соотечественников перевоспитывать, старался влиять, вразумлять… — и преуспел. Понемногу церковь стала делаться центром русской жизни. В 1934 году купили кусок земли поодаль от бараков и выстроили прекрасный храм, просторный, светлый, с колокольней; вокруг него разбили цветник; а рядом, тоже на собственной земле, построили дом, в котором помещается теперь школа, зал для общественных собраний, библиотека. Почувствовалась под ногами твердая почва: свой храм, своя земля, свой «Русский дом»! Нет прежнего ощущения распыленной нищей братии, чувства заброшенности, бездомности… Появилось сознание сплоченности, моральной устойчивости. Займет, бывало, приход деньги у Епархиального управления на какие–нибудь церковноприходские нужды и регулярно выплачивает по 100 франков ежемесячно, пока все не выплатит. Случится ли среди прихожан какая–нибудь нехорошая семейная история, они к ней относятся не равнодушно, а укоризну свою сумеют проявить: регент оказался в своей семейной жизни не на высоте — певчие отказались с ним петь, а прихожане дали понять, что не хотят его больше видеть во главе хора.
Приход в Монтаржи такое же мое утешение, как и приход в Кнютанже. Я люблю там бывать. Атмосфера чистая, мирная, приятная. Приходская организация крепкая. Отношение к церкви живое и активное. Если бы все приходы были такие!
Бельфор (Эльзас)
Бельфор — большой промышленный центр в Вогезах, почти на границе с Германией. Здесь громадный завод военного снаряжения, а вокруг него еще много других заводов.
Бельфорскому приходу не посчастливилось. Налаживался он трудно. Первые два священника, которых я туда направил из Парижа, побыли там 1–2 месяца — и вернулись. Пастырство в Бельфоре было связано с лишениями, с беспокойной и неудобной жизнью, а они искали сравнительно благополучного существования. Ничего и не выходило, крепкого единения с прихожанами не возникало. Тогда я послал туда о.Андроника, идейного, серьезного иеромонаха.
О.Андроник сорганизовал приход, устроил церковь в предоставленном заводом помещении и привлек в орбиту Бельфорской церкви те окрестные поселки, где проживали русские: Пежо, Одинкур, Ромба, Сошо, Басмон и др. Простираясь все дальше и дальше, о.Андроник дошел до русской колонии в Безансоне и наконец до Страсбурга (тут русским отвели для богослужения комнату при ризнице в протестантском храме).
О деятельности о.Андроника в Бельфоре и о нем самом скажу несколько слов.
Монашеская нестяжательность у о.Андроника доходила до смущения принимать деньги за требы. Он решил добиться материальной независимости от прихожан и для этой цели снял дом с большим огородом, который его и питал. Технические его познания давали ему возможность кое–что подрабатывать и на заводе Пежо, где он выделывал какие–то гайки. Тем временем зрела в нем мысль о миссионерстве в какой–нибудь дальней стране. Стремление его осуществилось.
В Южной Индии русский инженер Кириченко купил небольшое поместье и решил заняться сельским хозяйством. Работая одновременно на заводе, он не имел возможности уделять своему имению должного внимания и запросил союз инвалидов в Париже, не найдется ли кто–нибудь желающий приехать поработать на ферме. Среди инвалидов желающего не оказалось, и о.Андроник предложил себя. На накопленные деньги он купил все, что нужно для церковного устройства, и с моего благословения, в качестве монаха–миссионера уехал в Индию. Он предполагал, что там осело немало русских, которые теперь нуждаются в духовной помощи. Верно, почти в каждом большом индусском городе есть русские, но нет на всю страну ни одного православного священника. О.Андроник стал работать на ферме, совмещая сельскохозяйственный труд с периодическими пастырскими разъездами по индусским городам.
После о.Андроника настоятелем в Бельфор я назначил молодого целибатного священника о.Стефана Тимченко, воспитанника нашего Богословского Института. Сильный, волевой человек, он прихода с высоты не спустил, на которую его поднял о.Андроник, — управлял им, вожжей не опуская. Его организаторский талант я отметил и послал его налаживать приход в Антверпене. На место о.Тимченко я направил в Бельфор о.Иакова Протопопова из Виши (из диаконов, окончивший Курскую семинарию).
Этот честный, но неширокого кругозора пастырь Бельфорским приходом овладеть не может. Он не умеет примирять враждующие стороны, не привык в конфликтах становиться выше партий, тогда как в этом мудрость священника и заключается: партии, течения, кружковщина… для священника существовать не должны. Раздоры раздирают бельфорцев. К приходским неладам примешалась борьба в благотворительных организациях из–за денежных отчетов и проч. Все же десятилетие существования прихода мы недавно отпраздновали. Впоследствии с назначением туда иеромонаха Сильвестра (Богословский Институт) [
[189]] жизнь прихода умиротворилась.
Крезо
Крезо — всемирно известный огромный пушечный завод (Шнейдера). Русских здесь скопилось очень много, и сейчас же у них явилась мысль устроить церковь. В 1924 году я получил оттуда письмо с просьбой открыть приход. Обстоятельства этому благоприятствовали.
Один из священников с корабля нашей эскадры, интернированной в Бизерте, протоиерей Николай Венецкий сообщил мне, что французы корабль хотят продать, и запрашивал: что делать с корабельной церковью? Я случаю обрадовался и, получив от о.Георгия Спасского [
[190]] хороший отзыв об о.Венецком, предложил ему испросить разрешения у французских властей на вывоз церковного имущества — и приехать в Париж. Отсюда я направил его в Крезо.
Так было положено основание этому приходу. К сожалению, первый блин вышел комом. О.Николай, благочестивый, хорошей души человек, оказался не на месте. До революции о.Николай был просто общительный человек, который не прочь провести время с моряками в кают–компании. До слабости к вину еще было далеко, она развилась после революции. Пробыв некоторое время в Крезо, о.Николай понял, что оставаться ему здесь невозможно, и покорно, смиренно ушел, попросив лишь об одном, — чтобы ему помогли уехать к друзьям в Сербию.
На место о.Венецкого я назначил архимандрита Харитона, товарища митрополита Антония по Духовной Академии. Он создал уже много приходов, считал себя опытным пастырем и замечательным организатором. За Крезо взялся смело, уверенно, что на этом маленьком приходе не осрамится. Однако на нем–то и осрамился… Бестактные его выступления разделили прихожан на его сторонников и противников, начались неприятности. Для укрепления прихода ему ничего сделать не удалось.
Первый, кто по–настоящему начал приход создавать и положил ему крепкое основание, был о.Николай Сухих, бывший вольнослушатель нашего Богословского Института. Пожилой человек, по профессии инженер, он оказался хорошим организатором. Практичный, опытный, честный, трудолюбивый работник. Он взял с собой в Крезо своего воспитанника — племянника Владимира Айзова.
В приходе о.Сухих внес мир и тишину. Открылась при церкви школка, организовался хор под управлением псаломщика В.Айзова. На Рождество устроили «елку», которая привлекла великое множество детей. Все были довольны.
О.Сухих всячески старался вывести в люди своего племянника, упомянутого Вл.Айзова. Он выпросил, чтобы я рукоположил его в диаконы, а потом после его женитьбы — в священники. Скоро он заменил о.Н.Сухих на должности настоятеля в Крезо. Ловкий человек, Айзов быстро взял в руки прихожан и мог бы сделаться для прихода полезным человеком, если бы не несчастье, которое на него обрушилось: жена от родов умерла, и о.Айзов остался с двумя малолетними детьми на руках. Он потерял голову. Первое время я боялся за него. Понемногу обошлось, прихожане приняли в нем участие, среди них особенно горячо отозвалась одна семья. Вследствие близости о.Айзова к этой семье пошли компрометирующие его слухи… О.Айзов оправдывался, уверял меня, что это клевета. Я потребовал, чтобы он покинул Крезо. О.Айзов просил перевести его в Тулузу и поручить ему организацию там приходов (в окрестностях Тулузы много русских ферм). Новое назначение моральной пользы ему не принесло. На некоторое время он вторично был назначен в Крезо, но потом должен был снять сан: он женился на той девушке, с которой молва уже давно связывала его имя.
В Крезо у о.Айзова оказался, к сожалению, весьма неудачный преемник — о.Владимир Соколов, священник авантюристического склада (из народных учителей). Он был рукоположен в священники в Карпатской Руси (в Чехии) епископом Вениамином, а потом перешел к епископу Савватию, который сделал его даже протоиереем (неизвестно за какие заслуги). Из Чехословакии о.Соколов явился ко мне в Париж и просил принять его в мою юрисдикцию. Зная его биографию, я отказал наотрез. Он уехал, но через некоторое время вернулся. Оказалось, он успел побывать и в унии, и у «карловчан». «Я все юрисдикции уже обошел, не знаю, что и делать. Пожалейте меня… примите!» — на коленях умолял он. Я потребовал всенародного покаяния и обещания в церкви — загладить прошлое дальнейшей своей жизнью. На Страстной, в нашем кафедральном храме на рю Дарю, он клялся посреди храма в одежде кающегося грешника (в подряснике), плакал, кланялся, припадал долу… И всенародно заявил: «Искал Правды, искал Истины, везде был, но лишь теперь обрел их…»
Я направил его в Крезо.
Ловкий, сметливый, он быстро там устроился. После Пасхи приход пригласил меня к себе. Приезжаю. Многолюдная трапеза. Прихожане дружно вокруг своего настоятеля, даже украинцы, которые раньше нас чуждались. Но что–то было в этом успехе дутое. Пыль в глаза… И верно, к осени все лопнуло. Начались в приходе стычки, скандалы, побежала об о.настоятеле дурная молва. Поездки в Дижон на автомобиле в веселой компании… слухи, что у него появились деньги… Я вызвал его и допросил. Он оправдывался: деньги присылают ему из Америки родственники. К моему заявлению, что он должен приход покинуть, он отнесся равнодушно: «Не очень в нем заинтересован, проживу и без прихода, только не гоните меня из вашей юрисдикции…» Он направился в Сербию. На пути, в Милане, на перроне вокзала повстречал каких–то своих знакомых, выскочил из поезда, махнул рукой на билет — и осел в Милане, где вскоре открыл приход.
После о.Соколова я назначил настоятелем в Крезо о.Германа Бартенева — батюшку из инженеров, кроткого, благочестивого, кристальной души. До принятия сана он давно искал Христа, вращаясь в «Христианском движении». Пришибленный жизнью, не активен и не в состоянии развить широкой деятельности. Но он внес чистоту образа православного пастыря, успокоил приход, а безупречность его репутации и уверенность в полнейшем его бескорыстии создают вокруг него чистую, морально здоровую атмосферу. Отсутствие богословского образования обрекало его сначала на беспомощность, недоумение в самых элементарных вопросах пастырской практики и вообще церковной жизни; тут он был, как в темном лесу. Однако постепенно о.Бартенев делается более опытным. Пребывание каждое лето в детских колониях, работа с молодежью приносит ему большую пользу, и он приобретает навык пастырского руководства.
У Крезо есть приписной приход — в Имфи (около станции Невер), где теперь существует небольшая, уютно и красиво устроенная церковь. Раз в месяц о.Бартенев посещает Имфи. Колония наша там небольшая, но сплоченная.
К Крезо приписаны еще четыре общины.
Южин (Савоя)
Южин — большой металлургический завод, расположенный в ущелье в горах Савой. Дым заводских труб стелется по узенькой долине, застревая меж гор. Воздух тяжелый, нездоровый. Русских рабочих в Южине много. Большинство их выписано по контракту с Балкан непосредственно самим заводским управлением. Когда у них возникла мысль об организации приходской жизни, администрация завода пошла навстречу и подарила барак под церковь. Сперва в церкви изредка служили священники, бывавшие в Южине наездами. Более прочную организацию наладил о.Иоанн Леончуков: он собрал первое Приходское собрание и провел выборы членов Совета.
Первым настоятелем Южинской церкви был о.Д.Соболев. Назначение его было ошибкой. Первого настоятеля надо назначать с особой осторожностью, чтобы не вышел «блин комом». О.Соболев хорошим примером для прихожан не был… Я отозвал его, а на его место отправил о.Александра Недошивина [
[191]].
О.Александр — бывший управляющий Казенной Палатой, действительный статский советник. Он никак не мог отделаться от навыков бюрократического формализма. Ему дали квартиру, — он в ней устроил канцелярию, назначил приемные часы, расставил стулья для просителей, псаломщик был у него за курьера и за докладчика; завел досье «по сбору денег», досье «по бракоразводным делам» и еще какие–то досье. Приемные часы, доклады и папки–папки–папки… а церковного творчества мало. Не было и понимания запросов и нужд прихода. Выйти из бюрократического футляра ему было трудно.
Настоятельство его совпало с Карловацким расколом. В Южине появились агитаторы. Приход заколебался. В приписной общинке, в Аннеси, о.Александр держал себя бестактно. Я увидал, что дело плохо, и послал в Южин о.И.Леончукова. Оппозиционеры хотели свергнуть Приходский совет, набрать своих и провести постановление о переходе в юрисдикцию «карловцев». О.И.Леончуков от этого приходского coup d'Ėtat [
[192]] прихожан удержал, сославшись на необходимость подождать с решением до конца срока полномочий существующего Приходского совета. Отсрочкой я воспользовался и направил в Южин о.Авраамия, умного, красноречивого и тактичного молодого иеромонаха (воспитанника нашего Богословского Института). Он объединил лучшие элементы прихода, взял его в руки и сумел привлечь к себе большую часть паствы. Когда же настал срок перевыборов Совета — я сам приехал в Южин и провел Общее собрание. Оппозиционеров удалось отвести, хоть они и подняли крик по моему адресу: «Большевик!.. большевик!..» [
[193]] В новый состав вошли прекрасные, крепкие люди. И старосту выбрали отличного.
В этот приезд я вошел в контакт с администрацией завода. Меня поместили в том помещении заводского дома, где останавливается инженерная «элита». Chef de personnel принял меня любезно и обещал свое содействие, если бы понадобилось поддержать религиозную жизнь среди русских.
Постепенно приход окреп. Молодой настоятель, живой, горячий, но приятный в обращении, сумел сплотить прихожан вокруг себя. Организовалась прекрасная школа, которую поручили опытной учительнице–фребеличке. К сожалению, через несколько лет я огорчил приход, отняв от него о.Авраамия… Я послал его в Африку с миссионерской целью, считая ее соответствующей его монашескому пути. Однако там никакой миссионерской работы нет, а прихожан мало. Сколько раз я слышал укоризну от южинцев: «Зачем вы взяли от нас о.Авраамия!»
На место о.Авраамия я назначил о.Алексея Медведкова (из Эстонии). Старый протоиерей, хороший, благочестивый батюшка, но столь придавленный нуждой, забитый, запутанный в семейных своих делах, что он духовно опустился. С ним приехала в Южин работать по контракту целая группа рабочих — весьма деморализованная компания, которая его терроризировала и не выпускала из своего окружения. О.Медведков прослужил года три–четыре и умер.
Преемником его я назначил протоиерея Иоанна Попова (из Лилля), священника из казаков. Эстонская группа заявила мне протест: «Какого–то казака нам прислали!» Я им ответил: «Прислал протоиерея». О.Попов оказался между двух группировок: казаками и эстонцами. В прошлом году ему пришлось пережить ужасное потрясение.
При очередной проверке церковных сумм о.Попов обнаружил недочет в 2000 франков. Староста умолил его об этом не разглашать, обещая растрату покрыть. О.Попов молчал, удостоверившись, что староста понемногу растрату покрывает. Однако Церковный совет про беду прослышал и привлек старосту к ответу. Тот покаялся, обещал все выплатить. Вскоре он заболел, его отправили в лазарет. Болезнь, какая–то загадочная, оказалась смертельной. Он исповедался, а через два–три дня умер. Перед смертью будто бы им была написана бумага, которая по его кончине оказалась в руках Карловацкой оппозиции. В бумаге этой староста заявлял, что в растрате виноват священник, вымогавший у него деньги; что он запутался, но теперь хочет вскрыть всю правду… (Несомненно, бумага была подсунута умирающему для подписи, чтобы свалить о.Попова.) Эту бумагу стали распространять по всему Южину. Пошли толки: старосту убил священник… он вымогал… он толкал… Пустили слухи, что староста отравился (хотя больничный доктор это категорически отрицал). Чтобы покончить со всем этим кошмаром обвинений, о.Попов обратился к управлению завода с донесением о случившемся и собрал экстренное Приходское собрание (не под своим председательством) для расследования тяготевших над ним обвинений. Он представил убедительнейшие документы о своей дружбе со старостой, об обещании своем молчать во имя дружбы, привел исчерпывающие доказательства своей невиновности и так хорошо защищался, что все обвинения отпали, обнаружив свою клеветническую подкладку. Тягостная эта история имела хорошее последствие — управление завода ввело «суд чести» для разбора впредь всех дрязг в русской колонии; лишь на основании обвинений, установленных «судом чести», администрация делает свои заключения об увольнениях, выговорах или штрафах. Председателем первого «суда чести» был избран о.Попов. «Карловчане» неистовствовали, бегали по баракам, сплетничали, клеветали, — но тщетно.
Прошлой осенью (1936 г.) я съездил в Южин, чтобы поддержать о.Попова и поговорить с администрацией. Chef du personnel сказал мне: «Выражаю вашему священнику наше сочувствие… Мы знаем, что все обвинения ложь и клевета». Так окончилось тяжкое испытание, выпавшее на долю о.Попова.
Южин — один из любимых моих приходов. Когда летом случалось мне отдыхать в Савое, я всегда пользовался случаем, чтобы там побывать. С какой любовью, с какой ласкою, как родного, меня там встречают! Бедные рабочие семьи приглашают меня наперебой. Обеды, завтраки, чай… «Я для вас курочку приготовила!» «Я для вас пирог спекла…» Добрые, гостеприимные хозяйки (среди них много казачек) стараются меня угостить, побаловать. Я уезжаю оттуда нагруженный грибами, вареньем, разными гостинцами. Когда долго не приезжаю, из Южина летят письма:«Почему вы нас, Владыка, забыли?.. почему не приезжаете? Мы заждались…»
Гренобль (Изер)
Сначала общину в Гренобле обслуживал священник Лионского прихода о.Мишин, потом у русской колонии явилась потребность иметь собственную приходскую организацию.
В это время появился на горизонте иеромонах Герасим. Он работал на заводе в Виши, где его длинные волосы и шапочка были предметом насмешек. Мне было его жаль, и я препроводил его в Лион к о.Мишину, чтобы он пообучился церковным службам (служил он плохо), затем я поручил ему окормлять Гренобль и общинки в Риве и Риу–Перу впредь до выяснения, в котором из этих трех русских центров организовать приход [
[194]].
Гренобль — большой университетский город, а Рив и Риу–Перу — заводские поселки в ущелье Савойских гор; на дне его — речка, вдоль нее вытянулись унылые заводские строения. Высокие горы давят… Место дикое, жуткое. Дымно, мрачно, скучно…
Я поручил опытному о.Леончукову осмотреть все три общины. В результате я решил открыть приход в Гренобле и назначил настоятелем о.Николая Езерского (бывшего члена Государственной думы первого созыва).
Для прихода этого о.Езерский сделал много. Искренний, пламенный, хороший, он умел будить, шевелить прихожан, а в прошлом, в земской работе, он приобрел навык ревностно относиться к благотворительной стороне общественной жизни. Когда закрыли завод и началась безработица, он быстро организовал комитет помощи и умело повел дело. К сожалению, о.Езерский был неопытный священник, в нем сильно сказывался светский человек, обидчивый, самолюбивый, со специфически интеллигентским взглядом на роль общественности. Нет–нет и возникали у него в приходе трения. Когда освободилось место в Берлине, я направил его туда, а в Гренобль назначил о.Георгия Шумкина. О.Г.Шумкин раньше много работал в «Христианском движении», и я надеялся, что он может объединить под своим руководством молодежь в Гренобле (там есть русские студенты в университете и другие организации молодежи). Но это не удалось.
О.Шумкин, хороший, прекрасной души священник, прихода не поднял. Ему не хватает необходимой для этого активности. Его матушка, заведовавшая прежде девичьей дружиной при «Христианском движении», в противоположность мужу очень активна и бойка. Почему–то в «Христианском движении» ее невзлюбили, и в Гренобле тоже она вызывает критическое отношение: некоторые чрезмерно строгие прихожанки находят, что ее внешний вид противен благочестию.
Этой осенью я побывал в Гренобле. Живут Шумкины бедно. Нашли подспорье в куроводстве. Матушка развела двести кур. С ними у нее возни много, приходится вставать рано утром. У о.Георгия я ночевал. Комната нетопленая. Печей нет. Стал он переносную печурку раздувать — ничего у него не выходит: дым в комнату валит, смешиваясь с запахом пригорелого жира, которым пропитана вся квартира.
Приходская жизнь в Гренобле теплится, но и только.
Общинка в Риу–Перу, приписанная сначала к Греноблю, пожелала потом сделаться самостоятельным приходом. Когда я получил от нее заявление о ее желании отложиться от Гренобля, я послал туда о.Д.Соболева.
Заводское начальство, желая поддержать русского священника, предоставило ему какую–то канцелярскую работу в бюро. К сожалению, о.Соболев не умел держать себя с достоинством. Администрация и сослуживцы не считались с его саном…
Я приехал, огляделся — и закрыл приход, а о.Соболева уволил: он портил все приходы, куда я его посылал. Тогда он ушел в «петельскую» церковь. Риу–Перу осталась приписной общиной.
Бывать в Риу–Перу я люблю. Захолустье. Ощущение заброшенности среди гор, разобщенности с миром, точно все об этой горсточке русских людей забыли. Труд тяжелый. От гудка до гудка — однообразный, восьмичасовой рабочий день. Денные–ночные смены… И так из месяца в месяц, из года в год… — беспросветно. Бесконечные серые будни. Вне работы — вино, дрязги, сплетни, трогательные убогие развлечения, жалкие «романы»… И все же беспомощность как–то препобеждается, каким–то образом русские люди, несмотря на дрязги, держатся вместе. Способствовало спайке и авторитетное в колонии лицо: генерал Л.А.Ильяшевич. Администрация завода дала под церковь помещение, и прихожане соорудили маленькую церковь имени святого Тихона Задонского. Приезд архиерея в эту глушь — необычайное событие, торжество, к которому готовятся задолго.
Приезжаю… Встречают детки с цветами. Приглаженные, принаряженные, в чистых платьицах. Я шучу с ними: «Вы сами цветы… вы лучше этих цветов…» Тут же, чуть поодаль, теснится марокканская детвора. Спрашиваю, указывая на марокканцев: «Что же, у вас с ними междуусобная брань?» Дети молчат. «А вы не поддавайтесь… — продолжаю я, — вы русские, вы бы им хорошенько!..» После этих слов сразу официальности конец — я им «свой». Иду в церковь. Она вся в огнях. На пороге встречает батюшка. В приветственном «слове» дает характеристику прихода: состояние храма, пожертвования, преобразования, какие печали–радости в приходе, что нового произошло и т. д. Потом следует молебен святому Тихону Задонскому, а по окончании его я беседую с прихожанами. Содержание своего обращения к ним черпаю из обстановки. Говорю, что думаю, о их труде, о буднях их жизни; где надо искать поддержки, утешения; говорю о России, об ожидании лучшего будущего… (О терпении говорю тоже, но вскользь: неловко как–то этим людям много говорить о терпении…) Если из речи священника я узнаю о каких–нибудь волнующих прихожан местных делах — беседую о них. Потом меня ведут в школу. Я спрашиваю у детей молитвы. Осведомляюсь у учительницы, как ведется обучение Закону Божиему, что дети читают, как читают и т. д. Беседую с детьми, стараясь применяться к их понятиям. После школы — трапеза в кантине. С трогательной заботливостью приготовлено угощение: большой стол уставлен закусками, бутылками… Тут надо есть, что дают. Гостеприимство ласковое, душевное… Теперь я уже беседую с ними попросту. Какие заработки? Много ли безработных? Собеседники наперебой рассказывают о своем житье–бытье. Трудную жизнь несут эти люди. Семейным легче, а холостым, одиноким нелегко. Вся беда в том, что, живя в Риу–Перу, свою семью основать не всегда и удается: нет невест. «Дайте нам невест!…» — вздыхают одинокие труженики.
Потом меня ведут в какой–нибудь барак. В Риу–Перу всюду тепло. Его электрическая станция подает энергию на весь департамент, и в районе завода жги электричество, сколько угодно. Иногда прихожане с большим достатком приглашают меня к себе на «чай». Везде то же радушие, то же гостеприимство.
Кроме Риу–Перу и Ривы возникли еще приписные к Греноблю две общинки в окрестностях его: Аржантьер и Валенс. В горах, на высоте 2000 метров, живут русские, человек 15–20, они устроили церковку и приписались к Греноблю.
Виши
В Виши у нас была церковь еще до Великой войны — не постоянная, а временная, которая открывалась только на время лечебного сезона. Бойкий курорт привлекал много русских. Помещалась церковь в нанятом доме, а обслуживал ее священник, командированный Петербургским митрополитом (обычно один из иеромонахов Александро–Невской Лавры). Теперь в Виши скопилось несколько сот русских: рабочие местной фабрики.
Получив от этой русской колонии слезное послание с просьбой присылать священника на большие праздники: на Рождество, на Пасху… я направил в Виши архимандрита Иоанна Леончукова [
[195]]. Он съездил, осмотрелся и завязал переговоры с заводской администрацией; она любезно согласилась предоставлять для этих праздничных служб гараж. Потом общинка пожелала, чтобы священник приезжал ежемесячно (один–два раза), и приписалась к соседнему приходу в Монтаржи. Установился известный порядок, согласно которому священник служил то там, то в Виши.
Неподалеку от Виши находится город Клермон–Ферран, большой железнодорожный узел, обслуживаемый целой дружиной русских грузчиков. Я послал туда на разведку архимандрита Иоанна Леончукова, чтобы выяснить, где организовать приход — здесь или в Виши. Решено было открыть приход в Виши. Там и народу было больше, и колония была сплоченней. Решающим обстоятельством в пользу Виши было и великодушно сделанное нам местным протестантским пастором предложение — воспользоваться подвальным помещением кирки. Сухое, просторное помещение при электрическом освещении выглядело совсем неплохо. Мы с благодарностью им воспользовались. Наш друг и благодетель, пастор позволил нам организовать там постоянную церковь.
Церковь устроили премилую. Хорошие иконы, хорошая утварь… — все хорошо. Протоиерей Сергий Орлов, настоятель Женевской церкви, неизменно, в течение ряда лет приезжавший лечиться в Виши, уделил нам кое–что из своего церковного имущества.
Первым самостоятельным и постоянным священником в Виши был о.Феодор Поставский, немолодой, опытный, хозяйственный человек. В России (в Киевской губернии) он вел когда–то большое сельское хозяйство, и практические навыки помогли ему и теперь все быстро наладить. Он подружился с пастором и завязал самые хорошие отношения с прихожанами. В дни разрыва с «карловцами» приход не дрогнул, несмотря на присутствие в Виши «карловчанина» о.Орлова. Впоследствии о.Поставский нашел себе другое место (в Виши материально ему было трудновато). Одна французская помещица приняла православие и пригласила его к себе в Нормандию в качестве священника и управляющего ее имением.
Преемником его в Виши стал о.Феодор Текучев (воспитанник Богословского Института). Юный, неопытный, экзальтированный молодой иеромонах. Он находился всецело под влиянием своего «старца», епископа Вениамина, который в своем духовном руководстве не умел вести спокойной линии, а уклонялся в экзальтацию. Когда возник у меня конфликт с митрополитом Сергием, о.Феодор меня покинул, сославшись на полученное от епископа Вениамина повеление. «Я вас неизменно люблю… — писал он мне, — но я исполняю волю моего старца. Его веление — веление самого Бога…» Приход в Виши опять остался без настоятеля.
Среди местных рабочих был один бывший семинарист Яков Протопопов. Он окончил семинарию еще в России. О.Поставский дал мне о нем хороший отзыв. Я рукоположил его в диаконы, а потом, после ухода о.Ф.Текучева, — в священники. Сначала все шло хорошо, но потом прихожане стали делиться на его сторонников и противников. Никаких серьезных оснований для отчужденности от него не было, а только инстинктивный отказ некоторых лиц признавать авторитет священника за бывшим товарищем по работе, с которым привыкли быть запанибрата: «Мы с ним еще недавно переругивались и по бистро сидели… Не пойдем к нему на исповедь». А сторонники мотивов отказа не понимали и возмущенно говорили мне: «Что он сделал? Никаких обвинений!.. Неужели вы допустите несправедливость?» Я не учел доводов оппозиции, не придал значения вопросу престижа, тогда как это вопрос тонкий и сложнее, чем кажется, и настоял на формальной справедливости. Тогда группа противников откололась и организовала свою церковь у «карловчан». Язву раскола заводить легко, а лечить ее трудно. Я перевел священника в Бельфор, а на его место в Виши поставил священника Павла Волкова (окончившего Богословский Институт). Мой земляк, сын тульского купца, пожилой уже человек, по темпераменту флегматичный, честный, хороший батюшка, он умиротворил прихожан, сгладил кое–какие недоразумения, но «карловчане» все же остались. Наш приходик маленький, но колония Клермон–Феррана, присоединившись к нему, его пополняет; помогает и лечебный сезон, привлекающий кое–кого из русских. Все это и дает приходу возможность существовать. Протоиерей Орлов, приезжая в Виши лечиться, неизменно подчеркивал свое отрицательное отношение к нам и поддерживал своих друзей «карловчан».
Ромба (Мозель)
Огромный металлургический завод. Громадные доменные печи… Шахты… Много русских рабочих. Сначала община была приписана к Кнютанжу, и ревностный о.С.Великанов [
[196]] приезжал ее обслуживать, потом она решила организоваться самостоятельно. Заводское управление отнеслось к проекту благожелательно и уступило под церковь каменное здание, а о.Великанов по–братски уделил церковке все, что мог, из утвари и облачений.
Первым настоятелем в Ромба был пожилой протоиерей Григорий Гончаров. Его сын, инженер, служил на местном заводе, недурно зарабатывал, и о.Гончарову жилось неплохо. Но свои священнические обязанности он нес без увлечения, без малейших творческих попыток. Когда я впервые посетил приход, я увидал удручающую картину. В церкви пыль, паутина… — полное запустение. И моральное состояние колонии самое печальное. Винить людей нельзя: глушь… развлечений нет… Труд тяжкий, беспросветный… Семейных на всю колонию два–три дома, остальные рабочие — холостяки (большинство врангелевские солдаты). Пьянство, разнузданность, мрачная беспечность людей, которым терять нечего. И при этом развале отсутствие пастырской попечительности, энергии, бездеятельность о.настоятеля… О.Гончаров ни поднять, ни отрезвить прихода не мог. Он понял свою вину и просил перевести его в Деказвиль к другому его сыну–инженеру. Преемника ему в Ромба я никого не назначил, а впредь до приискания подходящего священника приписал опять приход к Кнютанжу.
Тут на горизонте появился племянник бывшего гродненского губернатора [
[197]] — о.Вячеслав Зейн. Он принял священство в Сербии. Я имел несчастье поручить ему приход в Ромба. Когда–то он был частным приставом и усвоил полицейские замашки… «Вы понятия не имеете, что значит быть священником!» — сказал я ему. Он подал прошение об увольнении. Я предложил ему уехать обратно в Сербию, но он пытался выпросить у меня позволение на устроение в Вердене церкви св.Евлогия, архиепископа Александрийского. Я отказал, и он уехал в Сербию.
В Ромба я направил о.Луку Голода [
[198]]. Начался краткий, но цветущий период. Все преобразилось до неузнаваемости. Атмосфера очистилась. Пьяницы присмирели. Беспорядка и запущенности в церкви как не бывало… В безнадежно мрачном приходе посветлело. О.Лука дал прочную организацию, сумел создать вокруг церкви трезвое окружение. За его заслуги я перевел его в более видный приход — в Лион, а в Ромба назначил молодого священника о.Павла Пухальского [
[199]] (окончившего Богословский Институт).
Сперва я несколько молодости о.Пухальского боялся, но он оказался самостоятельным, энергичным и твердым. Много внимания он уделил благоукрашению церкви. Отличный резчик, рисовальщик, техник и вообще мастер на все руки, он кое–что разрисовал и раскрасил, кое–где приладил электрические лампочки — и церковь приобрела нарядный вид. Прихожане о.Павла полюбили. Группа казаков–пьяниц попыталась организовать оппозицию, но без успеха. Дело было в том, что о.Пухальский, несмотря на молодость, повел приход твердой рукой и за беспробудное пьянство лишал права участия в Приходском собрании. Влияние его настоятельства было, несомненно, благотворным. Я перевел его в Лилль.
Теперь во главе прихода в Ромба стоит священник Михаил Яшвиль, чудаковатый, но прекрасной, кроткой души батюшка. Авторитетом он не пользуется, и не очень–то прихожане его слушаются, но его любят и с ним ладят. Когда случается ему сказать пастве несколько слов, он говорит не красноречиво, но от всей души.
Коломбель (Кальвадос)
В Коломбеле, значительном заводском центре Нормандии, в департаменте Кальвадос, церковная жизнь началась так же, как почти всюду — с вызова священника на большие праздники. Я посылал о.Гавриила Леончукова, протоиерея Чернавина, о.Фащевского, о.Шефирцы и, наконец, о.Георгия Спасского. Обычно приход возникает от религиозной ревности и творческих дарований командированного священника. Один приедет, механически отслужит праздничные службы — «и с колокольни долой»; другой зацепится, начинает завязывать связи с богомольцами, располагает их к созданию прихода. Таким зачинателем прихода в Коломбеле был о.Георгий Спасский [
[200]].
Местная заводская администрация, равнодушная к вопросам христианской веры, проявила, однако, полную готовность поддержать религиозные побуждения русских рабочих, учитывая культурно–просветительное и морально–отрезвляющее влияние церкви на рабочую массу. С честными, трезвыми, морально–приподнятыми рабочими иметь дело приятнее, и труд таких людей производительней.
Когда выяснилась реальная возможность организовать храм и приход, я послал постоянного священника — протоиерея Д.Троицкого (из Берлинской Тегельской церкви). При нем началось устроение церкви. Заводское управление, в лице директора М.Morett'а и его помощника М.Meunier, проявило исключительную щедрость: нам не только дали место для построения храма, но отпустили и средства (около 80000 франков) на его сооружение. Один из инженеров, женатый на русской, М.Dhôme, пожертвовал 9000 франков, А.С.Чудинов из симпатии к о.Троицкому, которого он знал по Ницце, прислал 1500 франков; создался солидный денежный фонд, и решено было строить просторный каменный храм с цветником вокруг церкви. Таков был проект. К сожалению, к концу постройки, когда она была уже под крышей, началась тяжба. О.Троицкий, человек неуступчивый и властный, понимал авторитет священника слишком внешне. Это повело к столкновениям с инженером Григорьевым, главным деятелем по построению храма и лицом, настолько пользовавшимся доверием у администрации завода, что он был посредником между французской и русской стороной. Я послал о.Н.Сахарова из Парижа умиротворять тяжбу, но из этого ничего не вышло. После обсуждения конфликта на Епархиальном съезде я перевел о.Троицкого в «Русский дом» в Сен–Женевьев, а в Коломбель направил протоиерея Иакова Ктитарева из Шарлеруа (Бельгия).
О.Иаков быстро утишил взбаламученное море, пристыдив тяжущихся. «Стыдно завода! Он столько для нас сделал, проявил такое великодушие, а мы — споры, дрязги, ссоры…» Постройка закончилась, и перед Рождеством (1927 г.) мы храм освятили. Не будь этого печального конфликта, который длился 5 месяцев, храм был бы уже летом освящен.
О.Ктитарев большого влияния на приход не имел; считал его не по себе и стремился в Париж. И я скоро, в 1928 году, назначил его в Бийанкур [
[201]], а в Коломбель послал священника Михаила Соколова, окончившего Богословский Институт. О.Михаил — прекрасный священник–идеалист, готовый всю душу отдать пастве. Матушка его тоже редкая: тактичная, просвещенная, умная, оказывающая доброе влияние и на своего мужа и на весь приход. Первое время о.Михаилу было тяжело. Многое, чему он бывал свидетелем, его по молодости лет удручало. Он приезжал ко мне и со слезами рассказывал, какое равнодушие, какое невнимание к церкви наблюдается среди русской колонии, какое пьянство… «Служишь постом в пустой церкви, доносятся пьяные, грубые песни, раздается под окнами нарочитая, во всеуслышание, отвратительная ругань…» И все это безобразие о.Михаил с Божией помощью преодолел. Теперь прихода не узнать. Благоустройство, благонравие, просветительные организации. Открыта школа для детей. Храм во имя Преподобного Сергия Радонежского окружен прекрасным цветником, с тропическими растениями, с клумбами… Завод дал еще кусок пустыря, чтобы его обработали. Приход на церковной земле выстроил «Русский приходский дом». Еще раньше здесь же была устроена колокольня, приобретены колокола; в нижнем этаже колокольни помещается библиотека, комната для заседаний Приходского совета и комната для сторожа. О.Михаил пользуется полным уважением прихожан и заводского управления. Он умеет умиротворять, сглаживать углы и обходить «камни преткновения». Когда параллельно общей приходской школе прихожане–казаки открыли свою, станичную, — о.Михаил, не споря с сепаратистами, начал обучать детей в обеих школах.
Недавно, осенью 1936 года, я был приглашен на торжественное празднование десятилетия прихода, и в ознаменование юбилея прибили при входе в церковь мраморную доску. На торжестве присутствовали все главные инженеры завода, давшего средства на постройку церкви. Много лестных отзывов наслышался я от них о батюшке, о прекрасном храме, о русских тружениках…
О.Михаил пригласил отличного живописца, который украсил всю церковь стенными иконами. Главная икона — изображение в рост человеческий Преподобного Сергия Радонежского; вокруг нее небольшие иконы его учеников: каждая из них дар, принесенный Коломбельскому храму монашествующими друзьями о.Михаила из Богословского Института. Инженер Григорьев, один из главных тружеников по постройке храма, опоясал церковь тропарем Преподобному Сергию, написав его славянской вязью.
Вокруг Коломбеля возникло много общинок: в Гавре, Руане, Довилле, Диве и т. д. Летом о.Михаил разъезжает по всем этим местам, посещая паству своего обширного приходского района… (см. примеч. с.447.)
Канн ля Бокка (Альп Маритим)
О возникновении этого маленького прихода я уже говорил [
[202]]. Отделившись от Канн, в наемном помещении прихожане устроили прекрасную церковку в русском стиле имени святого Тихона Задонского. Настоятель о.Алексей Селезнев, батюшка хороший, пользующийся уважением своих немногочисленных прихожан, держится крепко вместе со своей маленькой паствой, противостоя «карловчанину» о.Остроумову, настоятелю Каннской церкви, которого «карловчане» в 1936 году сделали архиереем. В этом году я сделал о.Алексея протоиереем.
Тулон
Сначала в Тулоне возникла община и приписалась к Марсельскому приходу. Основание ей положил о.Брилев [
[203]]. Потом она зажила самостоятельно. Я послал тулонцам о.Михея. По рождению русский, он принял католичество, учился у бенедиктинцев в Амэй (Бельгия), где его воспитали в «восточном обряде». Несколько «амейцев», в том числе он, Бальфур… — перешли в православие. О.Михей принял монашество. По психологическому складу фантазер с уклоном к авантюризму, он сперва служил в обители «Нечаянная радость», но его свободолюбие наткнулось на строгую уставность игуменьи м.Евгении — возникли недоразумения, и я отослал о.Михея в Тулон.
Там он сейчас же приступил к устроению церкви. Отыскал помещение в старой, предназначенной на слом, тюрьме и устроил премилую церковку и при ней комнатку для себя. Политические его тенденции нашли отражение в некоторых деталях церковных украшений: флаги, знамена, двуглавые орлы над алтарем… Поначалу прихожанам он понравился, некоторые лица, особенно дамы, увлекались его фантазиями — католическими выдумками и вообще католическим оттенком внешних и внутренних церковных отношений с паствой; Но вскоре увлечение поостыло, даже сменилось возмущением: католик!.. иезуит!.. католический шпион!
Как раз в это время сорганизовалась партия русских переселенцев в Парагвай. Они подыскивали водителя. На эту роль о.Михей со своими авантюристическими наклонностями был подходящим человеком. Он быстро очаровал своих будущих спутников. Мы отслужили молебен, о.Михей сказал прочувственное «слово», переселенцы плакали, прощались… Доехали до Парагвая не все. О.Михей с дороги писал о тяжелых перипетиях далекого путешествия. Он добрался до Рио–де–Жанейро, завязал отношения с местным протоиереем о.К.Изразцовым, потом оказался в какой–то неясной юрисдикции. «Я объединяю вас и карловчан…» — писал он мне и прислал фотографическую карточку, на которой он снят в каком–то непонятного покроя белом одеянии… С тех пор я не имею о нем никаких сведений.
Временно я приписал пустующий Тулонский приход к Марселю, а потом вновь сделал его самостоятельным, направив туда о.Михаила Яшвиля [
[204]]. Однако о.Михаилу было в Тулоне не по силам. Приход он застал разложившийся. Кроткий, смиренный о.Михаил страдал от этого, но помочь беде не мог. За время пребывания его в Тулоне он с увлечением принялся изучать французский флот и достиг в этом направлении блестящих результатов. Любил он в часы досуга и поиграть на виолончели.
Я вернул о.Яшвиля в обитель «Нечаянная Радость» к м.Евгении, а оттуда вызвал о.Илариона Титова. Он был когда–то старообрядческим начетчиком, потом перешел к нам, но раскольничий, миссионерский дух в нем остался. Умный, необразованный донской казак, он был человек со внутренним содержанием, со способностью окружающих людей воодушевлять, а когда надо, и подтянуть. Строгая уставщица м.Евгения была сначала от него в восторге. Он требовал от прихожан дисциплины, и, если после исповеди (накануне вечером) причастницы к началу обедни опаздывали и приходили к Евангелию, он после возгласа: «…со страхом Божиим и верою приступите…» удалялся со Святой Чашею в алтарь. На ропот и жалобы возражал: «Никаких причастниц не было. Причастницы пришли бы к началу обедни, приуготовили бы себя молитвой… Нет–нет, никого не было».
В Тулоне о.Илариону было нелегко. Русская колония пестрая, разбитая на организации. Кого–кого там только нет: младороссы, «Союз нового поколения», «Общевоинский союз»… Тут надо уметь стоять выше партий и кружков. К сожалению, о.Титов брал одну из сторон, и потому раздоры в приходе не прекращались. Поднялся спор о знаменах: вносить их в церковь или не вносить? Спор превратился в ссору. Не ладилось и с церковным помещением. Тюрьму стали сносить, и нам было предложено помещение очистить. Бедный о.Титов в это время тяжко заболел (4 месяца пролежал в больнице), ликвидацию церкви произвели кое–как. Церковное имущество свалили в кучу в одной из камер. Ко мне поступили жалобы: «Батюшка болен, а приход пропадает…» Я направил протоиерея Церетелли (из Ниццы) на ревизию. Положение в Тулоне оказалось весьма печальное. Батюшка лежит больной, приходские раздоры в полном расцвете, а церковные вещи валяются в пыли и грязи на съедение мышам в одной из тюремных камер. Надо было найти какой–нибудь исход из создавшегося положения.
Княгиня Марина Петровна Голицына (дочь Великого Князя Петра Николаевича) почитала о.Титова. Когда он был еще здоров, она нередко приглашала его к себе, беседовала с ним часами. Теперь она хотела приютить его больного у себя на вилле в Сан–Ремо. Но о.Титов, свободолюбивый, упрямый казак, предложение отклонил из страха, как бы в доме покровительницы ему не потерять своей казачьей независимости. Я уволил о.Титова на покой. Он очутился в бедственном положении: ютился в грязной, вонючей комнате с разбитыми оконными стеклами и жаловался всем на свою горькую долю. Его ламентации вредили его преемнику, давая повод неосведомленным людям подозревать, что учинена по отношению к о.Титову какая–то несправедливость.
Настоятелем в Тулоне с декабря (1936 г.) состоит священник о.Вл.Пляшкевич (окончивший Богословский Институт). Первое донесение от него было хорошее [
[205]]. Он с состраданием относится к потонувшей в раздорах Тулонской пастве и к больному о.Титову.
Тур (и Анжер)
Перед Пасхой 1928 года я получил из г.Тура письмо от нескольких русских с просьбой прислать к Светлому Празднику священника. Я направил о.Афанасия (Богословского Института), талантливого, толкового иеромонаха (впоследствии он перешел к «петельцам»). Он быстро освоился и представил мне доклад. Русская колония в Туре и Анжере малая (всего человек двести), бедная, но желание создать общими силами церковное объединение было искреннее. О.Афанасий съездил на завод в Saint Pierre de Corps (предместье Тура), переговорил с заводской администрацией и получил барак с комнатой для священника. Так было положено основание прихода в Туре.
В это время подвернулся афонский иеромонах Варнава, бывший тульский крестьянин. На Афоне он был аптекарем, случалось, ездил в Константинополь с поручениями от монастыря. Простенький монашек доброй жизни, не аскет, человек практического типа. Я направил его в Тур. Одну неделю он служил в Туре, другую — в соседней приписной общинке, в Анжере. Церковная жизнь в обоих русских центрах небойкая, без особого воодушевления. О.Варнава никаких нареканий не вызывает, но и влияния на паству не оказывает. Почетный попечитель церкви князь В.Н.Шаховской, местный землевладелец, интересами церкви живет мало, занятый всецело своим имением. Приходская жизнь едва–едва теплится, изредка волнуемая мелкими недоразумениями. Так, например, волнение возникло из–за грядки: «Батюшка обещал уступить одну из своих грядок соседу–прихожанину — и не дал…»
В Анжере у русских есть добрейшая благодетельница — пожилая француженка. Она и сын ее горячо любят русских. Вся прислуга у них русская. Дом их превратился в некое подобие местного русского клуба. Общественные приемы, семейные торжества русских происходят у них, и за их счет и вино и продукты… Когда я приезжал, обед был тоже у них. Вино было доброе, кое–кто наугощался, затянули песни… Гостеприимная хозяйка любит русские песни и готова их слушать неутомимо. По окончании обеда я ушел наверх, оставив диакона Вдовенко с хозяйкой и с гостями.
Бордо
На Пасху (1928 г.) я командировал в Бордо на разведку иеромонаха Афанасия, который представил мне потом обстоятельный доклад о духовной жизни среди русской колонии Бордо и в его окрестностях. Выяснилось, что намечаются два центра со значительным количеством русских: 1) Бордо (и неподалеку от Бордо г.Ларошель) и 2) Тулуза. В окрестностях Тулузы осело много русских земледельцев, которые заарендовали, а иные приобрели заброшенные французские фермы.
Я подумал–подумал и направил в Бордо о.Николая Сухих [
[206]], который в это время находился в обители «Нечаянная Радость» и не ладил с игуменьей Евгенией.
О.Сухих, из сибирских инженеров, человек хозяйственной складки, мог быть подходящим священником для окормления огромного района (около десяти департаментов), населенного русскими, нуждавшимися в религиозном руководителе, в советчике по хозяйственным делам и в посреднике между ними и французскими властями и французской средой. Центром мы решили сделать Бордо; там настоятель церкви должен был совмещать и обязанности разъездного священника.
Постоянной церкви в Бордо сначала не было — служили в залах протестантских храмов. Потом наняли свое помещение с комнатой для священника. Соседний приход, Биарриц, подарил иконостас из своей старой церкви, и понемногу церковь начала украшаться.
В 1929 году Тулуза организовала самостоятельную общину. Я направил туда племянника о.Николая Сухих — о.Владимира Айзова [
[207]], а Бордо и Ларошель остались в ведении о.Николая. Нельзя сказать, чтобы о.Сухих зажег воодушевлением приход в Бордо, нет, это ему не удавалось (под конец даже обнаружился разлад), хоть он и был пастырь миссионерского типа, на разъезды подвижной, на служение усердный. Он имел склонность к монашеству и мечтал купить под Бордо клочок земли и устроить нечто вроде скита. Потом он постригся у меня под именем Серапиона. Когда мне пришлось уволить о.Айзова, я назначил на его место в Тулузу о.Серапиона, желая этим назначением восстановить в приходе доброе имя пастыря, скомпрометированное его племянником.
В Бордо я направил священника Олимпа Пальмина (Тобольской семинарии), бывшего председателя церковного объединения в Клиши (Париж). После рукоположения я послал его в Братиславу (Чехословакия) к игумену Никону в помощники, но о.Пальмин, человек энергичный, до кипучести, самостоятельный, по темпераменту общественный деятель, на вторые роли в Братиславе не годился, что–то там у него не сладилось, и я перевел его в Бордо. Приход при нем сразу ожил. Разброд сменился объединением. Раздоры смолкли. Достигнуть умиротворения и объединения было нелегко. Русская колония в Бордо малая, а организаций множество (скауты, витязи, «Трудовое движение», младороссы…). Постепенно наладилась и созидательная работа. Сняли новое помещение для церкви — более просторное, удобное, с комнатами для общественных собраний и для священника. Незадолго до Рождества (1936 г.) туда и переехали. Приход в Бордо у меня на хорошем счету. Он может быть показательным и поучительным примером важного значения, которое имеет для прихода личность священника.
К Бордо приписано около десяти общин.
Санс
Этот малый приход сначала был приписан к Монтаржи, и его обслуживал изредка наезжавший оттуда о.Ф.Каракулин. Потом прибыл из Болгарии священник Василий Заханевич, и я направил его в Санс. «Сорганизуйте там русскую колонию — тогда будет у вас приход», — сказал я.
Кое–как, с помощью о.Ф.Каракулина, подготовившего в Сансе почву для церковного объединения, приход был организован. Завод отвел батюшке, как человеку семейному, отдельный барак, плохонький, весь в щелях, продувной, для зимы малопригодный: холодный, сырой. Дали батюшке и огород, оказавшийся для него большим подспорьем. Материально пришлось ему туго. Тогда энергичная матушка занялась куроводством.
Церковь позволили устроить в бараке, предназначенном для развлечений: концертов, спектаклей, танцев… Невыносимая для церкви обстановка! Иногда Литургию служили в запахе винных паров, табачного дыма, потому что накануне была вечеринка.
О.Заханевич — надо отдать ему справедливость — с этим положением не примирился. Он приглядел где–то барак, продававшийся на слом, выпросил у завода несколько квадратных метров земли и решил построить на ней барак. Однако прихожане Санса — народ на церковные нужды не щедрый — проекта самообложения испугались и возроптали: обложение! сборы!.. нам не надо церкви! нам не надо священника! жили без священника… Настойчивый о.Заханевич все же свой проект осуществил — выпросил, чтобы Епархиальное управление дало ему за год вперед причитающуюся ему субсидию 1200 франков, у кого–то из знакомых занял еще 1000 — и купил барак за свой счет. Нашлись прихожане, которые помогли ему соорудить престол, иконостас..; понемногу церковь устроилась. Протоиерей о.Георгий Спасский освятил церковь во имя святителя Николая Чудотворца.
Настоятельство о.Заханевича в Сансе длилось недолго. Его бойкая матушка внесла в приходскую среду дух разлада, создалась неприятная атмосфера; батюшка, больной, нервный, попросил меня перевести его в другой приход. Я направил его в Пти Кламар. Прихожане в конце концов признали пользу, которую принес о.Заханевич устроением церкви, и постановили выплатить его кредитору те 1000 франков, которые он занял на покупку барака.
После о.Заханевича я перевел в Санс из Льежа (Бельгия) священника Сергея Синькевича, старичка по преклонности возраста уже малоспособного к энергичной деятельности. Приход при нем не расцвел, едва–едва жизнь в нем теплилась. Одно все–таки можно сказать: многих церковь отвлекает от кабака и кинематографа и прочих развлечений, напоминает о высшей духовной жизни…
Я посетил Санс дважды. Один раз при о.Заханевиче и второй раз весной 1936 года, когда о.Синькевич и приход пригласили меня на свой храмовой праздник (9 мая). С этим посещением связан интересный эпизод.
Я приехал в Санс накануне праздника к вечеру, в 6 часов. На пороге церкви меня встретил о.Синькевич без облачения, но с крестом в руке и пролепетал несколько приветственных слов, — я сразу увидал, что встречать архиерея он не умеет. На всенощной народу было сравнительно довольно. Ночевать меня отвели в барак священника, где было холодно, сыро: с печкой что–то не ладилось, и она плохо грела. Наутро в день святителя Николая я служил обедню. К моему изумлению, церковь почти пустая… Прихожан человек десять–пятнадцать, не более. Что такое? Храмовой праздник, пригласили митрополита, и никто не пришел… Небрежное отношение к празднику произвело на меня тяжелое впечатление. Я осведомился о причине. Священник объяснил работой на заводе, боязнью прогулами обидеть заводскую администрацию, очень взыскательную по отношению к иностранцам. «Но тогда почему же женщины не пришли?» — спросил я. «У них огороды… Сейчас горячая пора — посадка, поливка…» Я возражал: «Огороды не оправдание, нельзя променять Святителя на гряды… Можно было на 2–3 часа оторваться от огородов…» Днем был «чай», кое–кто на «чай» собрался. Мне было не по себе. Печально закончился этот день. А ночью разразилась беда… Ударил мороз — и странно! — пострадала от него лишь полоса русских огородов… Все труды пропали даром, ничего на грядках не осталось. Утром, смотрю, стоят хозяйки наши, понуря головы, и смотрят на хваченные морозом, взлелеянные с такой заботой помидоры, огурцы… Я увидал в этом проявление гнева святителя Николая. Вечером в этот день, в субботу, за всенощной было довольно много народу. У меня наболело, и я сказал горячее, обличительное «слово». Я упрекал народ за равнодушие, за небрежное отношение к памяти святителя Николая, за то, что вместо молитв в храмовой праздник о помощи Святителя в повседневном труде они занялись хозяйством и о Святителе позабыли… Диакон Вдовенко после службы сказал мне: «Вы никогда еще так строго не говорили…» О.настоятель во время моей проповеди лишь вздыхал и тихо охал: «Боже мой… Боже мой…» В ответном «слове» он только и смог сказать: «Вот видите, что вы наделали! Вы прогневили святителя Николая… Надо покаяться, надо загладить… Завтра же идите все провожать Владыку…» (Я уезжал в 7 часов утра.) Я пытался отклонить эти проводы и старался объяснить, что я вовсе не из личной обиды говорю им строго, — однако все они наутро высыпали к автокару.
Из Санса я направился в Труа, приписанную к Сансу общину, где русская колония чествовала меня обедом.
В Труа проживает группа русских — рабочие и инженеры местного завода — люди зажиточные по сравнению с беднотой в Сансе. В 1930 году здесь организовался приход. Я послал сюда о.Александра, прибывшего с Валаама, малообразованного иеромонаха. Он ничего сделать не смог. Церковь, большая, украшенная, оказалась не по приходу, столь малому, что прихожане были не в состоянии содержать своего священника. Пришлось Труа приписать к Сансу, но Санский приход не соглашался посылать в Труа своего священника даром, а установил плату в 50 франков за выезд. Этот порядок взаимоотношений существует и по сей день.
Тулуза
Приход в Тулузе — один из самых трудных и неудачных приходов. Хилый, шатающийся, чуть живой. До сих пор жизнь в нем не наладилась.
Возникла община в 1928 году, и первым священником был о.Николай Сухих [
[208]], изредка наезжавший из Бордо. У него начались какие–то недоразумения с прихожанами. Я увидал, что причина всему — довольно длительные промежутки между наездами о.Николая, в течение которых Тулуза оставалась без священника; в это время членам общины невольно приходилось обращаться к карловацкому священнику… Эти неблагоприятные обстоятельства я учел и назначил туда постоянного настоятеля — о.Владимира Айзова, родственника о.Сухих. Недоразумения, однако, продолжались. Вскоре Айзов вернулся в Крезо, и я послал в Тулузу о.Илариона Титова [
[209]] (в 1931 г.).
Тулуза приход трудный. Сеть городков, поселков, ферм. Чтобы добраться до некоторых из них, священнику иногда приходилось преодолевать расстояния в 20 км. О.Илариону случалось во время таких обходов ночевать под открытым небом на копне сена, а наутро, если совпадало с каким–нибудь праздником, по примеру древнему — совершать Литургию на груди, положив на нее антиминс… Пожилому о.Титову это странническое настоятельство было не под силу, и я снова поручил Тулузу о.Сухих. Вскоре о.Николай Сухих умер. Несомненно, переутомление от постоянных путешествий подорвало его силы.
После смерти о.Сухих начинается новый период Тулузского прихода. Настоятелем я назначил священника о.Хроля (Богословского Института), бывшего регента хора во французском православном приходе. О.Хроль, человек развитой, энергичный, с инициативой, отлично владеющий французским языком; к сожалению, ему весьма мешает самомнение; оно у него в той мере, когда люди считают себя умнее всех; этим и объясняется его нежелание подчиняться церковной дисциплине. Он принялся за дело с воодушевлением, стал открывать одну общину за другой в разных пунктах прихода (на протяжении 3–4 департаментов), но не считаясь с требованиями церковного устава. «У меня миссионерский путь… Приходский совет мне не нужен, я сам все сделаю…» — так мотивировал о.Хроль свою независимую позицию. Он открыл около десяти общинок, но, увы, почти все эти ячейки оказались карточными домиками. Не успеет он какую–нибудь общинку открыть — она уже вянет. Не так давно о.Хроль занемог: у него обострился туберкулез. Он просил прислать ему помощника. Я дал ему трехмесячный отпуск, а на его место командировал о.Феодора Поставского. О.Феодор собрал Приходский совет и взял верную линию сотрудничества клира и прихода. С Тулузским приходом я решил поступить так: оставить Тулузу и половину общин за о.Поставским (при разделе общин руководствуясь указаниями о.Поставского), а другую половину — отдать о.Хролю, сделав приходским центром г.Монтобан. О.Хроль этой реформой недоволен и своего неудовольствия не скрывает от прихожан о.Поставского…
Безансон
Сперва русскую колонию обслуживал о.Андроник, периодически наезжавший из Бельфора [
[210]], потом в общине начались какие–то трения с организаторшей «Русского дома» и церкви г–жой ван Зон (рожденной графиней Комаровской), и устроительница свою церковь закрыла. Однако церковная жизнь в Безансоне кое–как продолжалась.
В городе проживал военный священник Богомолов (бывший певчий эмигрантского казачьего хора Жарова); он нашел себе заработок и одновременно кое–где послуживал. Авторитетом о.Богомолов не пользовался, не всегда бывал трезвый, не всегда на высоте сана, словом, ничего у него с приходом не вышло, и в 1922 году я получил от него прошение об увольнении, которое и удовлетворил.
Пришлось вновь приписать Безансон к Бельфору. Когда настоятелем в Бельфоре стал о.Тимченко, я обращал его внимание на Безансон, но «карловчане» нам там мешали, и о.Тимченко тоже прихода не организовал. Так длилось до 1935 года, когда я послал в Безансон архимандрита Алексея Недошивина [
[211]]. Он собрал разбитое стадо воедино, вошел в доверие к главе русской колонии генералу Нечволодову, начал совместно с ним работать, и в результате у нас теперь своя церковка. Попечителем и старостой ее избрали генерала Нечволодова.
Приход в Безансоне небольшой (человек сто — сто пятьдесят), но утвержден он на прочном основании. Прихожане в состоянии содержать и храм и священника. Я предложил о.Недошивину организовать общину в Дижоне, где проживает много русских и греков; он обслуживает Дижонскую колонию, но регулярная община там еще не организовалась. Наезжает о.Алексей и в соседний г.Монбильяр. Потом безансонские прихожане устроили отдельное, уютное помещение для церкви благодаря, разумеется, инициативе и энергии архимандрита Алексея.
В этот список не вошли некоторые церкви, так, например: Антибы (церковь во имя иконы Скорбящей Божией Матери), Веррьер ле Бюиссон (церковь во имя святых Кирилла и Мефодия при интернате для мальчиков), Вильмуассон сюр Орж (церковь во имя преподобных Сергия и Германа Валаамских при интернате для девочек), Шампань сюр Сен (церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы)…
6. НОВЫЕ ХРАМЫ И ПРИХОДЫ (МИССИОНЕРСТВО И МОНАШЕСТВО) Церковь «Христианского движения»
Идея «Христианского движения» — объединение русской молодежи вокруг Церкви. В эмиграции во главе религиозно настроенной молодежи встал В.В.Зеньковский, он и был инициатором и вождем «Движения».
Началось «Христианское движение» в Сербии. Там образовался первый кружок молодых людей для совместного чтения Священного Писания, писания святых отцов, для изучения России..; его примеру последовали другие группы молодежи, и подобные религиозно–просветительные кружки начали быстро возникать в разных городах Сербии, а потом и в других странах: в Чехословакии, Германии, Болгарии, Финляндии и в Прибалтике. Формы и методы работы «Движение» заимствовало от Всемирного Христианского Союза молодых людей, весьма популярной интерконфессиональной ассоциации, известной под сокращенным названием «ИМКА» [
[212]]. Наши кружки, созданные лишь по образцу «ИМКА», некоторые эмигранты произвольно отождествляли с самой организацией «ИМКА», не только потому, что мы от нее нечто заимствовали, но и потому, что мы пользовались материальной поддержкой этой богатой и дружественной нам организации. «ИМКА», правда, нам помогала и помогает, но мы оставались верны нашей идеологии, которая легла в основание нашего объединения, и всегда подчеркивали нашу внутреннюю независимость, что не мешало нам поддерживать самые добрые отношения с нашими друзьями. Во главе «ИМКА» в первые годы эмиграции стояли Э.И.Мак–Нотен, П.Ф.Андерсон, Г.Г.Кульман — деятели широких взглядов и бережного отношения к нашей идеологии. Они поддерживали нас, никогда не пользуясь благотворительностью, как средством для пропаганды своего вероучения среди русских.
В Сербии «Христианское движение» в русской среде большого развития не получило, и Зеньковский перебрался в Париж. Во Франции, еще до его переезда, возникло несколько религиозных кружков молодежи. Девушки и юноши, человек по десять, собирались в бедных комнатках по углам Парижа, читали вместе Евангелие и беседовали на волнующие их религиозные темы. Случалось, они приглашали меня благословить их собрания. Размеры «Движения» в то время были еще весьма скромные. Расцвет его связан с приездом В.В.Зеньковского.
В особняке, на бульваре Монпарнас, № 10, предоставленном нам «ИМКА», организовался центр «Движения», и русская молодежь с воодушевлением туда устремилась. Загорелась творческая работа, преследовавшая высокую цель — христианизацию молодежи, а через ее посредничество и русского общества. «Движение» не только Церкви не чуждалось, но было с нею крепко связано, оставаясь одновременно организацией «мирскою», от нее не зависимою. «Мы не епархиальное учреждение и не клирики, мы служим Церкви в звании мирян, посильно содействуя приближению к Церкви неверующих…» — так определяли «движенцы» свое отношение к Церкви. Задачу «Движения» я понимал. Для молодежи, если от Церкви она отстоит далеко, сразу войти в нее трудно, надо сначала дать ей постоять на дворе, как некогда стояли оглашенные, и потом уже постепенно и осторожно вводить ее в религиозную стихию Церкви; иначе можно молодые души спугнуть, и они разлетятся в разные стороны: в теософию, антропософию и другие лжеучения.
Организация «ИМКА» по своему направлению интерконфессиональна. Русскому обществу «ИМКА» была небезызвестна по ее прошлой полезной деятельности в России. Генеральный секретарь д–р Мотт, человек глубокой веры и религиозных исканий, еще до революции пленился нашей русской молодежью и основал в Петербурге религиозно–просветительную организацию «Маяк». Патриарху Тихону д–р Мотт был близок. В свое время в России я имел случай ознакомиться с деятельностью «Христианского движения» и с некоторыми его представителями и оценил их искреннюю христианскую настроенность. Теперь, в эмиграции, на меня посыпались нарекания: «Движение связано с «ИМКА», а там масоны… Вы общаетесь с масонами…» Я возражал: «Если фарисейски охранять чистоту своих риз, тогда надо сектантски ото всех отъединиться. Это неправильно. Надо смело идти в стан инакомыслящих и пытаться привлекать их на свою сторону». «Карловцы» со мной не соглашались и, верные своей психологии, заняли по отношению к «ИМКА» враждебную позицию. Я счел нужным во избежание дальнейших кривотолков выяснить вопрос о причастности «ИМКА» к масонству и на открытом собрании «ИМКА» (в Болгарии), где мы, несколько православных архиереев, присутствовали в качестве гостей, я попросил д–ра Мотта ответить на этот волнующий некоторые русские круги вопрос. Д–р Мотт заявил, что он не масон и никогда им не был, в программе «ИМКА» нет и признака масонства, а причастность или непричастность к нему — частное дело отдельной личности, за которое она сама и отвечает. Думаю, что лица, обвинявшие «ИМКА» в масонстве, сами не верили в обвинения (настолько они были необоснованны и нелепы), но воспользовались ими для нападения на меня.
В первые годы эмиграции «Христианское движение» процветало. Создавалось множество разных кружков и содружеств, благотворительных и просветительных начинаний: девичья дружина, витязи, школы (четверговая и воскресная), летние колонии, собрания, лекции, доклады, диспуты, вечеринки… и, наконец, ежегодные съезды, которые привлекали руководителей и представителей «Движения» со всего нашего рассеяния.
Эти конференции бывали большим событием в среде русской христианской молодежи Зарубежья. Съезд устраивался обычно в летнее время вне Парижа, в каком–нибудь городке, где местная администрация на неделю предоставляла устроителям какие–нибудь спортивные или пустующие солдатские бараки. Один из бараков отводили под церковь, другой — под зал заседаний и столовую, в остальных устраивали дортуары для делегатов. Расписание дня включало ежедневное богослужение, проповедь, лекции профессоров — участников Съезда, доклады в секциях, дебаты, беседы… Мы поощряли самодеятельность и давали молодежи возможность принимать самое живое участие в прениях и при желании выступать и со своими собственными докладами. В последний день Съезда бывала всеобщая исповедь, а наутро в день закрытия все причащались. Настроение единодушия, внимательное, братское отношение друг к другу, высокий религиозный подъем — вот отличительные черты первых съездов. Незабываемое умилительное впечатление… Случалось, эти конференции оставляли глубокий, благотворный след. В их творческой религиозной атмосфере у одного из руководителей Съезда — Ельчанинова возникла и осуществилась мысль о священстве. Идея организации Богословского Института и первое совещание о возможности ее реализации связаны тоже с одной из конференций. К сожалению, за последние годы съезды стали утрачивать свой пламенный религиозный дух…
Как я уже сказал, «Христианское движение» в первые годы своего возникновения породило много кривотолков. Чтобы положить этому конец и сделать явным до очевидности, что русская молодежь «Движения» — не масоны, а послушные дети Православной Церкви, я посоветовал «Движению» устроить свою церковь и иметь своего священника.
На дворе, в гараже особнячка на бульваре Монпарнас, была устроена церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. Настоятелем я назначил выдающегося священника о.Сергия Четверикова [
[213]]. Церковь стала привлекать богомольцев со стороны и обросла приходом.
Религиозно–нравственное воздействие на молодежь достигалось не только привлечением ее к посещению своей церкви, но и организацией летних лагерей, где она в течение одного–полутора месяцев отдыхала на лоне природы и одновременно вела жизнь, подчиненную религиозным началам. В лагере жил священник, ежедневно бывало богослужение, общая молитва, беседы по вопросам христианской веры и Церкви… Лагери превратились в школы религиозно–нравственного воспитания нашей молодежи.
О.С.Четвериков пошел навстречу пожеланиям наиболее ревностным и духовно преуспевшим «движенцам» и организовал внутри «Движения» христианское содружество с более строгой церковной дисциплиной.
«Движение» вело многостороннюю просветительную работу, но ею не ограничивалось. Когда наступили черные дни безработицы среди русских, «Монпарнас» организовал даровую столовую, раздачу нуждающимся белья и одежды, оказывал помощь ночлегом.
Сколько прекрасных страниц в эмигрантской истории «Движения»! К сожалению, не сумели удержаться на той религиозной высоте, которой достигли. Замешалась политика, в здоровый организм проник яд политических разногласий… Я обвиняю Н.А.Бердяева. Он стал заострять политический вопрос, проводить четкую социалистическую линию, старался склонить умы к принятию левых политических лозунгов. «Довольно кланялись вельможам, поклонимся пролетариату…» — подобные безответственные фразы привели к тому, что молодежь, которая не забыла еще обид большевизма, у которой не изгладились из памяти ужасы насилия и преследований родных и близких, оказала энергичное противодействие, и в результате мир и единодушие среди «движенцев» исчезли. Этот разлад до сих пор еще не изжит. Левые (группа Пьянова и м.Марии — последователей и учеников Бердяева) обвиняют правых в непонимании советской действительности, «нового советского человека», в нежелании примириться с советским отечеством и закапывать ров между прошлым и настоящим. Правые травили левых: вы не учите национализму, вы предаете Россию, вы готовы подать руку гонителям Церкви… Бурные дебаты на Монпарнасе не прекращались. Наконец националисты во главе с председателем французского отдела «Движения» Никитиным решили с «ИМКА» разорвать, чтобы их не обвиняли в примиренчестве с советской Россией; они устроились на стороне, на rue Olivier de Serres, №91. Сперва от них отошли «витязи», которых возглавлял Федоров и опекали Карташев, Гирс… организовавшие «Общество друзей витязей»; левые образовали группу «Православное Дело» под водительством Пьянова, м.Марии, Федотова… и тоже устроились на стороне при общежитии м.Марии на rue Lourmel, № 77.
Сейчас «Движение» в упадке. Молодежь остыла. Религиозная идеология требует подвига. Мало веры, нужно еще исповедовать ее в однообразной повседневности трудной эмигрантской жизни. После первых лет религиозного воодушевления началась практика веры, а на нее у молодежи не хватило ревности. Потеряв родину, вскоре же обрели надежду, что можно ее вернуть, но надежда не осуществлялась, и героические чувства стали блекнуть. Надо иметь твердые устои, чтобы не поколебаться, не впасть в малодушие и продолжать верить, что, развивая и храня в себе высоконравственные и духовные начала, тоже служишь родине. Это не только подвиг личного спасения, это в каком–то смысле и подвиг духовного пробуждения и перевоспитания своего народа. Политические течения — пассивное приятие тех или иных политических взглядов — с подлинным творчеством не связаны, закалить же себя в нравственном отношении очень важно: человек приобретает на всю жизнь душевную крепость, моральную устойчивость, которая его удержит на поверхности в любую житейскую бурю.
«Движение» все же свое дело сделало и продолжает существовать, хоть и утратило прежнюю свою кипучесть. Политические кружки, увы, проявляют сейчас больше активности и возбуждают больше интереса, нежели религиозная идеология «Движения». И все–таки я верю, что оно не погибло. Большой ошибкой вождей была непредусмотрительность: они не приготовили себе смены. Молодежь первых эмигрантских лет уже теперь зрелые, женатые люди, они устроили свою судьбу и от «Движения» отошли; а маленькие члены «Движения» еще дети, надо ждать, когда они подрастут и когда проявят себя как сознательные деятели по его возрождению.
«Православное Дело»
«Православное Дело» развилось из общежития для одиноких женщин, созданного м.Марией (Е.Ю.Скобцовой) осенью 1932 года. М.Мария наняла особнячок в глубине переулка (9, villa de Saxe), светлый, удобный, с маленьким садом, и за дешевую плату стала принимать пансионерок. Нужда в дешевом русском общежитии была большая, и дом быстро наполнился. При общежитии м.Мария устроила церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы; обитательницы дома стали ее охотно посещать. От времени до времени в общежитии бывали собрания, на которых либо кто–нибудь из профессоров Богословского Института, либо кто–нибудь из лекторов «Христианского движения» читали доклады, сопровождавшиеся беседой; эти собрания привлекали довольно много слушателей со стороны. Скоро особнячок уже не мог вместить всех желающих в нем поселиться тружениц, размеры его не позволяли м.Марии развернуться во всю широту ее планов, и через два года основательница перебралась на рю Лурмель, № 77, в большой дом.
В те дни безработица среди русских приняла размеры настоящего бедствия, и м.Мария организовала при общежитии столовую, где на началах самоокупаемости за ничтожную плату в 1 франк 50 сантимов отпускались обеды. Такой дешевизны предприимчивая устроительница достигла благодаря тому, что какие–то торговцы парижского Центрального рынка («Halles Centrales») жертвовали ей остатки некоторых нераспроданных и скоропортящихся продуктов, а она, с помощью опекаемых ею безработных, притаскивала на рю Лурмель все это даровое добро. Позаботилась она и о крове для своих подопечных: в чердачном помещении дома устроила ночлежку. Гараж в глубине двора был отведен под церковь, которую м.Мария заботливо украсила, недурно расписав стены и стекла. Обслуживали церковь последовательно: о.Лев Жилле, о.Евфимий (Вендт), архимандрит Киприан (Керн), о.Валентин Бахст… Просторное помещение в нижнем этаже предназначили для собраний, лекций и докладов с дискуссиями… При общежитии м.Мария организовала курсы псаломщиков, которые в первый же год дали нам 10 хорошо обученных псаломщиков [
[214]]. Текущей зимой 1936–1937 годов она открыла миссионерские курсы.
В прошлом году м.Мария объединилась с о.Чертковым и Ф.Т.Пьяновым и организовала в Нуази ле Гран «Дом отдыха» для выздоравливающих туберкулезных. А этой (1936 г.) осенью открыла, тоже с помощью Пьянова, дешевое общежитие в особняке № 43, рю Франсуа Жерар (в 16 аррондисмане), подотдел центрального общежития на рю де Лурмель.
Все эти учреждения входят в состав организации «Православное Дело», простирающей свою деятельность и за пределы перечисленных учреждений. Участники «Православного Дела» ведут работу в приходах на окраинах Парижа, устраивают школы, собеседования, организуют лекции, литературные вечера… организуют они и съезды представителей нескольких приходов — начинание очень интересное, жизненно закрепляющее взаимную связь, взаимообщение между ними. Вообще «Православное Дело» широко развивает свою деятельность по распространению религиозного и национального просвещения среди русского рассеяния, затерянного во французской рабочей среде и пребывающего вне связи с Православной Церковью и эмигрантскими просветительными организациями. Эта работа, удерживающая русскую массу от денационализации, имеет огромное значение.
Организация «Православное Дело» неразрывно связана с личностью ее созидательницы — м.Марии.
М.Мария, в миру Е.Ю.Скобцова (по первому браку Кузьмина–Караваева), — поэтесса, журналистка, в прошлом член партии социал–революционеров. Необычайная энергия, свободолюбивая широта взглядов, дар инициативы и властность — характерные черты ее натуры. Ни левых политических симпатий, ни демагогической склонности влиять на людей она в монашестве не изжила. Собрания, речи, диспуты, свободное общение с толпой — стихия, в которую она чувствует потребность хоть изредка погружаться, дабы не увянуть душою в суетной и ответственной административной работе по руководству «Православным Делом». М.Мария приняла постриг, чтобы отдаться общественному служению безраздельно. Приняв монашество, она принесла Христу все свои дарования. В числе их — подлинный дар Божий — умение подойти к сбившимся с пути, опустившимся, спившимся людям, не гнушаясь их слабостей и недостатков. Как бы человек ни опустился, он этим м.Марию от себя не отталкивает. Она умеет говорить с такими людьми, искренно их жалеет, любит, становится для них «своим» человеком: она терпит их радостно, без вздохов и укоризны, силится их поднять, но умело, т. е. не подчеркивая уровня, с которого они ниспали. «Я пропиваю свой пропавший идеал…» — сказал ей в кантине один такой несчастный человек. И сколько таких душевных трагедий ей поверено! М.Мария своим подопечным — помощник, советчик и друг. Она заботится не только о ночлеге и пропитании, но и о том, чтобы работу найти, и чтобы с полицией дело уладить, если с документами какое–нибудь недоразумение; и чтобы визы выхлопотать, если выселяют… Но в м.Марии, бывшей деятельным членом партии социал–революционеров, все еще бродят старые партийные дрожжи… В «Христианском движении» она активно боролась против националистической идеологии, и ее старания «засыпать ров» между эмиграцией и СССР дали повод к резким нападкам на нее эмигрантов–националистов.
«Православное Дело», детище м.Марии, оказалось большим делом, отвечающим подлинным нуждам эмиграции. Но монашеской общины, о которой м.Мария мечтала, у нее не вышло. Не создалось и церковной общины. Значение для приходов «Православное Дело» несомненно имеет, и для церковных деятелей в приходах оно помощь и поддержка.
В последнее время м.Мария [
[215]] занялась душевнобольными, посещает их в больницах, беседует с ними и старается выпустить на свободу тех «отверженных», которые уже выздоровели, но о которых все забыли.
Французский приход (Париж)
Возникновение французского прихода связано с обращением в православие католического священника о.Льва Жилле.
О.Лев, образованный, вдумчивый монах–аскет. По натуре свободолюбивый, он почувствовал тесноту узких рамок католицизма и повлекся душою к православию. Он был личным секретарем митрополита Галицкого Андрея Шептицкого [
[216]]. Вероятно, от Шептицкого о.Лев перенял вкус к христианскому Востоку. Но увлечение его было более чистое и идеальное, чем у его начальника. Митрополит Шептицкий делал большую политику, работал в австрийском генеральном штабе, в планы которого входило отторжение Украины и обращение ее в унию, дабы крепче связать ее с католической Австрией. О.Жилле со всем пылом энтузиазма оттолкнулся от католичества, но, приняв православие, по–моему, понял широту религиозной свободы в той безмерности, которая клонится к мистическому индивидуализму протестантов (Дух Святой открывается индивидуальному сознанию, а не собору верующих).
Мысль об основании французского прихода возникла у меня под влиянием прискорбных наблюдений над тем, как французская стихия захватывает эмиграцию. До революции многим русским людям давали в русских семьях иностранное воспитание и они знали французский язык лучше, чем русский; а тут, в эмиграции, дети родной язык теряли и переставали понимать богослужение и молитвы. Надо было смотреть вперед: если даже язык потерян, зато хоть православную веру спасем и сохраним среди офранцузившихся русских. Не о пропаганде православия среди французов я ратовал, я думал о наших денационализованных русских детях.
Основание приходу положил о.Авраамий, его работу продолжил о.Дейбнер, окончательно его сформировал о.Лев Жилле. Одной из заслуг организаторов был перевод нашего богослужения на французский язык. Организовалась комиссия, в которую вошли: о.Дейбнер, тонкий знаток литературного французского языка, д'Отманн, братья Ковалевские… Наша Литургия была в свое время переведена о.Владимиром Гетэ (французским католическим аббатом, перешедшим в православие), теперь был сделан новый перевод и кроме Литургии было переведено много других церковных служб.
Поначалу французы очень новым приходом заинтересовались, кое–кто из них перешел в православие, но это было явление временное, основное ядро прихожан были русские, забывшие свой родной язык. Согласно французскому закону, приход зарегистрировали, и он зажил нормальной жизнью, но не расцвел, хотя во главе его встал ревностный и самоотверженный о.Жилле. О.Лев, религиозный мыслитель, молитвенник, вдохновенный проповедник и духовный руководитель отдельных душ; миссионерский дух его пастырскому призванию несвойствен, практическим, организаторским талантом он не одарен; он любит читать лекции, доклады и взял на себя весьма трудное дело — окормлять русских заключенных в тюрьмах. О.Льву, как французу, было легче туда проникнуть, нежели какому–нибудь русскому священнику, но и с ним возникли трения. Когда я официально ходатайствовал в Министерстве юстиции о допущении о.Жилле в тюрьмы, ко мне явился из министерства чиновник и допрашивал, чего я домогаюсь. «А я хочу узнать, как у вас из тюрьмы убежать можно — вот Леон Додэ убежал…» — «Vous ètes très iroique» [
[217]], — сказал чиновник. Особенно важны были посещения тюрем о.Львом, когда среди заключенных оказывались смертники. Все русские, приговоренные к смертной казни (Горгулов, Гузьляков…), в последний час видели в нем друга. Он напутствовал их и сопровождал до самой гильотины. Увлеченный работой в тюрьмах и своими занятиями на Монпарнасе в кружке по изучению Священного Писания, о.Жилле стал французским приходом тяготиться, и я передал его о.Георгию Жуанни.
О.Жуанни, по профессии подрядчик, честный, хороший священник. Полета, вдохновенья у него нет, но свой долг он исполняет добросовестно, трезво и практически относится к приходу. (Иногда его заменяет о.Жилле.) Прихожан во французском приходе мало, едва ли и сотня наберется.
Нант (Бретань)
В 1927 году появился на горизонте некий господин, выдававший себя за иеромонаха Петра (по фамилии Верден), в сопровождении «свиты» — двух сотрудников: ксендза о.Кулона и какого–то молодого человека вроде иподиакона. «О.Петр» заявил, что они отпали от католичества, а он, порвав с Римом, примкнул к «мариавитам».
Секта «мариавитов» возникла в Польше (в Полоцке) в начале XX века, и некоторые ее представители были мне близки. Возникла она так. Некая Мария Козловская, от которой «мариавиты» получили свое название, содержательница ремесленной мастерской, человек религиозного воодушевления и аскетического строя жизни, увлекла за собою своих мастериц и организовала нечто вроде монашеской общины. Объединением заинтересовались католические священники Ковальский, Прухневский и др. Они примкнули к движению, и все участники сообща, именуя себя братством «мариавитов», стали ревновать о поднятии уровня нравственной жизни среди польского духовенства. Личная жизнь польских ксендзов давала немало поводов для возмущения нравственного чувства верующих. «Экономки» («господыни», как их называл простой народ) вошли в быт прихода настолько, что к их фальшивому положению уже привыкли, и они получали приглашение на местные празднества на правах «господынь»… «Мариавиты» отправили своих представителей в Ватикан, снабдив «лептой святого Петра» и полномочием довести до сведения высшей иерархии о том, что в Польше творится, и ходатайствовать об учреждении их братства, организованного для столь хорошей цели. В Риме их встретили ласково, выслушали со вниманием. «Мы сами возмущены. Но нам нужны факты. Представьте нам факты…» — сказали им в Ватикане. Делегаты вернулись, и «мариавиты» стали собирать факты. Набрали большой фактический материал и отвезли в Рим. Не успели посланцы в Польшу вернуться — узнают, что скомпрометированным лицам дано повышение… Совесть вынести этой неправды не смогла, и «мариавиты» от католичества отпали, увлекая за собою многих сочувствующих. Встал вопрос о присоединении к православию. Я некоторое время с «мариавитами» возился. Постепенно движение заглохло: секта не удержалась на том нравственном уровне, о котором ратовала.
«О.Петр» меня подкупил своим «мариавитским» прошлым. Он устроил в Нанте церковку у себя на квартире и стал служить. Вскоре до меня дошла весть, что «о.Петр» лицо с неясным прошлым… Я сейчас же исключил его из клира.
Во главе Нантского прихода встал о.Евгений Кулон, хороший, но необразованный старик, по специальности кузнец. В своем домике, где помещается его кузнечная мастерская, он организовал церковку. Я послал молодого Евграфа Ковалевского в Нант — поручил ему легализировать общину согласно французскому закону и ознакомить о.Кулона с французским текстом наших служб, а на о.Сухих (Бордо) возложил руководство новым Нантским настоятелем.
Церковная община в Нанте маленькая: человек около ста. В нее вошли французы, русские и греки. Прихожан о.Кулон не удовлетворяет. Для французов он слишком прост и невежествен, для русских слишком далек от бытового типа русского батюшки.
Финляндия
(Выборг. Гельсингфорс)
Без ведома и усилий с моей стороны, вне территории моего епархиального округа, в 1926 году в Выборге возникла маленькая община, пожелавшая войти в мою юрисдикцию. Перед праздником Святой Пасхи я получил телеграмму из Выборга от группы русских с просьбой принять их в мое управление и разрешить праздновать Пасху по старому стилю. Желание такого церковно–административного «самоопределения» возникло из противодействия русских граждан не финского происхождения грубому лишению гражданских и церковных прав. От нового Финляндского Церковного управления получилось предписание перейти на новый календарный стиль. Особенно беспощадно провели реформу в монастырях Валаама и Коневца — двух древних твердынях православия, где старые традиции держались особенно крепко. Рана там до сих пор не залечена… Много монахов покинуло тогда монастыри, многие оказали пассивное сопротивление. Их отлучали, лишали всего — однако они героически упорствовали. Архиепископ Серафим, возглавлявший Православную Церковь в Финляндии (впоследствии Карловацкий митрополит), поначалу правительственному воздействию поддался, но потом, когда от него потребовали изучить финский язык в 3 месяца, он на экзамен не явился; тогда его сослали на о.Коневец и заточили в монастырь [
[218]]. Финляндские власти выписали из Эстонии некоего священника о.Германа Аава, который потом сделался епископом–викарием архиепископа Серафима. Когда архиепископ Серафим был заточен, епископ Герман возглавил Православную Церковь в Финляндии. При нем создалось Управление, в которое вошли священники–ренегаты: Солнцев, Казанский, Акулов (Петербургской Духовной Академии). «Старостильники» на Валааме в большом загоне и уничижении. Ни одной церкви им не дали, церковное послушание они должны нести по новому стилю, свои службы они справляют в глинобитном сарае… Старые монахи, верные церковным традициям, епископа Германа не признают. Ходит он в штатском, бритый. При встрече они ему не кланяются. Он спрашивает: «Почему не кланяетесь?» Они в ответ: «А почему кланяться?» — «Я — епископ!» — «А бороденка где у тебя?..» В чудном Валаамском монастыре внутренняя жизнь раздвоилась, прокрался в нее дух несогласия и тяжбы. Вопрос стиля шире календаря и прикрывает агрессивные националистические притязания одной стороны и самозащиту самобытных исконных традиций другой.
Таково было положение Православной Церкви в Финляндии, когда «выборжцы», не желавшие принять нового стиля, послали мне телеграмму с просьбой, чтобы я спас их «от насилия над их совестью…» Я просьбу исполнил, и в Выборге возник приходик, возглавляемый о.Григорием Светловским. Этот акт имел значение отдушины, и новое, более либеральное, финляндское правительство с этим посчиталось и отнесло нашу организацию к линии «свободы совести»; согласно закону, приход был включен в реестр религиозных организаций с правом совершать богослужение. Эта уступка имела влияние на судьбу Валаама и Коневца — обителям было позволено праздновать пасхалию по старому стилю.
Организаторша Выборгского прихода — купчиха Анна Дмитриевна Пугина приютила его в своем доме. Началось объединение с заутрени, которую служили у нее на дому и на которую собралось много русских. В донесении, посланном мне, упоминалось: «На Пасхе у нас все было полно молящимися — радующимися и плачущими…», несколько позже г–жа Пугина устроила у себя настоящую церковь.
В 1927 году часть общины основала филиальную организацию в Гельсингфорсе под водительством о.Николая Щукина, пастыря энергичного, горячего и ревностного (в прошлом военный чиновник). Церковь в Гельсингфорсе устроили в наемном помещении, но сейчас общинка озабочена созданием своего храма на кусочке земли, который она хочет купить на кладбище. Бывший церковный староста А.Г.Васильев, ныне умерший, и доселе здравствующая его супруга всю душу вложили в задуманное доброе дело.
Возникновение двух маленьких общин моей юрисдикции вызвало неудовольствие епископа Германа Финляндского. Он и его Управление начали травить наш Выборгский приход, главным образом нападая на меня: «Я известный русификатор, я хочу в Финляндии проводить русскую политику…» О.Светловский решил на травлю не отвечать, чтобы не потонуть во взаимном анафематствовании.
О.Светловский — священник хороший, а Выборгский приход деятельный и живой. «Горе, что мы не имеем счастья общения с Вами…» — писал мне о.Светловский. К сожалению, навестить финляндские общины мне трудно. Мое положение сложное. Как определить мои отношения к епископу Герману? Как, приехав в Финляндию, не посетить Валаама? А как туда поехать, когда на Валааме оппозиция к главе Финляндской Православной Церкви столь явна? В утешение общинам я послал (в 1935 г.) преосвященного Сергия Пражского, поручив ему объехать Швецию, Норвегию и Финляндию [
[219]]. Приезд его в Выборг вызвал ликование. Владыка Сергий умеет людей обласкать, ободрить, обрадовать. Пребывание его для моих общинок было праздником. Он сделал необходимые визиты официальным лицам, но на Валаам не поехал: щепетильное положение.
Недавно «выборжцы» праздновали десятилетие общины. Милые мои духовные чада… — как мне их жаль! Я управляю ими издалека, а поехать к ним не могу…
Марокко
Приход в Марокко возник в 1925 году под влиянием потребности в церковной жизни русских, рассеянных в Африке. Потребность эта была особенно настоятельна среди служащих в «Иностранном легионе». Туда принимают людей без паспортов: всякий годный для военной службы, независимо от национальности, зачисляется в легион под номером и попадает в ту массу, которая, хорошо обученная и скованная железной дисциплиной, образует грозную боевую силу, известную под названием «Иностранный легион». Тяжелая служба! Всегда на передовых позициях, в кровавых стычках с арабами, в томительных переходах по знойной пустыне… Среди духовенства моей епархии один о.Григорий Ломако был священником в «Иностранном легионе», но не в Африке, а в Месопотамии. Французское правительство не могло долго отпускать кредиты на содержание православного священника, и о.Ломако там не удержался. Я начал переписку с военным министром, ходатайствуя о разрешении послать священника в Марокко, ссылался на пример священнослужителей других религий, которые это разрешение получили, — ничего из моего ходатайства не вышло. А между тем из Африки доносились вопли: русские дичают! русские люди пропадают! пришлите священника! помогите… Инженер–межевик Стефановский осведомлял меня об условиях жизни своих соотечественников в Марокко.
Русские здесь служат преимущественно землемерами на отвоеванных у арабов землях. Условия работы трудные. Живут в палатках под угрозой налетов арабских племен, под страхом быть растерзанными шакалами или погибнуть от укуса змей, скорпионов…
Я внял призыву о помощи из далекого Марокко и послал туда своего человека — самоотверженного о.Варсонофия (Толстухина), иеромонаха Валаамского монастыря, «старостильника», покинувшего родную обитель из–за разногласия со сторонниками нового стиля. В свое время о.Варсонофий был келейником в архиерейском доме архиепископа Сергия Финляндского и исполнял при нем и секретарские обязанности. Покинув Валаам, он перебрался в Болгарию, оттуда — во Францию. Я послал его к м.Евгении в Гарган–Ливри обслуживать церковку обители–приюта «Нечаянная Радость». Вскоре у него возникли трения с м.Евгенией, и я направил его в Африку.
О.Варсонофий прибыл в Рабат — главный центр экономической и политической жизни Марокко. Здесь имеют пребывание Марокканский султан со своим двором и французский резидент, здесь же сосредоточены все правительственные учреждения. За годы резидентства маршала Лиотэ Рабат превратился в город европейского типа, не утеряв своеобразной красоты восточного города. Вдумчивый и дальновидный администратор, маршал Лиотэ стал строить новые дома в мавританском стиле, снабжая их всеми техническими приспособлениями современного комфорта. Правительственные здания, вокзалы, частные дома… — все выдержано в том же стиле. Новый Рабат является как бы продолжением и модернизацией старого Рабата, который остается нетронутым. Особый художественно–строительный комитет утверждает (или не утверждает) архитектурные проекты новых построек. Этот же художественно–строительный контроль проводится и в других городах Марокко.
Познакомившись с паствой, о.Варсонофий приступил к выработке устава православного прихода в Марокко. Мы этот устав утвердили, местные французские власти его приняли, и о.Варсонофий начал устраивать церковь. Благодаря некоторым связям удалось получить пустующий барак, покинутый строительными рабочими, а с помощью русского населения, с великой радостью встретившего весть об организации церковного прихода, явилась возможность преобразовать его в церковь, украсить и снабдить всем необходимым. Эта православная церковь в скромном бараке знаменовала исторически важное событие — появление вновь в этой части Африки православия. Через сколько веков! Район Марокко церковно–географически входит в состав областей Александрийской патриархии, и в Касабланке была маленькая греческая церковь, возглавляемая архимандритом. Когда мы открыли нашу церковь, в Касабланке были этим недовольны и мне пришлось обратиться к Александрийскому патриарху, дабы этот вопрос уладить. Внешне трения исчезли, а внутренно они не изжиты, и по отношению к о.Варсонофию по–прежнему косые взгляды…
Приход о.Варсонофия раскинулся по всему Марокко. Ему пришлось ездить в Касабланку, Маракеш, в Мекмеш и некоторые другие города и селения, где проживают русские. Ознакомившись с паствой и укрепившись в приходе, о.Варсонофий, стяжавший уже некоторую популярность, стал носиться с дерзновенной мыслью — построить свой храм взамен барачной церковки. В Рабате цены на землю уже поднялись настолько, что о покупке думать было нечего. Поначалу французские власти как будто готовы были пойти навстречу и дать нам участок под храм даром, но дело, увы, ограничилось лишь обещаниями. На помощь нам пришел Господь…
В Рабате проживал богатый араб Джибли, женатый на русской. В молодости, будучи студентом Женевского университета, он познакомился с русской девушкой, уроженкой Саратовской губернии, и решил на ней жениться. Родители невесты были в ужасе: магометанин!.. многоженство!.. Но молодая девушка, по натуре смелая, ничего не убоялась. По русским гражданским законам брак православной с магометанином и вообще нехристианином не разрешался, и потому невеста перешла в протестантство. Джибли служил в итальянских войсках, а потом уехал в Марокко, на родину, где у него было много земли. Значительное вздорожание земли в Рабате дало ему возможность распродавать ее по участкам и тем самым приумножить свой капитал. Семья (у четы Джибли было два сына и дочь) жила в Рабате богато. В те дни, о которых идет речь, старик Джибли тяжко занемог. Жена его, давно порвавшая все связи с русскими, прибежала к о.Варсонофию: «Батюшка, я изменница, но вы помолитесь за моего мужа… Я верю в силу молитв…» — и попросила о.Варсонофия навестить больного. О.Варсонофий пришел к болящему, говорил с ним о христианской вере, спасающей человека и в жизни и в смерти, и обещал помолиться. Вскоре больному стало лучше, и он стал поправляться. Выздоровление приписали молитвам. Возникло горячее желание вознаградить православного священника. «Мне ничего не надо, — сказал о.Варсонофий, — но если хотите сделать что–нибудь для нас, дайте нам кусочек земли для построения храма». — «С радостью… сколько вам нужно?» — «Хоть бы 300 метров…» — «300 мало, бери 500». Араб велел принести карту владений и указал, какой кусок он может отдать. Участок оказался большой: 800 метров. «Что же, хочешь ты его у меня купить или хочешь, чтобы я его подарил?» — спросил араб. О.Варсонофий сообразил, что дарственная запись ненадежна, наследники могут ее оспаривать, сказать, что он написал ее, будучи якобы не в своем уме… «Я хочу землю купить», — заявил о.Варсонофий. «За сколько?» — «За 1 франк». — «Хорошо, бери за франк!» Так за франк о.Варсонофий землю купил, причем сделка была оформлена по всем правилам гражданского закона, т. е. мы стали собственниками участка и имеем на него купчую крепость.
Земля под храм досталась нам чудесным образом, теперь надо было собрать деньги на построение храма. О.Варсонофий ездил из одного городка в другой и просил о пожертвованиях. Всюду его встречал живой отклик. Местное русское население устраивало концерты и балетные вечера, на которых с большим успехом выступали местные русские балерины — маленькие девочки 9–10 лет. Стоило появиться на улицах афише о выступлениях маленьких танцовщиц, — арабы валили валом, а устроители выручали в пользу церкви 3–5 тысяч. Можно сказать без преувеличения — наши девочки своими ножками вытанцовали–выстроили наш чудный храм в Рабате.
Я прибыл на освящение храма зимой 1932 года. Незабвенная поездка…
Я знал, что строится храм большой, хороший, но не мог себе представить той картины, которая открылась моим глазам, когда на пути с вокзала я вдруг вдали увидал наш храм… Прекрасный храм в мавританском стиле. Большой, круглый, белый–белый, с высокой колокольней; рядом домик настоятеля, кругом деревья, кусты, цветы… и белая лента церковной ограды, опоясывающая всю усадьбу… Глубокое, до слез волнующее впечатление… Мы, эмигранты, несчастные парии, скитальцы, — «восстанавливаем развалины»… Опять засиял православный Крест на том африканском берегу, где некогда, в эпоху святого Киприана Карфагенского и во времена блаженного Августина, пышным цветом расцвело христианство, потом безжалостно, дочиста стертое мусульманами. Казалось, что веру Христову последователи Магомета выжгли здесь с корнем навсегда [
[220]]… А между тем она постепенно оживает и пускает новые и новые ростки.
Торжество освящения храма прошло с громадным подъемом и было воспринято как великий светлый праздник. Русские съехались со всех городов. Храм, созданный общими усилиями марокканской эмиграции, сделался в те дни центром всей русской жизни. Легионеры выпросили разрешение у начальства и пришли на торжество со своей музыкальной командой. Я имел возможность побеседовать с ними и узнать подробности их жизни.
Легионерам живется трудно. Кормят их неплохо, зато томиться жаждой приходится часто и мучительно. Она бывает столь невыносима, что солдаты убивают лошадей и пьют кровь. Выручает радио, посредством которого сообщают требование о немедленной доставке воды; прилетает аэроплан и сбрасывает куски льда. Случается, что лед попадает не легионерам, а падает в стан врагов. Был случай, когда офицер такого «мимо» не выдержал и застрелился. Для перехода в 25–30 верст полагается брать с собою две фляжки воды: одну — для себя, другую — для котла. Боже упаси, прикоснуться к этой «общественной» фляжке — изобьют до полусмерти. На привале разводят огонь и выливают принесенную для общественного пользования воду в котел. Наступает долгожданный час еды и отдыха. Не тут–то было! Вдруг, как дьяволы, налетают арабы… Приходится от них отбиваться. Стычка длится 10–15 минут, но все пропало: котел опрокинут… Измученные люди сидят голодные, слышится отборная ругань на всех языках. Офицер командует: «По стакану рому!» Сразу настроение меняется — веселье, хохот, песни… А тут же и смерть поджидает: вокруг бивуака выставляются дозоры, человек пять–шесть, с младшим офицером; арабы в своих белых бурнусах подползают неприметно, как змеи, и, случается, кривыми кинжалами вырезают всех дозорных…
Среди легионеров встречаются два типа людей. Одних трудная жизнь закаляет, делает несокрушимо выносливыми, сильными, до жестокости, людьми; других она губит, они спиваются, раздавленные тяжестью службы и существования. В числе легионеров этой категории мне довелось встретить в тот приезд житомирского певчего, который когда–то певал мне: «Ис полла эти деспота». Теперь это был спившийся человек. Я был свидетелем, как он набросился на откупоренную бутылку белого вина, которую приметил на окне у о.Варсонофия. О.Варсонофию приходилось воевать с москитами, и он травил их каким–то снадобьем из пульверизатора; множество москитов попадало в бутылку и испортило вино: пить его было невозможно. Певчий набросился на бутылку. «Можно? Можно выпить?..» — и вмиг, прикрыв горлышко платком, осушил ее до дна.
После освящения храма я побывал с визитом у французского резидента, который принял меня очень хорошо, — и выехал в Куригу.
Курига — огромное предприятие по добыванию фосфатов, перегноя органических тел: рыб, деревьев, костей животных и проч. Один из директоров М. de Sainte Marie, племянник маршала Лиотэ, относился к русским превосходно. Заводское управление дало нам помещение католической церкви (католикам построили большой костел), и русские устроили там маленькую церковь. Настоятелем я назначил о.Авраамия [
[221]]. Завод дал батюшке квартиру и положил 500 франков ежемесячного пособия, но, дабы эту выдачу провести по книгам, формально зачислил его служащим в заводской конторе.
Встретили меня в Куриге торжественно. Инженеры завода во главе с директором de Sainte Marie стояли на перроне. «Мой дом — ваш дом…» — приветствовал меня директор и повез на своем автомобиле к себе (на пути мы заехали с ним в нашу церковь). Наутро я служил обедню, которую de Sainte Marie выстоял до конца. Потом местная русская колония устроила скромный завтрак, но с изобилием шампанского, которое прислал тот же добрый директор. Его застольная речь отличалась сердечностью. «Прежде русские были наши союзники, теперь они наши братья…» — сказал он. Полились ответные речи, тосты… В конце завтрака de Sainte Marie попросил меня съездить на кладбище: «У одного инженера недавно умерла жена, сделайте доброе дело, помолитесь на ее могиле, это его утешит…» Мы посетили кладбище, а потом директор возил меня по разным учреждениям. Завод настроил прекрасные больницы, школы… Одна школа для русских, другая — для арабчат. Урок в классе арабской школы своеобразное зрелище: в углу, на полу, сидят арабчата, а перед ними стоит мулла и строго–строго кричит на ребятишек.
При прощании de Sainte Marie благоговейно сложил руки и сказал: «Благословите меня, как вы благословляете своих…»
С этим прекрасным человеком мне довелось встретиться еще раз, когда я на обратном пути проезжал через Рабат. Он пригласил меня к обеду, познакомил со своей женою. В эту встречу я был свидетелем трогательного отношения четы de Sainte Marie к памяти о русском прошлом. Они показали мне фотографию Императрицы Марии Феодоровны и маленькое зеркало. «Фотография была подарена моему дяде, служившему в нашем посольстве в Петербурге, в день посещения царской четой французского посла. А зеркало оказало услугу Императрице: она перед ним поправляла прическу. Мы бережно храним эти реликвии…» — сказал хозяин.
Я не ограничился посещением Рабата и Куриги и объехал около десяти городов. Всюду наша эмиграция встречала меня с энтузиазмом и по–русски гостеприимно. Не забуду, как на одной из трапез, уготованных в мою честь, один из присутствующих, отдавший дань доброму вину, приветствовал меня восклицанием: «Дедушка! Приезжай, пожалуйста, опять к нам!..» На него все зашикали, а мне это сказанное от сердца слово было приятно.
Хорошо запомнилась мне поездка в оазис Маракеш.
Я познакомился, на освящении нашего храма в Рабате, с французом–инвалидом (он хромал и носил протезы), заявившим мне, что он православный. Разговорились. В Великую войну он был тяжело ранен и попал в госпиталь, где его соседом по койке оказался русский офицер. Врачи считали ранение француза смертельным и в горячке госпитальной работы на него махнули рукой: ухода за несчастным не было никакого. Русский, сам раненный, стал за ним ухаживать и выходил больного товарища. Благодарность француза русскому другу была столь горяча и глубока, что повлияла на его религиозные убеждения. Он перешел в православие, полагая, что братская любовь по отношению к нему, чужому человеку, иностранцу и католику, есть проявление особого духа православной веры. После войны ему как инвалиду правительство отвело в Маракеше большой кусок земли. Уехать туда, расставшись с русским другом, он не хотел и увез его с собою. Некоторое время они работали вместе, потом русский умер. Француз горько его оплакивал. Над его гробом он воздвиг мавзолей. Когда у него родился сын (он женился на арабке), имя ребенку дали в честь покойного друга: Дмитрий; а когда ребенок умер, его гробик поставили рядом с гробом русского.
Вот у этого–то благодарного француза, столь верного в дружбе, я в Маракеше и побывал. Он привел меня к мавзолею. На гробах его дорогих усопших я с нашим духовенством отслужил Литургию. Трогательное и незабываемое впечатление! Ощущение безбрежной пустыни за полосой оливковых и апельсиновых садов… возгласы песнопения нашей православной Литургии под африканским небом… и сознание, что обедню мы здесь служим благодаря тому, что два чужеземца стали братьями… Что–то в этой картине и в ее смысле напоминало времена первохристианства.
После обедни был завтрак. Жена хозяина дома еще не встала после родов второго ребенка, но пожелала на завтраке присутствовать и, лежа тут же в столовой, распоряжалась слугами, наблюдая за порядком.
Тут же в Маракеше я посетил огромный апельсиновый сад и оливковую рощу члена нашего Епархиального управления и Парижского Приходского совета В.Н.Сенютовича. Отлично поставленное хозяйство. Чудесные дороги, разработанная система орошения…
Миссионерское монашество
Монашество аскетического духа, созерцания, богомыслия, т. е. монашество в чистом виде в эмиграции не удалось. Говорю это с прискорбием, потому что аскетическое монашество — цвет и украшение Церкви, показатель ее жизненности. По нему можно судить о состоянии Церкви. Поначалу я полагал, что эмиграция — почва весьма для монашества благоприятная: люди, претерпевшие жизненное крушение, склонны к отрешенности от мирских привязанностей; под влиянием скорбей, утрат, семейного развала, разбитых планов и надежд, лишений (подчас до бедности) создается психология оторванности от жизни. В эмигрантской среде эта психология была распространена, она давала основание надеяться, что в нашем рассеянии могут возникнуть обители, которые привлекут к себе множество одиноких душ, взыскующих духовного, иноческого подвига. Особенно, признаюсь, надеялся я на наших соотечественниц. Мне вспоминался Холм, женские монастыри моей епархии, процветавшее в них монашество… Хотелось, чтобы и в зарубежье создались какие–нибудь образцовые обители, где бы не по книгам, а на живом примере, под руководством опытных настоятельниц могли бы учиться монашескому подвизанию женские души, готовые всецело отдать себя служению Богу и ближнему. Ни одной такой обители в моей Западноевропейской епархии не создалось. Мне не удалось выписать опытной игуменьи, не удалось найти среди эмигранток те души, от которых можно было ожидать, что они впоследствии сделались бы сподвижницами игуменьи–основательницы. Беспочвенность эмигрантского существования создавала психологию отрешенности, но в ней не чувствовалось твердого основания, готовности на сознательный подвиг. Многие приходили и говорили мне о своем желании принять постриг, но к иночеству они относились эмоционально, по–дилетантски представляя себе его задачи, — обдуманной идеологии у них не было. Разочарованный в своих ожиданиях, я решил принять монашество в эмиграции в форме «монашества в миру», осуществляющего «социальное христианство», миссионерское по своей цели, — поставившее себе задачей христианизацию мирской жизни. Это разновидность того же монашества, суть же его та же. Католики давно уже усвоили эту форму служения ближнему: монахи и монахини обслуживают больницы, приюты, богадельни, работают в школах, тюрьмах, организуют общежития, детские колонии… Наши могли бы пойти таким же путем.
Кое–что за годы эмиграции в этом направлении создалось. М.Мария и м.Евдокия работают в организации «Православное Дело». М.Анастасия управляет «Домом отдыха» для выздоравливающих в Нуази ле Гран. М.Мелания и м.Дорофея — приютом для пожилых женщин в Розэй ан Бри… Есть и тайные монахини–одиночки, которые, принимая постриг, остаются в своих семьях и продолжают после пострига трудиться заработка ради, как они трудились и до него. Меня упрекают: «У вас бродячие монахини…» Я думаю, что упреков эти монахини вряд ли заслуживают, если они верны монашеским обетам и в тех или иных формах служат Богу и людям.
Монашество в эмиграции явило лишь один пример чистого миссионерства. Я разумею миссионерские труды в Индии иеромонаха Андроника (Элпидинского), бывшего настоятеля церкви в Бельфоре [
[222]].
Будучи еще священником в Бельфоре, о.Андроник подал прошение о переводе его в Индию для обслуживания рассеянных по всей Индии русских. Прошение меня не удивило. О.Андроник уже об этом поговаривал, но официально еще ко мне не обращался. Опасаясь быть тяготою для казны Епархиального управления, он исподволь собирал деньги на свою поездку, разводил овощи на заарендованном им огороде и одновременно работал на заводе Пежо, где он выделывал какие–то гайки для автомобилей.
Как я уже сказал, говоря о Бельфоре, от инженера С.Ф.Кириченко из Индии пришел запрос в Союз инвалидов, не хочет ли кто–нибудь из русских приехать работать на его ферму. Охотников не нашлось, и о.Андроник предложил себя. Ехать ему в Индию я разрешил, и он вскоре Францию покинул.
Ферма инженера Кириченко, куда о.Андроник прибыл, расположена в селении Баталор, в местности здоровой, не жаркой. Сам хозяин туда лишь наезжает, а по своей специальности работает в соседнем городе Камбатор. В одной из комнат фермы о.Андроник устроил церковку и принялся за фермерское хозяйство. Дабы земля приносила доход, он занялся садоводством, излишек дохода от земли и церкви посылая в Париж Союзу инвалидов. Такова была поначалу материальная база его существования. Прямая миссионерская его задача заключалась в обслуживании русских на неизмеримых пространствах Индостана. Русские здесь живут одиночками и группами (всего их там человек триста); до приезда о.Андроника верующие среди них были лишены всякого церковного утешения. В трудную минуту им приходилось обращаться за религиозной помощью к инославным священнослужителям. Так было с умирающей княгиней Урусовой. Старушка хотела причаститься Святых Тайн и обратилась к англиканскому епископу (Бомбейскому). Сначала он отказал наотрез, а потом сдался. «Я вас причащу, — сказал он, — но, принимая Святые Тайны, веруйте, что вы причащаетесь из рук православного священника, а я после снесусь с вашим епископом и попрошу его утвердить принятие святой Евхаристии…» Этот случай показывает, насколько в Индии православный священник был необходим.
Сперва о.Андроник разъезжал по требам, но скоро его деятельность получила новое направление. Он отправился в трехнедельное путешествие по Малабарскому побережью — в самый центр древнего индусского христианства. Здесь он встретился с особой его ветвью, именующей себя «якобитами» или «иаковитами». Это христиане, придерживающиеся монофизитской ереси. Рассеяны они в Сирии, в Месопотамии и частью в Индии. Название свое они получили от одного из сирийских епископов — Иакова Барадея, жившего в VI веке. Монофизиты (единоприродники) — еретики, не признающие двух природ в Иисусе Христе, но лишь одну — божественную. Ересь эта была осуждена IV Вселенским Собором. К этому еретическому учению о лице Иисуса Христа главное разногласие с нами и сводится. Что касается церковной жизни, то их крепкая церковная традиция пронесла через 2000 лет почти все существенное в непорочном виде, и разница, бросающаяся в глаза, коснулась лишь внешней стороны. У «иаковитов» 7 таинств, как и у нас, но множество литургий (у нас три). Литургия может служиться сразу на нескольких престолах; допускаются звонки, просфоры в виде бисквитов; для святой Евхаристии употребляется сок из светлого изюма, приготовляемый перед самой Литургией; иконопочитание одними епископами принимается, а другими отрицается; крещение совершается посредством обливания; нательных крестов миряне не носят, кресты (наперсные) носят только епископы и монахи; крестное знамение с левого на правое плечо; пастырское благословение преподается не в виде крестного знамения, а прикосновением ко лбу; строгость к таинству покаяния большая: кто год не говел, тот отлучается от церковного общения… — католические наслоения на восточно–православную основу несомненны.
Церковь «якобитов» раскололась 25 лет тому назад на два церковных объединения: 1) Церковь Антиохийского Патриарха Ильи–Игнатия III, объединяющего до 100000 верных и возглавляющего четырех митрополитов, и 2) Церковь Католикоса Василия–Григория, так называемая «The Orthodox Syrian Church of the East», она объединяет 350000–400000 верных, имеет 470 церквей (из которых многие с прекрасно налаженной приходской жизнью) и много школ. Католикосу подчинены 1 митрополит и 2 епископа.
Раскол на эти две ветви возник вследствие того, что глава Сирийской Церкви Католикос Василий–Григорий отделился от Патриарха и переехал в Индию, где вокруг него объединилось много сторонников. Соперничество между обеими ветвями объясняется тем, что Патриарху Антиохийскому и его сподвижникам ближе белые, нежели индусы; этот расовый признак отдаляет население от Патриарха и влечет к Католикосу, который им «свой» архипастырь. Так, например, митрополит Дионисий, сподвижник Католикоса, пользовался громадной популярностью среди широких кругов индусского населения, и его кончина, по свидетельству о.Андроника, вызвала искреннюю всеобщую скорбь.
Параллельно этим ветвям существует еще «Церковь апостола Фомы», возглавляемая митрополитом Титом и объединяющая около 100000 верующих и имеющая 200 церквей. Она откололась от «якобитов» лет семьдесят тому назад. Националистическая по духу, Церковь эта проникнута протестантскими заимствованиями — например, она не признает святых.
Есть еще одна Церковь, «Евангельской миссии», возглавляемая священником–англичанином Батли. Он был посвящен не имеющим паствы митрополитом (или даже патриархом) из Месопотамии. Церковь Батли остальные Церкви не признают, усматривают в ней несторианский уклон, считают Батли ставленником англичан, обвиняют в подкупе крещаемых английскими деньгами. Надо сказать, что в Индии между всеми разветвлениями христианства наблюдается конкуренция, и деньги известную роль играют [
[223]], деморализуя народные массы. В их представлении миссионер из Европы или из Америки — человек с деньгами, которого можно обобрать.
В эту поездку на побережье Малабара о.Андроник ознакомился со всеми разветвлениями индусского христианства и с некоторыми видными его представителями — и пришел к заключению, что направление его собственного миссионерского пути особое, ни с одной из существующих индусских Церквей не совпадающее.
Он побывал у Антиохийского Патриарха Ильи–Игнатия III, который как раз в это время объезжал Индию, и был встречен им благосклонно и гостеприимно. Но встреча эта к дальнейшему сближению не повела. Зато с Церковью Католикоса Василия–Григория о.Андроник сблизился. По его словам, в Сирийской Церкви, в ее главе и епископах, чувствуется истинно христианский дух и крепкая спаянность иерархии со своей паствой. В беседах с некоторыми видными представителями этой Церкви о.Андроник постоянно указывал на основной недостаток — оторванность Сирийской Церкви от Вселенской Православной Церкви и был неожиданно для себя утешен общим желанием единения со Вселенской Церковью через посредствующее звено — Русскую Православную Церковь. Это стремление и сблизило Церковь Католикоса с о.Андроником — единственным православным русским иеромонахом на всю Индию, который мог бы помочь делу объединения с Православной Церковью. Нашего иеромонаха «якобиты» оценили, полюбили, им заинтересовались. Выяснилось, что близость с нами в прошлом, каноническая и вероучительная, им очень ценна.
Единомыслие в вопросе о соединении сблизило о.Андроника с диаконом Сирийской Церкви о.Фомою, бывшим главою «якобитской» семинарии, очень образованным, скромным человеком, уже лет 20 пребывающим в сане диакона. О.Фома живет близ Патапапурама в центре Траванкора, где развивает энергичную религиозно–просветительную деятельность. Он владеет здесь несколькими участками земли, построил на одном из них училище с церковью, на другом небольшой женский монастырь (первый в Траванкоре). По приглашению о.Фомы о.Андроник приехал погостить. В лице о.Фомы он нашел друга нашей Церкви и братски преданного ему человека. Временно поселившись вместе, они сообща занялись религиозно–просветительной работой: по воскресеньям устраивали в округе религиозные митинги. Индусы любят дискуссии на религиозные темы, полемику, доклады, проповеди; любят выяснять, на чьей стороне правда, и высоко ценят образование (черта, дающая основание заключить, что действенно влиять на индусов можно через учебные заведения). Ознакомил о.Фома своего гостя и с созданной им маленькой женской обителью и попросил достать ему православный чин пострижения в монашество, а также высказал желание, чтобы две русские монахини приехали в его монастырь.
Побывал о.Андроник и в мужском «якобитском» монастыре; основан он 12 лет тому назад. В одном из своих донесений о.Андроник довольно подробно рассказывает об этом посещении. Монашеский устав «якобитов» многим отличается от нашего. Отличительные черты «якобитского» монашества — отсутствие той суровой аскезы, которая характеризует наш устав. Нет долгих служб, нет употребления «Иисусовой молитвы», серьезной сосредоточенности, нет и обетов при пострижении. Молитва и послушание не являются сущностью монашеского подвига, а как бы обрамляют монашескую жизнь; общие молитвы в монастыре частые, но краткие, зато у «якобитских» монахов больше, нежели у нас, определенных и узаконенных часов на размышления и на молчание; но вне этих часов монахи ведут оживленные беседы друг с другом и группами. Состав монахов в монастыре, который посетил о.Андроник, — преимущественно молодежь.
О.Фома высоко оценил подвижнический дух о.Андроника и предложил своему гостю основать скиток и подарил ему на горе кусок земли. Здесь, орудуя заступом и топором, наш русский подвижник стал строить себе келью и церковку. Индусы на работу косились… Гора посвящена языческой богине Бодрагали, — заповедная. Посыпались петиции местным правительственным властям, но решительных мер не последовало: церковь о.Андронику разрешено иметь, но на правах домовой, т. е. без права создать приход. Вокруг скита о.Андроник развел сад и огород. Хотел заняться пчеловодством, да оно не пошло; неблагоприятны для него климатические условия. Хижину себе о.Андроник соорудил из пальм с перекрытием из кокосовых листьев вместо прочной крыши. Обстановка убогая: вся мебель — две доски, они служат и постелью, и сиденьем, и столом. По вечерам освещение — одна лампада. Питье — вода, редко что иное. Еда скудная, «…но не могу жаловаться, чтобы я голодал против воли. Господь помогал сводить концы с концами…» — пишет он мне в своем донесении. И упоминает о полной безопасности для него в ночное время: с вечера до утра, он уверен, никто не придет: вершина горы, по убеждению окрестных жителей, обиталище злых духов. Дикие звери реальная опасность в тех краях. Тигры и дикие слоны обыкновенно днем от человека уходят, зато в темноте без огня ходить нельзя. «Был случай, — рассказывает о.Андроник в одном из своих писем, — когда я ночь провел в деревне, где в окрестном лесу ночует около двадцати пяти диких слонов. Как–то раз в темноте мы огнем спугнули леопарда. Людям со слабым здоровьем и пугливым нужно быть осторожными…» Грозная опасность — змеи. За год в Индии погибает от укусов до тридцати тысяч человек. Однажды вошел о.Андроник в свою церковь, а на престоле лежит кобра…
О.Андроник в своем скиточке пребывает не безвыходно. Он разъезжает с докладами, проповедями по соседям и раз в неделю служит Литургию в церкви о.Фомы. Тогда приходится оставлять все свои посадки на произвол судьбы; случалось находить их по возвращении попорченными от обезьяньих набегов. На климат о.Андроник не жалуется, климат там хороший.
Из этих описаний условий жизни и миссионерских трудов о.Андроника можно сделать заключение, что о.Андроник являет пример «мужа апостольского», стойкого, самоотверженного. Всевозможные лишения, опасности, подвижничество в полном физическом и моральном одиночестве, несколько лет без возможности исповедаться… — все это он мужественно претерпевает. Ярко и светло вырисовывается личность о.Андроника. Я чувствую, что мы виноваты, — мы недостаточно живо отзывались на его запросы, письма, донесения. Только совсем недавно организовался «Комитет помощи о.Андронику» при Свято–Троицком Братстве под председательством о.А.Калашникова, дабы по мере возможности заботиться хоть о самой скромной субсидии нашему подвижнику.
Неудивительно, что такой монах–миссионер, как о.Андроник, стяжал редкое и единодушное уважение «якобитов» обоих разветвлений, а также и инославных христиан, особенно англикан. Знание английского языка и усвоение местного «якобитского» наречия — внешние благоприятные условия сближения с ним.
После почти трехлетнего пребывания в Траванкоре о.Андроник съездил на Рождество (в 1934 г.) на ферму С.Ф.Кириченко. Дорогой посетил некоторые места, где живут русские. Вновь довелось ему служить в своей первой церковке на ферме, где он провел 8 месяцев по приезде в Индию. Светлый праздник привлек богомольцев человек шестьдесят, из них около двадцати детей и взрослых человек сорок, — большею частью русских крестьян, осевших за годы 1932–1934 в Индии, но собиравшихся двинуться дальше, в Бразилию. «Впервые после трех с половиной лет в Индии я служил, как бы в России, исповедав и причастив около сорока человек…» — пишет о.Андроник в своем донесении. Малая у него русская паства, рассеянная, сплотить и организовать ее трудно, но все же она существует и к своему церковному центру инстинктивно влечется. К празднику Воскресения Христова (1933 г.) я послал православным русским людям в далекой Индии следующее пасхальное приветствие:
Православным русским людям, живущим в Индии.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этот всерадостный христианский привет пасхальный шлю вам, возлюбленные чада Православной Русской Церкви, рассеянные и затерянные в далекой Индии. Да отзовется он глубоко в сердцах ваших и да озарит их радостью Светлого Праздника Воскресения Христова.
Знаете ли вы, что разбросанные по всему свету русские люди в местах своего рассеяния прежде всего заботятся о том, чтобы организовать церковную общину и устроить хотя бы самый скромный, маленький храм. Сколько теперь таких трогательных беженских храмов, созданных любовью и усердием русских изгнанников, которые в устроение их вложили не только свои лепты, но и частички своих измученных, страждущих душ!
Недавно и в Индии появился православный русский иеромонах Андроник (Элпидинский), посвященный мною в Церкви Подворья Преподобного Сергия в Париже. Он поселился на ферме русского инженера Кириченко, близ города Бангалора (Pr. Andronik с–о Kirichenko's Farm. Agram Village via Bangalor, South India), и теперь занят устройством маленькой домовой церкви.
В эти светлые дни Праздника Воскресения Христова, с великою духовною радостью извещая вас об этом, приглашаем всех православных русских людей, рассеянных в Индии, обращаться со всеми своими духовными нуждами, объединяться около него и через него соединяться со всею Православною Церковью в молитвах, таинствах и вообще в христианской вере и жизни. Усердно просим всех оказывать о.Андронику всяческое содействие и помощь моральную и материальную.
Дело о.Андроника святое, великое и трудное. Он продолжает благовестнические труды святого Апостола Фомы. Принесенная им от Матери Русской Церкви и возжженная в далекой Индии лампада святой Православной веры не только соберет на свой священный огонь разбросанных там русских людей, но, может быть, привлечет внимание и местного нехристианского населения и побудит их «любопытною десницею» осязать Спасителя, чтобы воскликнуть в порыве пламенной веры вместе с святым Апостолом Фомою: «Господь мой и Бог мой!»
Помогите же, православные русские люди, о.Андронику, который пока трудится в одиночестве, и не дайте погаснуть новому светильнику святого Православия, — да светит он своим спасительным светом всем — и своим и чужим, и близким и дальним.
Свет Христов просвещает всех.
Митрополит Евлогий.
Главное дело о.Андроника, повторяю, состоит не в том, что он обслуживает русских, а в том, что он, скромный русский монах, открыл для православия индусских христиан и положил основание проблеме воссоединения их с Православной Вселенской Церковью через Русскую Церковь. Пути разрешения этой важной проблемы трудно сейчас предвидеть.
Когда выяснилось, что Церковь Католикоса стремится к единению и дружественна по отношению к нам, о.Андроник дал мой адрес, дабы завязать наши церковные сношения. Я получил письма и на них ответил, но вскоре увидел, что у меня нет ни людей, ни денег (а нужны большие деньги), ни полномочий Матери Русской Церкви для того, чтобы справиться с такого рода задачей. Мы бедны, бесправны, где же нам поднять тяжесть такого великого начинания! Я старался заинтересовать Вселенский Престол, исходя из соображения, что Индия, церковно–географически, область либо Антиохийского, либо Константинопольского Патриарха, но на мое донесение не отозвались… А тем временем Католикос, о.Фома и еще кто–то из священнослужителей — «якобитов» побывали в Иерусалиме, познакомились с архиепископом Анастасием. Карловацкие сферы заинтересовались индусским движением, выпросили у Сербского Патриарха Варнавы помощь, — и карловацкий епископ Димитрий, дорогой на Дальний Восток, заехал в Индию и познакомился с о.Андроником.
В прошлом, 1936 году, Всемирный съезд «ИМКА» был в Индии. От Сербии на Съезд Патриарх Варнава командировал митрополита Досифея Загребского. Учитывая создавшееся положение, я написал Патриарху Варнаве, что не возражаю против участия Сербской Церкви в начатом о.Андроником деле; важно, чтобы это большое дело сделалось, и, если наш о.Андроник нужен, «я готов отдать его в ваши руки». «Ин есть сеяй, ин есть жняй…» (Иоан.4,37), — писал я Патриарху. Одновременно я просил, чтобы митрополит Досифей посвятил о.Андроника в архимандриты.
Я думаю, что «карловчанам» тоже непосильна проблема воссоединения. За нее может взяться лишь какая–нибудь автокефальная Церковь, утвержденная на твердом основании, например — Сербская Церковь, возглавляемая энергичным Патриархом Варнавою.
Недавно до меня дошла весть, что игуменья Евгения, бывшая настоятельница обители «Нечаянная Радость», проживающая последние годы в Иерусалиме, по поручению архиепископа Анастасия едет как монахиня–миссионерка с несколькими сестрами к о.Андронику. Боюсь, чтобы она не встала ему поперек дороги… О.Андроник — это такт, любовь, умение владеть собою, а м.Евгения человек крутого, своевольного нрава, может от православия оттолкнуть. Я благословил самую идею миссии, но упомянул, что ехать в Индию не следовало уж по одному тому, что подвиг этот очень трудный и вряд ли она, больная и старая, может поднять его.
В эмиграции за эти годы было несколько попыток основать монастырские общежития. О них я теперь и расскажу.
Обитель «Нечаянная Радость»
Возникла обитель в 1926 году, в Гарган–Ливри, под Парижем, по почину м.Евгении [
[224]]. Во время гражданской войны она возглавляла организацию помощи офицерам — участникам белого движения под названием «Белый Крест». Монашество она приняла в Константинополе, во время эмиграции, а потом через Болгарию проехала в Париж. Здесь в одном из предместий, в Гарган–Ливри, открыла школу–общежитие для детей и при ней церковь, лелея надежду, что вокруг этого просветительного учреждения сгруппируются взыскующие монашества эмигрантки и в Гарган завьется монашеская общинка.
М.Евгения, умная, интеллигентная, властная и умелая организаторша, принялась за дело с большой энергией. Поначалу казалось, что все пойдет хорошо, но некоторое время спустя выяснилось, что она раздваивается, преследуя две цели сразу: 1) создание учебно–воспитательного учреждения и 2) организацию монастыря. Эти две линии перепутывались и друг другу мешали. Деток м.Евгения подчинила монастырскому уставу (службы по 2–3 часа); души детские брать в руки она умела, но не всегда религиозная насыщенность школьного быта влияет благотворно, иногда это вызывает сопротивление и приводит к печальному результату: дети выходят из школы менее религиозными, чем поступили.
Не ладилось у м.Евгении и с персоналом. Педагогическая корпорация, в лице некоторых своих членов, либо была не на высоте монашеских устремлений, либо не на высоте учебно–педагогических требований.
Причиной прочих препятствий для нормального развития этого полезного в эмиграции учреждения была сама м.Евгения. Нервная и своенравная, она сообщала нервность свою всему строю жизни. В обители не было тишины, благодати, покоя. Вечно кто–то на кого–то сердился, кто–то был раздражен, кто–то плакал. Обслуживающие общежитие сестры с м.Евгенией не ладили, и неприятности, трения, разрывы и отъезды… стали обычным явлением в «Нечаянной Радости». Единственная послушница, постриженная в обители в рясофор, ужиться с м.Евгенией не смогла и покинула ее. Священники, обслуживающие обитель, тоже с настоятельницей не уживались. За 8 лет существования обители переменилось 9 священников: о.Васильковский, о.Чернавин, о.Варсонофий, о.Алексий (Киреевский), о.Сухих, о.Афанасий, о.Кирилл, о.Титов, о.Яшвиль… Сколько забот потребовалось, сколько неприятностей доставила мне «Нечаянная Радость»! Я старался помирить м.Евгению с очередным священником — тщетные усилия… Обычно она тем яростней возмущалась им, чем тверже я настаивал на примирении.
Впоследствии м.Евгения со всей обителью перебралась в Сен Жермер де Фли (около Бовэ) в большой дом — когда–то конфискованное правительством здание католического монастыря. Юридически оно арендовалось католическим обществом, но фактически оно зависело от местного католического епископа в Бовэ. Расположившись в новом помещении, мы решили над нашей церковью водрузить православный шестиконечный крест. Каково было удивление, когда от представителя того общества, у которого мы дом наняли, последовал протест и требование — крест снять!.. По просьбе м.Евгении я обратился к епископу в Бовэ с письмом: «…Удивляюсь, что это требование заявлено от Вашего имени… Епископ может только радоваться, что здание увенчано крестом, а не протестовать…» В ответ — молчание.
Надежду на создание женского монастыря в «Нечаянной Радости» мне долго не хотелось оставлять. М.Евгения объясняла неудачу отсутствием в эмиграции женских душ, влекущихся к монашеству. Тот женский элемент, который в обитель попадал, были в большинстве пожилые, больные, беспомощные дамы, которым негде было приткнуться. Душ, горящих стремлением к подвигу, не было. Когда я убедился, что у м.Евгении ничего не выходит, я решился на героический шаг в надежде, что это поправит дело. Я списался с монахинями Вировского монастыря [
[225]], проживавшими в Румынии, и выписал из них трех хороших инокинь с многолетними привычками к монастырскому труду и быту: регентшу, садоводку и простую труженицу. Поначалу они в «Нечаянной Радости» как будто стали прививаться, но вскоре начались горькие слезы… И мне было перед ними стыдно. Монахини заявили, что уедут обратно. М.Евгения пригрозила, что обратится к властям и воспрепятствует отъезду. Тогда они бежали в Медон к священнику о.А.Сергеенко для работы в устроенном им детском приюте. Здесь они заработали себе на дорогу и отбыли в свой прежний монастырь в Румынии. М.Евгения была вне себя и предъявила ультиматум: я — или о.Сергеенко!
Так печально закончилась последняя попытка спасти обитель. Вскоре она закрылась, и игуменья м.Евгения уехала в Иерусалим.
М.Евгения не имела данных для основательницы монастыря; быть может, кое–кого из взыскующих монашеского пути она даже спугнула. Но все же 8 лет делала хорошее дело. Через приют прошло несколько сот девочек — самая–то беднота: брошенные дети, сироты, полусироты… Содержала м.Евгения приют на свой счет и взимала плату минимальную, да и ту зачастую ей не платили или платили плохо и только частью. Девочки получали в «Нечаянной Радости» хорошее воспитание, выходили из приюта скромные, благовоспитанные. Двух девочек м.Евгения устроила в швейцарские семьи, где их усыновили. Одну беззащитную девочку, которую католики хотели перевести в католичество, она отстояла. Нельзя умолчать, что многие из воспитанниц обители сохранили к м.Евгении доброе, благодарное чувство.
Монашеская община во имя Казанской иконы Божией Матери
Первый опыт с игуменьей Евгенией (Митрофановой), как я уже сказал, был неудачен, главным образом вследствие ее тяжелого характера: она людей не привлекала, но отталкивала.
Потом пришла к монашеству, постриженная мною, м.Мария (Скобцова), женщина умная, богато одаренная, образованная и с крепкою волею. Я обрадовался и мечтал, что она сделается основоположницей женского монашества в эмиграции. В Париже она создала небольшое церковное общежитие, сначала в улочке–тупике (Villa de Saхе), выходящей на avenue de Sахе, а потом на rue Lourmel, № 77. К сожалению, скоро выяснилось, что м.Мария неспособна воспринять идею подлинного, исторического монашества. Она вышла из левых интеллигентских кругов, отлично понимала и умела справляться со специальной церковной работой (попечение о безработных, больных, умалишенных…), называла свою общественную деятельность «монашество в миру», но монашества, в строгом смысле этого слова, его аскезы и внутреннего делания, она не только не понимала, но даже отрицала, считая его устаревшим, ненужным. Внутренний смысл монашества, его особенный, чисто церковный характер, так мне и не удалось ей разъяснить. Чтобы все же своей цели добиться, я выписал из Сербии ученого архимандрита Киприана (Керна), строгого инока, и сделал его священником домовой церкви общежития на rue Lourmel. Но и о.Киприану не удалось внушить м.Марии правильное понимание монашеского пути — напротив, начался разлад, взаимное отчуждение, которое мне было очень трудно сглаживать. Бедные две монахини, Евдокия и Бландина, оказались между двух огней и, конечно, всеми силами души тяготели к подлинному, строгому монашеству, живым воплощением которого был архимандрит Киприан.
В подобном же положении оказались две другие монахини — Дорофея и Феодосия — в другом общежитии, в Rozay–enBrie (S. et M.), которым управляла м.Мелания (Лихачева). Потерпев неудачу с м.Марией, я думал здесь создать очаг женского монашества.
М.Мелания очень добрая женщина, но слабая, подчиняющаяся посторонним влияниям и в монашестве неопытная. По желанию настоятеля Аньерского прихода игумена Мефодия (ныне архимандрит) она превратила свое общежитие в «Дом отдыха» для прихожан этого прихода и в приют для старушек [
[226]]. Все это было бы очень хорошо, но мирские, приходские дела и заботы заполняли всю жизнь, а монашескому подвизанию не уделялось достаточно времени и внимания. На этой почве разлад и начался… Сперва я думал, что всему виною дурной характер одной из монахинь, но потом убедился, что м.Мелания не умеет руководить молодыми инокинями. Когда их духовник, иеромонах Евфимий, очень внимательный к духовной жизни монахинь, также присоединился к оппозиции немонашескому настроению общежития, я пришел к заключению, что завязать здесь хоть маленький, но крепкий узел монашества невозможно.
Тогда у меня созрела мысль — оставить оба эти общежития, на rue Lournel и в Rozay–en–Brie, и создать новый очаг монашества, собрав туда четырех монахинь (Евдокию, Дорофею, Бландину и Феодосию). Сначала я думал поручить это учреждение духовному руководству архимандрита Киприана и устроить его в Париже, потому что о.Киприан был с Парижем связан, будучи преподавателем в Богословском Институте; не мог он уехать и потому, что ему бы пришлось покинуть сплоченную группу своих духовных детей. Долго, несколько месяцев, искали помещение для общежития и не могли найти. Волей–неволей пришлось искать его вне Парижа и дать монахиням в руководители не о.Киприана, а о.Евфимия. Искания были продолжительны; наконец была найдена и снята ферма в Molsenay–le–Grand (S.еt М.) вблизи городка Меlun (по Лионской железной дороге), принадлежащая русскому доктору Ковалю. Дом хороший, но не очень просторный, обширная усадьба: огород, сад, полевая земля, свой лесок — все довольно запущено, особенно надворные постройки; нет центрального отопления, электричества и водопровода (воду надо качать помпой из колодца на дворе). Удобств житейских мало. Но сестры бодры духом; устроили в одной из комнат молельню (потом церковь во имя Казанской иконы Божией Матери) и завели регулярное богослужение; много работают в огороде, приспособляют курятники под кельи, дабы комнаты в доме можно было сдавать платным жильцам; уже взяли одного совершенно парализованного офицера…
Я был в Moisenay, освятил дом и благословил сестер на новоселье. Дай, Господь, молитвами Пресвятой Богородицы, завязать здесь крепкий узел женского монашества в эмиграции. Большое, важное это дело [
[227]].
Скит «Всех Святых в земле Российской просиявших»
В 1930 году я командировал в Реймс иеромонаха Афанасия (Богословского Института) прозондировать почву, нельзя ли там открыть приход. Разведка дала сведения неблагоприятные: русских мало, прихода организовать нельзя. Вместо прихода под Реймсом возник скит.
Основал его о.Алексий (Киреевский), иеромонах, прибывший с Афона в 1925 году. Я направил его в обитель м.Евгении в Гарган–Ливри законоучителем и священником приютской церкви. С м.Евгенией он не поладил, и я перевел его в Бийанкурский приход, где он некоторое время настоятельствовал [
[228]]. Потом он хотел вернуться на Афон, но в тяжбе с «карловцами» Афон склонялся на сторону моих противников, и о.Алексия под предлогом, что он «евлогианин», обратно не приняли. Приходилось думать о том, как бы обосноваться во Франции.
Под Реймсом, около Мурмелон ле Гран, расстилаются громадные пространства Шампани — когда–то, в Великую войну, арена ожесточенных боев. Теперь там неподалеку друг от друга три больших кладбища павших воинов. Наших в этих боях полегло около четырех тысяч человек, и погребены они на одном из кладбищ в двух братских могилах, но много есть и отдельных могил. Французы содержат кладбища в порядке. Раз в году, летом, русская эмиграция устраивала на могилы паломничество. Приезжали представители разных общественных организаций, приглашали духовенство, певчих, украшали могилы венками, цветами, а после панихиды произносили на могилах патриотические речи. Французы считали своим долгом почтить память павших за Францию русских своим присутствием, и в этот торжественный день на кладбище съезжались представители местной администрации и некоторых военных частей, расквартированных под Реймсом, и приходило немало окрестных жителей.
У о.Алексия явилась мысль основать рядом с кладбищем скит с афонским уставом и тем самым создать религиозный центр для молитв об убиенных воинах, а также и для вечного поминовения усопших в эмиграции. Он подобрал двух учеников–послушников: Дмитрия Никитина и Виктора Коротая и, дабы приуготовить их к подвигу, уехал вместе с ними в Прикарпатскую Русь, в монастырь к архимандриту Виталию. По возвращении послушники приняли постриг (рясофор) под именами Иоасафа и Варлаама. На пожертвованные добрыми людьми деньги о.Алексий приобрел в непосредственном соседстве с кладбищем кусочек земли (2 гектара) и построил скромный барак, в котором отвел помещение под церковь.
Устав скита был принят афонский, со всем кругом скитских богослужений (ночное последование служб с 12 часов ночи до 4–5 часов утра и т. д.) — так был основан православный скит во Франции.
В лице братьев Иоасафа и Варлаама [
[229]] о.Алексий приобрел замечательных людей, редких по смирению, послушанию и выносливости. Святые люди. Труд, который взвален им на плечи, непомерно тяжел — обременены они работой до переутомления. Продолжительные скитские церковные службы, молитвенное келейное правило, тягота хозяйства: печенье просфор, работа в огороде, кухня, водовозное послушание (артезианский колодезь вырыли сравнительно недавно, а первые годы воду приходилось возить бочками за четыре версты на ручной тележке). Престарелому о.Алексию при двух трудоспособных помощниках, конечно, со всей сложностью скитского устава справиться трудно. Я упрекал о.Алексия за то, что он переобременяет своих сподвижников непомерным трудом, и убеждал его пересмотреть вопрос об уставе, но, по словам о.Алексия, молодые монахи сами стоят за сохранение его в нерушимости. Этим решением — не изменять устава, думаю, и объясняется то явление, что за 6 лет существования скита ни один из аспирантов, попадавших под начало о.Алексия, искуса не выдерживал и новых пострижешщ за все это время не последовало. Афонский устав рассчитан на многочисленную братию, среди которой распределить все необходимые послушания нетрудно; в нашем скиту они взвалены полностью на 2–3 человек, и физически долго этого не выдержать. Надо понять, что устав применяется к реальным условиям жизни, а потому эти условия нельзя не учитывать. Монашеский идеал не знает незыблемо–неизменных форм. Но о.Алексия, 29 лет подвизавшегося на Афоне, убедить в этом трудно. Отличный знаток афонского устава, начитанный в аскетической литературе, монах опытный на путях духовного делания, он, однако, не смог зажечь, при всех своих положительных данных, того огонька, к которому бы души повлеклись. Преобладание «Типикона», «буквы», формального начала над духом на путях монашеского подвизания — неблагоприятная атмосфера для произрастания молодых побегов, а долголетний афонский стаж, который укрепляет о.Алексия в сознании, что только он один на высоте монашеского идеала, не способствует, а препятствует сближению с ним душ, взыскующих монашества.
Года два тому назад рядом с первым бараком построили второй — для богомольцев. Число их в году невелико, но в установленный для паломничества на могилы день обитель оживает, привлекая под скромный, но гостеприимный кров множество паломников. После торжественной панихиды на кладбище о.Алексий с братией оказывают посетителям радушный прием и устраивают даровую братскую трапезу.
Материальная база скита зыбкая. Овощи со своего огорода — основное питание наших скитожителей, все остальные расходы надо покрывать из взносов за поминовения усопших и пожертвований почитателей о.Алексия и друзей скита. Некоторым подспорьем служат и посылки с продовольствием, ношеной обувью, одеждой, которые от времени до времени поступают от благотворителей. И соседи, французские фермеры, нет–нет и побалуют скит какими–нибудь приношениями от своего хозяйства. Таковы скудные скитские ресурсы. Случаются и непредвиденные и озадачивающие пожертвования. Так, например, в скит прибыла посылка от какой–то овдовевшей дамы: фрак и смокинг покойного ее мужа. И тут же просьба — распорядиться вещами по своему усмотрению, а что выручат — счесть взносом на помин души усопшего… Смокинг о.Алексий обменял в округе, у одного фермера, на воз навозу для своего огорода, а с фраком было трудно: пришлось везти в Париж и предлагать знакомым.
Существование скита вошло в новую фазу, когда «Союз русских комбатантов» решил построить на Мурмелонском кладбище храм — памятник в честь павших русских воинов. Союз купил землю, собрал большую сумму денег и выстроил прекрасный храм по проекту художника–архитектора Альберта Александровича Бенуа. Псковский стиль XV века. Храм увенчан маленьким синим куполом, златоглавая звонница, певучие колокола, подобранные на колокольном заводе под звуки рояля отличным музыкантом, священником о.Михаилом Яшвилем. Прекрасно расписан и отделан храм внутри. Снабжен он и всем необходимым: облачением, церковной утварью и проч.
В воскресенье, 16 мая (1937 г.), состоялось освящение этого храма. Торжество прошло с подъемом и привлекло много русских, особенно молодежи; почтить память павших на поле брани «отцов» собрались «дети»: витязи, разведчики, сокола, скауты… они специально прибыли на праздник и расположились лагерем в соседней ферме, которая называется «Москва».
В «слове», сказанном мною в храме после освящения, я отметил глубокое значение нашего торжества: на полях Шампани, вокруг православного храма, в непосредственной близости православной обители, объединилось наше славное историческое прошлое, о котором напоминают могилы наших воинов, — с нашим будущим, с той молодежью, которая прибыла на праздник как бы во свидетельство, что она готова стать преемницей лучших заветов доблести и самопожертвования, унаследованных от прошлого.
После освящения храма в обители был завтрак. В день торжества я возвел о.Алексия в сан архимандрита, а в речи за завтраком оттенил его заслугу: созданием скита — молитвенного центра поминовения наших воинов — о.Алексий в течение всех этих лет напоминал эмиграции о павших героях, и как бы в ответ на молитвенный труд его и братии в русской эмиграции зародилось стремление достойным образом увековечить доблесть и самопожертвование убиенных: прекрасный храм Воскресения Христова, который нынче освятили, есть достойный памятник их ратного и жертвенного подвига…
Я рассказал о попытках создать в эмиграции общежительное монашество и принужден сделать заключение: монашество в эмиграции не расцвело. Признаю это с грустью, с неудовлетворенностью. Причин неудачи с точностью не определить: не то почвы для него не было, не то я сам не сумел с задачей справиться. Но в результате — организованной, процветающей обители у нас пока еще нет.
Глава 22. ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Географическое положение Русской Церкви в рассеянии, вкрапленность среди других вероисповеданий невольно заставили нас соприкоснуться с инославными нашими братьями. Перед нами встали проблемы, которые раньше, до эмиграции, внимания нашего не привлекали; ни внутренней необходимости интересоваться ими, ни внешней — с ними считаться у нас тогда не было. Русская Церковь чувствовала себя самодовлеющей и слабо откликалась на попытки сближения с нами инославных Церквей. Правда, говорили у нас о старокатоликах, об англиканах в связи с приездом некоторых англиканских епископов и священников, но за пределами малых групп и отдельных лиц (протопресвитер И.Л.Янышев, генерал А.А.Киреев) никто серьезно сближением с инославными не интересовался. Даже те профессорские круги, которые изучали другие вероисповедания, одушевления не проявляли, а холодно и схоластически спорили об отступлениях от православия, анализируя инославные богословские формулы и теории. В нашей полемической литературе все внимание было направлено на пункты расхождения, а не на пункты нас с другими христианскими вероисповеданиями объединяющие. Словом — сближение не удавалось.
Нашему несчастью — эмигрантскому существованию — обязаны мы тем, что Русская Церковь, оказавшись в соприкосновении с инославной стихией, была самой жизнью вынуждена войти в общение с нею и тем самым преодолеть свою косность и обособленность.
Говоря об экуменической проблеме в эмиграции, надо определить наши отношения к католикам и к протестантам. Смешивать нельзя. Эти вероисповедания — два разных аспекта христианства; в нашем церковном опыте мы по–разному пережили соприкосновение с ними.
С католиками у нас больше общего, нежели с протестантами и в области догматической, и в литургике, и в некоторых формах церковной жизни. Однако вследствие особых свойств католической иерархии наши отношения с католиками не наладились. В первые годы эмиграции возникли кружки, где встречались католические и православные богословы и философы, но дальше профессорских докладов и дискуссий дело не пошло и на взаимоотношения Церквей не повлияло.
Мне лично общаться с католиками было особенно трудно, потому что моя деятельность в западнорусских епархиях и политическая линия, которой я следовал в Государственной думе, утвердили за мною репутацию яростного противника католичества. Может быть, поэтому мне в эмиграции с католиками и не посчастливилось. Были отдельные знакомства, отдельные приятные встречи, но к сближению Церквей такого рода общение не повело. Например, в самом начале моей жизни в Париже появился иезуит, иеромонах Антоний Мальви. Он говорил по–русски, бывал в нашем храме на рю Дарю, иногда заходил ко мне после обедни побеседовать. С этим мирным, хорошим человеком у меня установились простые и добрые отношения. «Вы подосланы высшим начальством наблюдать за мною», — шутил я. В ответ он добродушно смеялся.
Однажды, незадолго до моего отъезда в Биарриц, открывается дверь — и входит о.Антоний. «Вы едете в Биарриц?» — «Да». — «Вы побываете в Лурде? Биарриц ведь почти рядом». — «Определенного маршрута у меня нет». — «Разрешите вас сопровождать?..» От любезного предложения я стал уклоняться: неудобно русскому архиерею путешествовать в сопровождении иезуита… Я уехал в Биарриц. И дня не прошло, приезжает туда о.Антоний с приглашением от имени епископа Тарбского — посетить Лурд и быть его гостем. Отклонить приглашение было неловко, и я его принял.
В Лурде у вокзала ожидал меня экипаж епископа. Подъезжаем к его дому — он меня встречает в окружении нескольких прелатов. Не зная французского языка, я был встречею смущен, но о.Антоний оказался отличным переводчиком. Мне было предложено отдохнуть, а потом пожаловать к «чаю».
В Лурд я попал совсем для себя неожиданно в канун праздника «Непорочного Зачатия». Паломников к этому празднику наезжает десятки тысяч; прибывают они не только целыми семьями, но громадными епархиальными паломническими объединениями во главе со своими епископами.
К вечеру предложили пойти к базилике. Я увидал величественную картину, о которой храню светлое, прекрасное воспоминание.
Несметные толпы паломников со знаменами, со свечами–факелами, под предводительством духовенства, процессией спускаются с вершины холма на площадь перед базиликой. Золотое мерцание бесчисленных огоньков, восторженное пение гимна Деве Марии… Вот уже вся площадь — море огней. Раздается мощное пение. Поет тысячеустая толпа, поет в пламенном религиозном подъеме, в каком–то святом восторге… Духовенство во главе с епископом Тарбским столпилось на одной из террас базилики (меня провели на эту террасу). Когда голоса смолкли, епископ благословил народ.
Во время ужина у епископа я поделился с присутствующими своими впечатлениями.
Наутро, часов в семь, я пошел к гроту. В гроте устроен маленький алтарь. Одна месса следует за другой, причастников тысячи… Благоговение народа трогательно: смиренно стоят у решетки на коленях, чувствуется жажда Хлеба Жизни Вечной… Больные, немощные, калеки, лежа на своих тележках, на носилках, стараются приподняться, лишь бы увидать возносимые Святые Дары… Мессы длились до полудня.
К завтраку я вернулся домой, а потом секретарь епископа показывал мне разные учреждения Лурда.
Я побывал в местном издательстве религиозно–просветительной литературы. Оно выпускает в несметном количестве листки, брошюры, религиозно–назидательные картинки… Мне вспомнилась издательская деятельность Киево–Печерской Лавры.
Потом мы посетили купальни. Сколько несчастных людей, чающих исцеления! Язвы, струпья, нарывы, изуродованные тела и лица… Санитарные обязанности несут не профессионалы, а добровольцы из представителей великосветской Франции. Это старая традиция во французских аристократических семьях: молодые люди должны съездить в Лурд и добровольно потрудиться, оказывая помощь больным и убогим «младшим братьям».
Побывал я и в бюро регистрации исцелений. На двери надпись, приглашающая врачей всех национальностей, верующих и неверующих, принять участие в констатировании чудес. В бюро ведутся в медицинских терминах подробные записи, в каком состоянии больные в Лурд прибыли и какие произошли изменения, дающие право зарегистрировать их, как чудо исцеления. Мне показали громадные альбомы. Каких только там болезней нет! Не регистрирует бюро только исцеления нервных болезней: скептики могут их объяснить влиянием религиозного подъема. Мне довелось видеть в бюро исцеленную молодую девушку. На ее лице застыло счастливо–блаженное выражение… Весть о чуде разнеслась по всему Лурду, и за паломницей ходила толпа любопытных; потом ее нарядили сестрой милосердия, чтобы труднее было ее узнать.
Посещение Лурда привело меня к убеждению, что, действительно, это место благодатное, избранное Матерью Божией для благодеяний бедному человеческому роду. Светлое впечатление произвели на меня и толпы паломников; я понял, что Франция в глубине народной жизни не безбожная, не материалистическая страна, что французы верующий, христианский народ. О своем впечатлении я сказал епископу. «Да, вы правы, — ответил он, — по Парижу судить нельзя, это было бы односторонне…»
Одно из самых светлых впечатлений осталось у меня от двукратной встречи со знаменитым примасом Бельгии — кардиналом Мерсье.
Первую встречу устроил наш священник в Брюсселе о.Петр Извольский; у него установились с кардиналом самые добрые, доверчивые отношения. Имя знаменитого кардинала было окружено общим и заслуженным почитанием. Во время нашествия германцев на Брюссель он своего поста не покинул, но, как истинно добрый пастырь, остался со своей паствой и все время держал себя с таким авторитетом и достоинством, что заслужил уважение даже у своих врагов. По окончании войны он посвятил себя подвигам любви и милосердия по отношению к жертвам войны, не только своим соотечественникам, но и ко всем, кто входил с ними в соприкосновение. Широко открыл он свое христианское сердце и несчастным русским беженцам, особенно обездоленным войною детям. Он покрыл Бельгию сетью приютов, где воспитывались дети русских эмигрантов; благодаря его содействию многие русские студенты–беженцы получили стипендии в Лувенском университете, где они могли бесплатно учиться и пользоваться полным содержанием. Все это делалось не для того, чтобы вести пропаганду; он только берег юные души от соблазнов и учил этому своих подчиненных. Естественно, по приезде в Бельгию у меня явилось желание посетить великого кардинала и поблагодарить его за все благодеяния, оказываемые нашим студентам и детям.
Бельгийский примас жил в небольшом городе Малине, около часу езды от Брюсселя. От города Малина получил свое название «малиновый звон»: колокола на колокольне при резиденции кардинала на весь мир славятся своим изумительным музыкальным звоном. Кардинал встретил меня приветливо; он принял меня в комнате, обставленной с простотой и скромностью монашеской кельи, да и сам он — высокий, худой, аскетического вида старец, в смиренной рясе — не походил на величественного князя Церкви, а напоминал христианского подвижника. Чувствовалось, что эта простота прикрывает подлинное величие духа. Я сердечно поблагодарил его за заботы о наших детях, а он выразил сочувствие страждущей нашей Церкви. По русскому обычаю он угостил нас чаем. Заметив, что скромная обстановка его приемной меня удивила, он улыбнулся и пошутил: «Не правда ли, комната, где я вас принимаю, напоминает вам ту келью в монастыре, где вы сидели в заточении?» С большим интересом слушал он мою информацию о положении Русской Церкви, а также о моих скитаниях в плену вместе с другими архиереями. Глубокое, неизгладимое впечатление оставил в моей душе этот величественный старец–святитель…
Года через два, будучи в Брюсселе, я снова, также вместе с протоиереем П.Извольским, посетил кардинала Мерсье. Он очень изменился по внешности; видно было, что его светлая жизнь догорает. Однако он бодро поддерживал беседу и даже предложил мне послушать знаменитый «малиновый звон». К сожалению, время было позднее, когда по местным правилам колокольня уже заперта. Беседа велась главным образом об организации приютов и школ для бедных русских детей. И было удивительно, с каким интересом больной, изнемогающий старец входил во все обстоятельства этого дела…
Года через два, будучи в Брюсселе, я снова, также вместе с народом, служил о нем торжественную панихиду и в своей речи старался начертать его светлый образ и выяснить великое значение его христианской личности и деятельности. За эту «молитву за инославного» я получил замечание Карловацкого Синода, хоть это не помешало митрополиту Антонию поехать в католический костел в Белграде и там поставить свечу за почившего кардинала. Как будто это не была «молитва за инославного»!..
Была у меня еще одна встреча, о которой я сохранил приятное воспоминание.
Года три тому назад, на праздник Покрова, я был в Лионе и познакомился с аббатом Кутюрье, дружественно относившимся к нашему лионскому священнику. О.Кутюрье выстоял в нашей церкви всю службу, а потом за обедом мы с ним беседовали. Он предложил мне вместе с ним съездить в тот город, где когда–то подвизался кюрэ д'Арс. «Это наш преподобный Серафим Саровский…» — сказал аббат. «Вы разве слышали о нашем преподобном Серафиме?» — удивился я. «Как же его не знать!..» — ответил мой собеседник. Из нашей дальнейшей беседы выяснилось, что такие католики, как аббат Кутюрье, почитают некоторых наших святых наравне со своими. И думается мне, что преподобный Серафим или святой Франциск Ассизский и другие великие угодники Божии в своем жизненном подвиге уже осуществили идею соединения Церквей; это святые граждане единой Вселенской Церкви, в известном смысле, в высших небесных сферах, уже преодолевшие вероисповедные разделения; на высоте своих святых душ они разрушили те перегородки, о которых говорил некогда митрополит Киевский Платон… Мы съездили к кюрэ д'Арс, а потом осматривали раскопки римского цирка в Лионе; на его арене были растерзаны зверями первые христианские мученики во Франции. Раскопки восстановили все: арену, столбы, скамьи амфитеатра, даже отверстия, через которые выпускали зверей и выводили мучеников. Удивительное впечатление производит реставрированная темница, где томились Лионские мученики: святой епископ Пофин, святой епископ Ириней, мученица Бландина (показывают колонну с кольцом, к которому она была привязана за волосы) и др.
Кроме этих отдельных встреч, никаких сношений с католиками, преодолевающих взаимную отчужденность, у меня не наладилось. Трудно это было и по существу, по самому свойству и характеру католичества, всецело проникнутого духом пропаганды — стремлением подчинить себе всех инакомыслящих; трудно и потому, что я не знаю иностранных языков. А тут еще, вскоре по приезде моем в Париж, случилось одно прискорбное событие, которое сильно повлияло на наше взаимное отчуждение и еще глубже нас разъединило. Я говорю о невольном ( с моей стороны) столкновении моем с аббатом Кенэ.
Протоиерей о.Николай Сахаров, ныне настоятель Александро–Невского храма в Париже, напечатал полемическую брошюрку по вопросу о том, был ли апостол Петр в Риме; в подстрочном примечании он упомянул имя епископа Шапталя в таком контексте: «пресловутый епископ Шапталь». Так как епископ Шапталь оказывал тогда благотворительную помощь русским, католики обиделись — и обрушились на меня. Аббат Кенэ в одной из французских газет напечатал злобную статью — памфлет по моему адресу: я при помощи жандармов и полиции боролся с католичеством и насильно обращал униатов в православие… На памфлет я ответил, а русская общественность, возмущенная грубым тоном статьи аббата Кенэ, заступилась за меня (Д.С.Мережковский написал горячую статью в мою защиту). Как всегда, полемика ничего не дала, но с тех пор мое имя в парижских католических кругах стало одиозным… Признаюсь, я не прилагал каких–либо усилий, чтобы рассеять неблагоприятное впечатление (ибо это было бы бесполезно), а просто, когда представлялись случаи встретиться с католической иерархией, я от этих встреч уклонялся. Так, например, была у меня встреча с монсиньором д'Эрбиньи [
[230]], которая ни к чему не привела. Была попытка иезуита Тышкевича наладить отношения с православными: два раза он приглашал наших студентов Богословского Института в летний лагерь, но из бесед с нашей молодежью «о соединении с католиками» у него ничего не вышло, и он перестал приглашать их. В Лилле иезуиты хотели нас приветить и сдали свое помещение под наше студенческое общежитие [
[231]], но некоторое время спустя просили нас съехать… — Наконец бенедиктинцы аббатства в Амэй (Бельгия) сорганизовались в монастырь «восточного обряда» и тоже пытались подойти к нам, но в результате несколько студентов–католиков, побывав в Амэй, перешли к нам, и тогда «русскую акцию» от бенедиктинцев отняли и передали доминиканскому центру «Истина» в Лилле (ныне этот центр в Париже), который и продолжает энергично пропагандировать так называемый «восточный обряд». «Восточный обряд» задуман с целью совращать православных в католичество. Это маленький капкан для несознательных или невежественных православных. Это реставрация старой унии в Западной России и в Галиции, когда бедный темный народ («быдло», по понятиям XVI века) хитростью или насильно, как стадо, загоняли в унию. Впоследствии то же произошло с сирийскими христианами в Антиохийском патриархате. В массе своей народ в церковных вопросах разбирается плохо. Может быть, это грех наш, что миряне наши развитым, ясным и устойчивым церковным сознанием не обладают. Но разве можно братьям — христианам этим пользоваться? Разве можно на это свою ставку делать? Принцип прозелитизма между христианами разных Церквей не вяжется с духом Христова учения, он по духу своему слишком разнится от апостольской ревности, а под его флагом как–то фатально свивают себе гнездо хитрость, уловки, расчет, все то, что осудил Господь в своем обличении ревнителей закона — фарисеев (Мф. 23). Под видом «восточного обряда» католики прикровенно углаживают путь к католичеству. Уж лучше прямо и открыто вести пропаганду в пользу Рима, чем прибегать к такой мимикрии. Ведь не могут же они не понимать, что православие не исчерпывается обрядами! Мне довелось встретиться на Ривьере с одним миссионером — епископом «восточного обряда» (по просьбе покойной Е. М. Лопатиной, которая потом, незадолго до своей смерти, приняла католичество). «Что вы хотите? Чего вам недостает? — говорил он мне с оттенком некоторой досады. Мы до мелочей переняли ваш ритуал, а вы к нам не идете…» — «Как вы, владыка, просвещенный церковный человек, можете это говорить! Ведь Церковь не исчерпывается обрядами, а заключает в себе еще и догматические верования», — возразил я. Спорить с епископом было бесполезно…
Сознательных переходов в католичество «восточного обряда» в русской эмиграции немного, успеха эта форма католичества в русской среде не имеет. Было несколько отпадений в клире — священники: Цебриков, Дейбнер, Федоров, Диодор Колпинский, архимандрит Сергий Дабич примкнули к унии, но судьба их в общем печальная. Большинство из них «рецидивисты», т. е. сначала из православия обратились в католичество, потом из католичества в православие и, наконец, вновь из православия в католичество. Можно себе представить, какие это больные, искалеченные души: мечутся от одной Церкви к другой, ни одной из них не верные, часто совсем опускаются на дно, как бедный о. Д… До сих пор тяжелым камнем лежит у меня на душе последняя предсмертная переписка с о. Дабичем, который так рвался опять вернуться в лоно православия… «Петлю на шею я себе накинул», — писал он о своем католичестве.
Невелика жатва католической пропаганды среди русских и в светском обществе: из видных ренегатов можно указать на князя Волконского (по семейной традиции), Евреинова и Абрикосова… Все католические надежды возлагаются теперь на будущее духовное завоевание русского народа, для чего готовят многочисленные кадры миссионеров…
Как бы в противовес «восточному обряду» в католичестве, появились в последнее время попытки завести «западный обряд» в Православной Церкви. Сначала такие попытки были сделаны в Польше, а недавно в Париже в Церкви юрисдикции митрополита Сергия, возглавляемой митрополитом Елевферием. Не знаю, какие это принесет плоды для Церкви Божией. Судьба «восточного обряда» в католичестве не сулит светлых перспектив «западному обряду» в православии.
Должен, однако, оговориться: одно дело не поощрять такого рода пропаганды; а другое — равнодушно относиться к искреннему стремлению представителей «западного обряда» соединиться с Православной Церковью. По этому поводу упомяну о моем знакомстве с епископом Винартом.
Епископ Винарт получил хиротонию от старокатоликов, потом отошел от них и образовал самостоятельную Церковь, состоявшую из пяти приходов во Франции, Бельгии и Голландии. Так как эта Церковь не имела твердых оснований, ни догматических, ни канонических, то епископ Винарт начал искать сближения, и даже единения, с Православной Церковью; он стал часто заходить ко мне и вести беседы об этом, а также приглашать меня на свои богослужения. Искренность его стремления была несомненна, и я решил принять в этом деле участие. Не полагаясь, однако, на собственное мнение, я созвал при Епархиальном совете совещание из профессоров Богословского Института, дабы выяснить, возможно ли принять епископа Винарта со всеми его приходами в Православную Церковь, и если возможно, то на каких условиях. Мнения в совещании разделились. Особенным препятствием к принятию его в лоно нашей Церкви был его брак (он вступил в законный брак, уже будучи в епископском сане). Большинством голосов ходатайство епископа Винарта было отклонено, хотя он выражал согласие на расторжение своего брака. Признаюсь, было очень больно это равнодушное отношение к искренним исканиям епископа, ибо Господь сказал: «Всякого грядущего ко Мне не изждену вон…» Я решил вопрос о соединении представить на благоусмотрение Вселенского Патриарха. С петицией к нему от имени епископа Винарта поехал наш православный французский иеромонах Лев Жилле. Так как Патриарх Фотий был болен, о. Лев беседовал с уполномоченными от Патриарха митрополитами. О результатах этого ходатайства обещали уведомить по рассмотрении дела Священным Синодом. Долго ждал епископ Винарт этого решения и не дождался… Потеряв всякое терпение и надежду получить ответ, он обратился к Литовскому митрополиту Елевферию (юрисдикции Москов* *ского митрополита Сергия), который потребовал от него развода с женой и пострижения в монашество; епископа Винарта присоединили, а всех его священников должны были перерукоположить, разрешив им потом служить по «западному обряду». Так произошло присоединение к Православной Церкви епископа Винарта (ставшего архимандритом Иринеем), его духовенства и паствы. Архимандрит Ириней вскоре скончался. Священники, по новому рукоположению, и паства вошли в лоно Православной Церкви.
Однако «западный обряд» признаков дальнейшего здорового развития что–то не проявляет; в употреблении других священников, не винартовского рукоположения, он вызывает улыбки…
Один из священников «западного обряда» в Голландии (Хаарлем), о.Петр Глазема решил перейти в мою юрисдикцию отчасти под влиянием нашего священника в г.Гааге, иеромонаха Дионисия (Лукина). Я, конечно, принял его, разрешив ему «западный обряд» с некоторыми изменениями, сокращениями и дополнениями. Но положительного результата это присоединение не дало…
Проблема соединения Церквей — Православной и Католической — на началах взаимной братской любви и духовной свободы встречает непреодолимое преткновение в вековом неизбывном папском империализме, в силу которого идея вселенского объединения христиан подменяется идеей подчинения всего мира Католической Церкви, от чего Ватикан отказаться не может по самой своей природе. Вот почему, хотя Папа организовал в своей Церкви постоянное моление за страждущую Русскую Церковь, хотя через католические учреждения мы, русские эмигранты, получили немало благодеяний, за что, конечно, мы храним в душах искренние благодарные чувства, — я должен сказать по совести, что католики не нашли путей к нашим сердцам и многое в их отношениях к нам за эти годы мы с горечью восприняли либо как непонимание нас, либо как болезненную рану чувству нашей преданности родной Православной Церкви. Воли к преодолению вековой отчужденности они проявили мало…
Кардинал Вердье издал окружное послание, в котором запрещается католикам посещать наши храмы, а в случаях, когда по необходимости (по соображениям гражданского порядка) они вынуждены присутствовать на наших богослужениях, им предписывается молитвенно в них не соучаствовать. Зачем было нужно подчеркивать это ригористическое правило, хотя бы оно и значилось в канонах?
Такое явление, как международный литературный конкурс, устроенный одной католической организацией под председательством кардинала Бодрильяра, когда, нарушая статут международных конкурсов, вмешалась католическая духовная цензура и лишила наших писателей Лукаша и Таманина премий, присужденных им литературным жюри, на том основании, что в их романах, «христианских по духу», есть якобы примесь «славянского мистицизма» — такое явление оставило в русском эмигрантском обществе тягостное впечатление и было воспринято как некоторое оскорбление католиками православия.
Подчеркнуто невежливое отношение ко мне кардинала Вердье комментировалось в эмигрантской среде тоже весьма для католиков неблагоприятно. После панихиды по убиенном сербском короле Александре, которую я вслед за кардиналом служил под Триумфальной аркой в присутствии президента, министров, дипломатического корпуса, а также и других представителей официальной Франции, я счел долгом вежливости поехать к нему с визитом. Он указал час для нашей встречи. Но кардинала в этот час дома я не застал… Прождав его тщетно некоторое время, я уехал. На следующий день было получено от него письмо с извинением.
Прошлою зимою ко дню семидесятилетия кардинала, которое праздновалось очень торжественно, я послал ему поздравление. Никакого ответа на мое приветствие не последовало…
Допрашивая свою совесть, я со всею откровенностью могу сказать, что не на мне главная вина того, что отношения с католиками в эмиграции не наладились. Я не уклонялся от случаев, когда они казались благоприятны для дружеского общения наших двух Церквей, но в ответ не встречал прямоты, искренности, того открытого братского влечения к сближению, которое внушает доверие и побеждает чувство отчужденности, исторически в нас укоренившейся. Наоборот, приходилось быть начеку, улавливать какую–то тонкую политику, заднюю мысль опытных дипломатов. Как далеки эти отношения от идеала общения Церквей в Любви и Свободе! [
[232]]
Если с католиками наше сближение не удалось, то с протестантами за эти годы у нас установились простые и сердечные отношения.
Первая моя встреча с протестантским миром была в 1920 году в Женеве на Конференции Христианских Вероисповеданий.
Инициатива стремления к сближению и единению всех христианских исповеданий принадлежала Американской епископальной Церкви. Американские епископы, во главе с известным Нью–Йоркским епископом Брентом, обратились к главам всех христианских Церквей с призывом послать своих делегатов на общую Конференцию, на которой они могли бы встретиться, познакомиться друг с другом и обсудить общие вопросы Веры и Церковного строя; в таких вопросах все Церкви могли быть если не единомысленны, то, по крайней мере, близки между собою; предполагалось также наметить пути, ведущие их к дальнейшему сближению. Нужно удивляться той ревности, той настойчивости, с которой они стучались в двери каждого христианского исповедания, нужно преклоняться и перед теми огромными усилиями и трудами, которые они взяли на себя, чтобы начать и организовать это дело в мировом масштабе. На этот призыв откликнулись очень многие протестантские исповедания, старокатолики, а также Православные Церкви; благословил это дело и Вселенский Константинопольский Патриарх. Об этой Конференции, о моих впечатлениях и воспоминаниях, с нею связанных, я уже говорил [
[233]]. Здесь же воспользуюсь поводом и скажу несколько слов о председателе Конференции епископе Бренте [
[234]].
В церковном мире епископ Брент были личностью крупной и светлой. Он объединил силой своего морального авторитета представителей самых отдаленных вероисповеданий, внушал доверие к Конференции даже наиболее недоверчивым, скептически настроенным ее членам. Внимательный, любвеобильный, чуткий и смиренный, он завоевал всеобщее уважение и симпатию.
Женевская Конференция имела для православия серьезное значение. Хотя это была первая встреча почти незнакомых и духовно чуждых друг другу людей, хотя нам и трудно было найти общий с протестантами язык и сознание взаимной чуждости нас не покидало, — все же эта встреча и непосредственное знакомство в рамках нравственного взаимообщения ради высокой и актуальной цели, волнующей всех христиан, нас с протестантами сблизили. В глубь наших догматических расхождений мы не вдавались: все понимали, что почва для этого еще не готова. Но независимо от этой неподготовленности, достигнут был положительный результат — в Женеве завязались между нами сношения настолько дружественные, что опыт встречи христиан разных вероисповеданий был признан удачным и привел к постановлению — готовиться к следующей Конференции, которую наметили созвать в 1927 году в Лозанне, а пока избрать «комитет продолжения», поручив ему собрать нужные для этого будущего съезда материалы.
Одновременно с этим была в Женеве задумана другая Конференция практического христианства («Жизнь и Труд»); предположено было созвать ее в Стокгольме в 1925 году.
Естественным продолжением экуменического общения было празднование в Лондоне, по инициативе архиепископа Кентерберийского, юбилейного торжества 1600–летия Первого Никейского Вселенского Собора (325 г.).
На торжество съехалось много приглашенных. В числе гостей: два Вселенских Патриарха — Александрийский Патриарх Фотий и Иерусалимский Патриарх Дамиан; представитель Константинопольского Патриарха митрополит Германос; русская группа: митрополит Антоний и я, епископ Вениамин, профессор Глубоковский, о.Лелюхин; сербский епископ Ириней, болгарский митрополит Стефан, профессор Цанков… Некоторых православных иерархов пригласили приехать за неделю до торжества и возили по всей Англии, показывая наиболее достопримечательные храмы.
Это путешествие по Англии я совершил в сопровождении митрополита Германоса, епископа Вениамина, священника Тимофеева и протодиакона Феокритова. Интересная поездка, давшая богатый запас впечатлений. Всюду в церквах нас встречало приходское духовенство, в соборах — епископы. Устраивались процессии, причем собиравшийся во множестве английский народ принимал от нас благословение. Особенно светлое впечатление произвел на меня епископ Фрир (Вальтер) Трурский, епископ–монах, член англиканской монашеской общины Воскресения. Широко образованный церковный писатель [
[235]], один из самых просвещенных и популярных епископов в Англии, епископ Фрир — горячий сторонник единения Англиканской Церкви с восточной Православной Церковью. В России он побывал до революции дважды и говорит немного по–русски. Я прожил у него два дня в его роскошном дворце, окруженном парком. Не только епископ Фрир, но и все англиканские епископы во главе с маститым архиепископом Кентерберийским и все духовенство оказывали нам удивительное гостеприимство и искреннюю братскую любовь. У меня теперь в Англиканской Церкви много друзей. К сожалению, эти дружеские отношения не могли закрепиться вследствие моего незнания английского языка.
Во время путешествия по Англии пришлось мне познакомиться и с некоторыми монастырями Англиканской Церкви. Они существуют, несмотря на протестантство. Прежде всего я посетил Kelham. Это очень интересное и очень оригинальное учреждение. По общему характеру монастырь этот общежительный, но его специальная задача — подготовлять священников; братию монастыря составляют профессора и студенты — кандидаты пастырства; во главе настоятель — ректор этого богословского заведения. Богословская наука здесь стоит на должной высоте, сюда приходят по окончании университета лица, ищущие пастырства. Замечательно, что занятие наукой и участие в ежедневном богослужении не мешают студентам заниматься самыми обычными житейскими делами. В Келаме нет прислуги; все так называемые черные работы несут сами студенты по установленной очереди. Сегодня студент слушает лекцию, а завтра он работает на кухне или в огороде, чистит хлев или ухаживает за монастырскими свиньями. Какой прекрасный, здоровый (физически и духовно) режим! Не отвергаются и развлечения, особенно любимый англичанами спорт. Как–то раз в разговоре со мною настоятель стал жаловаться, что у них мало земли. Я выразил ему сочувствие, полагая, что земля необходима для огорода или для посевов. Каково было мое удивление, когда я услышал, что им, увы, не хватает простора для игры в футбол!!.. С большой радостью я провел два дня в этом прекрасном учреждении и с грустью невольно думал: как эти порядки далеки от режима наших бывших русских духовных школ! как хорошо бы было построить по этому образцу жизнь нашего Богословского Института… Несколько раз я, правда, осторожно поднимал этот вопрос, но всегда со стороны профессоров встречал решительный отказ: они находили, что такой порядок повредит учебным занятиям и здоровью студентов. Келам с его образованными и физически цветущими студентами дает яркое опровержение этого заблуждения…
Я посетил и два женских монастыря — прекрасно организованные учебно–воспитательные заведения для девочек. Монахини приняли меня ласково, только потом высказали свое удивление, почему я в храме не снял «своей белой шляпы» (клобука). Монастырское здание окружено парком, который разгорожен проволокой. Я узнал, что одна часть парка предназначается для богатых девочек из привилегированных классов, а другая — для простых. Нам показалось это несколько странным, но, быть может, в этом есть своя, нам неясная, идея, ибо одних готовят для интеллигентных профессий, а других — для простых работ, для домашней прислуги и пр.
Торжественное празднование юбилея Никейского Собора открылось богослужением в Вестминстерском аббатстве, а потом в течение нескольких дней бывали торжественные службы то в одной, то в другой лондонской церкви, и назначались собрания с лекциями в громадных общественных залах. На одном из таких собраний, в зале на 10000 человек, выступали с речами митрополит Антоний и я. Только благодаря громкоговорителю можно было нас услышать. Я очень волновался, ибо чувствовал большую ответственность перед такою аудиторией и в такой исторический момент. Я сказал, что наши шаги навстречу друг другу имеют положительное значение, как проявление воли к соединению Церквей, но пока они ограничиваются лишь иерархией и профессорами; окончательная оценка нашей русской экуменической работы принадлежит всей Матери — Русской Церкви, она и будет нас судить — либо благословит, либо в благословении откажет; только когда русский епископат будет в состоянии пригласить к себе своих англиканских братьев, когда соборное церковное сознание русского народа скажет на наши стремления к сближению и единению Церквей «аминь», только тогда дело наше станет крепко, незыблемо…
Основной вопрос, обсуждавшийся на этих многолюдных собраниях, — апостольская преемственность англиканской иерархии и в связи с ним вопрос о допустимости взаимообщения (intercommunion) в таинстве святой Евхаристии. Мы, представители Русской Православной Церкви, проявили большую осторожность; митрополит Антоний сказал, что все инославные исповедания лишены иерархической благодати, Англиканскую Церковь нельзя выделять из ряда других христианских вероисповеданий, в том числе и католичества; но восточные Патриархи, наоборот, высказывали более широкие, либеральные мнения, тем оолее что некоторые из них, даже наиболее строгий — старейший Патриарх Александрийский Фотий, — фактически, в отдельных случаях, допускали «intercommunion» с англиканами, а Сербский Патриарх Димитрий в частном порядке уже причащал протестантку, румынскую королеву Марию.
Наши торжественные церковные службы и собрания сопровождались процессиями по улицам. Трогательно было видеть, как благочестивые англичане, встречая процессию, становились на колени и благоговейно ожидали благословения не только своих англиканских епископов, но нас, православных. Однако тут же в толпе кое–где мелькали плакаты «Долой епископов» — таковы нравы свободной Англии. Никейские торжества были величественны, многолюдны, изобиловали взаимными теплыми приветствиями, несомненно пролагали пути к нашему взаимному сближению, но значение их, конечно, было скорей психологическое, чем деловое.
В том же 1925 году, непосредственно после Никейских торжеств в Англии, собралась церковная Всемирная конференция в Стокгольме, посвященная обсуждению и практическому разрешению наиболее тревожных социальных и моральных вопросов. Выяснилось, что вследствие внутренней неустроенности, неооъединенности христиан в мире, не только трудно преодолеть государственный антагонизм христианских народов, но что этот внутренний разброд приносит вред самому христианству, обнаруживая раздор, соперничество Церквей или взаимное безразличие, умаляет и даже искажает чистоту и величие Христовой Истины. Эта Конференция шла по линии социального христианства. Вдохновителем и председателем был знаменитый примас Швеции епископ Седерблом.
В 1930 году архиепископ Кентерберийский пригласил представителей православных восточных Церквей в качестве гостей на Ламбетскую конференцию. Она созывается раз в 10 лет в резиденции Кентерберийского архиепископа, в его Ламбетском дворце; на нее съезжаются представители Англиканской Церкви со всего мира. Были на ней в качестве гостей и православные иерархи во главе с Александрийским Патриархом Мелетием… Эту Конференцию предварил Собор епископов, созванный в Ламбете (в январе 1927 г.) для пересмотра Служебника (Common Prayer Book). Благодаря влиянию досточтимого 80–летнего старца архиепископа Кентерберийского Давидсона, решено было внести в Prayer Book изменения, приближающие его к православию (дополнение к Первосвященнической молитве, освящение запасных Святых Даров для причащения больных, молитва за усопших…). Изменения вызвали протест Low Church и протестантов. В результате Палата общин, которая, согласно английской конституции, эти изменения должна была утвердить, — их не утвердила. Архиепископ Кентерберийский был глубоко огорчен, ушел в отставку — и вскоре умер. Несмотря на неуспех, Собор несомненно имел значение для экуменического сближения. Думаю, не без его влияния некоторые восточные патриархи стали склоняться к положительному разрешению вопроса об апостольском преемстве англиканской иерархии.
После Стокгольмской конференции событием громадного экуменического значения для христианского мира была Конференция Христианских Церквей в Лозанне (в 1927 г.) под названием «Вера и Церковный строй» («Faith and Order»). Она была прямым продолжением Женевской конференции 1920 года, которая собиралась под этим же лозунгом.
В Лозанну съехалось до 500 делегатов: архиепископы, епископы, священники, пасторы, профессора богословия… — представители 90 различных церковных объединений (Церквей и христианских общин). Только Рим своих делегатов не прислал. Восточное православие было представлено группой делегатов от Константинопольского, Александрийского, Иерусалимского, Сербского и Румынского патриархатов и от Церквей греческой, болгарской, польской, западноевропейской, русской (я и протоиерей С.Булгаков) и грузинской. Председателем Конференции был епископ Нью–Йоркский Брент. Пленарные заседания происходили в громадном университетском зале, общие моления — в городском соборе (несколько песнопений и особо составленная молитва о христианском единении).
Лозаннская конференция уже прямо поставила трудную и сложнейшую проблему о соединении христианских исповеданий в единую Вселенскую Церковь. Работа Конференции проходила в духе братской любви, свободы и терпимости друг к другу. Но при этом выяснилось, как трудно отдельным Церквам, оставаясь верными своему исповеданию, своему историческому преданию, не только объединиться, но даже понять друг друга. Очень интересен и показателен в этом отношении выдвинутый протоиереем С.Булгаковым вопрос о почитании Божией Матери, а также о почитании святых и икон. Протоиерей Булгаков придавал огромное значение самому факту — чтобы на этом мировом экуменическом собрании прозвучало исповедание Богоматери. По его глубокому убеждению, Богоматерь мистическая — Объединительница христианства, и только под Ее Покровом христиане могут достигнуть братского единства во Христе. Председатель секции Dr. Garvie отсрочивал в течение целой недели произнесение этой речи. Когда, наконец, о.Сергию слово было дано, аудитория выслушала его сдержанно и с неопределенным настроением; самое большее, что некоторые протестанты могли принять, — это видеть в Богоматери эмблему христианского единения. Из этого можно было заключить, насколько христиане еще далеки не только от объединения, но даже от взаимного понимания в религиозном отношении…
Когда трудности сближения с протестантами выяснились по целому ряду основных начал веры и церковного учения (например, в учении о природе Церкви, о священстве, о таинствах, о священном предании, о соборности как абсолютном критерии Истины), мы, православные делегаты, решили объединиться и выступить со своим особым заявлением. Признавая свое единство со всеми христианскими Церквами, провозглашенное на Конференции с целью возобновления совместного евангельского благовествования миру о Христе (это положение объединило всю Конференцию от православных до квакеров), мы, однако, заявили о незыблемости нашего православного церковного вероучения и ясно и точно, по пунктам, формулировали наши разногласия с протестантами. Восточное православие находило невозможным, при наличии глубоких разногласий в современном церковном сознании разных вероисповеданий, соединиться всем в одну Вселенскую Церковь, но проблему сближения не зачеркивало. «По нашему мнению, — гласило наше заявление, — все, что можно сделать сейчас, это сотрудничать с другими Церквами в проповедании Слова Божия и в сфере социальной и моральной на основе христианской любви».
Лозаннская конференция заключилась обращением ко всему христианству с Декларацией, в которой была принята основная линия вышеупомянутого нашего заявления. Решено было работу в экуменическом направлении не оставлять, а для этого избрать «комитет продолжения» с подотделами в разных странах для подготовления следующих конференций христианских церквей. Одна из них — практического христианства («Жизнь и Труд») — состоялась в Оксфорде в июле 1937 года, а другая — в августе того же года в Эдинбурге.
Ехать в Оксфорд и Эдинбург я не собирался. Устроители конференций меня запрашивали, не приеду ли я, но я официально уклонился и отправил нескольких профессоров. На Конференцию в Оксфорд: Н.Н. Алексеева, о.Сергия Булгакова, Б.П. Вышеславцева, Л.А. Зандера, В.В. Зеньковского, А.В. Карташева, Г.П. Федотова [
[236]]. В Эдинбург: о.Сергия Булгакова, Л.А. Зандера, архимандрита Кассиана (Безобразова), А.В. Карташева (но он не поехал) и о.Георгия Флоровского.
Однако в Эдинбург мне ехать все же пришлось. Меня стали настойчиво уговаривать и здесь и из Англии. Два мотива обусловили мое решение на Конференцию все же поехать: во–первых, мое появление на Конференции могло сплотить моих профессоров и до некоторой степени разногласия между ними сгладить, дабы они не приняли там неприятных форм; во–вторых, меня заинтересовали и вызвали к себе глубокое сердечное расположение индусы, представители так называемой Orthodox Syrian Church of the East, только что проследовавшие через Париж в Англию; я оказал им посильное гостеприимство, они пожили у нас в церковном доме на рю Дарю пять дней, мы много беседовали и ближе друг друга узнали. Мне хотелось способствовать вхождению их в лоно православия. Они ехали на Конференцию в Эдинбург — там им предстояла встреча с делегатами православных Церквей, а от этой встречи зависело впоследствии многое… Правда, я бы мог дать им письмо к греческому митрополиту Германосу, но, разумеется, было бы лучше, если бы я лично ввел их в круг съехавшихся на Конференцию представителей православия.
Осуществить поездку было мне уже теперь немного сложно. Список наших профессоров–делегатов я уже утвердил, вычеркивать одного из них мне не хотелось. Тогда я поставил вопрос так: если меня пригласят персонально — я приеду. Через несколько дней я получил приглашение от Председателя Конференции архиепископа Йоркского, а благотворительная организация The Russian Clergy and Church Aid Fund [
[237]] озаботилась о материальной стороне моего путешествия — и я вскоре выехал в Англию.
Поезд из Лондона в Эдинбург был переполнен делегатами. Среди спутников много лиц, знакомых мне по Лозаннской конференции; тут же индусы, митрополит Болгарский Стефан, митрополит Польский Дионисий…
В Эдинбурге нас, православную делегацию, устроили в Соwan House — в благоустроенном студенческом общежитии.
Конференция открылась 3 августа торжественным молебствием в соборе св. Жиля при громадном стечении народа. Потом делегаты проследовали в зал Синода Шотландской Церкви (Assembly Hall).
Эдинбургская конференция длилась две недели в составе 414 делегатов, представителей 122 христианских объединений 43 стран. По сравнению с Лозанной чувствовалась большая близость между Церквами, большая готовность ко взаимному пониманию, более ясное различие, что ведет к сближению, что ему препятствует. В противоположность Лозанне, основные доклады перенесли в секции, где вся главная работа и была сосредоточена. Тут произносились горячие речи, велись оживленные дебаты по поводу докладов.
Я был избран в 4–ю секцию («Единство Церкви в жизни и культе») и в ее подотделе, посвященном «почитанию святых», выступил со следующей краткой речью, разъясняющей наше православное учение об этом культе:
«Не имея возможности, по незнанию языка, участвовать в обсуждении вопроса об общении святых, я позволю себе как православный епископ высказать несколько слов по этому вопросу. И позвольте мне с высоты теоретического или вообще диалектического его рассмотрения перенести ваши мысли на путь интуиции или, точнее, — на путь внутреннего духовного опыта, подойти к нему с критерием опытного его разумения, со стороны тех внутренних, духовных переживаний, которые дает христианской душе общение со святыми, ибо я так именно понимаю «communio sanctorum». Мне, православному епископу, трудно, даже невозможно, себе представить, как можно обойтись без этого общения со святыми вообще и со Святейшею из святых — Матерью Божией. Без этого общения наше духовное небо было бы так пусто, наша духовная жизнь была бы так одинока, бедна и грустна, нам было бы так холодно в этом мире… Мысль о том, что с нами в общении находятся бесчисленные сонмы великих праведников, изначала создававших и украшавших Святую Церковь, наполняет нашу душу неизреченной радостью. Нам радостно думать и чувствовать, что мы в этой жизни не одиноки — не забытые, заброшенные странники на земле; что в нашей жизни участвуют небесные люди; что нам сияют эти светлые звезды, и среди них великое Солнце милосердия и любви — наша общая Матерь, которую мы называем Царицей неба и земли. Апостол Павел говорит христианам, что они не странники и пришельцы, но родные святым и ближние Богу; что они укоренены в Церкви на основании апостолов и пророков. Это одно из драгоценнейших откровений Слова Божия. Сознавать и чувствовать близость к этому избраннейшему обществу святых, пророков, апостолов, мучеников и других праведников — небесной истинной аристократии — это поднимает душу, это ее наполняет благороднейшими чувствами и желаниями и самим подняться, стать ближе к ним, идти по их стопам, учиться у них и просить их помощи, предстоятельства пред Богом. Они наши первые наставники, учителя, вожди, светочи среди мрака нашей повседневной житейской суеты. У всех народов был и есть культ своих героев, гениев, прокладывавших новые пути жизни. В духовной жизни святые — наши герои, гении, реформаторы нашей жизни — это соль земли, свет миру, по слову Евангелия. Да, мы их почитаем, просим у них помощи, молимся им — конечно, не так, как молимся Богу, а как нашим благодатным наставникам и учителям и друзьям Божиим, могущим предстательствовать, ходатайствовать перед Ним. Мы часто так низко падаем, что подобно евангельскому мытарю не смеем поднять очей к небу и тогда просим близких к Нему, Его друзей, вознести до Него наш покаянный молитвенный вопль. Через это посредничество Бог нам становится ближе, а Царствие Божие как–то конкретнее и осязательнее нами воспринимается.
Я не смею никого учить, не веду никакой пропаганды — я пытаюсь вам объяснить наш православный духовный опыт, раскрыть вам, как нам бесконечно дорого это общение со святыми, и прежде всего с Матерью Божией, Царицей Небесной. Об исключительном почитании Ее, об этом прекрасном, возвышенном православном культе Богоматери вам скажет о.Булгаков, я же не могу удержаться, чтобы не привести одну из бесчисленных песней, в честь Ее составленных в Православной Церкви: «Как назовем Тебя, Благодатная; небо, ибо из Тебя воссияло Солнце Правды Христос Бог наш; рай, ибо Ты произрастила цветы нетленные, Чистую Матерь, ибо Ты родила нам нашего Бога Спасителя душ наших» [
[238]]. Ни одно богослужение в Православной Церкви не обвеяно, не проникнуто такою теплотою, согревающей и размягчающей самые холодные, ледяные, самые черствые сердца, как почитание Божией Матери. Это почитание Царицы Небесной — драгоценнейшее сокровище, можно сказать, самое сердце, самая душа всего Православия».
Тот факт, что на Конференции был организован подотдел, посвященный учению о почитании святых; что можно было говорить о Богоматери; что специально для протестантов было издано краткое разъяснение вероучительных основ этого культа, а в заключительном докладе отведена особая глава «Общение святых» — все это указывало, что на Эдинбургской конференции инославные наши братья отнеслись с подчеркнутым вниманием к нашим святыням. В Лозанне этого проявлено не было…
Однако разногласия наши с протестантами по–прежнему были весьма существенны, и мы, как и в Лозанне, прежде чем вотировать заключительный доклад — сводку секционных работ, выступили с особым заявлением, в котором по пунктам эти разногласия формулировали, энергично подчеркивая невозможность для нас принять расплывчатые определения по основным вопросам христианской догматики. В заключительной части мы вновь, как и в Лозанне, выражали наше благожелательное отношение к Экуменическому движению и наши молитвенные чаяния, что путь взаимной братской любви приведет всех христиан к исповеданию единомыслия. Пункты наших разногласий (а также и некоторых других Церквей по различным доктринальным вопросам) были занесены в заключительный доклад, и в этом виде он был принят Конференцией.
Важным событием Эдинбургской конференции было одобрение плана создания Вселенского Совета Христианских Церквей и образование Учредительного комитета для разработки его устава.
Надо отметить и заключительную Декларацию Конференции, с которой она обратилась ко всему христианскому миру. Лозаннская Декларация призывала весь христианский мир к единству, — Эдинбургская это единство утверждала, несмотря на все вероисповедные различия, которые христиан разъединяют. Декларация была принята Конференцией, торжественно прочитана в соборе 18 августа при громадном стечении народа и сопровождалась заключительным благодарственным молением.
Положение православной делегации на Конференции было сложное. Численно, по сравнению с массой протестантов, она была мала, но с ними не сливалась, а всегда пользовалась благоприятным случаем, дабы свое лицо выявить. В каждую секцию и подсекцию непременно попадал кто–нибудь из представителей Православной Церкви, и от активности этих православных голосов зависело многое. Бывали голоса внушительные, но, к сожалению, в православной группе единства не было, и это умаляло значение некоторых выступлений, чувствовался разнобой греческих, славянских (балканских) и русских голосов. Общей тактике мешали национальные самолюбия, тщеславные притязания, уклон к соперничеству…
Помимо собраний Конференции, мы, православные, заседали и отдельно, либо чтобы ознакомить своих сочленов с докладами в секциях, либо чтобы выработать план, как действовать в отделах, что там говорить, что постановлять… Тут наше расхождение и обнаруживалось. Одни представители православия воспринимали все благожелательно со всеобъемлющей широтой, а другие относились к протестантизму непримиримо, черство, не считая даже возможным разговаривать с «еретиками». Греки оказались непримиримее балканских славян и русских. В результате было выработано вышеуказанное особое заявление (прочитанное греческим митрополитом Германосом в общем собрании Конференции 16 августа), и был поставлен вопрос об участии нашей группы в заключительном голосовании Конференции. Разрешения вопрос не получил: одни (в том числе и я) считали, что, прочитав заявление, надо принять участие в голосовании; другие, наоборот, полагали, что, по прочтении заявления, от голосования надо уклониться. В конце концов православные делегаты разрешили этот вопрос в индивидуальном порядке.
Что касается русской группы, надо отметить, что делегированные мною профессора Богословского Института проявили активность и были заметными членами Конференции. К сожалению, как я уже сказал, среди них существовали давние разногласия, которые меня тревожили. Они проявились на первом же заседании общего собрания Конференции, когда о.Георгий Флоровский резко и язвительно напал на благочестие «чистого сердца», не покоящееся на устойчивом богословском фундаменте… Речь его была произнесена после речи о.Сергия Булгакова, который указывал на чрезмерно важное значение, нередко приписываемое доктринальным вопросам важности второстепенной, и подчеркнул, что такого рода ригоризм по отношению не к Истине как таковой, а к ее истолкованиям является серьезным препятствием к сближению Церквей. Речь о.Флоровского, направленная против о.Булгакова, произвела на многих тягостное впечатление, но не на всех. Canon Douglas, важная церковная особа, исполняющая при архиепископе Кентерберийском обязанности статс–секретаря, весьма расположенный к о.Флоровскому, наговорил мне после заседания много комплиментов по его адресу и обошел молчанием речь о.Булгакова, тем самым подчеркивая свое отрицательное отношение к нему. Я знал, что о.Флоровский после Оксфордской конференции гостил несколько дней у Canon Douglas'а и теперь почувствовал, что за кулисами завелась какая–нибудь интрига. Canon Douglas пригласил меня к завтраку, на который кроме меня и греческого архимандрита Михаила Константинидеса были приглашены архиепископы Йоркский, Линкольнский и примас Ирландии архиепископ Дублинский. Я сослался на несоответствие моего одеяния официальному характеру завтрака (я был в простой рясе и шапочке), но Canon Douglas настаивал, и я согласился, хоть за завтраком мне пришлось сидеть в подряснике, но это значения не имело: англикане довольно плохо разбираются в наших одеяниях.
За завтраком об о.Булгакове не было произнесено ни слова… А через день–два в «The Church Times» (большой церковной газете) появилась статья против него, в которой автор, между прочим, выражал недоумение, почему англикане собирают деньги на Богословский Институт, когда там среди профессуры такие явные еретики, как о.Булгаков.
Эта статья неожиданно привела к обратному результату: видный американский богослов Gavin обратился ко мне с выражением сочувствия и протеста, а через несколько дней в той же газете появилась сильная и резкая отповедь обвинителю. Это доказывало, что личность о.Сергия, несмотря на нападки, пользуется искренним уважением. Я узнал, что во время Оксфордской конференции, на garden party у архиепископа Кентерберийского, маститый хозяин дома велел разыскать его среди толпившихся гостей и долго с ним беседовал; но в течение всей Эдинбургской конференции вокруг него вились какие–то неприятные кривотолки и плелась за его спиной паутина мелкой интриги… К сожалению, наши православные богословы реагировали на это вяло; быть может, это объясняется тем, что «карловчане» перед Конференцией разослали всем автокефальным Церквам свое осуждение богословских трудов о.Сергия Булгакова [
[239]].
Моя роль в Эдинбурге вследствие незнания иностранных языков внешне активной быть не могла. Все же мое присутствие на Конференции было не совсем бесполезным. Кое–что сделать мне удалось. Приходилось сплачивать, примирять, советовать… По мере возможности старался я помочь и моим недавним парижским гостям–индусам.
Моей задачей было представить их православным делегатам, а православных делегатов познакомить с ними. В общежитии индусы жили в комнатах рядом со мною. Мы постоянно встречались, беседовали, они выражали сердечное расположение ко мне, называли меня «наш митрополит». Я посоветовал митрополиту Германосу устроить с ними встречу и расспросить об основах их исповедания, дабы выяснить, насколько они православию близки.
Встреча состоялась. Греки строго допрашивали, индусы смиренно отвечали. Постепенно лица греков стали светлеть… «Хорошее впечатление… Они совсем православные», — сказал мне архимандрит Константинидес. Я предложил митрополиту Германосу дать индусам указания, что им делать для воссоединения с православием. Он посоветовал им обратиться с официальным заявлением к Константинопольскому Патриарху, а я обещал им быть посредником.
Эта древняя христианская Церковь привлекает в настоящее время внимание нескольких Церквей; втянуть ее в свою орбиту хотят и англикане, и католики, и сербы, и даже «карловчане». Однако индусы выказывают особое расположение к Русской Церкви, и в беседах со мною не раз говорили, что предпочитают ее всем другим. По–видимому, глубокое и светлое впечатление произвел на них наш иеромонах–подвижник Андроник (ныне архимандрит) [
[240]], который и пробудил в них тяготение к нашей Церкви. План их церковного устройства по воссоединении — автокефалия. Епископов им не надо, а нужна дружина священников, монахов, которые в семинариях, на местах подготовляли бы пастырей. Я мог бы сейчас послать им двух–трех самоотверженных монахов из нашего Сергиевского Подворья, но этого мало, а большая поддержка мне не под силу. Какая–нибудь другая независимая Православная Церковь, например Сербская, могла бы оказать им более широкую помощь. «Направьте их к нам», — написал мне Сербский митрополит Досифей. Когда индусы, на возвратном пути из Эдинбурга, проезжали через Париж, меня там не было. Я оставил им записку, советуя заехать в Сербию. Туда они, по моему совету, и направились. Вспоминая Эдинбургскую конференцию, скажу несколько слов о наших церковных службах и молениях.
Заседания общего собрания Конференции начинались и заканчивались молитвой, которую читали представители Церквей по очереди; затем все делегаты вместе пели гимны и псалмы.
Бывали торжественные богослужения в прекрасных Эдинбургских соборах, на которых присутствовало множество народу. Духовенство разных вероисповеданий, национальностей и рас, в разнообразных церковных облачениях, пышной и величественной процессией следовало через весь собор на возвышение к престолу… Глубоко трогательная по своему символическому смыслу картина: в братской любви и свободе Церкви собрались для общения в молитве о соединении их под водительством Единого Пастыреначальника — Христа…
Нам, православным, для наших служб отвели храм Святой Троицы, где мы по воскресеньям и служили. На одну нашу Литургию пришло много инославных делегатов и просто местных жителей. Служил греческий митрополит Германос в сослужении о. С. Булгакова и греческого архимандрита Михаила. По окончании обедни, когда митрополит Германос вышел с крестом, к амвону потянулись длиннейшей чередою все молящиеся. Как смиренно и с каким благоговением прикладывались наши инославные братья ко кресту и вкушали кусочек просфоры…
Было у нас и свое православное богослужение. Очень часто, в 7 часов утра, мы служили обедню в одной из комнат общежития, которую нам отвели под церковь. Скромные, трогательные службы… Принимали в них участие главным образом русские.
После Эдинбурга я продолжал участвовать в Экуменическом движении.
В мае 1938 года состоялась Конференция в Утрехте (Голландия) под председательством архиепископа Йоркского. Конференция единодушно одобрила приготовленный для ее рассмотрения проект мировой экуменической «конституции», обсудила и наметила основное направление Движения, которое должно согласовать два главных его течения: 1) Лозаннское «Вера и Церковный строй», посвященное чисто религиозно–церковным вопросам; 2) Стокгольмское «Жизнь и Труд», т. е. течение практического, социального христианства. Впредь до введения в жизнь «конституции» Конференция избрала Временный комитет (из 30 членов) под председательством архиепископа Йоркского д–ра Темпля; вице — председателями были избраны: пастор Бёгнер, митрополит Германос и д–р И. Мотт; генеральным секретарем — д–р Visser't Hooft.
Летом того же года я побывал в Англии. Мне необходимо было увидать архиепископа Кентерберийского: я хотел осведомить его о трудном экономическом положении нашего Богословского Института. Одновременно я посетил Съезд англо — русского содружества святого Албания и Преподобного Сергия в High Leigh и провел с молодежью два дня. К сожалению, я чувствовал себя плохо: во время путешествия я упал на пароходе, и теперь последствия падения сказывались.
После свидания с архиепископом Кентерберийским, обещавшим мне предпринять некоторые меры, чтобы помочь нашему Институту, — я проехал в «Дом отдыха», устроенный неподалеку от Лондона м. Марфой (Масленниковой) и ее подругой, датской графиней Шак; здесь я оправился от моего недомогания.
В начале октября мне снова пришлось поехать в Англию, по приглашению Англо–Кафолической Ассоциации, устроившей свое собрание в г. Бристоле. Я жил у генерального секретаря Dr. French'а. Это старый, убежденный друг и многолетний деятель по сближению Англиканской Церкви с Восточной. Я его знаю давно. В одной из комнат его дома размещена богатая и очень ценная коллекция наших русских старинных икон XV–XVI вв. В Бристоле я виделся с архиепископом Кентерберийским; он мне сказал, что помнит о нашей июльской беседе, а предположенное им совещание о Богословском Институте намечено в конце месяца… Что касается моих впечатлений о собрании Англо–Кафолической Ассоциации, — то не скрою, оно показалось мне малолюдным и малоодушевленным. Эта самая старая организация по сближению Англиканской Церкви с Востоком, насчитывающая уже 75 лет, как будто пришла в состояние утомления, увядания; прежние члены ее уже состарились, а молодежь слабо ее поддерживает, а иногда даже мешает и не координирует своей деятельности с нею. Очень жалко, потому что эта почтенная организация заслуживает всякого уважения и поддержки…
Побывал я в этот приезд у нескольких старых членов Комитета помощи нашему Институту, побывал и на заседании Комитета. К сожалению, ничего утешительного на заседании мне сказано не было… Тут я еще лучше понял, насколько был необходим мой визит к архиепископу Кентерберийскому…
Если говорить об отношениях нашей зарубежной Церкви, в частности, с англиканами, надо признать, что общение с ними продолжает укрепляться. Особенно оживленную деятельность развивало (и по сей день развивает) содружество святого мученика Албания и Преподобного Сергия Радонежского — англо–русское Братство, объединяющее преимущественно молодое поколение. Возникло оно еще в 20–х годах (первый Съезд содружества в 1927 г.). С нашей стороны в этом Братстве работали: протоиерей С. Булгаков, протоиерей Г. Флоровский, архимандрит Кассиан (Безобразов), профессор А. В. Карташев, Л. А. Зандер, Н. М. Зернов, Б. И. Сове и группа священников и студентов. Со стороны англикан также образовалась группа священников и студентов, возглавляемая епископом Фриром Трурским [
[241]]. На этих собраниях не только обсуждаются церковные вопросы, но и совместно молятся; ежедневно бывает богослужение — Литургия, по очереди: сегодня православные служат, завтра англикане. Есть общая икона Преподобного Сергия и святого Албания, к которой прикладываются все — православные и англикане. Архиепископ Кентерберийский принял Братство под свое покровительство и прибыл на одно собрание, явно подчеркивая свое благоволение к этому экуменическому содружеству. Съезды Братства бывают ежегодно. В последнее время там был поднят горячими головами вопрос об «интеркоммюнион», т. е. о возможности общения членов Братства в таинстве святой Евхаристии. Горячим сторонником этой смелой мысли был протоиерей С.Булгаков; он находил возможным совместное причащение для членов Братства; но лишь во время съездов. Конечно, это совершенно неправильно; невозможно решать этот вопрос церковной жизни и веры только в применении к одному учреждению, без общего благословения церковной иерархии. Так на это смотрел и мудрый епископ Фрир.
Вспоминая наши взаимоотношения с англиканами, я должен вернуться к 1930 году, когда в Великом посту они организовали по всей Англии моление о страждущей Русской Церкви. Я получил приглашение в нем участвовать и принял его с благодарностью.
Торжественное богослужение, посвященное России, происходило в Вестминстерском аббатстве. Сонм духовенства во главе с архиепископом Кентерберийским. Несметные толпы народу… До слез было трогательно видеть, как вся Англия, по призыву своего духовного главы, архиепископа Кентерберийского, коленопреклоненно молилась о великой страдалице Русской Церкви… Такие богослужения были не только в Лондоне, но и во всех церквах по всей Англии, и всюду привлекали множество народу; меня приглашали для участия в них, то в одну церковь, то в другую; я, конечно, горячо благодарил за столь сердечное, столь искреннее и горячее участие в страданиях нашей Русской Церкви, просил и дальше не оставлять ее своими братскими молитвами…
Мое присутствие в те дни в Англии, общение с англиканами, мои речи были истолкованы в Москве, вероятно агентами большевиков, как политика, направленная против государственной власти. Я получил грозный запрос от митрополита Сергия Московского, на который ответил разъяснением, что я вовсе не занимался политикой, а лишь проявил солидарность с теми, кто сочувствует страданиям родной нашей Церкви, что отказаться от этого участия в молитвах английских братьев за нашу Церковь я считаю, по долгу совести, недостойным, невозможным. Завязалась тягостная переписка. От меня потребовали, чтобы я осудил свое поведение в этом общении с англичанами в молитвах за нашу Церковь; чтобы я дал слово никогда не повторять таких действий… Я, разумеется, на это не мог согласиться, и тогда митрополит Сергий уволил меня от управления епархией с запрещением в священнослужении, что и заставило меня апеллировать к Вселенскому Патриарху, о чем будет подробно сказано в следующей главе.
В 1935 году я вновь побывал в Англии. Наши друзья, англикане, в частности «Общество помощи Русской Церкви и ее духовенству», существующее с самого начала русской революции и являющееся одним из главных жертвователей на наш Богословский Институт, решили провести большую кампанию для сбора средств на свою благотворительную работу. Архиепископ Кентерберийский в одном из самых больших храмов в Лондоне, при огромном стечении народа, сказал замечательную проповедь, призывавшую к помощи Русской Церкви. Английское общество на призыв своего церковного главы отозвалось очень живо, собраны были большие суммы (одна англичанка сейчас же после проповеди пожертвовала 1000 фунтов стерлингов). По приглашению архиепископа Кентерберийского я принял участие в этом богослужении и читал нарочно составленную для этого собрания молитву о прекращении страданий Русской Церкви.
Вообще дружественные, братские сношения с Англиканской Церковью продолжают оживленно развиваться. Много раз мне приходилось присутствовать на англиканском богослужении, говорить речи и преподавать благословение народу в англиканских церквах. Было несколько случаев, когда они открывали двери своих храмов для наших православных богослужений. Дважды мне пришлось служить пасхальную вечерню в прекрасном американском храме Святой Троицы на avenue Georges V в Париже. Смысл этих двух богослужений заключался в том, чтобы ознакомить американскую паству с красотой нашей пасхальной церковной службы, наших чудных песнопений. По окончании богослужения кто–нибудь из представителей англиканского духовенства разъяснял значение нашего православного богослужения и обычно заканчивал свою речь обращением к молящимся с призывом жертвовать на наш Богословский Институт. Нашу бедность, неустроенность они понимали и помогали нам охотно и щедро.
Помню, во время Никейских торжеств в 1925 году я служил Литургию св.Иоанна Златоуста архиерейским чином в сослужении нескольких иереев в церкви Оксфордского университета в присутствии многих профессоров и студентов, а также участников этих торжеств — русских и иностранцев. Я произнес проповедь, взяв темой молитву из нашей Литургии: «Иже общия сия, и согласныя даровавый нам молитвы, иже и двема, или трем, согласующимся о имени Твоем, прошения подати обещавый: сам и ныне раб Твоих прошения к полезному исполни, подая нам в настоящем веце познание Твоея истины, и в будущем живот вечный даруя». Эта молитва есть и в Литургии англиканской; следовательно, между нами есть «общия и согласныя молитвы», которые являются крепкими звеньями нашего духовного единения; другую основу этого единения я нахожу также в словах нашей Литургии: «…возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы…» Молитва и любовь — вот две крепких основы нашего сближения; утверждаясь на них, мы можем достигнуть того «единомыслия», чтобы согласно исповедать Отца и Сына и Святого Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную.
Итак, для наших богослужений англикане всегда широко открывали двери своих храмов, но вот представился случай и нам предоставить свой храм для англиканского богослужения.
Под Новый год (1935 г.) прибыли к нам представители Англо–православного содружества во главе с глубокочтимым епископом Фриром Трурским. Была устроена Конференция в Кенси (в женском учебном заведении, основанном княгиней Ириной Павловной, дочерью Великого Князя Павла Александровича от его брака с кн.Палей), затем делегаты посещали наши парижские православные гнезда. В Новый год они прибыли на богослужение в наш Александро–Невский храм. В этот день после Литургии была панихида по скончавшемся Константинопольском Патриархе Фотии, молящихся собралось много — православных и англикан. После панихиды епископ Фрир, с моего благословения, облачился в нашей исповедальне в свои священные одежды, в сопровождении всей делегации вышел на середину храма — и совершил молебствие по англиканскому чину; в заключение они пропели несколько своих рождественских песнопений (по западному календарю были святки), а затем епископ Фрир крестом благословил молящихся. Веяло истинно христианским древним единением… Это почувствовали многие из присутствовавших на этом богослужении (как мне потом об этом говорили). Я стоял на левом клиросе, а когда богослужение окончилось, направился навстречу владыке Фриру, и мы братски облобызались…
Епископ Фрир [
[242]] был первый представитель англиканского священства, который служил в православном храме.
Наши многократные попытки сближения с англиканами, думается, имели огромное значение и для них, и для нас. Мы взаимно обменивались и делились духовными сокровищами церковной жизни. Мы открыли англиканам глубину бездонную, мистическую, и широту необъятную нашей православной веры и неизъяснимую красоту и благолепие православного культа. Они — нам: крепкую церковную дисциплину, благоговейное, чуткое отношение к тому, что в церкви происходит, что говорят, что поют, а также особенное уменье применять христианские идеалы в практической жизни. Мы дали им глубину проникновения в тайны христианства; они показали нам мудрость в строительстве христианской жизни.
С лютеранами и кальвинистами у нас тоже установились хорошие отношения, хотя встречались мы довольно редко. Во французском «Комитете продолжения», который образовался после Лозаннской конференции и функционировал эти последние 10 лет, наши профессора–богословы встречались с пасторами на деловой почве.
Однажды кальвинисты устроили в одном из своих больших храмов торжественное собрание, на котором выступали пастор Бёгнер, пастор Монье и др… с речами о соединении Церквей. Потом была прочитана соответствующая молитва и народ пропел несколько песнопений. Я получил приглашение на это собрание, чтобы преподать собравшимся Божие благословение. Храм был переполнен молящимися, среди них было много русских, сочувствующих Экуменическому движению. Подобные собрания устраивались в разное время и в других протестантских храмах.
Считаю нужным упомянуть еще об одном оригинальном явлении на почве наших экуменических отношений — о духовных концертах студентов нашего Богословского Института в разных странах Европы.
Задумано было это дело финансовым секретарем нашего Института Л.А. Зандером поначалу со скромною практическою целью помочь Институту, собрать средства для поддержания его в особенно трудное время экономической жизни. Осуществлено оно было при помощи артиста русской оперы И.К. Денисова, очень церковного человека и большого знатока русского церковного пения. Идея была в том, чтобы сорганизовать из студентов небольшой хор, разучить с ним древние песнопения и отправиться по городам и странам Европы для ознакомления с ними протестантских народов. Разумеется, план этих поездок предварительно разрабатывали со всею тщательностью наши иностранные друзья на местах. Первый опыт такой поездки дал неожиданно блестящие результаты. Студенты выступали главным образом в храмах, иногда даже во время богослужения, в качестве дополнения к нему, и наша древнерусская музыка производила огромное впечатление; церкви бывали переполнены, и печать с восторгом отзывалась о концертах. Такие поездки, и с неизменным успехом, устраивались в Англии, Швейцарии и Голландии. Конечно, в начале музыкальной программы кто–нибудь из сопровождавших концертантов лиц (Л.А. Зандер, либо профессор Б.П. Вышеславцев, либо В.В. Вейдле) выступал с разъяснением песнопений, которые предстояло аудитории прослушать. Но все же было удивительно, как протестанты, — столь, казалось, далекие от православного богослужения, никогда в большинстве случаев не видевшие и не слыхавшие его, — глубоко воспринимали эти песнопения и были буквально очарованы их красотою…
Благодаря этим концертам у нас возникли в протестантском мире новые крепкие дружественные связи. Православие начинают узнавать, любить и почитать. Мы прорубили еще одно окно в Европу… И студентам нашим представился случай видеть протестантов, знакомиться с их церковной жизнью, что, конечно, очень расширяло их духовный кругозор и принесло им большую пользу.
Так Господь благословил из малого и чисто экономического предприятия сотворить большое миссионерское дело.
Я дал внешний, быть может, поверхностный обзор наших сношений с инославными, главным образом с протестантами и особенно с Англиканской Церковью. В этом взаимообщении мы хорошо узнали и полюбили друг друга, научились вместе молиться. Я считаю это важным достижением в деле сближения наших Церквей. Таял лед того взаимного непонимания, которое ведет ко взаимному отчуждению, разрушались перегородки, укреплялись братские чувства во Христе — в этом несомненно большое значение, великая заслуга Экуменического движения, и за это слава Богу, а будущее в руках Божиих…
Глава 23. ЦЕРКОВНАЯ СМУТА
Управление Западноевропейской епархией, как я уже рассказал [
[243]], было мне поручено в 1920 году Высшим Русским Церковным управлением, вначале обосновавшимся в Константинополе, а потом — в Карловцах, в Сербии, где всем нам, русским архиереям, было оказано широкое гостеприимство. Вскоре же по вступлении в должность я почувствовал, что мои полномочия канонически зыбки и нуждаются в подтверждении высшей инстанции Русской Церкви — Московской патриархии. Мне удалось снестись с Патриархом Тихоном, и вот летом 1921 года в Берлин прибыл патриарший Указ [
[244]], подтверждающий мое назначение временно Управляющим русскими православными церквами и приходами в Западной Европе впредь до восстановления правильных, нормальных сношений с Россией.
Митрополит Вениамин (впоследствии принявший мученическую кончину) на это назначение согласился тоже и написал мне собственноручное письмо от 8(21) апреля 1921 года, в котором заявил: «С своей стороны я даю полное согласие, чтобы в то время, когда почти нет сношений с заграничными церквами, Вы заведовали ими — тем более что это временное заведование Вашим Высокопреосвященством признано и подтверждено Святейшим Патриархом».
Обращение мое к Патриарху Архиерейский Синод счел за некоторое недоверие, подчеркивающее его, Синода, неправомочность как высшей церковной инстанции за границей, и в отношениях ко мне пробежал холодок — почувствовалась недоброжелательная настороженность. Она проявилась уже менее прикровенно на Монархическом Съезде в Рейхенгале, где я с тревогой впервые почуял притязания крайних монархистов (типа Маркова 2–го) влиять на Церковь и сделать ее орудием для своих реставрационных планов. Митрополит Антоний это направление поддерживал с патриотическим энтузиазмом, считая его при существующих условиях неизбежным. «Я все же тут среди своих…» — растроганно говорил он. Тяжелое чувство охватило меня… Разве могли «марковцы» направить Церковь в эмиграции по правильному руслу? Если бы они навязали свою политическую идеологию всей зарубежной Церкви, то что было делать остальной эмиграции, которая их убеждений не разделяла? Церковь должна стать выше всех политических партийных раздоров и по возможности объединить под своим куполом всю эмиграцию. Я осторожно коснулся этих вопросов в своих речах на Съезде — и встретил энергичный отпор. Мое тревожное недоумение росло…
В Рейхенгале было постановлено собрать общеэмигрантский Съезд из представителей духовенства и мирян. Согласно выработанному Положению о Съезде, я имел право делегировать от епархии представителей приходов и пригласить несколько человек по личному усмотрению. Сделать это было мне нелегко: я еще не успел осмотреться и не знал ни настроений в моих приходах, ни главных церковных деятелей. Присмотревшись, увидал, что состав паствы пестрый: есть правые и левые, есть лица, считающие себя «привилегированными», и есть простые, рядовые члены приходов; в церковноприходском окружении велись споры, уже обозначались политические партии, которые соперничали друг с другом и т. д. Когда пришло время посылать делегатов в Карловцы, правые старались на меня воздействовать, дабы провести своих кандидатов.
По–видимому, уже в Рейхенгале монархисты меня «своим» не признавали, потому что решение использовать Церковный Съезд для проведения конспиративной монархической программы они приняли без меня, когда я уехал из Рейхенгаля в Брюкенау [
[245]]. Теперь же, когда созывали Съезд, они всячески старались меня от него устранить. Сперва мне было предложено спешно выехать на это время в Америку, куда меня еще раньше посылал Патриарх Тихон на ревизию нашей Североамериканской епархии [
[246]]; потом задержали в Берлине, мешкая с сербскими визами, и я с архимандритом Тихоном и протоиереем Н.Подосеновым приехал в Карловцы, когда наши берлинские делегаты–миряне успели туда прибыть. Президиум Съезда был избран, и войти в состав его я не мог, а Съезд уже был объявлен Церковным Собором зарубежной Русской Церкви.
Я подробно рассказал об этом Съезде в своем месте, здесь я лишь напомню о моей позиции, принципиально расходившейся с политическими притязаниями Собора и практически принудившей меня и моих единомышленников (меньшинство) воздержаться от голосования «Обращения» Собора [
[247]] и выступить с особым заявлением. Я отстаивал свободу Церкви от политики, потому что в прошлом горьким опытом познал, как Церковь страдает от проникновения в нее чуждых ей политических начал; как пагубно на нее влияет зависимость от бюрократии, подрывающей ее высокий, вечный, Божественный авторитет Царства Божия на земле и ослабляющей силу ее чисто религиозного воздействия на народную жизнь. Эта тревога за Церковь была свойственна многим русским иерархам задолго до революции в самые благополучные годы нашей государственной жизни.
«Обращение» Карловацкого Собора имело пагубные последствия и не предвидеть их было нельзя. Оно усугубило и без того тяжкое положение Патриарха Тихона: большевистская власть стала подозревать его в реставрационных замыслах и еще яростней напала на Церковь. Патриарх Тихон был вынужден принять меры: он решительно осудил политические притязания Карловацкого Собора, угрожал церковным судом его деятелям, а полноту церковной власти за рубежом вручил мне [
[248]], назначив меня временно Управляющим православными приходами в Западной Европе, с предписанием немедленно распустить Высшее Церковное управление в Карловцах и выработать новый проект управления церквами.
Я рассказал в своем месте, что я предпринял для осуществления воли Патриарха, а также о том, какие мотивы и обстоятельства мне помешали ее выполнить со всею точностью. Сейчас напомню, что архиереи во главе с митрополитом Антонием, т. е. все члены Высшего Церковного управления, поначалу волю Патриарха признали, но вскоре же стали искать путей, формально ее исполнив, фактически ее не исполнять, а возродиться под другим наименованием, в том же составе, с теми же притязаниями, — и начать борьбу со мною, дабы свести на нет мои полномочия главы Православной Русской Церкви за границей.
На Съезде архиереев в сентябре 1922 года после долгих споров было постановлено воле Патриарха подчиниться, и Высшее Церковное управление было упразднено.
После этого роспуска, хоть я и мог бы (и даже должен был) сосредоточить в своих руках всю полноту власти, но я не захотел пользоваться единолично этою полнотою и согласился разделить по–братски эту власть с другими епископами. Согласно пункту 2 патриаршего Указа, я взял на себя разработку дальнейшего, уже окончательного, плана управления Русской Церковью за границей, в котором мне предстояло найти нечто среднее, сочетающее силу патриаршего Указа с сохранением некоторой власти за Карловацкими епископами. Было решено, что через год я приеду в Карловцы с новым проектом.
В 1923 году проект был готов. Вот его основные положения.
Я предлагал систему автономных церковно–административных округов (митрополий–архиепископий) и наметил образовать 4 округа: 1) Западноевропейский, 2) Восточноевропейский [
[249]], 3) Дальний Восток [
[250]], 4) Северная Америка. В наиважнейших случаях епископы (или их представители в священническом сане), делегаты епархий, должны были съезжаться на ежегодный Архиерейский Собор для выработки соответствующих суждений или чтобы принять те или иные меры; тем самым Карловацкий Синод как постоянный церковно–административныи орган делался излишним и подлежал ликвидации, а ежегодные Соборы проявляли бы в своей чистоте наш исконный восточно–православный принцип соборности. Председателем на таком ежегодном Соборе был бы, старейший по сану, митрополит Антоний. Ведению Архиерейского Собора подлежали вопросы веры и нравоучения, высшее руководство религиозной жизнью русских, издание воззваний и обращений от имени всей зарубежной Русской Церкви, вопросы просвещения и миссии. Для действительности Собора необходимо было личное присутствие 12 епископов.
Мой проект на Съезде 1923 года вызвал горячие прения и в заключение был предложен другой проект: Синод не упраздняется, ему подчинены все русские церкви на Балканах и Дальний Восток; Западноевропейский автономный округ предоставляется мне (относительно Северной Америки суждения не было, но предполагалось, что митрополит Платон потребует автономии); Архиерейский Синод действует в промежутках между сессиями Архиерейского Собора, он занимается подготовкой материала для очередного Собора и ведает дела, когда они передаются ему на решение автономными митрополиями; в порядке управления Синод не входит во внутренние дела митрополичьих округов, но может посылать предложения о проектированных им мерах; он есть постоянная апелляционная и кассационная инстанция, действующая непрерывно по делам брачного характера.
Этот проект, рассмотренный на Архиерейском Соборе, который состоялся 19 мая (1 июня) 1923 года, в жизнь и вошел с добавлением следующего постановления: признать желательным назначение епископов в главнейшие центры расселения русских в Западноевропейском митрополичьем округе, и прежде всего — в Германии и Италии. Таким образом, мы далеко отступили от Указа Патриарха Тихона, извратили его волю.
Отрицательные стороны этой церковно–административной конструкции обнаружились скоро. Проект оказался весьма удобным для ведения борьбы со мною. В этом отношении весьма характерен Собор 1924 года (4 октября старого стиля — 17 октября).
Рассмотрению подлежало до сорока вопросов. Но важнейших было три: 1) о необходимости и возможности ввиду происходящих в России событий присвоить Архиерейскому Синоду и Собору, под председательством митрополита Антония, права и функции Высшей Церковной власти; 2) о необходимости и возможности провозглашения временной независимости Русской Православной Церкви за границей в делах церковного управления, дабы этой независимостью снять с Патриарха ответственность за заграничную Русскую Церковь, причем по–прежнему признавалось главенство Святейшего Патриарха Тихона и продолжалось возглашение его имени за богослужением; и наконец, 3) об изменениях в организации Высшей Церковной власти за границей.
После обмена мнениями определили: сохранить полное подчинение и преданность Святейшему Патриарху как законному главе Русской Церкви; проект временной независимости Русской Церкви за границей — отклонили; что же касается вопроса об изменении в организации Высшей Церковной власти за границей, то тут на меня был произведен решительный натиск.
Синод представил Собору доклад, в котором, якобы по соображениям церковной пользы, предлагалось автономию Западноевропейского округа отменить и включить мою епархию в юрисдикцию Священного Синода… «Опыт показал, — гласил текст доклада, — что враги Христовой Церкви сильны своим внутренним единением и своею внешней дисциплиной. Очевидно, и для борьбы с ними необходимо и внутреннее единение и основанное на началах этого единения внешнее единство… Между тем данная Западноевропейскому округу автономия не только не способствует объединению заграничных православных русских общин и епархий, но и постепенно ослабляет и даже разрушает его вследствие возникшего на почве автономии фактического двоевластия».
Далее приводились соображения экономического, валютного характера в связи с общим положением экономической жизни и высказывалось пожелание возвратиться к процентному отчислению от доходов Церквей Старого и Нового Света, подлежащих юрисдикции Синода, предварительно отменив автономию Западноевропейского округа.
8 голосами против 4 (при воздержавшихся: митрополите Антонии и епископе Тихоне) было постановлено упразднить автономию моего округа, установленную Архиерейским Собором 1923 года. Здесь со всею ясностью сказалось, как неискренно, лицемерно и вынужденно было предоставление этой автономии, упраздненной через год после ее дарования.
Я выступил с решительным протестом, изложенным в мотивированном заявлении, — и покинул зал заседаний. Вот текст моего заявления:
«Указом Святейшего Патриарха Всероссийского № 348, от 5 мая 1922 года, управление всеми русскими заграничными приходами сохранялось за мною, причем мне предлагалось представить соображения о порядке управления русскими заграничными церквами. Согласно этому Указу и имея в виду идею церковного единства, я предложил Русскому Архиерейскому Собору 1923 г. такую организацию управления вверенной мне епархии, при которой она, находясь в каноническом единстве со всеми другими заграничными епархиями, сохраняла бы свою внутреннюю автономию; я полагал, что таким образом лишь в малой мере осуществятся те широкие полномочия, какие лишь мне одному были предоставлены Святейшим Патриархом. Только что принятое большинством голосов постановление я считаю существенным нарушением воли Святейшего Патриарха».
Собор свою воинственную позицию сдал и постановил передать это дело на окончательное решение Святейшего Патриарха, а до получения этого решения оставить все, как было Однако в заседании 10 октября Собор принял постановление: считать епископа Тихона Берлинского полноправным викарием на всю Германию «…и обязать митрополита Евлогия отчислять 50 процентов в пользу Архиерейского Синода с православных церквей в Аргентине», тем самым подчеркивая неизменность своих притязаний на высшую церковно–административную инстанцию.
Такими хитро спроектированными постановлениями, ловкими тактическими приемами и велись наступления против меня. Стоило мне согласиться на назначение мною в главных городах моей епархии епископов–викариев, — это постановление церковно–административного характера было использовано практически для расширения прав епископа Тихона в Берлине, дабы понемногу вытеснить меня из Германии. Такого рода приемы встречались постоянно. Приеду, бывало, на очередную ежегодную сессию Собора, а Синод за год уже подготовил свой хитрый план наступления. Должен признать, что, по свойственной мне слабости характера и ради желания мира Церкви, я с этой тенденцией — урезывать мои права — недостаточно энергично боролся. Замечалась еще одна упорная тенденция — считать Архиерейский Синод единственным правомочным органом Русской Церкви, простиравшим власть не только на меня, но и на всю Россию на том основании, что якобы там Церковь в упадке и пленении и постановления оттуда для эмиграции действительными быть не могут. Тут приходилось быть все время начеку. Когда Патриарх Тихон умер, я получил бумагу из Сербии от Архиерейского Синода, в которой епископы излагали свои суждения относительно признания (или непризнания) митрополита Петра местоблюстителем патриаршего престола. Я ответил: «Глава Русской Церкви не мы, а митрополит Петр. Он может нас признавать или не признавать, а не мы — его». В Карловцах мой категорический ответ не понравился, но митрополита Петра все же Синод признал.
Бывали случаи, когда Синод еще круче уклонялся от первоначальной линии своих взаимоотношений со мною. Так, например, он предложил мне сделать выговор профессору Карташеву за его якобы недостаточно уважительный отзыв в печати о Синоде. Это уже был акт прямого вмешательства во внутренние дела моей епархии.
Каждый раз, когда случалось мне ездить на очередной Собор, я покидал Карловцы с горестным чувством: я согласился на сотрудничество с Синодом ради братского общения, а его–то и не было; ощущались недоброжелательность, агрессивная настроенность, я постоянно замечал попытки меня утеснить, мою власть ограничить, пользуясь какими–то лукавыми приемами… Бороться за свои привилегии — удручающая тягота, а мне бороться за них приходилось: они были мне вручены, и за них я должен был нести ответственность.
Основная линия моей церковно–административной деятельности, которой я неуклонно следовал с первого же общеэмигрантского Церковного Съезда в 1921 году, была последовательно и строго проводимая аполитичность. В деле церковном мы должны были временно умереть в политико–национальном отношении, чтобы воскреснуть и церковно, и государственно, и национально. Только эта линия, при существующей розни в политических взглядах, не превращала Церковь в арену столкновений политических страстей. Аполитичную линию я отстаивал твердо. Когда в 1924 году некоторые политические группировки решили созвать общеэмигрантский Съезд и обратились ко мне с выражением пожелания, чтобы приходы делегировали на него своих представителей, я ответил отказом. Становиться в ряду политических организаций и посылать представителей на политический Съезд Церковь не может, ибо она не политическое учреждение; но, разумеется, представители духовенства, как отдельные граждане, могут участвовать в выборах делегатов и в собраниях Съезда. К открытию прибыл митрополит Антоний [
[251]]. Заседания происходили в зале отеля «Мажестик». Мое участие в этом событии свелось к тому, что в день открытия Съезда, по просьбе председателя П.Б. Струве, я отслужил молебен — и тотчас же уехал, хоть митрополит Антоний и звал меня в зал заседаний, где мне было приготовлено кресло. Мое нежелание принимать участие в политическом Съезде произвело неприятное впечатление на те круги, которые по–прежнему видели в Церкви опору для своих политических замыслов.
После Собора 1924 года отношения со мною еще больше натянулись. Положение запутывалось. Конфликт, возникший в самом начале эмиграции между мною и Синодом, все углублялся и наконец привел в 1926 году к разрыву.
В тот год на повестке очередного Архиерейского Собора значился параграф: «Пересмотр взаимоотношений Синода и Западноевропейской епархии». Я почувствовал недоброе и заколебался… Ехать ли мне на Собор? М.Н. Гирс убеждал меня не ехать, а митрополит Платон Американский, который как раз в это время прибыл в Париж, направляясь в Карловцы для выяснения своих отношений с Синодом, наоборот, уговаривал меня на Соборе присутствовать и просил поддержать его, если бы ему пришлось свои права защищать против синодальных притязаний. Сознание, что я крепкими узами, братски, связан с нашим русским епископатом, чувство многолетней дружественной преданности митрополиту Антонию, желание охранять единство и мир в Церкви — все эти мотивы вновь побудили меня направиться в Сербию.
Приезжаю… Атмосфера нервная, накаленная. В первом же заседании у митрополита Платона возникает с Синодом столкновение: его обвиняют в притязаниях на автономию, в доказательство приводят текст одного из его посланий и постановление Епархиального съезда в Детройте, в которых упоминается выражение «without support»; Синод истолковал его как заявление об автономии; митрополит Платон возражает: «without support» означает пожелание, чтобы епархия не нуждалась в поддержке. Возникает резкий обмен мнений, из которого выясняется, что митрополит Платон и я признаем за Архиерейским Собором и Синодом лишь морально–общественное значение, но отнюдь не каноническое и не судебно–административное. Митрополит Платон отказывается подписать протокол обсуждения его доклада об устройстве Русской Церкви в Америке, в котором его несправедливо обвиняют в том, что он якобы проповедует сепаратизм, отделение Американской Церкви от Русской. Я отказываюсь подписать его тоже. Собор настаивает на протоколе. Тогда возмущенный митрополит Платон покидает зал заседаний…
На следующий день поднимается буря из–за меня. На повестке обсуждение пункта о Западноевропейской епархии; поставленное в начале повестки, оно было потом произвольно отнесено на самый конец. Я хитрость понял. Синод хотел использовать меня для совместных постановлений, а потом поставить вопрос о наших взаимоотношениях. Я потребовал изменить порядок обсуждения повестки, и мне уступили. Но на следующий день, при голосовании дня, епископ Тихон от своего голоса отказался, и тем самым я вновь очутился в конце повестки. Это третирование глубоко меня возмутило: «Я бывал в Государственной думе и в разных собраниях, но такого произвола не видал: вечером что–то постановляют, а наутро от него отказываются…» — и я Собор покинул, сказав, что виновником инцидента я считаю своего викария епископа Тихона, которому я не доверяю… Митрополит Антоний в раздражении заявил: «А мы вам не доверяем…» Уйдя с Собора, я подал мотивированное заявление об уходе. Я заявлял, что не признаю Карловацкого учреждения, упраздненного Патриархом Тихоном, законною каноническою властью над собою; эта власть существует только благодаря моему признанию и согласию, а потому имеет для меня условный и только моральный, а отнюдь не канонический характер; она не имеет никакого права изменять объем моих церковных полномочий, определенных в Указе Патриарха Тихона, и что я согласен и дальше работать с Карловацким Синодом и Собором при том непременном условии, что эти учреждения будут в точности следовать основному Указу Патриарха Тихона, а не нашему соглашению на Соборе 1923 года.
После этого я попросил лошадей в Сербской патриархии, уехал в Хоповский женский монастырь для совершения богослужения и оставался там до окончания Собора.
Вернувшись в Белград, я узнал, что в мое отсутствие Собор постановил выделить Германию в самостоятельную епархию, возглавляемую епископом Тихоном Берлинским, подчинив ее юрисдикции Карловацкого Синода. Это постановление было результатом ходатайства самого епископа Тихона, который жаловался Синоду, что после всего, что произошло, ему невозможно служить со мною. Так интрига епископа Тихона увенчалась успехом и Собор с удивительной легкостью зачеркнул Указ Святейшего Патриарха Тихона…
О постановлении объявил мне сам епископ Тихон, когда по возвращении в Белград я с ним столкнулся (мы жили в одном церковном доме).
– Я буду бороться против этого незаконного постановления всеми доступными мне средствами, — заявил я епископу Тихону.
– А постановление Синода?
– Буду бороться и с Синодом.
– А смута в народе?
– Я не знаю, как отнесется церковный народ, — ответил я, — но от принципиальной точки зрения отступить я не могу, даже если останусь один…
После моего ухода в эту же сессию Синод разбирал еще несколько вопросов и выносил постановления, касавшиеся моих приходов, тогда как по нашему соглашению (1923 г.) без моего присутствия на Соборе никаких постановлений, касающихся моей епархии, он выносить не мог. Так, после дебатов и консультаций, было вынесено постановление об отрицательном отношении Русской Зарубежной Церкви к Всемирному Христианскому Союзу Молодых Людей (ИМКА). Сущность этого странного постановления сводилась к тому, чтобы совместно с этой организацией не работать, однако пользоваться денежными пособиями от нее разрешалось… О моем Богословском Институте была принята следующая резолюция: взять его под особое наблюдение; Синод как высшая церковная власть должен рассмотреть и одобрить его устав, учебные планы и утвердить учебный персонал. «Собор выражает пожелание, — гласила резолюция, — чтобы Богословский Институт освободился от денежной помощи жидо–масонов».
Коснувшись моих отношений к Собору и Синоду, Собор постановил предложить мне и моим викариям подать заявление о признании за Собором и Синодом не только морального значения, но и канонической власти. В случае неисполнения сего Архиерейскому Синоду предоставлены особые полномочия «вплоть до назначения нового Управляющего православными церквами в Западной Европе…»
Содержание и форма этих постановлений свидетельствовали о том, что Архиерейский Собор выкопал глубокий, непереходимый ров между собою и мною; он незаконно присвоил высшую власть в Русской Церкви, могущую изменять и даже отменять канонические распоряжения Патриарха Тихона, и, таким образом, создал наш горестный зарубежный церковный раскол.
Совсем измученный вернулся я в Париж после разрыва… И с двойным чувством: скорбью легло на душу все пережитое в Карловцах, и одновременно я чувствовал легкость — освобождение из тенет хитрой и злой неправды. Вокруг меня непрерывно вилась сложная паутина интриг, козней, наветов… — все с целью лишить меня той полноты власти, которой я был облечен по воле Патриарха.
По возвращении в Париж я в соборе с амвона объяснял прихожанам смысл и причины моего разрыва с Архиерейским Синодом, а потом обратился с посланием к пастве; в нем я изложил историю возникновения и развития нашей церковной смуты, канонические основы моих полномочий, за которые я ответствен, потому что они определяют направление моего церковного пути в переживаемой смуте.
«…По своей архиерейской совести не могу признать таких постановлений Архиерейского Собора, как отделение от моей епархии германских приходов, ибо это противоречит ясно выраженной воле Патриарха Тихона. Облеченный Патриархом широкими полномочиями, я несу ответственность за их сохранение — я не вправе от них отказаться.
Нарушив волю Патриарха, Собор внес разделение в нашу зарубежную церковную жизнь; уже сказываются печальные плоды этого разделения — растет и углубляется церковная смута. В эти дни, когда призрак раздора церковного стоит перед нами, я всею своей архиерейской властью призываю вас, как уже призывал не раз, к твердому и неуклонному следованию воле нашего Святейшего Патриарха Тихона — по примеру страждущих братьев наших в России, которые в унижении, в узах и гонениях непоколебимо стоят за непорочное каноническое существо нашей Церкви…» — писал я в моем послании.
Паства встретила мое послание весьма сочувственно. П.Б. Струве в «Возрождении» и И.П. Демидов в «Последних Новостях» комментировали его в передовицах, горячо одобряя мою аполитичную линию в управлении Церковью.
Я понял, что мне предстоит теперь налаживать епархиальную жизнь на иных, совсем новых, началах, и первое, что сделал — отправился на Съезд Движения христианской молодежи, который собрался под Клермоном. Он привлек множество делегатов и лиц, сочувствующих Движению, и прошел с большим подъемом. Я разъяснял всю важность события в Карловцах. Мои комментарии Съезд принял восторженно.
После Съезда я решил направиться в Германию, дабы выяснить тягостную неясность положения с епископом Тихоном. Но прежде чем ехать, я собрал своих епископов и рассказал о разрыве. Мы решили сделать еще одну, последнюю, попытку к восстановлению порванных отношений. Архиепископ Владимир и епископ Вениамин отправились в Белград с наказом, в котором я категорически утверждал свои права на автономную Западноевропейскую епархию, исключающие всякую возможность подчинения моего викарного епископа кому бы то ни было другому, кроме меня.
Моя попытка к примирению была столь же неудачна, как и все мои предыдущие усилия до разрыва не доводить. Мои делегаты наткнулись в Карловцах на стену непримиримости… Тогда (осенью 1926 г.) я счел нужным побывать в Германии.
Прежде всего я направился в Висбаден, куда съехались из некоторых наших приходов мои священники — выразить мне свое сочувствие (о.Прозоров и др.). Я служил в местной церкви, разъяснял с амвона смысл смущающих души церковных событий. В Висбадене меня настиг пакет из Карловцев — постановление Собора, его мотивировка, подписи… а в конце приписка карандашом рукою митрополита Антония: «Остановитесь, подумайте, что Вы делаете». Я не остановился и направился сначала в Баден–Баден, где виделся и совещался с князем Г.Н. Трубецким, а потом в Берлин.
Здесь я остановился у верной прихожанки Софии Константиновны Такман. Атмосфера в эмигрантских церковных кругах была напряженная, грозовая — кипящий котел… В первую же субботу за всенощной разыгрался скандал, о котором я уже рассказал.
Наши церкви, за исключением кладбищенской, оказались в руках «карловчан» и под охраной агрессивно настроенных, свирепых сторожей, готовых «бить морду евлогианам». Тогда верное мне духовенство и паства наладили службу в какой–то протестантской школе. Там я служил, разъясняя после каждой Литургии в «слове» мою церковную позицию: верность Матери Церкви и Указу Патриарха.
По возвращении моем в Париж Приходский совет Александро–Невской церкви собрал общее собрание прихожан, на котором я сделал доклад о положении церковных дел. Настоятель о.Иаков Смирнов горячо защищал мою позицию и со слезами приветствовал от имени прихода. Все присутствующие встали, за исключением «карловчан», которые демонстративно продолжали сидеть. Борьба со мною перешла в фазу открытых наступлений, в которые стали вовлекаться и миряне.
После собрания мои противники начали травить меня в монархических газетках и листовках, посыпались инсинуации… Я почти на них не отвечал.
Приблизительно через месяц после моей берлинской поездки сижу как–то раз у себя, вдруг стук в дверь — и входит секретарь Карловацкого Синода Махараблидзе…
«В чем дело?» — сухо спросил я. «Я бы хотел поговорить с Вами, Владыка… Такое прискорбное обстоятельство… но надо все поправить. Я не виноват… замыслов против вас не было. Если бы вы не уехали, мы бы Германию не выделили. Синод хотел лишь увеличить права викариев, не больше…» — «Я не уступлю своих прав, — заявил я. — К епископу Тихону у меня доверия нет. Я виноват, что в самом начале во имя мира согласился сдать позицию…» На этом разговор окончился. Махараблидзе еще некоторое время оставался в Париже, бегая по редакциям правой эмигрантской прессы и стараясь снискать сочувствие в монархических кругах, но, кажется, без особого успеха.
В начале 1927 года до меня дошли слухи, что «карловчане» собрали Собор епископов, который должен вынести относительно меня какое–то решительное, грозное постановление. Действительно, 13(26) января это грозное постановление состоялось — запретить меня в священнослужении и прервать молитвенное общение со мною. Этим актом «карловчане» углубили наше разобщение до крайнего предела. Намерение было ясно — они хотели своим запрещением сокрушить меня, рассчитывая на смутность церковного сознания, на неустойчивость моей паствы, на старую дореволюционную привычку видеть в Синоде высшую церковную инстанцию и считать его постановления для себя обязательными. Но расчет оказался неверный. Моя паства каким–то безошибочным чутьем правды разобралась в сложном церковном положении и встретила единодушно и сочувственно мое «Обращение к духовенству и приходам». В нем я разъяснял незаконность постановления Карловацкого Синода об отстранении меня от моей епархии, вверенной мне волею Патриарха Тихона, с запрещением меня в священнослужении и предания меня суду пребывающих за границей русских архиереев–эмигрантов; заявлял, что я вынужден прервать официальные сношения с Архиерейским Синодом, потому что определения его противны канонам Православной Церкви: согласно патриаршим Указам (от 26 марта (8 апреля) 1921 г., от 22 апреля (5 мая) 1922 г.), я не являюсь подчиненным Архиерейскому Синоду и не подлежу их суду.
«…Собравшиеся в Карловцах Преосвященные, — сказано в моем «Обращении к духовенству и приходам», — не вняли многократным моим просьбам не изменять существовавшего положения и тем сохранить мир церковный, не пожалели они душ русских людей, которые в тяжком изгнании страждут от нашего разделения, не пощадили они и церковного достояния, облегчив своим заявлением о моем устранении домогательство врагов Церкви на наши храмы как раз тогда, когда я веду с ними решительную борьбу.
Пред лицом этих печальных обстоятельств призываю к твердости и спокойствию духа вверенное мне духовенство и паству — в сознании правильности избранного нами направления церковной жизни, в полном согласии со священными канонами и с волею в Бозе почившего Святейшего Патриарха Тихона.
Исходящие же от заграничного Архиерейского Синода запрещения и другие меры по отношению ко мне, к моему духовенству и пастве не имеют никакой канонической силы, ибо Собор и заграничный Архиерейский Синод в нынешнем их составе не являются моею каноническою властью и посему не могут вмешиваться в дела моей епархии и не могут вязать и решать духовную совесть вверенной мне паствы.
Отныне наша Западноевропейская митрополия становится на путь самостоятельного, независимого от заграничного Архиерейского Синода существования — так же, как независимо от него живут Американская Русская Православная Церковь с митрополитом Платоном во главе и со всеми его епископами, Латвийская Церковь с архиепископом Иоанном, Литовская с архиепископом Елевферием и другие…»
Мое «Обращение» встретило живой отклик. Приходские советы стали созывать экстренные приходские собрания для его обсуждения и выносили постановления, одобряющие мою бескомпромиссную верность патриаршему волеизъявлению.
Теплое сочувствие проявили и моральную поддержку оказали мне некоторые видные представители православного Востока. Карловацкие иерархи свои постановления относительно меня усердно распространяли не только по всем православным церквам, но и среди всех правительств мира, и я был вынужден применительно к 17 правилу 4–го Вселенского Собора обратиться к Вселенскому Патриарху с изложением нашего спора. В ответном послании Вселенский Патриарх Василий III высказывает свое неодобрение действиям Карловацкого Синода:
«…Мы отнюдь не затрудняемся решительно объявить, — пишет мне Патриарх, — что как всякая другая деятельность, так и вынесенное против Вас запрещение со стороны так называемого Архиерейского Синода за границей — являются деяниями канонически беззаконными и никакой посему церковной силы не имеющими, ибо и самое существо этого самозванного собрания в качестве органа управления канонически несообразно, и о необходимости роспуска его и прекращении суетливой и вредной деятельности его не раз уже были даны от законной власти указания и распоряжения…»
К голосу Вселенского Патриарха присоединились Патриарх Александрийский, Глава Элладской Церкви, архиепископы Литовский, Латвийский и Финляндский.
Летом 1927 года я созвал первый за всю эмиграцию Епархиальный съезд. Значение он имел огромное. Я выступил с пространным докладом о церковных событиях, представил мотивировку моего поведения, разъяснил и то новое направление нашей епархиальной жизни, которому отныне нам предстояло следовать, пребывая вне сношений с Карловацким Синодом. Съезд единодушно поддержал меня. Эта солидарность со мною благотворно повлияла на всю мою паству: она успокоилась, церковное сознание прояснилось, укрепилась уверенность, что направление, по которому я веду церковь, правильно, канонически законно, а потому и морально оправдано.
В дни Съезда прибыл в Париж, якобы случайно, архиепископ Анастасий и осторожно повел агитацию среди моего духовенства, по–видимому, с целью вернуть мои взаимоотношения с Архиерейским Синодом на старые позиции. По окончании Съезда у старосты храма при Сергиевском Подворье П.А. Вахрушева был завтрак, на который, помимо епископов, приехавших на Съезд, был приглашен и архиепископ Анастасий (встреча наша была, очевидно, подстроена). В беседе за завтраком, в ответ на высказанное мною удовлетворение по поводу единодушия, проявленного на Епархиальном съезде, архиепископ Анастасий заметил, что, по его мнению, единодушию радоваться трудно: оно вырыло ров между мною и «карловчанами» еще глубже… Я возразил собеседнику, что ров вырыт не мною: не я оттолкнул Синод, а Синод — меня.
После Съезда наша церковная буря утихла и 1928–1929 годы мы прожили сравнительно спокойно. Хотя в недрах церковно–бытовой жизни, в приходах и эмигрантской общественности, процесс дифференциации на «евлогиан» и «карловчан» продолжался, причем мои противники широко пользовались в своей наступательной тактике страницами листовок и брошюр типа «Двуглавого Орла», «Царского Вестника» и др…Но это была такая ничтожная литература, на которую не стоило обращать внимания: кроме мелкой злобы, там не было ничего.
В январе 12(25) 1928 года паства трогательно единодушно чествовала 25–летие моего архипастырского служения. Мой юбилей из скромного личного праздника, который мне хотелось отметить только молитвой, неожиданно превратился в церковно–общественное событие, в котором приняли участие организации и частные лица самых разнообразных направлений. Храм был переполнен молящимися. Речи, адреса, подношения, приветствия… Все эти выражения единодушия и горячей преданности по отношению ко мне, «запрещенному в священнослужении» епископу, озадачили, кажется, моих противников, а для меня они были огромной моральной поддержкой, подтверждающей правильность аполитичной линии моей архипастырской деятельности и оправдывающей мою борьбу за врученную мне Патриархом власть. Юбилейное торжество глубоко утешило меня…
Параллельно с Карловацкой распрей возник в 1927 году еще один тягостный конфликт — с Московской Патриархией.
Вскоре после закрытия Епархиального съезда я отправился на Вселенскую конференцию в Лозанну [
[252]]. Там я и получил Указ № 93 от 1(14) июля (1927 г.) заместителя местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия, и опять всколыхнулись и забушевали в моей пастве успокоившиеся было политические страсти. Новое тяжкое испытание…
Указ обвинял эмигрантское духовенство за открытые выступления против советской власти и предлагал мне как Управляющему русскими церквами в Западной Европе и через меня всем заграничным русским архипастырям и священнослужителям — дать письменное обязательство (за собственноручной подписью) «лояльности» по отношению к советскому правительству и предписывал немедленно, — не дожидаясь этих подписей, — доложить заместителю патриаршего местоблюстителя, согласен ли я исполнить это обязательство.
Связь с Матерью Русской Церковью была мне очень дорога. Непримиримой позиции «карловчан», которые после грозного патриаршего Указа (от 22 апреля (5 мая) 1922 г. № 349) скрепя сердце признавали Московскую Патриархию, — я не разделял. Мне хотелось, не подчиняясь советской власти и оставаясь самостоятельным, найти какую–нибудь линию поведения, дабы с Москвою не рвать. С целью выяснения настроений в своей пастве я устроил совещание, в котором приняли участие о. Сергий Булгаков, А. В. Карташев, князь Г. Н. Трубецкой, М. Н. Гире, И. П. Демидов и др. Мнения разделились. М. Н. Гире высказался весьма резко против соглашения с митрополитом Сергием; о. Булгаков, Карташев, Демидов… стояли за соглашение. Эти два противоположных мнения отражали настроение моей паствы. Объединенная вокруг меня и мне преданная, она была Указом митрополита Сергия озадачена, встревожена и смущена…
Я решил исполнить требование митрополита Сергия не безусловно, а при условии, что термин «лояльность» означает для нас аполитичность эмигрантской Церкви, т. е. мы обязуемся не делать амвона ареной политики, если это обязательство облегчит трудное положение родной нашей Матери Церкви; быть же «лояльными» по отношению к советской власти мы не можем: мы не граждане СССР, и таковыми нас СССР и не признает, а потому политическое требование с канонической точки зрения для нас необязательно.
В моем «слове» на Литургии (4 сентября 1927 г.) я разъяснил мой ответ митрополиту Сергию, и многих это успокоило. Но не всех… Многие требовали решительного разрыва с Москвой. Бывший Главнокомандующий Добровольческой армией барон Врангель писал мне, что считает мой ответ двусмысленным и неопределенным. Другой генерал негодующе ставил вопрос: не ставленник ли я большевиков?.. Вообще писем с протестом я получил несколько.
В ответ на мое разъяснение о «лояльности» митрополит Сергий написал мне, что считает его удовлетворительным, но требует немедленно препроводить ему подписи всех зарубежных епископов и приходского духовенства. Я отправил предписание митрополита Сергия в Карловцы, но никакого ответа оттуда не последовало. А в моей епархии духовенство подписи дало, за исключением нескольких настоятелей приходов, которые из–за «лояльности» отпали и перешли в юрисдикцию Карловацкого Синода: протоиерей Орлов (Женева), о. Молчанов (Медон), протоиерей Тимофеев (Лондон)…
Связь с Московской Патриархией сохранилась, но не прочная, слабая, вот–вот готовая порваться. Каждое мое неосторожное слово подвергалось в Москве критике и осуждению. В течение трех лет между митрополитом Сергием и мною поддерживалась тягостная, безрезультатная полемика. Митрополит укорял меня за нарушение данного ему слова о невмешательстве в политику, а я обвинения опровергал, разъясняя, почему то или иное мое выступление нельзя назвать политическим — надо назвать молитвенно–церковным и религиозно–нравственным пастырским воздействием на паству, от которого ни я, ни мое духовенство никогда не отказывались и отказаться не можем. Свою позицию я разъяснял и моей пастве. Так, на общем собрании приходов моей юрисдикции (в Лондоне) 21 марта 1930 года я дал всестороннее разъяснение моей линии поведения и заверил, что «сам не пойду и мою паству не поведу по путям, имеющим хоть какое–либо соприкосновение с советской властью».
Когда митрополит Сергий в 1930 году заявил иностранным журналистам, что в советской России гонений на Церковь нет, в эмиграции поднялось сильнейшее возмущение столь явной неправдой. Мое положение стало весьма тягостным. Некоторые лица моей паствы снова требовали немедленного разрыва с Москвой. Мог ли я митрополита Сергия оправдать — сказать, что черное — белое? Конечно, можно было сказать, что митрополит Сергий был вынужден на ложь какими–нибудь высокими мотивами, которые нам неясны, неизвестны, но ложь оставалась ложью… Я старался его защищать, говорил, что его слова не ересь, не грех церковного порядка, не отпадение от веры, а поступок политический, и что нам все же лучше от Москвы не отрываться… Но, конечно, торжественное объявление неправды назвать политикой можно лишь условно, и с этой натяжкой паства никак примириться не могла. Поддерживать связь с Москвою стало трудно и успокоить негодующую паству, взывая к ее состраданию, невозможно.
В те дни я получил письмо из России от одного священника,которого очень хорошо знал в бытность мою архиепископом Волынским. В письме его описаны подробности трагических условий, при которых митрополит Сергий дал интервью иностранным журналистам. Текст заявления, прочитанный митрополитом Сергием, был выработан большевиками. Кое–какие редакционные поправки сделаны митрополитом собственноручно, подпись — тоже. В этом виде весь текст был сфотографирован и потом напечатан во французском иллюстрированном журнале «Vue». Сомнения не было: митрополит Сергий и весь состав его Синода бумагу читали и подписали. Это вызвало возмущение не только у нас, за рубежом, но и в советской России. Народ негодовал: как… Церковь лжет?!.. иерархи тоже лгуны?!.. «В день нашего храмового праздника митрополит Сергий должен был служить, — рассказывает в письме священник, — народу собралось великое множество, и вся толпа бурлит–кипит негодованием… Атмосфера накаленная, грозовая… Страшно стало за митрополита: не кончилось бы расправой… Я телефонировал митрополиту, чтобы он не приезжал, а сам я, закутанный в шубу, незаметно пробрался сквозь толпу в храм — предосторожность не напрасная: враждебное настроение толпы по отношению к митрополиту Сергию смешалось с негодованием на нас, «попов»: «Все попы — предатели!.. все они — заодно!..» Начал служить… Как нам, духовенству, не реагировать на то, чем глубоко взволнована паства? Как при таком настроении молящихся поминать митрополита Сергия? Могут подняться крики, брань… люди могут забыться и в эксцессе оскорбят святыни… Я решил митрополита не поминать. Народ оценил это. Послышались возгласы: «Верно!.. верно!.. не надо поминать лгуна!..» Так я и вышел из тягостного положения… На другой день утром я поехал к митрополиту Сергию. «Что вы делаете!» — упрекал он меня. «А что делаете вы?» — «Чего не знаешь — не говори…» — ответил митрополит». Оказывается, что текст большевики дали митрополиту Сергию за неделю до интервью, а потом держали его в изоляции. Перед ним стала дилемма: сказать журналистам, что гонение на Церковь есть — это значит, что все тихоновские епископы будут арестованы, т. е. вся церковная организация погибнет; сказать «гонения нет» — себя обречь на позор лжеца… Митрополит Сергий избрал второе. Его упрекали в недостатке веры в несокрушимость Церкви. Ложью Церковь все равно не спасти. Но что было бы, если бы Русская Церковь осталась без епископов, священства, без таинств — этого и не представить… Во всяком случае не нам, сидящим в безопасности, за пределами досягаемости, судить митрополита Сергия…
И вот произошло то, что уже подготовлялось в течение трех лет постепенным ослаблением моих связей с Московской Патриархией — летом 1930 года между мною и митрополитом Сергием произошел разрыв. Случилось это так.
В начале поста 1930 года архиепископ Кентерберийский пригласил меня в Лондон на однодневное моление о страждущей Русской Церкви. Я решил ехать. За нас будет молиться вся Англия, а я останусь в Париже безучастным свидетелем единодушного сочувствия всех Церквей к страждущей нашей Церкви? Невозможно! Моя совесть повелительно требовала моего участия в этих молитвах; так же, несомненно, была настроена и моя паства.
Я провел в Англии с неделю. Давно я не испытывал такого светлого чувства братской христианской любви между Церквами, какое испытал в эти незабвенные дни, когда вся церковная верующая Англия коленопреклоненно молилась о прекращении тяжких страданий нашей Русской Православной Церкви [
[253]]… Политических целей я никаких в Англии не преследовал и с политическими речами нигде не выступал. Всюду, где мне приходилось говорить речи, я лишь благодарил за сочувствие, просил и впредь поддерживать нашу страдалицу Мать Церковь своими молитвами. И вот эти выступления и послужили поводом к строгому запросу из Москвы от митрополита Сергия: на каком основании вы позволили себе разъезжать по Англии, призывая к протесту против СССР? Тут же было высказано требование свою поездку осудить и дать обязательство такого рода выступления более не повторять… Горько мне было читать эти несправедливые упреки, продиктованные внушениями советской власти, и я резко ответил митрополиту Сергию, что моление в Англии имело не политический, а религиозный характер: это был протест религиозной и вообще человеческой совести против страшных гонений на Церковь в советской России; доказательством тому — договор английского правительства с СССР, заключенный как раз во время моего пребывания в Англии. Митрополит Сергий на это письмо обиделся и потребовал от меня точного определения моей церковной линии. Я ответил. Очевидно, мое объяснение было признано неудовлетворительным, потому что вскоре же я получил от митрополита Сергия Указ от 11 июля того же 1930 года № 1518 об увольнении меня от управления Русской Церковью в Западной Европе с предписанием передать все епархиальные дела архиепископу Владимиру.
Владыка Владимир принять должность отказался и послал в Москву соответствующее заявление, и потому я не мог сдать ему епархии. Продолжались мои пререкания с митрополитом Сергием, который прислал мне ультимативные требования: а) осудить мою поездку в Англию; б) дать подписку никогда не повторять таких выступлений на будущее время и в) подтвердить строгое исполнение данного обещания о невмешательстве в политику. Ответ на этот ультиматум мне очень облегчило очередное второе Епархиальное собрание, состоявшееся тем летом. Пред ним я со всей искренностью и во всех подробностях разъяснил историю моего конфликта с митрополитом Сергием и на его окончательный суд отдавал вопрос о моем увольнении. Собрание встретило весть о моем увольнении с возмущением. Оно окружило меня любовью, горячо выражало мне свою преданность. Трогательно и единодушно прозвучал этот соборный голос духовенства и мирян. Члены Съезда обратились ко мне с горячей просьбой не покидать епархии, не обрекать ее на новые гибельные потрясения, а продолжать управлять тем кораблем, который мне поручен волею почившего Патриарха Тихона. Никогда не забуду я этого любящего голоса моей паствы! Я почувствовал, что оставлять овец на расхищение я не могу, что мой пастырский долг оставаться на своем посту ради блага паствы, несмотря на грозные, несправедливые запрещения из Москвы. В этом смысле, опираясь на голоса Епархиального собрания, я сделал подробный и обстоятельный доклад митрополиту Сергию. Я доказывал ему всю несправедливость его решения, вытекающего из того, что ему не видно из Москвы особенного положения наших заграничных церквей, и просил ради блага Церкви отменить его несправедливый Указ об увольнении меня без суда. Если же наше ходатайство — и мое личное, и моих епископов, и всего Епархиального собрания — не будет удовлетворено, то во избежание на будущее время подобных недоразумений, я просил предоставить нам право организовать временно, до установления нормальных сношений с центральной властью, самостоятельное управление заграничными церквами, на основании Указа местоблюстителя патриаршего престола митрополита Агафангела от 1920 года 20 ноября, хотя этот Указ был издан для русских епархий, оторванных от центра фронтами гражданской войны. Митрополит Сергий не внял моим доводам и подтвердил увольнение меня от управления епархией с запрещением в священнослужении; а управление было поручено митрополиту Литовскому Елевферию. Такое же запрещение налагалось и на сослужащих мне епископов и на все духовенство, если оно не подчинится митрополиту Елевферию. В юрисдикцию митрополита Елевферия отошли очень немногие: епископ Вениамин, иеромонахи Стефан и Феодор, имевшие его своим «старцем», и протоиерей Гр. Прозоров (Берлин). Согласно церковным канонам и церковной практике, и древней и новой, каждая церковь и каждый епископ имеют право апеллировать ко Вселенскому (Константинопольскому) Патриарху в тех случаях, когда они не находят справедливости у своей церковной власти. Случаев таких апелляций великое множество. Я посовещался с моими епископами, и мы единодушно пришли к решению — обратиться в Константинополь, о чем я и предупредил митрополита Елевферия. Епископ Вениамин и митрополит Елевферий уговаривали меня в Константинополь не ездить, но я в своем решении был тверд.
В Константинополь я выехал в сопровождении секретаря Епархиального управления Т.А. Аметистова.
Святейшим Патриархом тогда был Фотий II, прекрасный, чуткий и высокообразованный человек. Ему ставили в вину его отношение к «живоцерковникам»; от общения с ними он не уклонялся, полагая, что заблуждение «живой церкви» временное, что оно пройдет и ее разрыв с патриаршей Церковью не окончательный.
Патриархия в Константинополе находится на Фанаре — в той части города, где преимущественно живут евреи и которую, пожалуй, надо назвать задворками турецкой столицы.
Нас ввели в Патриархию не через главные ворота, а через другой вход. После того как турецкий султан приказал повесить на воротах Патриарха Григория, главные ворота всегда на запоре. Здание Патриархии — старый, просторный дом с громадной библиотекой. Во дворе патриаршая «великая» церковь. Патриарх Фотий принял нас в своем кабинете. Прием был ласковый, радушный. Нам гостеприимно отвели комнаты, и те несколько дней, которые мы в Константинополе прожили, мы были гостями Патриарха. Нас приглашали к трапезам, мы катались на патриаршем автомобиле, осматривая местные греческие церкви и окрестности Константинополя. В праздничные дни мы присутствовали на богослужениях в «великой» патриаршей церкви. В будни Патриарх посещает церковные службы утром и вечером в своей «малой» церкви и принимает участие в богослужении, совершая положенное для него по уставу чтение. Бывало, рано утром слышишь шаги по коридору и стук посоха: это Патриарх в церковь пробирается.
За патриаршими трапезами я встречался со всеми греческими митрополитами — членами Синода (их было 12). Патриарх Фотий, по–видимому, их приглашал, дабы они могли со мною ближе познакомиться. К 1930 году Кемаль уже позакрывал все малоазиатские митрополии, и лишенные своих епархий митрополиты проживали теперь в качестве титулярных иерархов на хлебах у Патриарха. Чувствовалось, что экономически это положение создало для Патриархии затруднения. Постепенно я перезнакомился со всем клиром. Греки необычайно радушно отнеслись ко мне. А какой вздор о греческом корыстолюбии наговорили мне противники моей поездки в Константинополь!
После вечернего богослужения и трапезы Патриарх вместе со своими гостями направлялся иногда в зал для приемов, где стоит его патриарший трон. Здесь он ласково попросту беседовал с нами, причем говорил со мною по–болгарски, а я отвечал по–русски. Мой доклад, который я по приезде вручил Патриарху, греческие митрополиты, по–видимому, уже прочитали, потому что темы бесед касались его основных проблем.
Заседаний по поводу меня было два. Определение судьбы состоялось на втором. Хотя кое–кто был против меня, резолюция была принята согласная с желанием Патриарха, а именно: Западноевропейские русские церкви и приходы принимались в юрисдикцию Вселенского Патриарха с сохранением всех привилегий Русской Православной Церкви, и я назначался его Экзархом наряду с существующим в Европе (в Лондоне) Экзархом Греческих Церквей и приходов — митрополитом Германосом.
Патриарший Указ был мне вручен в торжественной обстановке. Меня пригласили в зал заседаний. Патриарх сидел на троне. По сторонам в креслах восседали митрополиты. Папа Иоанн (воспитанник Петербургской Академии), юрисконсульт Патриарха, передал Указ («томос») с печатями, написанный особым каллиграфическим шрифтом, одному из митрополитов — генеральному секретарю Патриархии, который его прочитал и вручил мне. Вот его текст:
ГРАМОТА ВСЕЛЕНСКОГО ПАТРИАРХА
Фотий, милостию Божиею, Архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский Патриарх.
Преосвященнейший Митрополит Кир Евлогий. Управляющий Русскими Православными церквами в Западной Европе, во Святом Духе возлюбленный брат и сослужитель Нашея мерности, благодать Вашему Преосвященству и мир от Бога.
Приняв во внимание и тщательно исследовав все представленное Вашим Преосвященством и сущими с Вами Преосвященными Архиереями нашей Великой Христовой Церкви на основании Ее канонических прав и как Матери — Вашей Матери — Церкви Российской и рассмотрев постановления Общего Епархиального Собрания и Епархиального Совета о ненормальном и угрожающем положении, оказаться в котором есть опасность для Русских Православных приходов в Западной Европе в области удовлетворения их духовных и вообще церковных нужд и в деле ограждения и доброго управления имениями и имуществами их , — по синодальному суждению, нашли Мы соответственным и постановили:
По долгу и праву попечения Святейшего Патриаршего Вселенского Престола, действенно выступить в настоящих Ваших затруднительных обстоятельствах и оказавшиеся в таком трудном и опасном положении приходы — принять под непосредственную юрисдикцию Святейшего Вселенского Патриаршего Престола для укрепления и ограждения их.
С этой целью Мы синодальным определением постановили, чтобы все Русские Православные приходы в Европе, сохраняя неизменною и неумаленною доселе существующую свою самостоятельность, как особой Русской Православной церковной организации, и свободно управляя своими делами, рассматривались бы впредь, как составляющие временно единую особую экзархию Святейшего Патриаршего Вселенского Престола на территории Европы, непосредственно от него зависящую, под его покровительством находящуюся и в церковном отношении, где нужно, им руководимую.
Равным образом, решили и постановили, чтобы эта, таким образом устроенная, временная Патриаршая Наша Российская Православная в Европе экзархия продолжала и впредь быть порученною центральному и высшему пастырскому попечению и управлению Вашего Преосвященства исполняющего свои обязанности с титулом Патриаршего Нашего Экзарха, возносящего Наше имя на богослужениях и к Нам имеющего свое непосредственное отношение, согласно церковному порядку.
Поэтому, с радостью извещая о нем в ответ на обращение Вашего Преосвященства, преподаем Вам Наше благословение и даем повеление, чтобы Вы, вместе с сущими с Вами во Христе братиями, под Нашим верховным церковным руководством и покровительством, и в качестве Патриаршего Нашего Экзарха, согласно вышеизложенному, продолжали дело духовного попечения и управления Русскими Православными приходами в Европе.
При этом Мы призываем Ваше Преосвященство и прочих Преосвященных Архиереев и благоговейных иереев, коим под Вашим водительством доверено руководство приходами, чтобы Вы заботились, как подобает, о твердом стоянии в вере, благочестии, о сохранении православных преданий благочестивого русского народа в приходах, о добром ведении приходских дел и об управлении имениями и имуществами приходов и вместе с тем, чтобы Вы обращали особое внимание на то, дабы тщательно избегалось вмешательство Святой Церкви в политические распри и раздоры и святой амвон никогда бы не превращался в трибуну для политических целей, как, впрочем, и Ваше Преосвященство правильно решили и заявили.
Наконец, заявляя, что после осуществленного Нами таким образом канонического временного урегулирования церковного положения Русских Православных приходов в Европе естественно не могут уже иметь никакой силы и действия для приходов, их духовенства и паствы, исходящие откуда бы то ни было, кроме Святейшего Патриаршего Вселенского Престола, какие бы то ни было постановления, или распоряжения, или запрещения — Мы молимся, да принесет скоро Господь, призрев милостиво, мир и единство сверх меры пострадавшей Святейшей Сестре — Церкви Российской и да обрадует тем весь благочестивый Русский народ Православный и всех Сестер — Церкви Православные.
Преподавая через Ваше Преосвященство молитвы и благословения Наши всей совокупности благочестивых приходов, испрашиваем всяких благ от Господа, благодать и бесконечная милость которого да будет с Вашим Преосвященством.
1931 года, февраля 17.
Константинопольский, во Христе любящий брат Патриарх ФОТИЙ.
Так благополучно разрешился сложный вопрос о каноническом неопределенном моем положении, создавшемся после разрыва с Москвой: вместо зыбкости канонического положения — каноническая устойчивость; вместо увольнения — я назначен Экзархом Вселенского Патриарха; я и моя паства не оторвались от Вселенской Церкви, сохранили с ней каноническую связь при соблюдении внутренней русской автономии. Из грамоты видно теперь, что этот новый порядок управления нашими церквами имеет временный характер, и, когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской Православной Церкви, мы вновь вернемся к прежнему положению.
Как на крыльях, летели мы домой в Париж… К сожалению, на пути нас несколько задержало препятствие: в Адрианополе снесло мост, и нам пришлось пуститься в объезд. На границе грубый, грязный турок–часовой не хотел нас пускать через границу, насилу мы его уломали.
В Париже нас ожидали с великим нетерпением. Сейчас же было созвано Приходское собрание Александро–Невской церкви, на котором о. настоятель протопресвитер Иаков Смирнов от имени собравшихся горячо приветствовал меня. Паства одобрила избранный мною путь подчинения Вселенскому Престолу.
Бурную реакцию возмущения, недовольства новым нашим каноническим положением проявили «карловчане», посыпались инсинуации: я продался грекам, я передал им церковное имущество, за свое положение Экзарха заплатив большие деньги… и прочие небылицы. Постарались они воздействовать и на Сербского Патриарха Варнаву, который моей поездкой в Константинополь был недоволен. Он предлагал быть сам нашим суперарбитром; но его решения были обязательны только для Сербской Церкви, а не для всего православия.
Постепенно новое каноническое положение было моей паствой принято и усвоено. Все уладилось, успокоилось, хотя многие и по сей день не понимают ценности нашего единения со Вселенским Престолом. А между тем ценность этого единения великая.
И прежде всего мы связаны с Греческой Церковью — со Вселенским Престолом исторически. Русская Церковь, дочь Греческой Церкви, управлялась иерархами–греками почти 500 лет (от Крещения Руси до первого русского митрополита Ионы). Связаны мы с Греческой Церковью и идейно. Национальные автокефалии не отдельные Церкви, а независимые церковно–административные объединения. Мистически все они — одно и должны пребывать в органическом общении со всем Вселенским Христианством. Когда Церкви забывают о вселенской своей природе, когда обособляются, замыкаясь в своих национальных интересах, — эта утрата основного, главного предназначения национальных Церквей есть болезнь и грех, именуемый «филетизмом». Принято обвинять Греческую Церковь в этом «филетизме»; но не свободна была от него и Русская Церковь. Богатая, славная, многомиллионная, ни в чем не ощущавшая нужды и недостатка, она как–то обособилась в своей самоуверенности; смиренное самосознание младшей сестры единой вселенской Христовой семьи, как части единого Тела Христова, затемнилось и заглушилось некоторым самомнением, выраженным в известном изречении: «Москва — Третий Рим, а четвертому не бывать». Самомнение это укоренилось не только в национально–политическом, но и в церковном сознании. Бюрократическая церковная реформа Петра Великого, задуманная по протестантским образцам, еще более ослабила вселенскую идею в Русской Церкви. Многие были склонны смотреть на другие православные Церкви как на бедных родственников. Революция отделила Церковь от государства и лишила ее всякой государственной поддержки; сделавшись самостоятельной, Церковь обратилась к каноническим началам своей жизни: был созван Поместный Собор и избран Патриарх Всероссийский, вступивший в живое общение со всей Вселенской Церковью. Большевистское гонение, разразившееся в Церкви, остановило дальнейшее развитие ее жизни по каноническим нормам и укрепление связей со Вселенской Церковью. Задача поддержания общения с Вселенской Церковью выпала на мою долю, когда митрополит Сергий несправедливо оттолкнул меня и моих епископов, духовенство и паству. И это несчастье послужило причиной тому, что мне пришлось осуществить тот закон церковный, по которому Церкви православные, оторванные от своей родной Церкви, подлежат в православных странах юрисдикции местных Церквей, а в инославных — Вселенскому Патриарху. Вот почему наши церкви обрели такое спокойствие и устойчивость своего канонического положения, когда были приняты под покровительство Вселенского Патриарха. Последний период церковной смуты можно назвать «примиренческим».
До меня стали доходить вести, что митрополит Антоний серьезно занемог, очень ослабел, одряхлел. Связанный с ним долголетней дружбой и чувствами сыновней преданности и любви, я скорбел о разрыве, нас разъединившем, и давно уже хотел примириться с ним, но практического решения все еще не принимал.
В Прощеное воскресенье (1934 г.) на Сергиевском Подворье один из студентов, Родзянко, горячий почитатель митрополита Антония, прощаясь со мною, сказал мне, что у него есть письмо от владыки Антония, которое он просит меня прочитать. Вскоре же письмо мне было доставлено. Написанное без обращения, оно заключало пожелания митрополита Антония помириться, «даже при существующем положении», т. е. несмотря на мое подчинение Вселенскому Престолу. Мягкое и примирительное по духу письмо это требовало от меня какого–то решения. Передо мною встал вопрос: ехать ли мне в Сербию — или не ехать? В пастве моей кое–кто про письмо узнал, и одни советовали мне ехать, а другие предрекали, что моя поездка ни к чему доброму не приведет — никакого примирения с «карловчанами» все равно быть не может.
В эти дни моих колебаний (май 1934 г.) вдруг телеграмма из Сербии с приглашением от архимандрита Виталия: «Очень буду рад видеть Вас на моей хиротонии». Одновременно пригласительная телеграмма от митрополита Антония как председателя Синода. Странное противоречие… «Карловчане» запретили меня в священнослужении и сами же зовут на свое церковное торжество…
Я выслушивал доброжелательные, хоть и взаимно исключающие друг друга, советы окружавших меня лиц и никакого решения не принимал в ожидании более ясных указаний неизбежности принять именно то, а не иное решение.
По делам мне надо было побывать в Берлине. Там меня настигла еще одна пригласительная телеграмма из Белграда. И увидал в ней призыв Божий и по размышлении в той полной свободе, когда нет со стороны ни советов, ни уговоров, уже без колебаний взял билет в Белград… Об этом не знал никто. Лишь в день отъезда я дал знать в Париж, что еду в Сербию для личного свидания с митрополитом Антонием. И это, действительно, так и было. Мне горячо хотелось одного, — чтобы мы, два престарелых епископа, перед смертью облегчили свою совесть, примирились. Я не думал, что моя поездка может иметь церковное значение и что в Сербии мой приезд будет истолкован иначе… А между тем именно так и случилось.
На остановке в Карловцах, не доезжая Белграда, в вагон вошли секретарь Карловацкого Синода граф Граббе и архимандрит Виталий. «Разрешите вас сопровождать, Владыка, …по предписанию митрополита Антония…» — сказал Граббе, представляясь мне. На Белградском вокзале меня встретили тоже какие–то официальные лица и повезли в Русскую школу, где меня ожидал Штрандтман. Оттуда я проехал к митрополиту Антонию.
Когда я вошел, митрополит Антоний в окружении нескольких духовных лиц доканчивал утреннее правило. Больной, дряхлый, он сидел в кресле и заплетающимся языком произносил возгласы. Я подошел к нему. Он заплакал… Первые минуты нашей встречи прошли на людях. Пили чай. Говорить было трудно. Митрополит Антоний грустно глядел на меня. «Все такой же… и улыбка все та же…» — сказал он. Слушать бедного больного моего друга и учителя было мне горько. «Пойдем, прочтем молитву», — предложил он. Мы перешли в его маленькую спальню. Митрополит Антоний надел епитрахиль и прочел надо мною разрешительную молитву. Потом я — над ним. На душе стало ясно и легко… «Ты с дороги устал, — отдохни… Потом поговорим».
Вечером неожиданно для меня появилось несколько епископов — и ясное небо вновь стали заволакивать тучи… Митрополит Антоний и я начали было обсуждать, как нам вместе служить, а епископы запротестовали: нельзя, надо предоставить дело на решение Синода…
На Вознесенье за Литургией митрополит Антоний и я стояли вместе на клиросе. Митрополит Антоний от слабости едва обедню достоял. Пытался сказать проповедь, но мысли у него путались, он начал говорить о Вознесеньи, потом забыл и перешел на Воскресение, посреди «слова» вдруг разволновался, раскричался, зачем забыли форточку закрыть… Очень он был жалкий в своей старческой беспомощности…
Я хотел увидаться с Патриархом Сербским Варнавой. Патриарх прислал за мною протоиерея с извещением, что я буду принят в Карловцах.
Патриарх Варнава встретил меня очень ласково, говорил о разрыве между мною и «карловчанами» и выразил желание, чтобы мир как можно скорей был восстановлен и завершился нашим общим с митрополитом Антонием служением. Я указал на незакочность наложенного на меня запрещения. «Протягивать руку, просить о примирении я не буду, — сказал я, — а молитвенное общение было бы мне утешением, но епископы считают, что без нового постановления Синода это невозможно…» Патриарх высказал желание теперь же устроить сослужение мое с карловацкими епископами; об этом же усердно хлопотали и приходы, однако без успеха. Желая, по–видимому, всенародно показать всю ничтожность наложенных на меня запрещений, Патриарх пригласил меня отслужить в Хоповском монастыре: высшая церковная власть в Сербии, под покровительством которой находился Карловацкий Синод, как бы подчеркивала, что не признает этого постановления Синода.
В Хопове меня встретили с любовью. К сожалению, настроение в монастыре было печальное, подавленное. Со скорбью рассказали мне, что в монастыре нет уже больше чудотворной иконы Леснинской Божией Матери, вместо нее — копия [
[254]].
В Белград я вернулся 8 мая — в день св. Иоанна Богослова и в университетский праздник местного богословского факультета. Иду по улице — ко мне подходят знакомые студенты: «Очень просим вас, владыка, на наш праздник. У нас митрополит Антоний, но он по болезни уже уезжает…» Я приглашение принял.
Собрание было очень оживленное. За стаканом доброго вина произносились горячие речи, велась оживленная общая беседа. Так закончилось мое пребывание в Сербии. Общецерковные наши дела с места не сдвинулись.
Весть о «примирении» с митрополитом Антонием разнеслась по эмиграции, но встретила ее моя паства не единодушно. Одни ликовали: «Мир!.. мир!.. наконец–то!» Другие (граф Коковцов и еще некоторые лица) предрекали, что моя поездка в Белград будет иметь недобрые последствия. Это скептическое настроение усилилось после появления в «Царском Вестнике», № 399, официальной статьи за подписью управляющего канцелярией Архиерейского Синода графа Граббе, в которой говорилось, что осенью Архиерейский Собор будет «снимать с меня запрещение». Эта статья была в полном противоречии с моими заявлениями о том, что происходило между мною и митрополитом Антонием в деле восстановления нашего взаимного молитвенного общения.
В августе того же (1934) года в Карловцах открылся очередной Архиерейский съезд. Мне было послано приглашение. Я ответил, что не могу приехать в качестве просителя о снятии с меня незаконно наложенного запрещения и о восстановлении молитвенного общения. Это должен сделать Собор по собственной инициативе. Патриарх Варнава также прислал мне пригласительную телеграмму, но она, по какой–то странной, неведомой мне причине, была мне доставлена через Сербское посольство в Париже спустя… неделю после ее получения (!). Не знаю, уступил бы я просьбе Патриарха, но сами обстоятельства сделали невозможным ее исполнение, ибо я уже никак не успел бы попасть на Собор.
На Соборе состоялось постановление о снятии с меня запрещения и о восстановлении молитвенного общения, но этот акт был составлен в унизительных для меня формах, а именно, что «я сам осудил свой поступок», «сам просил простить меня» и что лишь «по снисхождению к моим просьбам и ради пользы Церкви» Собор постановил вернуть мне право священнослужения, т. е. канонически правонарушителем являюсь я, а вовсе не Собор, незаконно меня осудивший.
Это побудило меня обратиться к пастве с посланием, в котором я постарался еще раз разъяснить правду и освободить ее от кривотолков. Я свидетельствовал о незаконности наложенного на меня запрещения; если я стремился к тому, чтобы оно было снято, то лишь желая успокоить взволнованные церковной смутой умы нашей паствы и дать Синоду случай загладить вину неосмотрительности и отсутствия братолюбия, которые довели его до неканоничного постановления относительно меня. Чисто моральный акт нашего с митрополитом Антонием примирения, когда мы взаимно испрашивали друг у друга прощения и когда дыхание благодатного Божьего мира повеяло над нами, — этот трогательный момент Карловацкий Собор использовал как формально юридическое обоснование, якобы подтверждающее мою вину…
Несмотря на мое примирение с митрополитом Антонием, несмотря на постановление Собора, о котором я только что рассказал, — духом мира в наших отношениях с «карловчанами» по–прежнему не веяло. Усилилась против меня агитация в Германии Тихона Берлинского; карловацкие архиереи стали предъявлять мне настойчивые требования покинуть юрисдикцию Вселенского Патриарха. В своем послании от 8 октября (1934 г.) архиепископ Серафим без обиняков, демагогически, заявил, что я «отошел от Русской Церкви, отторг паству от Матери Церкви, что я больше не русский, а греческий епископ», тогда как греки якобы враги нашей Русской Церкви… И это послание последовало в ответ на просьбу одного из наших прихожан (князя Козловского) о допущении к совместному служению нашего и карловацкого духовенства при венчании его дочери. Архиепископ Анастасий — после перемирия! — объезжал города вверенной мне епархии, служил только в своих церквах, нарочито подчеркивая наше церковное разделение, т. е. его закреплял, а не сглаживал.
Особенно тяжелое впечатление произвел образ действий этого иерарха в Брюсселе при закладке там Карловацкого храма. Закладка эта была обставлена торжественно. Кроме архиепископа Анастасия на торжество прибыли митрополит Загребский Досифей и архиепископ Серафим из Парижа, а также были приглашены посланники — представители православных держав; но не был приглашен наш Бельгийский архиепископ Александр. Такое грубое пренебрежительное отношение к нашему святителю вызвало всеобщее возмущение, тем более что сам архиепископ Александр ответил на это с удивительным и, по–моему, даже с чрезмерным благородством. Приехавшие архиереи не хотели проявить самого элементарного акта вежливости — не сделали визита архиепископу Александру и только по настоянию митрополита Досифея поехали к нему, но, не желая встречи, выбрали преднамеренно такое время, когда он служил Литургию. Владыка, увидев архиереев в храме, прервал богослужение и провозгласил им многолетие, а после обедни поехал их провожать на вокзал. Когда из Брюсселя архиепископ Анастасий прибыл в Париж и заехал ко мне, я с горечью поведал ему, какое тяжелое впечатление произвел на меня брюссельский инцидент. Он не без смущения оправдывался тем, что уступил настойчивой воле непримиримых прихожан… Я ответил ему, что из–за этого инцидента я лишен возможности пригласить его на сослужение со мною в нашем кафедральном храме. Так «карловчане» отвечали на мои попытки к примирению!
Одновременно с этим велась у меня тягостная переписка с Синодом по поводу сочинений о.Сергия Булгакова. Митрополит Антоний выражал неудовольствие Синода, зачем я назначил свою комиссию для разбора учения о Софии, которое уже осуждено Карловацким Собором и признано еретическим; в этом смысле нужно сделать протоиерею С.Булгакову публичное увещание.
Такое настроение или, лучше сказать, нестроение вносило смущение в паству. Мир, который поначалу многие искренно приветствовали, оказывался пустым словом, лишь прикрывавшим прежний раздор… Моя паства искренно, горячо желала умиротворенной церковной жизни. Необходимо было продолжать попытки к восстановлению действительного, не фиктивного, мира.
Я обратился с письмом к митрополиту Антонию (от 18 июня 1935 г., № 1288), в котором пожаловался на поведение карловацких иерархов в Брюсселе и изложил соображения о принятии практических мер, дабы разруха не шла дальше. Я предлагал проект организации Управления Зарубежной Церковью, оговариваясь, однако, что он может войти в жизнь лишь с канонического благословения Вселенского Патриарха и всей Православной Церкви, т. е. новоорганизованное Управление должно быть признано всеми автокефальными Церквами. «Только после такого благословения можно с чистой совестью строить корабль церковный и он будет тогда крепким и спасающим; тогда отпадет нужда в моем экзархате, который мне нужен для общения со Вселенской Церковью», — писал я.
В основных линиях мой проект повторял мою прежнюю схему управления Русской Церковью за границей: автономные округа (4) и периодически созыв Соборов.
Летом 1935 года я получил приглашение от Патриарха Варнавы прибыть в Карловцы на особое совещание иерархов, представителей четырех главных частей зарубежной Русской Церкви, для окончательного разрешения всех наших церковных нестроений. Совещание предполагалось под его председательством. Я запросил Патриарха Фотия, могу ли поехать в Карловцы для означенной цели. В ответ получил грамоту с благословением на поездку. Вот текст грамоты:
Фотий, Божией Милостью, Архиепископ Константинопольский — Нового Рима и Вселенский Патриарх
№ 1489.
Преосвященнейший Кир Евлогий, наш Патриарший Экзарх православных русских приходов в Европе, во Святом Духе возлюбленный брат и сослужитель нашей мерности, да будет с Вашим Преосвященством благодать и мир от Бога.
Мы получили письмо Вашего возлюбленного Преосвященства от 3 числа истекающего месяца, с приложениями, в которых сообщается нам о бывшем Вам от Блаженнейшего Патриарха Сербского Кир Варнавы приглашении прибыть к нему для особого, под его председательством, совещания по вопросу о соглашении между собою и объединении находящихся за границей преосвященных русских архиереев и русских церквей и приходов в рассеянии, с изложением Вашего мнения о необходимости сделать, последуя этому приглашению, еще одну последнюю попытку для умиротворения и объединения всех, на основании строгих канонических начал, на которых утверждается временная Патриаршая Экзархия под водительством Вашего Преосвященства и испрашивается благословение на путешествие Ваше в Югославию для означенной цели.
Всегда глубоко удрученный, как знает Ваше Преосвященство и все, скорбью о несчастьи Святейшей Сестры Церкви Российской и чувствуя, что эта скорбь еще возросла от печального зрелища, которое к умалению силы и славы Святейшей Российской Церкви являют пред лицом, как православного, так и всего христианского мира, взаимные ссоры и разделения ее иерархов, наносящие ущерб и присущему Святой Православной Церкви обаянию, мы не можем не благословить от души всякое стремление, направляемое к восстановлению мира и единства, и не присоединить нашей молитвы ко Господу, оказывая и наше к тому содействие.
Вследствие этого, с радостью обильно преподаем Вашему возлюбленному Преосвященству, по синодальному определению, наше благословение на путешествие в Югославию для указанной святой цели.
И не только это, но одновременно поручаем Вашему Преосвященству, чтобы Вы при этом столь удобном случае, передавая по приезде Вашем туда, прежде всего наше братское о Господе целование с любовью почитаемому нами брату во Христе Блаженнейшему Патриарху Кир Варнаве, равно как и всем возлюбленным во Христе братиям преосвященнейшим русским архиереям, имеющим присутствовать и принимать участие в предстоящем под председательством Его Блаженства совещании в целях достижения мира и любви, принесли этим последним, с нашей стороны и со стороны Матери Великой Церкви Христовой, особое теплейшее настояние и увещание, чтобы все во имя их любви к Спасителю Христу и ради забот и попечения о своей Матери, а также в сознании ответственности, которую они несут перед нею и перед всей нашей Святой Православной Церковью, показали и проявили на деле всяческое доброе расположение и стремление к тому, чтобы был положен конец неуместным взаимным спорам и разделениям, не имеющим реального основания и смысла.
И поелику, несомненно, в рассуждении этого объединения будет речь и о существе и природе временного восприятия под каноническое покровительство Матери нашей Великой Церкви Христовой заграничных православных приходов, о чем было высказано и написано немало неосновательного и неправильного, к соблазну многих, то Ваше возлюбленное Преосвященство, уже давшее по этому вопросу приличествующий ответ в письме своем к преосвященнейшему Митрополиту Антонию от 17 июля 1935 года, не преминет, конечно, дать и по предмету вышеуказанного объединения всяческое необходимое разъяснение к освещению истины.
Мы же относительно всех проявлений нашего действия, ссылаясь на то, что ясно, с точностью, не допускающей перетолкования для имеющих добрую совесть, определили в патриаршей нашей грамоте Вашему Преосвященству от 17 февраля 1931 года, по синодальному постановлению об учреждении временной экзархии, посылаем по данному поводу именно о каноничности нашего действия прилагаемые при сем копии двух писем к нашему Святейшему Патриаршему Престолу Всечестнейшего Митрополита Антония и Преосвященнейшего Архиепископа Анастасия, писавшего по повелению его и пребывающего с ним Архиерейского Собрания, в которых испрашивалось попечение Святейшего Патриаршего Престола о находящихся в нужде и требующих покровительства русских церквах на Дальнем Востоке, чтобы из них Ваше Преосвященство и все могли знать, каково еще недавно было мнение этих же самых находящихся в Югославии преосвященных архиереев–беженцев и каково было убеждение их о каноничности и долге попечения нашего Святейшего Вселенского Патриаршего Престола, согласно священным канонам, преданию и практике Православной Церкви о находящихся повсеместно в обстояниях и нуждах православных церквей и, конечно, о должном отношении к возлюбленной сестре и дочери Российской Церкви, которую Вселенский Престол во Христе родил и по заслугам возвысил и прославил как церковь автокефальную.
Что же в особенности касается до суждений о наличии в нашей деятельности хотя бы малейших захватных целей и видов на наследство впавшей в бедствия Святейшей Российской Церкви и имущество приходов, — суждений без страха Божия выдумываемых и распространяемых, то мы, отвращая от них свое лицо, в ответ на эти нечестивые мысли, скажем только одно, что наша Великая Церковь часто, как любвеобильная мать, в течение времен открывала и дарила своим детям сокровища свои и даже была лишаема ими таковых, но никогда не касалась и не желала своекорыстно касаться их сокровищ.
С любовию сообщая об этом в ответ Вашему любезному Преосвященству, молимся, да будет дано Вам в деле пастырского попечения Вашего и в стремлении к миру и единству всяческое укрепление от Господа, коего благодать и бесконечная милость да будет с Вашим Преосвященством и со всеми.
1935г. Сентября 30.
ФОТИЙ, искренний во Христе брат.
Моя поездка в Сербию была решена. К открытию Собора я не спешил, ибо ехал не на Собор, а на независимое от него совещание; я дождался приезда митрополита Феофила Американского, с которым вместе мы в Белград и отбыли. Я взял с собою еще протоиерея Г.Ломако и секретаря Епархиального управления Т.А. Аметистова.
Приезжаем… На вокзале в Карловцах нам устроена официальная торжественная встреча. Духовенство, семинаристы… «Ис полла эти деспота…» Митрополит Феофил, в американском пальтишке, в дорожной шапочке, более похожий на коммивояжера, чем на православного иерарха, своим внешним обликом, кажется, несколько озадачил встречавших. Нас привезли в здание Патриархии, где мне были отведены королевские апартаменты. Патриарх пригласил нас к вечернему чаю. Прием был исключительно радушный и ласковый. Разговор не выходил за пределы дорожных впечатлений и вообще посторонних Собору тем.
На другой день я навестил митрополита Антония. Тяжелое, грустное впечатление… Больной, дряхлый, слабый, он и умственно за год заметно ослабел, многое забывал и путал. Никакого влияния на Собор он, конечно, уже иметь не мог, да и редко бывал там.
Я приехал в Карловцы, когда Собор подходил к концу; кажется, его не кончали в ожидании прибытия меня и митрополита Феофила. Первые впечатления дали мне возможность немного разобраться в его настроениях. Чувствовалось, что все настороже, отношение ко мне недоверчивое, обстановка образовалась психологически для меня сложная и неблагоприятная… Архиепископ Серафим Болгарский привез на Собор свой труд — толстую книгу — обличение «ереси» о.Сергия Булгакова, по–видимому, как повод повести атаку на наш Богословский Институт и оправдать притязания «карловчан» на контроль над ним. Словом, что–то духом миролюбия и одушевления общим делом на пользу Церкви не веяло…
Патриарх Варнава пригласил к себе на заседание нас, четырех архиереев, глав четырех округов: меня (Западная Европа), архиепископа Анастасия (Балканы), митрополита Феофила (Америка) и епископа Хайларского Димитрия (Дальний Восток). Мы представили наши верительные грамоты.
– Я прибыл по полномочиям моего первоиерарха — Вселенского Патриарха, — сказал я — и прочитал грамоту Патриарха Фотия. Она произвела на присутствующих сильное, но не благоприятное впечатление… — Главное наше горе не в той или иной организации церковного управления, — продолжал я, — а в том, что потеряно доверие друг к другу; вместо взаимной братской любви царит подозрительность, полное отчуждение… Если бы удалось восстановить нравственные начала нашего общения, тогда легко было бы найти и формы церковного управления. Я согласен на совместную работу, но при условии соблюсти верность Вселенской Патриархии, т. е. при условии, что я сохраню звание Экзарха Вселенского Престола наподобие митрополита Антония, когда он, будучи архиепископом Волынским, носил титул Экзарха Вселенского Патриарха для Галиции и Карпатской Руси, что не мешало ему оставаться в Русской Церкви и быть членом Святейшего Синода. Могу и я участвовать в общем управлении Русской Церкви за рубежом, оставаясь Экзархом.
Архиепископ Анастасий уклончиво заявил, что он во всем будет руководствоваться тем, что скажут Собор и Синод… Другие архиереи — митрополит Феофил и епископ Димитрий сказали, что для достижения единства зарубежной Русской Церкви они готовы на большие уступки… Патриарх Варнава заявил, что на Совещании он будет председательствовать сам. Поднялся вопрос о привлечении к нашей работе епископа Виталия и архиепископа Тихона Берлинского, но я запротестовал, и было решено, что в нашей комиссии, кроме нас четырех, других архиереев не будет [
[255]].
Как только работа нашего Совещания началась, сразу же выяснилось сложное и трудное мое положение. Я прибыл в Карловцы неподготовленный, без разработанного статута управления зарубежной Церкви, и должен был разбираться во всем, что предлагалось, совсем один против сплоченной, сильной, по духу непримиримой группы, которая энергично преследовала поставленную себе цель, опираясь на Собор. Мои надежды на митрополита Феофила Американского, как на моего единомышленника и соратника, не оправдались. Владыка Феофил, тип провинциального соборного батюшки, не разбирался (и не очень старался разобраться) в сложном конфликте, породившем наш раскол, и попросту перешел в лагерь большинства. Эксперт сербского Синода, профессор канонического права Троицкий, который мог бы мне оказать поддержку, тоже зачастую защищал точку зрения карловацких иерархов. Протоиереи Ломако и Аметистов оказались также помощниками слабыми; вся тяжесть борьбы легла на мои плечи.
Архиепископ Анастасий занял непримиримую позицию. Очень скоро я увидал, что у «карловчан» все уже решено и наше Совещание ничего сообща не вырабатывает, а мне навязывают готовый и детально разработанный проект, никакой переработке в своих основных линиях, по мысли его составителей, не подлежащий. В первые же три дня создалось такое положение, что казалось неизбежным Совещание прервать. Логически так, вероятно, поступить и нужно было, но морально решиться на это мне представлялось невозможным. Здесь, в Сербии, я почувствовал с особой силой прибой народного чувства, трепетное молитвенное ожидание церковного мира. Первое, после 1926 года, совместное служение четырех русских иерархов (я, митрополит Феофил, архиепископ Анастасий и епископ Димитрий) в русской церкви собрало великое множество народу. Когда я вышел с проповедью о единстве Русской Церкви и сказал, что мы его запечатлели нашими общими молитвами в русском храме, то на глазах многих заблестели слезы… Русский народ церковный напряженно ожидал примирения, а Патриарх Варнава трогательно болел душой за нас. Его внимание, ласка, заботы, миролюбие обезоруживали и подкупали… По доводам логики, повторяю, надо было Совещание покинуть, но я, способный дать отпор грубости и наглости, а на доброту, на ласку безоружный, — работы в Совещании не прервал… А между тем я видел, что осилить в две недели статут со множеством параграфов, анализировать наспех материал, который требовал долгой и тщательной разработки, — технически непосильно, а морально мучительно в силу большой ответственности, которая с проектом была связана. Протоколы представлялись неточные и через неделю, а то и две, когда уже все забывалось. Надо было проверять каждое слово по памяти. Я чувствовал, что один против всех подчас бессилен противостать напору большинства, в то же время чуя, что все его усилия направлены к ущерблению моей власти…
Двух положений с твердостью я не выдержал. Я не отстоял полной автономии Западноевропейской митрополии, которая мне вручена волею Патриарха Тихона, и допустил сбить себя с позиции, дать ограничить полноту автономных прав сверху и снизу: сверху — центральным органом управления зарубежной Русской Церковью: Синод присваивал себе исключительное право назначать епископов, направлять и контролировать религиозную и просветительную работу; снизу — самостоятельность автономного управления ограничивали епископы отдельных епархий: без их приглашений или разрешений митрополит не мог даже навещать приходы своей митрополии. За образец устройства митрополичьего округа была взята церковно–административная схема патриаршего управления в Русской Церкви, но с проведением еще большей централизации. От Указа святейшего Патриарха Тихона, давшего мне всю полноту власти в церквах и приходах Западной Европы, не оставалось ничего… Только моей нравственной подавленностью, доходившей до болезненной нервной депрессии, можно объяснить мою непонятную уступчивость. Чувство жалости к бедному митрополиту Антонию заставило меня допустить и назначение его пожизненным и бессменным председателем Синода, хоть я сначала и возражал, защищая выборное начало при назначении председателя, понимая, что при беспомощности митрополита Антония руководство Синодом останется в руках синодальных чиновников.
Одного я «карловчанам» не уступил — юрисдикции Вселенского Престола. Я заявил, что без благословения Вселенского Патриарха я ничего не предприму в деле новой организации Управления зарубежной Русской Церковью, и хотя подписал (скрепя сердце) выработанный «Проект временного Управления Русской Церковью за границей», но я принял его условно, т. е. если оно будет одобрено совещанием моих епископов и нашим Епархиальным собранием из епископов, клириков и мирян…
Работы Совещания тянулись около трех недель. Признаюсь, более тяжелого периода, чем эти три недели, я за все время моего архиерейства не переживал, так сложна и мучительна была обстановка различных на меня воздействий. Я чувствовал, что я слабо выполнил свою миссию, которая заключалась в том, чтобы отстоять канонически правильную и жизненно справедливую и целесообразную форму Управления зарубежной Русской Церковью; с болью воспринимал я сознание разлада между тем, что я думал, и тем, что я подписал…
Однако несколько полезных практических мер для достижения церковного объединения, по моему предложению, было принято: 1) восстановление богослужебного общения; 2) осуждение всякой враждебной церковной полемики в проповедях, печати и общественных выступлениях; 3) запрещение открывать параллельные приходы и 4) запрещение принимать клириков, переходящих из одной епархии в другую без отпускной грамоты. Первая и наиболее существенная из этих мер была закреплена, как я уже упоминал, Божественной Литургией, совершенной членами архиерейского Совещания и некоторыми другими иерархами в русской церкви, и второю, еще более торжественною Литургиею, которую совершил Патриарх Варнава в сослужении с 15 русскими и сербскими архиереями в Белградском кафедральном соборе. Велика была радость множества народа… Однако подлинного, искреннего мира между нами по–прежнему не чувствовалось, было как–то смутно, тоскливо на душе и не верилось, чтобы наскоро составленное нами и с большими трудностями принятое «Временное положение» могло всех нас объединить…
По окончании наших работ и закрытии Собора все его члены собрались в квартире митрополита Антония, дабы узнать и обсудить, что же нами в комиссии сделано. «Вы же все уже знаете…» — сказал я вопрошавшим меня членам Собора, намекая на то, что они давно и хорошо обо всем осведомлены и их информационные вопросы излишни.
В дальнейшей беседе в этот вечер архиепископ Серафим Болгарский поднял вопрос об архиепископе Александре Бельгийском, бывшем Американском — о необходимости суда над ним на основании донесения епископа Антония Дашкевича, посланного более десяти лет тому назад из Карловцев в Америку и вернувшегося с данными фантастическими, якобы порочащими моральную личность владыки Александра.
– В самые дни примирения вы поднимаете вопрос о суде, то над о.С.Булгаковым, то над архиепископом Александром… — сказал я, указав на все несоответствие этих вопросов данному моменту.
С невеселым чувством покинул я Белград. Перед отъездом наш представитель В.Н. Штрандтман устроил большой епископальный прием. При прощании Патриарх Варнава вновь обворожил меня искренним доброжелательством, сердечностью и лаской. Меня отвезли на патриаршем автомобиле. На перроне вокзала были торжественные проводы: патриаршие викарии, протоиереи… много всяких почестей. Спасибо доброму владыке Варнаве, но ему не удалось настроить миролюбиво души наших епископов…
На пути в Париж я заехал в Загреб к моему другу митрополиту Досифею и случайно попал на его семейный праздник — на «славу». Сербы не празднуют именин в память тезоименитого небесного покровителя, но зато празднуют память небесного покровителя дома, семьи или рода. Так фамилия митрополита Досифея (Васичи) празднует память Михаила Архангела. Торжественную Литургию в этот день я служил в соборе вместе с митрополитом Досифеем. После Литургии, в течение всего дня, митрополита поздравляли представители городских и военных властей, высшее духовенство разных исповеданий, представители разных профессий и классов, всевозможных благотворительных и культурно–просветительных учреждений, дамы, студенты, простые люди… Думаю, что всего перебывало до тысячи человек.
Достойна всякого удивления та широкая популярность, какою пользуется владыка Досифей в своем епархиальном городе, несмотря на то, что он еще так недавно сюда приехал, ибо Загребская митрополия была открыта лишь два года тому назад.
Вечером был устроен ужин для клира. Эта трапеза носила домашний, интимный характер и длилась до глубокой ночи.
Из Загреба я заехал в Прагу, где был утешен свиданием с милым владыкой Сергием, с которым отвел душу в откровенных беседах. Здесь мы отпраздновали 10–летний юбилей освящения мною Успенского храма на русском кладбище. Владыка Сергий значительно успокоил мое смятенное и подавленное душевное настроение, ибо меня все время волновала мысль о том, что я подписал документ («Временное положение»), с которым во многом был не согласен.
По приезде в Париж я созвал Епархиальный совет и познакомил его с работами архиерейского Совещания в Карловцах, не скрывая отрицательных сторон проекта «Временного положения», принятого на Соборе. Основным дефектом я считал последовательно проведенный принцип централизации, усиливающий власть Синода и Собора за счет окружного Управления митрополией. Излишнюю централизация управления церковными областями, разделенными огромными расстояниями, с различным характером и укладом церковной жизни, я считал по существу идеей неудачной и стоял за более широкие полномочия власти на местах. Были недочеты и экономического характера, например сложный вопрос, как обеспечить существование нескольких епархиальных Управлений в одной митрополии вместо существующего одного Управления. Но наиболее трудным и неприемлемым пунктом этого «Положения» явилось обращенное ко мне требование выйти из юрисдикции Вселенского Патриарха. В заключение доклада я заявил, что всегда действовал в согласии с церковным народом и так же намерен поступить и теперь. Предполагаемая реорганизация Церковного управления дело настолько важное, что совершенно необходимо выслушать мнение Епархиального собрания, Совещания епископов и затем уже, если бы «Временное положение» было ими принято, испросить признания его и благословения Вселенским Патриархом и главами всех автокефальных православных Церквей. Лишь одобренный всею Вселенскою Церковью наш проект мог бы войти в жизнь как канонически обоснованная церковно–административная реформа.
После краткого обмена мнениями мы постановили образовать комиссию в составе: графа В.Н. Коковцова, Е.П. Ковалевского, В.Н. Сенютовича и секретаря Т.А. Аметистова для детального рассмотрения «Положения» и для представления его, с заключением Епархиального совета, Епархиальному собранию, которое должно было состояться ближайшим летом.
Одновременно с этой комиссией возникла в те дни другая — для разбора учения протоиерея С.Булгакова под председательством протопресвитера И.Смирнова в составе протоиерея И.Ктитарева и профессоров: архимандрита Кассиана, протоиерея Г.Флоровского, А.В. Карташева, В.В. Зеньковского и Б.И. Сове.
Приближалось Рождество. Я послал Вселенскому Патриарху вместе с рождественским поздравлением подробное донесение о Карловацком нашем совещании. «Наши епископы почему–то хотят отторгнуть меня от юрисдикции Вашего Святейшества, но я и моя паства не согласимся на это, ибо в отеческом покровительстве видим единственную крепкую опору своего канонического существования…» — писал я Патриарху. Подчеркивая нашу верность Вселенскому Престолу, я лишь выражал то настроение, которое стало распространяться в моей пастве под влиянием ознакомления с притязаниями карловацких иерархов.
Отношения мои с «карловчанами» оставались неопределенными. Хотя острота враждебности ко мне как будто несколько смягчилась, но искреннего желания братского общения карловацкие иерархи не проявляли. Не налаживалось и наше взаимное молитвенное общение.
Открытие Епархиального собрания (в июне 1936 г.) совпало с кончиною настоятеля Александро–Невского собора протопресвитера о.Иакова Смирнова, маститого, глубокочтимого пастыря, около сорока лет состоявшего его настоятелем. Все епархиальное духовенство, прибывшее на Собрание (около ста девяти лиц), участвовало в отпевании, которое состоялось при огромном стечении народа (были даже представители других юрисдикций). Похороны превратились в грандиозное и торжественное объединение — духовенства и паствы — у гроба любимого пастыря. Трогательно и тепло провожали мы нашего дорогого о.Иакова в жизнь вечную…
На первом же заседании я ознакомил Епархиальное собрание со всеми перипетиями моих взаимоотношений с «карловчанами» за последний год и со всеми обстоятельствами моей поездки в Белград, которая привела к уродливому проекту «Временного положения», сводившему на нет автономию Западноевропейской епархии и требовавшему моего отрыва от Вселенского Престола; дабы отвести атаку, я обусловил свое согласие на церковно–административную реформу одобрением ее церковным народом, представленным на Епархиальном собрании, совещанием моих епископов, благословением Вселенского Патриарха и признанием всеми автокефальными православными Церквами.
После меня большой и весьма обстоятельный доклад сделал граф Коковцов. Он читал его два заседания и совершенно раскритиковал «Временное положение», разъяснив Собранию, что этот проект своей централизацией предусматривал лишение нас всякой самостоятельности и сосредоточивал всю власть в Карловацком Синоде.
Атмосфера на Съезде создалась довольно напряженная. Одни его члены носились с лозунгом «Мир!.. мир!..», другие относились к этому лозунгу более вдумчиво, сдержанно. В окружении Съезда стал действовать какой–то «Комитет примирения» с участием графини Шуваловой; появились агитационные брошюрки с требованиями мира во что бы то ни стало. Но мы вовремя остановили эту пропаганду на Съезде посторонних лиц, чем парализовали энергичный натиск «карловацких» приверженцев и вызвали в их лагере крайнее неудовольствие.
После всестороннего обсуждения и оживленных дебатов «Временное положение» было Съездом отвергнуто.
Что же касается трудов о.С.Булгакова, то епископы, съехавшиеся на Собрание, имели совещание и постановили отложить суждение о них до окончания работ комиссии богословов, которой я поручил рассмотрение учения о.Сергия о Софии.
Подробное донесение об Епархиальном собрании и его резолюциях мы сейчас же отослали Вселенскому Патриарху.
Итак, моя поездка в Белград и все усилия канонически оформить мир церковный не привели ни к чему. С прискорбием вынужден был я признать факт не преодоленного нами разрыва, Сбылось мое предсказание или, скорее, предчувствие, которое я высказал на первом совещании у Патриарха Варнавы, что прежде нужно восстановить моральное единение, а потом уже думать об административном. Письмом от 11 августа я оповестил архиепископа Анастасия как участника нашего Карловацкого совещания (1935 г.) о постановлении Епархиального собрания.
Осенью того же 1936 года состоялся очередной Собор в Карловцах. Хоть меня на Собор и звали, но я не поехал. Собор признал, что новый порядок управления Русской Церковью за рубежом проведен в жизнь быть не может, потому что он мною отвергнут. Соборное определение отклоняло мою ссылку на «волю церковного народа», якобы не признавшего «Временного положения». «Голос паствы здесь вообще не может иметь решающего значения», потому что такое постановление Епархиального собрания «несомненно подготовлено и частично внушено докладом Епархиального совета и предварительно речью самого митрополита Евлогия…» — гласило соборное определение. Далее оно приветствовало стремление мое и Епархиального съезда продолжать поиски путей сближения, но энергично подчеркивало свою точку зрения на мой экзархат: единство русской церковной юрисдикции за рубежом может осуществиться, только если я выйду из канонической орбиты Вселенского Престола… Касаясь моего имени, Соборное определение пренебрежительно упоминало «митрополит Евлогий, именующий себя Экзархом Вселенского Патриарха». Совершенно непонятно, почему только «именующий себя», а не действительный, фактический.
Архиепископ Анастасий препроводил мне текст этого определения.
Карловацкие иерархи объяснили неудачу нашего объединения моею неуступчивостью и решили провести свое «Временное положение» с американскими епископами; а из неудачи они на первых порах сделали соответствующий практический вывод — отменили соборное постановление 1935 года, в силу которого открывать параллельных приходов было нельзя. Теперь они вскоре же поставили протоиерея Григория Остроумова епископом Каннским на Ривьере, несмотря на то, что там, в Ницце, уже находится архиепископ Владимир. Впоследствии судьба им за это отомстила… Когда Архиерейский Синод хотел сменить своего священника в Цюрихском приходе (Швейцария), прихожане расставаться с любимым батюшкой о.Гусевым не захотели, а так как их настоянию не вняли, они постановили обратиться ко мне с просьбой принять их в мою юрисдикцию. Так как на Карловацком Соборе было отменено упомянутое постановление Собора 1935 года и это повело к тому, что на основании этой отмены они поставили Каннским епископом о.Григория Остроумова, я счел возможным поставить в Цюрихе своего священника (о.Гусева). Карловчане подняли крик: «Как это можно!.. как митрополит Евлогий мог это сделать!..» Архиепископ Серафим и священник Д.Чубов написали мне резкие письма; прибегли и к обычному, испытанному средству — оклеветали священника В.Гусева, стремились дискредитировать его и испортить отношение к нему швейцарского правительства, но это им не помогло.
Еще решительней было постановление Карловацкого Собора 1936 года относительно о.С.Булгакова. Была принята такая резолюция: оповестить главы всех автокефальных Церквей о признании учения о.Булгакова о Софии ересью и одновременно организовать комитет под председательством графа Граббе для охраны православной веры от лжеучений. Главным охранителем православной веры явился не священник, не епископ, а титулованный мирянин…
После упомянутого Собора всю энергию «карловчане» направили на Германию с целью отторгнуть от меня оставшиеся мне верными приходы и завладеть нашим имуществом. Борьба велась епископом Тихоном уже давно. Еще в 1935 году он пытался устроить в Висбадене параллельный приход с протоиереем Вл.Востоковым во главе и повел тяжбу из–за храма с нашим настоятелем протоиереем П.Адамантовым. В результате этих домогательств, запугавших о.Адамантова, германское правительство наложило на наше имущество секвестр, рассматривая его как бесхозяйное, и назначило для управления им своего комиссара. Протоиерей Адамантов был так запуган, что не выдержал испытания и перешел в Карловацкую юрисдикцию. Теперь надо было ожидать, что и с другими нашими храмами могут поступить так же. Еще до Собора 1935 года епископ Тихон ходатайствовал перед германским правительством о признании и легализации его как главы Православной Русской Церкви в Германии. Для этого, заявлял он, ему будет дано от Архиерейского Синода в Карловцах особое удостоверение, его полномочия подтверждающее. Несмотря на то что я, будучи на Соборе (в 1935 г.), подал меморандум Патриарху Варнаве о церковной борьбе в Германии, создающей условия, противные всякой работе по объединению, — борьба продолжалась. Тогда же епископ Тихон предлагал мне добровольно передать мои приходы, указывая на то, что они скоро получат государственные права. Я отказался. Государственное признание и вытекающие отсюда права епархия Тихона действительно получила в 1937 году: немцы даже выстроили на государственный счет собор для признанной ими церковной организации.
Бороться нам за свои права было трудно, особенно после того, как германское правительство нашло возможным дать легализацию только Карловацкой организации, а нас лишило всяких прав, в том числе и имущественных, в отношении русских церквей в Германии. Декретом Гитлера от 25 февраля 1938 года все церковные имущества в Германии отдаются в полное распоряжение министра культов без права обжаловать его решение по суду… Отнятое от нас имущество передавалось «карловчанам». Так отняты были от нас храмы: в Висбадене, Дармштадте, Эмсе, Баден–Бадене, Штутгарте, Лейпциге… Особенно тяжела была утрата храма в Лейпциге, на поддержание которого нами потрачено было столько сил и собрано с огромными усилиями столько денег… Но что же делать… — сила солому ломит!
В августе 1938 года состоялся Карловацкий Собор епископов, клириков и мирян. Собор этот был с большими каноническими дефектами. Прежде всего: кто его созывал и в каком церковном звании был этот созывающий? С одной стороны, архиепископ Анастасий продолжал себя именовать архиепископом Кишиневским и Хотинским; а с другой — митрополитом (чьим?) и возглавителем зарубежной Русской Церкви. Последние два титула очень сомнительны, ибо я сам был свидетелем, как белый клобук возложил на него за чаепитием покойный Сербский Патриарх Варнава… Еще более было странно видеть, что проживающие в Сербии клирики и миряне на Соборе участвовали как представители епархии в Китае, на Дальнем Востоке! Нечто совершенно непонятное… Несмотря на эти дефекты, Собор явил великие притязания — быть всезаграничным, совершенно пренебрегая моей организацией, имеющей несомненно более канонический характер. Мало этого: он явно клонил к тому, чтобы быть выразителем голоса всей Русской Церкви. По отношению ко мне он, конечно, проявил крайнюю агрессивную непримиримость: он составил особое постановление, в котором в резких выражениях не только указывал на неканоничность моего обращения к Вселенскому Патриарху, но и грубо критиковал отношение ко мне Вселенского Патриарха. Это было так несправедливо, что я, ревнуя о чести Вселенского Престола, должен был выступить с опровержением. Деяния Собора отразились на наших церковных делах в Германии. Был уволен епископ Тихон и отправлен в один из сербских монастырей. На его место был назначен епископ Серафим (Ляде), из немцев, перешедших в православие; он стал именоваться епископом Потсдамским. С уходом епископа Тихона немного расчистилась атмосфера церковной жизни в Германии: уж очень она была удушливая, насыщенная всякой неправдой, интригами и страстями… Епископ Серафим в общем был человек порядочный, но безвольный. Большую энергию в борьбе за Карловацкую юрисдикцию проявлял стоявший тогда во главе русской эмиграции генерал Бискупский: он старался склонить оставшиеся в моем ведении приходы к переходу к «карловчанам». Немцам хотелось показать, что этот переход будет совершен добровольно, а не под их насильственным давлением. И вот тут–то и началась игра–борьба, тяжесть которой особенно сильно легла на плечи моего духовенства. Священников призывают в Министерство культов и там всячески уговаривают, даже с угрозами, чтобы они вместе с прихожанами переходили в Карловацкую юрисдикцию. То же делает и митрополит Анастасий по приезде в Берлин. Мои священники, к чести их сказать,, остаются твердыми и непоколебимыми — отвечают, что они и прихожане уже определили свое каноническое положение и менять его не согласны; что решение этого вопроса превышает их компетенцию и по поводу него надлежит обратиться к митрополиту Евлогию… Тогда начинается атака на меня. Ко мне обращаются германские власти с предложением для блага Церкви отпустить мои германские приходы в Карловацкую юрисдикцию. Митрополит Анастасий пишет мне письмо («словеса лукавствия…»), что в моих приходах причты готовы меня покинуть и слово теперь только за мною, чтобы переход закрепить формально. Я отвечаю, что в вопросах веры и Церкви я больше всего ценю свободу совести; мои прихожане уже определили себя в церковном отношении, их позиция мною одобрена, и я не считаю себя обязанным ломать их церковные убеждения… Тогда начинаются личные нападки и утеснения моего духовенства со стороны германского правительства. Наших священников начинают вызывать в гестапо, изводят допросами… Не добившись от наших приходов заявления о добровольном переходе в Карловацкую юрисдикцию, видные ее сторонники пытаются овладеть ими другим методом. Они разыскивают среди прихожан элементы робкие, неустойчивые, и всячески стараются их распропагандировать и таким образом разлагают приход. Так было с Тегелевским приходом при кладбище в Берлине. До последнего времени приход стоял твердо и единодушно под руководством своего умного и энергичного настоятеля о.С.Положенского; потом вдруг в Приходском совете явился один голос за переход в Карловцы; через некоторое время уже четыре голоса, очевидно обработанных кем–то. Постепенно от нас откололи 1/3 прихожан… Окончательно добил приход неожиданный декрет правительства о насильственном расторжении с нашим Братством контракта на аренду кладбища (законный срок контракта истекал через два года, т. е. в 1940 г.). Акт этот был явно незаконный. Без кладбища приход существовать не мог, и мы вынуждены были его закрыть и присоединить к нашему приходу святого равноапостольного князя Владимира. Новый удар, новая потеря… — но что же делать? Мы предлагали создать центральный комитет для управления русскими церквами в Германии из представителей той и другой юрисдикции и таким ооразом согласовать нашу церковную работу, но «карловцы» не согласились: очевидно, им нужно не объединение церковное, а подчинение нас их власти. На это мы не пойдем — будем бороться до конца, нас могут взять (как уже и берут) только насилием, и пусть на совести тех, кто прибегает к такого рода средству, останется это недоброе, нехристианское, нецерковное «душеводство»…
у меня в Германии осталось только три прихода: 1) в Берлине, 2) в Дрездене и 3) в Восточной Пруссии. Над ними также занесен дамоклов меч…
ПАМЯТИ МИТРОПОЛИТА ЕВЛОГИЯ
Восемь лет отделяют страницы «Заключения» от кончины Митрополита. Годы катастроф, перемен и переживаний неизгладимых… К сожалению, именно об этом периоде никаких последовательных записей Владыка не оставил. Я бы хотела, хоть в самой малой мере, заполнить этот пробел и поделиться своими воспоминаниями о встречах и беседах с Владыкой за эти последние годы. Быть может, они помогут запечатлеть его образ, каким он был в заключительный период его жизни.
Но прежде всего я хочу напомнить о празднике в «Татьянин день» 1938 года — о юбилее тридцатипятилетнего служения Митрополита в епископском сане. В своих мемуарах Владыка нигде о нем не упоминает (и это понятно), а между тем в его жизни день этот был важным событием. «До смерти не забуду этого знаменательного и радостного для меня дня…» — вспоминал он впоследствии.
Торжественная Литургия… Митрополит и сонм духовенства: три архиерея, 22 священника, 7 диаконов. Три хора. Ослепительное блистание люстр… Переполненный народом Александро–Невский храм…
После богослужения — речи, подношения, общеепархиальный адрес с бесчисленными подписями, депутации от приходов… Вся епархия до последней церковной общинки в каком–нибудь глухом углу Франции или за границей — все единодушно отозвались на юбилей своего Митрополита.
Вселенский Патриарх почтил торжество поздравительною грамотою и большой наградой — правом носить во время богослужений две панагии — привилегия, которой пользовались в России только Патриарх и митрополит Киевский.
Днем в соборе был прием депутаций (57). Это уже не церковноприходские делегаты, а представители «мирских» общественных организаций — благотворительных, просветительных и проч. Владыка, сияющий, торжественный, нарядный, в лиловой шелковой рясе, в ленте святого Саввы, при звездах святой Анны и святого Владимира… Поздравления и адреса, адреса и поздравления в течение двух часов… И не только юбилейные приветствия с излиянием чувств благодарности, преданности, почитания юбиляра, но и оценка культурной и общественной работы в епархии за долгие годы эмиграции.
Под сенью Церкви русские люди на чужбине усердно трудились, охраняя и организуя — материально и духовно — свое существование. Кроме неутомимого созидания церквей и устроения приходских объединений они посвящали свою инициативу и энергию заботам о всестороннем просвещении, о материальных и культурных потребностях, об охране русской науки, искусства, родной речи и быта… Богословский Институт, Политехникум, Консерватория, среднеучебные заведения, профессиональные и культурные объединения, детские приюты и летние колонии, убежища для престарелых, санатории и амбулатории, благотворительные женские кружки и просветительные содружества молодежи… — всего не перечислить. Церковь, в лице своего главы, Митрополита, будучи центром эмигрантской жизни, одобряла и благословляла это общее дело.
Юбилей Владыки, столь торжественно и столь осмысленно отпразднованный, показал, что у эмиграции есть сознание своего единства, своего пути и предназначенного ей долга. И тридцатипятилетие архипастырского служения Митрополита превратилось, для всех неожиданно, в светлое празднование творческого соборного труда, преодолевающего зыбкость эмигрантского существования…
После многолюдного, многоречивого дневного торжества наступил тихий вечер. И вечер необыкновенный: его ознаменовало великолепное северное сияние… Над Францией оно было такой силы света, какого не запомнят после подобного же небесного явления в начале столетия. В других странах Европы оно наблюдалось тоже. Но в Австрии и на Балканах его величественная красота казалась зловещим предзнаменованием: небеса пылали кровавым огненным заревом… Население в городах в панике высыпало на площади, на улицы, и коленопреклоненно молилось о предотвращении гнева Божия… (так это событие описывали потом газеты).
На другой день кто–то из друзей сказал Владыке:
– Вы встали на защиту свободы богословских исканий в полемике по поводу учения о Софии, а вчера природа северным сиянием произнесла свое таинственное «слово»…
Владыка отнесся к напоминанию с мягкой иронией:
– Спаси, Господи, спаси, Господи, но только и не понять, что это «слово» означает…
1939 год проходит для Владыки под знаком болезни. «Приболезновал» он уже давно, но с этого года он начинает болеть часто и разными серьезными недугами. Среди них для него самый мучительный и морально тяжкий — глухота. Она затрудняет общение с людьми, лишает оживленных бесед, терзает нервы той особой разъединенностью с миром, которую знают все глухие. Особенно сказывается эта утрата нормального слуха во время богослужений. Владыка плохо слышит возгласы сослужащего ему духовенства, не различает тона песнопений, не отдает себе отчета в силе звука собственного голоса, и его когда–то прекрасное, благозвучное служение становится все более и более тягостно дисгармоничным.
Владыка не только плохо слышит, но в течение этого года ему случилось, в дни обострения своего недуга, буквально ничего не слышать.
Когда однажды, войдя в храм, я с изумлением спросил, почему в переполненной народом церкви гробовая тишина, и мне объяснили, что служба идет своим чередом, для меня это был такой нервный шок, что я едва устоял на ногах, и до сих пор, через полгода, я чувствую последствия этого нервного потрясения… — откровенно поведал Владыка.
С этого года он начинает ощущать свою инвалидность, свою слабость, беспомощность старости — и приближение конца… «Senectus ipsa morbus est» [
[256]], — со вздохом повторяет он.
Тяжкие его недуги и общее болезненное состояние заставляют с этими печальными явлениями считаться: посетители Владыки боятся его волновать, утомлять, стараются его не раздражать, не прекословить… а если это по неосмотрительности и случается, то потом оказывается, что они были виновниками тягостной ночи или тревожных сердечных явлений.
Некоторые его духовные чада постепенно перестают у него исповедоваться: одни — чтобы его собою не утомлять, другие — чтобы избежать смущающей на исповеди глухоты… Утрату пастырского общения с некоторыми любимыми духовными детьми Владыка воспринимает со скорбью.
Взаимоотношения его с людьми незаметно, но постепенно начинают терять свою живую, легкую и чуткую проникновенность. Еще три–четыре года, и общее болезненное состояние начнет его уводить (тоже постепенно) в тихую замкнутость «санаторского» уклада жизни с неизбежными последствиями такого вынужденного уединения — преобладанием личных переживаний и субъективизмом суждений над полнотою объективного восприятия действительности.
Этот постепенный уход из жизни длился почти шесть лет и имел свои лучшие и худшие дни, но в общем это был период непрестанных физических недомоганий, морально гнетущих переживаний, неизбежно сопутствующих тяжким хроническим недугам.
И все же, несмотря на свои немощи, Владыка еще долго силен духом и руль церковного корабля, хоть и слабеющей рукой, а держит он крепко.
После тревожной зимы 1939–1940 годов, первого полугодия войны, наступает грозный май, за ним — трагедия июня… В несколько дней Париж опустел и стал неузнаваем. Запертый, немой, мертвый… Брошенная на произвол судьбы красота и богатство… Всюду пустыня. Лишь кое–где встречаешь последних, запоздалых беглецов, нагруженных поклажей, в панике бегущих к заставам… Над городом серое, низкое небо, на горизонте клубятся черные, как сажа, тучи: говорят, оставляя город, власти подожгли мазут… В отдалении ухают пушки… С утра ползут противоречивые слухи: не то сдадут столицу без бою, не то предстоят сражения на улицах…
В этот темный, жуткий день я навестила Владыку.
Застала я его в «гостиной», на диване, среди смятых подушек, в будничной потертой ряске. Озабоченный, но спокойный.
– И сам остался и распоряжение священникам дал — приходов не покидать. Нельзя храмов бросать и прихожан, которым деваться некуда. Добрый пастырь — не наемник — от овец «не бегает»… За мной приезжал граф Коковцов, увезти меня хотел, но как паству покидать? Как всех вас оставить?
От слов слабого, больного Владыки веет силой духа и светлым покоем надежды на Бога. Через 30 лет, как когда–то в великолепной Почаевской Лавре, в дни приближения австрийских войск, вновь зазвучал, но теперь уже в Париже, в скромном церковном домике на рю Дарю, архипастырский призыв к мужеству, долгу, к церковной дисциплине… Призыв этот и тогда и теперь воодушевляла надежда на заступление Богоматери. Эту надежду укрепило неожиданно радостное событие. Неизвестная дама–француженка г–жа М., как все, спешно покидавшая Париж, заехала на рю Дарю и передала о.настоятелю икону Феодоровской Божией Матери: икона эта была вывезена г–жею М. из России и бережно у нее хранилась. Прекрасная большая икона в драгоценном окладе. Не на хранение в храм привезла ее г–жа М., а принесла ее храму в дар [
[257]]. Глубоко тронут был Владыка этим неожиданным приношением, как и те, кто о нем узнали… Всем хотелось верить, что чудный дар — знак благоволения Богоматери и милостивого Ее обещания заступничества в тяжкие дни предстоящих испытаний…
Утешенная надеждой вышла я от Владыки… Застала в соборном сквере весь причт. Стояли и прислушивались к отдаленному гулу пушек…
Стало темнеть… накрапывал дождик…
Германская оккупация… Зеленые мундиры всюду: на улицах, в метро, в магазинах… Солдаты облепили Париж, как саранча. И всюду красные флаги с черной свастикой на белом поле. В праздники в Тюильри, в Люксембургском саду или в аллеях Champs–Elysees, близ Grand Palais, уныло–бравурные марши германских военных оркестров… На стенах домов очередные распоряжения германского коменданта Парижа. Ходят слухи о предстоящих облавах на евреев, о массовом истреблении их в Германии… И опять музыка. И крикливые походные песни проходящих войсковых частей. А по ночам топот патрулей в темноте гулких и пустых парижских улиц…
В эти дни Владыка сумрачен, озабочен и печален. Когда говорим о том, что кругом творится, он морщится и начинает волноваться: «Насильники, насильники… и что они с евреями делают!..»
Вначале Владыку германские власти не трогали, но потом он стал жаловаться, что его осаждают какие–то немцы: они именуют себя «докторами» разных наук, приходят с переводчиками, пристают с расспросами о гонениях на Церковь в России, хотят узнать статистические данные, имена, подробности… «Мы вас беспокоим, но это нам нужно для научных работ…» Записывают что–то в своих карманных книжечках и уходят, обещая вскоре возвратиться… Создается впечатление, что за Владыкой следит гестапо.
В это опасное время Владыка осторожно ведет церковный корабль. Началось отсиживание во вражьем стане, которому официальное название — «лояльность», а скрытая сила которого — терпение… В своих проповедях Владыка говорит на общие темы веры и благочестия. В меру сил служит в соборе или ездит на храмовые праздники в церкви Парижа и в его окрестностях.
Июнь 1941 года… День Всех Святых в России просиявших… Война!.. Война с Россией — небывалая в истории по количеству армий и вооружения. Апокалиптические дни…
Военные катастрофы у русских на всех фронтах. Отступление до Москвы, Тихвина, Ростова… Реки крови… Горят деревни, леса, стираются с лица земли древние прекрасные города, умыкается население… Впереди гибель неминуемая, не только существующего государственного строя, но и самого народа вместе с ним: истребление, порабощение, до потери национального лица, до превращения народа в бескачественную массу «остов», которым одно определение — цифры.
Владыка следит за военными действиями в страшной тревоге. Он подавлен, он «сам не свой»… — «Не сплю ночей… Не нахожу себе места… Варвары!.. Какие варвары!..» — с негодованием восклицает он. Его мучительно волнует все: и военные вести, и слухи о массовой гибели от голода русских военнопленных в Германии, о страданиях депортированного русского населения на принудительных работах… Когда немцы перебросили русских на работы во Францию, слухи превратились в точные сведения: Епархиальному управлению удалось послать кое–куда в эти «каторги» священников, и многое узналось, о чем догадывались. Беседы с Владыкой оставляют впечатление глубокое: чувствуешь его сострадание русскому горю, горячее, пламенное, и с новой силой пробудившуюся в его душе любовь к своему народу. Жила она в сердце всегда (автобиография свидетельствует об этом), и эмигрантские годы ее не угасили, но за двадцать пять лет ни разу не было повода ее во всей полноте и силе вновь восчувствовать. Нужна была война, призрак трагедии, гибели русского народа, чтобы она овладела всем его существом безраздельно…
Владыка говорит всегда теперь о России, не может не говорить о ней, и, по–видимому, его чувства и переживания глубже и сильнее, чем можно их выразить словами…
Я помню проповедь его в маленькой церкви в Медоне, летом 1942 года. Владыка стоял на амвоне, устало опираясь на жезл, — сколь всем нам знакомый облик нашего архипастыря! — но словно не митрополит в день храмового праздника произносил свое традиционное «слово», а престарелый отец поверял своим взрослым детям заветные и волнующие его думы…
– Потоками, реками льется сейчас русская кровь, омываются тяжкие грехи революционных лет… Очистительные, искупительные страдания — проявление гнева Божия. Без крови нет и не бывает искупления всенародного греха… Может быть, потом, по очищении, Бог простит, Бог спасет русский народ…
В эти страшные дни сражений, летом 1942 года, Владыка, казалось, был душою не столько «здесь», сколько «там», в России. Могло ли быть иначе, когда вся его жизнь, церковно–общественная деятельность, самое монашество были только проявлениями его пламенной, самоотверженной, «народнической» любви? В своей биографии он не скрыл, что не для спасения души он принял постриг, а для служения своему народу. Не нашло ли русское религиозное народничество свое краткое и точное, похожее на формулу, определение и в откровенном признании м.Екатерины, игуменьи Леснинского монастыря, по духу столь близкой Владыке монахини: «Я стала монахиней скорей из любви к народу, чем к Богу.» Такая «народническая» любовь объемлет народ, как «святыню», и во всей полноте его бытия: история, вера и быт, родная земля и природа, которая эту землю украшает, отпущенные ему дары — свойства и способности, которые его отличают от других народов, — все дорого, незаменимо–единственно, почти… священно; в реальности такая любовь не объединяет свой народ со вселенской семьей, а разъединяет, выделяет, возносит и превозносит, дает ей неограниченную власть над своим сердцем…
Какие трепетно–живые слова находит Владыка, чтобы изобразить возлюбленную русскую народную душу, чтобы дать почувствовать ее красоту!
«…Она такая мягкая и такая широкая, многогранная, таинственная, непонятная, загадочная, не удовлетворяющаяся земным сытым житейским благополучием, а тоскующая о Боге, по небу, по граду Китежу — та душа, о которой сказал поэт, что «звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли…» — пишет Владыка в своей маленькой печатной работе: «О нашей русской православной церковности» (1922г.). Не об этой ли душе — погибшей?.. погибающей?.. — не о ней ли горькие думы бессонными ночами, на которые он жалуется?.. Град Китеж… — и страшное, страстное, подобное наваждению, прельщение грубыми материальными благами, которым прежде русский народ так искренно, так праведно своей души безраздельно не отдавал… — как это противоречие могло возникнуть, как его разрешить, как его теперь изжить?..
Зима 1942–1943 годов решила судьбу России. Немцы докатились до Волги и наткнулись на твердыню Сталинграда; защита его вызвала в стране бурю патриотического восторга. Героический подъем с новой силой охватил всю Россию. Началась борьба, насмерть, двух народов: удачи и неудачи, временное продвижение, временное отступление, смена надежд и тревоги (особенно летом 1943 г.). Но далее все яснее, все отчетливее и с каждым месяцем все несомненней, что Германией война проиграна и что германское отступление теперь уже окончательное…
Владыка внимательно следит за военными событиями. При встречах радостно говорит о продвижениях русских армий, рассматривает карту. Теперь добрые вести о войне — его утешение, его отрада. На столе «Война и мир». Он перечитывает Толстого с живейшим интересом. «Сейчас мы вновь переживаем вторую Отечественную войну, тот же всенародный подвиг спасения родины…» — говорит он.
Дальнейшие события патриотическую его радость только усиливают. Не о спасении русского народа от германского нашествия уже теперь речь, а об ошеломляющих военных успехах «победоносного русского воинства», за ними с восхищением следит весь мир… Еще немного, полгода, и вскоре после высадки союзников во Франции начало финала — разгром Германии. Русские уже всюду: в Пруссии, Чехословакии, в Венгрии, на Балканах… Остается штурм Берлина… Сказочной отваге осаждающих соответствует баснословная мощь вооружений — и Берлин взят!
В один из этих победно–финальных дней я застала Владыку счастливым, сияющим, вокруг него лежали газеты, в руках был иллюстрированный журнал: он любовался портретами советских маршалов… — Смотрите, смотрите, подлинные орлы… Вот этот на Кутузова похож, а вот — Багратион, а вот этот — Барклай… Какие молодцы! Какие лица! Благообразные, волевые, умные… — с веселой улыбкой говорил он.
Когда разговор заходит о существующем в России государственном строе, Владыка на мгновение задумывается…
– Да… да… но национальные задачи могут, по произволению Божию, выполняться путями, нам неведомыми… — убежденным тоном говорит он. — России сейчас возвращается все, что мы утратили во время революции. Пожалуй, и основной славянский вопрос разрешится — вековая задача… вековая задача, завещанная предками… Политика ведется национальная, отвечающая интересам России. Это ново. Это явление надо учесть… с ним надо считаться… — И он вспоминает деятельность русских националистов в прошлую войну…
Радость о победах незаметно сливается с воздыханиями о русской великодержавности, о новых границах… Не те ли самые патриотические чувства нашли свое патетическое выражение в приветственной речи, сказанной Владыкой в день встречи Государя во Львове? — «…Ваши доблестные боевые орлы, сокрушив в своем неудержимом стремлении вражеские твердыни, взлетели на неприступные снежные Карпаты, и там, на самой вершине, теперь вьет свое гнездо могучий двуглавый орел…»
Огромная непобедимая Россия, от Ледовитого океана до Индийского (мечта!), гроза пограничных сильных держав, покровительница малых, сестра родная всех славян… и Москва — кто знает! — быть может, всемирный центр Православия — грандиозная программа националистических чаяний, казалось, теперь может развернуться со всей убедительностью исторической реальности… И было так же убедительно, что Россия вознесена на вершину военной славы и справилась с врагом благодаря чьей–то железной воле, жестокость которой многим бы хотелось оправдать пользой…
В те дни побед впервые в Зарубежье стали раздаваться такие речи среди русских патриотов… Что–то незаметно сдвинулось, изменилось в старых привычных оценках, начала меркнуть самая о них память… Постепенно стало забываться незабываемое — о чем говорили так часто с амвона, в печати, в лекционных зальцах, в семейном быту: о Соловках, об епископах–мучениках, об осквернении святынь, о тайной церковной жизни… История перевернула страницу, и содержание следующей поглотило внимание, так оно оказалось ново.
Это новое — прекращение в России гонений на Церковь. Больше этого — согласие во взаимоотношениях государства и Церкви. Государство уступило, допустило существование «своей» Церкви: непримиримое отыскало путь к подобию примирения…
Известие о прекращении гонений, а потом о Соборе и избрании Патриарха Владыка воспринял как великую радость духовной победы, связанную с победой на полях сражений, как знак «прощенности» русского народа. Нахлынувшие новые впечатления эту радость могли только укреплять.
После освобождения Франции в Париж из трудовых и военных лагерей наехало много советских людей. Новые, не похожие на эмигрантов посетители наших храмов. Не боясь ни огласки, ни преследований за веру, они во множестве притекали на церковные службы. «Нам теперь это позволено. И детей крестить, и в церковь ходить…» — бойко заявила мне одна молодая девушка.
Что–то было простодушное в их отношении к религиозному культу. Неуверенно разбираясь в догматической стороне своей веры, подчас недоумевая, что в церкви говорят, читают и поют, путаясь в простейшем, — они тем не менее с воодушевлением посещали наши церкви, несомненно ожидая для себя от этих посещений чего–то хорошего, отрадного и утешительного.
С какою радостью глядел Владыка на новых гостей!
«…К нам в церковь теперь приходит много наших соотечественников — мужчин и женщин, — писал мне Владыка (23 ноября 1944 г.). — Какие они хорошие, трогательные, особенно женщины, и какие благочестивые! Когда было холодно, и они пришли слишком рано, и их хотели напоить чаем, то старшая из них сказала: нет, мы пришли сюда не для еды, а для души, до обедни чаю пить не будем! И ведь это говорит советская женщина, о которых мы думали, что они совсем погрязли в коммунизме!.. Когда смотрю на эти родные, открытые русские лица, у меня сердце кровью обливается. Вот овцы без пастыря. А лучше сказать, — с ложными пастырями, с волками в овечьих шкурах, ибо, пока мы тут пререкаемся, не дремлют униаты, сектанты и проч. Вот почему так хочется засыпать ров, отделяющий нас от России, чтобы скорее идти туда работать для русского бедного (но великого) народа…»
Эту новую толпу Владыка почувствовал сразу: ее волевую крепость, душевную молодость (стариков между ними почти не было), выносливость, религиозную непосредственность, а через них — и дубовую несокрушимость того ствола, которого они ветки… Это «они» победили лютого врага, это «они» носители русской мощи! Эмиграция, по сравнению с советскими гостями, несмотря на всю свою «интеллигентскую» старую русскую культуру, казалась ему слабеньким, пересаженным на чужую землю, растением… Не напоминали ли мы ему бедных «холмичей», которых вот–вот поглотят без следа чужая культура, чужая «вера»?.. Не значило ли нас спасти, если нас связать с державным русским центром?
«…Вот русская молодежь, талантливая, образованная… Доколе она будет лить воду на чужие мельницы, крыть чужие дома? Не пора ли идти на строительство своих родных домов? Все эти мысли так остро волнуют меня. Конечно, я не увижу этого нового строительства. Мое здоровье плохо, и я уже потерял надежду на выздоровление и, вероятно, скоро умру. Но перед смертью так хотелось бы что–нибудь сделать для родного народа…» — пишет Владыка (23 ноября 1944 г.). И далее в том же письме: «Расскажу вам о своих скитаниях в советском мире, разыскивая путь русского народа…»
Владыка говорит здесь о своих первых попытках войти в общение с Московской Патриархией при содействии советских дипломатических инстанций с целью воссоединения с «Матерью Церковью». Мы знаем, что попытки эти бесплодными не были и зимою 1944–1945 годов у него завязались сношения с митрополитом Алексием (вскоре Патриархом Московским), которые впоследствии развились и углубились.
Этой же зимою 1944–1945 годов на путь церковного национализма Владыка старается увлечь за собою и паству. В своем «слове» в день пятидесятилетнего юбилея своего священства, 18 февраля 1945 года, он обращается к ней с открытым церковно–патриотическим призывом:
«Мать святая Церковь Русская зовет нас к возвращению в лоно свое. Уклонимся ли мы от этого материнского призыва? Довольно настрадалась душа наша в изгнании на чужбине. Пора домой. Высшая власть церковная обещает нам спокойное развитие церковной жизни. Хочется облобызать родную русскую землю. Хочется успокоения в лоне родной Матери Церкви и нам, старикам, чтобы найти последнее упокоение, а молодым и зрелым чтобы поработать над возрождением Родины, залечить ее зияющие раны. Без страха и сомнения, без смущения войдем в родную землю: она так хороша, так прекрасна…»
Это «домой», обдуманное и прочувствованное зимою 1944–1945 годов, подготовляет все последующие решения и действия Владыки до его кончины. В письмах той зимы, о которых я упомяну. Владыка кратко излагает свое «исповедание», объясняя смысл своего православного национализма. В них противопоставлен идеал вселенского православия (а также вселенского христианства) — национальному русскому православию. Я приведу из этих писем некоторые строки.
«…Вчера мы с вами говорили о национализме. Конечно, христианство выше и шире национализма и на вершинах его перед Престолом Господним нет ни эллина, ни иудея, равно как ни православного, ни католика, а есть только праведные и грешные и над ними единый Христос Бог наш. Но пока мы живем на этойгрешной земле, неизбежны, необходимы разделения национальные и конфессиональные. И против этого ничего не поделаешь. Национальность (точнее, народность) — это голос крови, зараженной первородным грехом, а пока мы на земле, мы несем следы этого греха и не можем стать выше его. (То же я думаю о конфессиональных разностях.) Но, будучи убежденным националистом, т. е. верным и преданным сыном своего народа, я, конечно, совершенно отвергаю тот звериный национализм, который проявляют теперь немцы по отношению к евреям, равно как, будучи православным, я чужд религиозного фанатизма… Выше всего чту свободу во Христе. Вот в самых общих кратких словах мое исповедание…» (Письмо от 26 октября 1944 г.)
В следующем письме (от 23 ноября 1944 г.):
«…Конечно… нужно подходить к этому делу объединения русского народа с большой осторожностью, но думаю, что основная линия взята мною правильно. Прекрасна идея вселенского православия, но путь к ней через национальное православие. Недаром Господь, устрояя Единую Вселенскую Церковь, допустил создание национальных автокефальных церквей. Вселенская идея слишком высока, малодоступна пониманию широких масс народа. Дай Бог утвердить его в национальном православии…»
Вселенская идея для Владыки по–прежнему высока и прекрасна, но теперь она уже не в центре его внимания, как несколько лет тому назад, когда он объяснял и защищал единение зарубежной Русской Церкви со Вселенским Престолом, укрепляющее связь Русского Православия со Вселенским Христианством. В «Воспоминаниях» в главе «Церковная смута» [
[258]] мы находим следующие строки:
«…Многие и по сей день не понимают ценности нашего единения с Вселенским Престолом. А между тем ценность этого единения великая… Когда Церкви забывают о вселенской своей природе, когда обособляются, замыкаясь в своих национальных интересах, — эта утрата основного, главного предназначения национальных Церквей есть болезнь и грех… Задача поддержания общения со Вселенской Церковью выпала на мою долю…»
Теперь Владыка в эту сторону не стремится и туда свою паству не зовет, а берет обратное направление — церковно–патриотическое, дабы вернуть зарубежную Церковь национальной стихии.
Слабый, больной, с головокружениями, жалуясь на глухоту, на одышку, на бессонницу, окруженный бдительным уходом, как тяжко больной–хроник, Владыка торопится осуществить задуманный им план возвращения в юрисдикцию Московской Патриархии; он хотел бы как можно скорее это воссоединение канонически оформить, но ему приходится медлить… В письме к Патриарху Алексию (от 3 апреля 1945 г.) Владыка пишет: «К глубокому моему огорчению, в значительной части моей паствы я неожиданно встретил упорное отрицательное отношение к этому делу… И я опасаюсь, что мой поспешный шаг по пути слияния (с Матерью Церковью) вызовет новый раскол в церковной жизни эмиграции…» Далее в том же письме: «Предварительно обращения к Вашему Святейшеству нам нужно еще испросить благословение на свое воссоединение с Матерью Церковью от Вселенского Патриарха…»
Отношения с Москвою остаются неопределенными до сентября 1945 года — до приезда в Париж полномочного представителя Московской Патриархии. Этот приезд имел серьезные последствия.
Вопрос о запрещении, наложенном на Владыку (и его духовенство) 15 лет тому назад, не обсуждался, был как бы предан забвению, и приехавший Митрополит служил соборне с Митрополитом Евлогием и его духовенством в Александро–Невском храме. Во время пребывания в Париже московский делегат вступил в переговоры с Митрополитом Евлогием о возвращении его в Московскую юрисдикцию — и в результате было подписано официальное ходатайство о воссоединении с Москвою. Предварительно патриарший представитель «уверил присутствующих (Митрополита Евлогия и его викариев)… что переговоры с Константинополем по этому вопросу (о воссоединении) взяла на себя Москва, что согласие Вселенского Патриарха, несомненно, будет, а может быть, уже и поступило. Митрополит Евлогий собственноручно записал об этом в протоколе и затем сообщил Патриарху (Вселенскому) Вениамину (в докладе 1 октября 1945 г.)… Согласие епископов на воссоединение было, очевидно, только условное… С своей стороны, Патриарх Алексий телеграммой от 4 ноября 1945 г. просил Патриарха Вениамина дать благословение Митрополиту Евлогию, его духовенству и пастве на воссоединение с Матерью Церковью Российской (таким образом, уверение (приехавшего) Митрополита… было не точно)…» («Церковный вестник Западноевропейской епархии», № 2, 1946 г.)
В ответ на ходатайство появляется Указ Московского Патриарха от 11 сентября, № 1171, это ходатайство о воссоединении удовлетворяющее — с постановлением Экзархат западноевропейских церквей сохранить, а Митрополита Евлогия, его возглавляющего, считать Экзархом Патриарха Московского.
Ввиду того что на двукратное обращение Владыки в Константинополь с просьбой о разрешении вернуться в юрисдикцию Московского Патриарха ответа не последовало, Владыка до конца жизни оставался в зависимости от Вселенского Престола и именовался Экзархом Патриарха Вселенского; одновременно Московский Патриархат тоже считал его своим Экзархом.
Стремление Владыки вернуться в лоно Русской Матери Церкви и действия, предпринятые для его осуществления, не исчерпали его патриотических пожеланий. Владыке этого недостаточно, его планы простираются дальше — вернуться на родину, там найти место последнего упокоения. И вернуться не одному, а со всей эмигрантской паствой — возглавить своего рода переселенческий табор, наподобие того грандиозного каравана с чадами, домочадцами, скотом и скарбом, который он вел из Галиции в Россию во время Великой войны (и привел в Шубково)…
Но вместо осуществления этой патриотическо–иммигрантской мечты, в ответ на его единоличное разрешение вопроса об эмигрантской церковной судьбе, не считаясь с голосом церковного народа и его не выслушав, в епархии нарастает недоумение, ропот и протест… Владыка в ту зиму болеет почти непрестанно, в подлинном положении вещей он уже не может дать себе ясного отчета. Осведомлять его о глубоких разногласиях, которые назревают в пастве, даже его близким кажется неосторожным, так явно догорает его жизнь, так несомненно всякая тревога ему не по силам…
Помню, я застала его в кресле, в подушках. Длинные волосы перехвачены ленточкой. На плечах лиловый вязаный платок. На столе перед ним длинная трубка–телефон, которой должен пользоваться посетитель, если хочет быть услышан. Речь Владыки затрудненная, слегка лепечущая… Все его волнует, утомляет, он легко плачет… Но доброта и ласка его к людям все те же…
Мы говорим на какие–то общие неволнующие темы, но само собой беседа заканчивается его любимой и теперь единственно ему интересной темой — о России.
– Вот там, в России, подлинное могучее русское дерево, мы здесь все лишь тончайшие его веточки… сорвет нас первая буря… Да… жить родиной, работать для нее, вернуться! Наша Русская Церковь — национальная Церковь была и есть, и я плоти и крови преодолеть не могу. Высшим христианским идеалом я жить не могу… каюсь, не могу… — с глубокой искренностью говорит Владыка.
– А что же делать тем, кто к нему стремится? — спросила я.
Владыка задумался, помолчал, а потом сказал:
– Пусть остаются во Вселенской Патриархии…
В последний раз я видела Владыку в конце июня (1946 г.), за полтора месяца до его смерти. Я приехала перед отъездом на каникулы с ним проститься. Он сидел за письменным столом и равнодушно перелистывал старый том «Исторического Вестника». Был он как будто физически бодрее, чем раньше, но жаловался на мучительно беспокойные ночи и на «короткое дыхание». Мы ни о чем постороннем не говорили. Я боялась чем–либо его встревожить.
В его прощальном благословении слабой рукой, в его доброй улыбке, в ласковом прозвище, с которым он ко мне на прощание обращался (он иногда шутя называл меня именем писца пророка Иеремии), — во всем едва уловимо, но несомненно чувствовалось, что это последняя встреча…
Когда я вернулась в Париж, мне сообщили, что Владыка при смерти…
Я приехала на рю Дарю. На улице перед храмом и в церковном садике в этот предвечерний час все было тихо и пусто, как всегда. Но на крыльце церковного дома мне повстречались заплаканные старушки, мимо нас быстро прошли в сад какие–то люди, озабоченно о чем–то совещаясь. Протяжно гудел колокол… Слышался громкий голос, кого–то оповещающий по телефону о предстоящей первой панихиде…
Владыка только что скончался… 8 августа, в 4 часа 55 минут.
Через три дня были похороны при большом стечении народа. Из Москвы прибыли два архиерея. Богослужение длилось около шести часов. В храме было тесно: ко гробу до конца службы и не приблизиться… Несмотря на общерусскую толпу, в которой смешались «свои» и «не свои»; несмотря на то, что соборное служение духовенства всех зарубежных расколов и взаимных «непризнаний» должно было являть трогательную картину умиротворенного единства всей Русской Церкви, — благодатной гармонии единодушия и единомыслия у гроба Владыки не чувствовалось… У многих было смятение в мыслях и смущение в сердце, и только некоторые (их было немало), ничем не соблазняясь, ни о чем до времени не рассуждая, в простоте сердечной оплакивали дорогого усопшего Владыку…
По окончании отпевания гроб на руках духовенства был обнесен вокруг собора при погребальном звоне, — и процессия направилась к похоронным автокарам…
Владыку похоронили на русском кладбище в Sainte–Genevieve des Bois, в крипте прекрасного храма во имя Успения Божией Матери, который он освящал в 1939 году с таким благоговейным восторгом, с такою горячею благодарностью Богу…
На его могиле, согласно его воле и распоряжению, положена плита с надписью: «Боже, милостив буди мне грешному».
Последний период жизни Владыки и его уклон к Москве вызвал в русском рассеянии много споров. После его смерти разногласия приняли более четкие очертания и привели к расколу. Оппозиционные настроения нашли исход в решительных «вселенских» резолюциях Чрезвычайного Епархиального съезда (16–20 октября 1946 г.), а слух, еще при жизни Владыки струившийся в церковных кругах о его тяжелых душевных переживаниях, вызванных перемещением Московской Патриархией одного из его викариев без предварительных переговоров; назначение в Париж, в помощь по управлению, архиерея, командированного Москвою, не предоставив Владыке возможности предложить своего кандидата, не оповестив о назначении… — слух этот теперь приобрел определенность утверждения. Некоторые близкие Владыке духовные лица и его друзья свидетельствуют, что в упомянутых церковно–административных приемах Владыка видел проявление пренебрежения к нему, Экзарху, — и это его огорчало. Встревоженный, удрученный, он жаловался, что его ввели в заблуждение. «Тяжко» мне…», «я поторопился…», «я его не звал (викария из Москвы), я его не приму, меня никто не спрашивал… что это такое творится?..» — в этих взволнованных словах отражается растерянное недоумение перед реальностью воссоединения, столь не соответствующей, в понимании Владыки, правам иерарха, возглавляющего Экзархат…
Не углубляясь в подробности личных переживаний покойного Архипастыря, надо, однако, сказать, что на направлении его церковной политики они не отразились, а потому положение зарубежной Русской Церкви ко дню его кончины оставалось по–прежнему затруднительным и сложным.
После его смерти смута в приходах и церквах стала стихать. Русская Церковь в рассеянии, еще при жизни Владыки (в 1931 г.) связавшая свою судьбу со Вселенским Престолом, в большинстве своих приходов осталась ему верной; тем самым она вернула свою каноническую устойчивость и вышла вновь на путь мира и духовной свободы. Остальные приходы отошли к Москве. Мотивы и доводы согласных и несогласных с «верностью» были разнообразны, но если вдуматься в смысл их, то они сводились к противоположению двух течений в Русской Церкви: национального русского православия и православия, не зависимого от опеки, давления, союза, соглашения или просто воздействия исключительной заинтересованности делами и задачами русского государства.
Это противоположение двух течений, двух религиозных идеологий не ново, оно проявлялось с особой силой и в наиболее отчетливых формах в эпохи усиления государственного начала, всегда склонного использовать веру и Церковь для своих нужд и задач. Отразила его мистическая оппозиция «заволжских старцев» на рубеже XV–XVI веков, в период образования сильного Московского государства и верной его союзницы — национальной Русской Церкви; явил и протест пламенной, исповеднической народной веры «староверов» в XVII–XVIII веках во время государственного насилия над народной совестью; нашло оно выражение и в «старчестве» при Екатерине II, возникшем в ответ на беспощадное утеснение монастырей (и монашества) в интересах государственно–экономических; знает кое–что о коллизии веры и власти — Церкви и государства и наша современность…
Святая Русь государственным могуществом (военным и политическим) или экономическим процветанием отечества, как смыслом Христова делания на земле, — не обольщалась, видела в них скрытый соблазн ухода и увода от Христа и хранила, как евангельскую жемчужину, как драгоценнейшее сокровище, бескорыстную, чистую, пламенную веру и любовь ко Христу, которые тончайшим чутьем различают, что от «мира сего» и что «не от мира сего», и никогда не низводят христианства с его высоты для практического использования.
Именно здесь, где–то на скрещивании двух течений, и проявилось несогласие во взаимоотношениях покойного Владыки со «вселенской» частью его паствы в последние два года его жизни.
Среди бурного разлива националистических и патриотических страстей, от которого вся земля обнищала, а жизнь стала безобразна, превратна и жутко беспощадна, некоторые верующие люди в рассеянии остались верны, быть может, даже ими ясно не осознанному предназначению: в мире с его культом материальных достижений — грандиозного Вавилонского строительства — и политических домогательств; со страстной и исключительной озабоченностью земными благами (хотя бы в них и входили так называемые «культурные ценности») — свидетельствовать самым своим существованием, что христиане всегда, а в нашу эпоху в особенности, странники и пришельцы на земле, «ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего…» (Посл. к Евреям 13,14).
Т. Манухина.
notes
Примечания
1
Отсюда обидная деревенская поговорка: «Попы и с живого и с мертвого дерут».
2
Петр Федорович Полянский окончил Воронежскую семинарию и служил где–то в Тамбовской епархии псаломщиком; его устроил на это место его дядя, Тамбовский архиерей. Вообще среди высшего духовенства у него было много влиятельной родни. Прошло несколько лет — его потянуло в Академию. Но свежесть знаний у него уже поблекла, не так–то легко ему было вновь засесть за книги. На конкурсных экзаменах он не преуспел, но, обеспеченный материально своим дядей, он остался вольнослушателем. Петр Полянский был старше нас, ему было под 30 лет; нам 21–22 года. Внешность у него была уже солидная: большой, толстый, с брюшком, он производил на многих впечатление добродушного простака, может быть, и потому, что любил напускать на себя тон простачка. «Скажите на милость, — восклицает он, бывало, — что в этой философии? Хоть убей, не разберу!» На деле он был неглупый. Звали мы его все попросту Петра, любовались его дорогой енотовой шубой, подаренной ему дядей–архиереем, старинными часами, доставшимися ему от какого–то родственника, — собственностью чуть ли не самого митрополита Московскою Филарета. Кончил он Академию средне. Сильная протекция, восходившая до митрополита Московского Леонтия, приуготовила ему место помощника инспектора Академии. С этой должностью, надзирательной по обязанностям, сочеталось то преимущество, что он мог жить в Академии, пользоваться библиотекой, советами профессоров, а также имел достаточно досуга, чтобы написать магистерское сочинение. Он избрал тему по экзегетике: «О пастырских посланиях апостола Павла». Окончив эту работу, он покинул Академию и стал смотрителем Жировецкого духовного училища (Гродненской губернии). На этом посту проявил большие административные способности — привел училище, действительно, в прекрасное состояние. Ревизор Нечаев, отличавшийся большой строгостью, дал о Петре Полянском блестящий отзыв. Вскоре его пригласили членом Учебного комитета при Святейшем Синоде для ревизии духовно–учебных заведений. Тут он пробыл до 1917 года. Когда грянула революция, он принял, по предложению Патриарха Тихона, монашество, и Патриарх сделал его викарием — епископом Подольским. А когда помощник Патриарха архиепископ Крутицкий Иларион был арестован (управлением Московской епархии ведал не Патриарх, а архиепископ Крутицкий), Патриарх Тихон взял епископа Петра на место архиепископа Илариона, потом возвел его в сан митрополита. В своем завещании Патриарх Тихон назначил своими преемниками: 1) Кирилла митрополита Казанского, 2) Агафангела митрополита Ярославского и 3) Петра митрополита Крутицкого. Кирилл митрополит Казанский был сослан, Агафангела митрополита Ярославского не допустили в Москву. Оставался Петр митрополит Крутицкий. На этом новом посту он проявил себя человеком доблестным, стойким, не склонным к компромиссам. Большевики разгадали, с кем имеют дело, — и отправили в ссылку.
3
Впоследствии П.П.Кудрявцев был профессором философии Киевской Академии.
4
К.М.Аггеев — впоследствии весьма популярный законоучитель в Петербурге. Он преподавал в Смольном институте, в Ларинской гимназии и др. Культурный, либеральный, широкий во взглядах, он умел ладить с интеллигенцией, но вызывал неодобрение в правых кругах. Его считали плохим патриотом… «Я прежде православный, а потом патриот. У нас, к сожалению, наоборот…» — возражал он на это нареканье. Он был расстрелян в Крыму при большевиках.
5
Играла дочь вдового епископа Иеронима, приехавшая к отцу в гости. Он пошел в монахи из белых священников и имел семью.
6
Имя «Евлогий» в переводе с греческого языка значит «Благословенный».
7
По привычке носить скуфьи, камилавки и митры белое духовенство так же надевало и клобуки, а клобук надо надевать на уши.
8
См.с.27.
9
Только один корпус был новый, так называемый красный, т. е. кирпичный, недавно построенный епархиальным духовенством; назывался он «епархиальным общежитием» и предназначался для сыновей местного духовенства.
10
В числе их — рукопись семинариста Неаполитанского: от руки переписанный роман Чернышевского «Что делать?».
11
Впоследствии Патриарх Московский и всея Руси.
12
Там сначала хранились мощи св.Александра Невского. Петр Великий перевез их в Петербург.
13
Впоследствии о.Никон был Экзархом Грузии. В 1911г. его убили грузинские сепаратисты.
14
Этот монастырь–колыбель Московской Духовной Академии, которая там существовала в виде Заиконоспасской греко–латинской Академии; впоследствии, как известно, ее перевели в Троице–Сергиевскую Лавру.
15
Впоследствии Петербургский митрополит–мученик, расстрелянный большевиками.
16
В миру Константин Валединский; впоследствии митрополит Варшавский — глава Русской Православной Церкви в Польше.
17
См. с. 12.
18
См.с.48.
19
Впоследствии заместитель Местоблюстителя Патриаршего Престола; 8 сентября 1943г. был избран Патриархом Московским и всея Руси; скончался 15 мая 1944г.
20
Эти слова о матери Нине относятся к 1936г.
21
Неточность: «Голгофа» находилась на о.Анзере. Секирная гора располагается на о.Большом Соловецком, в 10–12 км от монастыря. (Прим. ред.)
22
См.с.103.
23
Эти слова относятся к 1936г.
24
См.с.59.
25
См. с. 89.
26
Вроде наших «колядок»; наследие монахов–базилиан времен унии.
27
Мать София дожила до революции. Я видел ее в Зарайске, когда был на Церковном Соборе.
28
Последние сведения о ней Митрополит Евлогий имел в 1936 г.
29
Впоследствии Патриарх Московский и всея Руси.
30
Впоследствии митрополит Православной Церкви в Польше.
31
Вадковский, впоследствии митрополит Санкт–Петербургский.
32
Это Евангелие — подарок матери Елены, игуменьи Красностокского монастыря, — как–то удивительно ко мне впоследствии вернулось. Студент Н.Грисюк, уроженец Волыни, проездом домой на летние каникулы забыл его в вагоне; пассажир, солдат, его подобрал и продал в Гродне на толкучке случайно проходившему управляющему Контрольной палатой — Лебедеву, а тот, увидавши на нем надпись матери Елены, с которой был знаком, передал ей. В день своего ангела (11 июля) м.Елена приехала в Холм и подарила его мне вторично. Евангелие это до сих пор при мне.
33
Впоследствии Патриарх Московский и всея Руси.
34
См.с.129.
35
Депутат польского кола.
36
С 6 марта 1947 года архиепископ, а с 16 июля 1947 года митрополит Западноевропейских русских православных церквей, Экзарх Патриарха Вселенского.
37
Синод имел две сессии: зимнюю, в течение которой разбирались главные, неотложные дела, и летнюю, для которой предназначались дела второстепенные. Летнюю сессию обычно возглавлял архиепископ Сергий Финляндский (впоследствии Патриарх Московский и всея Руси); членами Синода летней сессии обычно назначались либо весьма престарелые, либо нетрудоспособные иерархи.
38
См.с.103.
39
См.с.132.
40
Член–казначей Общества помощи Русской Церкви и духовенству после русской революции.
41
«Делалась хорошая мина при плохой игре…» (фр.) (Прим. ред.)
42
Впоследствии, когда Холмщина при большевиках была от России отторгнута и присоединена к Польше, поляки этот храм взорвали.
43
В Государственной думе протоиерей Будилович из националистов ушел и примкнул к октябристам. Думские националисты потом упрекали меня: «Кого прислали? Перебежчика!» На протоиерея Будиловича повлиял персональный состав националистов в IV Думе: среди них было немало узких, нетерпимых «сектантов».
44
Во время IV Думы он занял пост Обер–Прокурора Святейшего Синода.
45
«Горним местом» называется то место между восточной стеной и престолом, где обыкновенно помещается образ Христа Спасителя, сидящего на троне в архиерейском облачении, и где за Божественной Литургией сидит епископ во время чтения Апостола и стоит во время чтения Евангелия.
46
Пожар возник по неосторожности кого–то из семинаристов; по–видимому, в гардеробной обронили тлевший окурок.
47
На Волыни у меня было три викария: епископ Гавриил Острожский (проживал в Житомире); епископ Фаддей Владимиро–Волынский и епископ Дионисий Кременецкий (оба проживали в своих уездных городах).
48
См.с.86.
49
Земство в Западном крае было введено Столыпиным в порядке 87–й статьи.
50
Когда–то им командовал Деникин.
51
Командир его вскоре же был убит. В первом сражении он потерял свой полк (запутался в кустарнике), после чего австрийцы разбили полк наголову; последовало взыскание — командира отставили; хоть потом его и вернули, но это его не удовлетворило; ему хотелось реабилитировать свою честь; воспользовавшись первым подходящим случаем, он выехал на позицию на самом виду у врага и тут же был убит.
52
Красный цвет — символ крови. Когда–то был замучен целый монастырь доминиканцев.
53
О.Наумович, Добрянский, Дудыкевич, Глушкевич, Бендесюк и много других.
54
Один из них окончил Житомирское училище пастырей.
55
Он был при генерал–губернаторе чиновником особых поручений.
56
Был причислен к канцелярии генерал–губернатора.
57
Это братство возникло в XVII веке — мощная организация, русская по политическим своим симпатиям и униатская по вероисповеданию; она имела свой прекрасный храм, свою типографию и проч.
58
Он окончил первым или вторым Петербургскую Духовную Академию, был оставлен стипендиатом и окончил Археологический институт. Когда я жил, будучи членом Думы, в синодальном доме на Кабинетской улице, он пел там в церковном хоре. Однажды он пришел ко мне и попросил постричь его в монахи. Я его постриг, а потом, по его просьбе, назначил преподавателем Холмской семинарии; впоследствии он занял там место инспектора, затем ректора.
59
Одно время о.Михаил был священником в лазарете Государственной думы на фронте.
60
Во время большевиков он примкнул к «живой церкви».
61
Вскоре граф Бобринский был уволен, на его место назначили Ф.Ф.Трепова.
62
Штюрмер — Председатель Совета Министров с 20 января 1916 г. и одновременно Министр Внутренних дел; с 9 июля — Министр Иностранных дел.
63
Министр Внутренних дел совмещал и должность шефа жандармов.
64
По моей просьбе его кандидатуру в епископы поддержал директор Департамента Инославных исповеданий Менкин, мой холмский приятель.
65
Православные епископы при хиротонии получали от Государя облачение.
66
Праздник иконы Богоматери «Живоносный Источник» введен в Константинополе. Эта чудотворная икона находилась во Влахернском храме. В Почаеве праздник этот был приурочен ко дню празднования «стопы» Богородицы.
67
Любопытная подробность: делегатом от акушерок и фельдшериц был избран какой–то солдат.
68
Копия этого постановления сохранилась у Митрополита Евлогия.
69
См.с.33–48.
70
В число их попали профессора: Кудрявцев, Лазаревский, Громогласов, Карташев и др.
71
Тут хранились мощи княгини Евдокии, жены Дмитрия Донского.
72
Председателем этого отдела был преосвященный Митрофан Астраханский, мой коллега по Государственной думе.
73
Сессий было три: первая от 15 августа до Рождества; вторая — после святок до Страстной; третья, последняя, — осенняя; она закончилась 7 сентября 1918г.; я имел возможность участвовать только в первой сессии.
74
Он вышел из подотдела, возглавлявшегося протопресвитером Г.Шавельским.
75
В ее состав вошли: митрополит Платон (Экзарх Грузии), Камчатский епископ Нестор, епископ Дмитрий Таврический, протоиерей о.В.Бекаревич (делегат от Холмщины), протоиерей о.Вл.Чернявский и два мирянина — крестьяне Уткин и Юдин.
76
История Византийской Церкви знает подобного рода прецеденты.
77
Раньше он был священником Успенского собора.
78
Патриаршая ризница была полна драгоценнейших вещей — памятников старины. Кое–что во время «октябрьских» дней разграбили…
79
В эмиграции, в Париже, возглавлявший Сергиевскую (Елевфериевскую) Церковь.
80
Он умер в Туркестане, в марте 1936 г.
81
Вся Русская Церковь географически делилась на округа: северный, cеверо–западный, восточный, юго–восточный, южный, Сибирь.
82
Митрополит Антоний Харьковский был в это время в Киеве.
83
О.Левицкий был настоятелем Житомирского кафедрального собора.
84
Бывший Владимирский архиепископ, см.с.283.
85
Были кандидаты и из состава киевских профессоров.
86
Болезнь волос: волосы изнутри наливаются кровью, слипаются, и на голове образуется липкая волосяная шапка. Состричь колтун опасно, человек может истечь кровью.
87
В Михайловском монастыре хранились мощи великомученицы Варвары.
88
Один из них — иеромонах, окончивший Духовную Академию; другой — иеродиакон из певчих.
89
О.Виталий и о.Тихон добрались до Волыни, испытав все ужасы самоуправства банд.
90
В эти дни архиепископ Алексей Дородицын куда–то исчез; по–видимому, уехал вместе с министрами.
91
Родной брат митрополита Шептицкого — львовский военный комендант; когда Львов был взят поляками, он держал первое время своего брата–митрополита под домашним арестом.
92
См.с.240.
93
Падеревский именовался начальником польского государства и был делегирован Польшей в Версаль.
94
«Помни о смерти, брат…» (лат.). (Прим. ред.)
95
Должность воеводы соответствует губернаторской.
96
«Французская миссия» (фр.). (Прим. ред.)
97
Буковина до войны принадлежала Австрии; после войны отошла к Румынии.
98
Вечности (лат.). (Прим. ред.)
99
Он был раньше протоиереем в г.Мышкине, высшего образования не получил.
100
Жена его воспитывалась в Леснинском монастыре.
101
Епископ Гавриил Челябинский, епископ Митрофан Сумский, епископ Георгий Минский, епископ Аполлинарий Белгородский и я.
102
См.с.315.
103
Митрополит Димитрий высшего богословского образования не получил, он окончил Агрономический институт во Франции.
104
Карловацкая Патриархия перешла от Венгрии к Сербии в 1918 г. Патриарх Карловацкий загадочно погиб во время войны; его тело нашли в горной речке через несколько месяцев после трагической смерти.
105
Митрополит Антоний с Высшим Церковным управлением, которое он возглавлял, были эвакуированы в Константинополь.
106
Игуменья, настоятельница Леснинского монастыря.
107
Казначея Леснинского монастыря, а впоследствии его настоятельница.
108
Во время войны он был военным чиновником в канцелярии протопресвитера Шавельского, потом попал в Высшее Церковное управление, где служил секретарем вместе с Т.А.Аметистовым.
109
Священник из военнопленных, который по приглашению первых приехавших русских беженцев служил в русской посольской церкви в Берлине.
110
Архимандрит Тихон (Лященко), магистр богословия, бывший инспектор Киевской Духовной Академии.
111
Впоследствии австрийские власти его освободили, обменяв на митрополита Шептицкого, арестованного русскими властями.
112
Вскоре митрополит Вениамин был предан суду и расстрелян большевиками.
113
В этих лагерях были собраны расформированные части добровольческой армии генерала Бермонт–Авалова, отступившей из Прибалтики, и добровольческих отрядов, действовавших в Латвии. Проживало здесь также некоторое количество беженцев и родственников интернированных лиц. Обитатели этих лагерей военнопленными не были, а потому пользовались личной свободой; получив возможность куда–нибудь уехать или устроиться на работу, они покидали лагерь.
114
Здесь я впервые встретил Николая Петровича Афонского, ныне регента хора кафедрального храма в Париже.
115
Эти сведения относятся к довоенному времени. Во время войны были разрушены бомбардировкой итальянцев и церковь, и дом, и вилла «Innominata».
116
Наше постановление Карловацкий съезд утвердил.
117
«Волю Патриарха необходимо выполнить немедленно приезжайте» (фр.) (Прим. ред.)
118
О.Иаков Смирнов скончался 30 июня (старого стиля) 1936 г.
119
С 25 января 1943 г. — протопресвитер.
120
Впоследствии он перешел к «карловчанам».
121
В склепе в нижней церкви храма стояло несколько гробов; родственники умерших хотели при первой возможности перевезти их в Россию, а пока просили Совет оставить гробы в склепе. Этот вопрос имел сторонников и противников и вызывал бесконечные дебаты.
122
Бывший Обер–Прокурор Святейшего Синода; как выше сказано, он вскоре принял сан священника, я назначил его настоятелем Брюссельской церкви.
123
Скончалась 24 декабря 1935 г. в Париже (в Рождественский сочельник).
124
Впоследствии он был похоронен на кладбище.
125
В 1946 г. возведен в сан епископа.
126
См.с.372.
127
См.с.349–350.
128
См.с.365.
129
Ныне Секретарь Епархиального управления в Париже архимандрит Савва.
130
См.с.360.
131
К слову сказать, он женат был на немке, с английским воспитанием, которая почти не говорила по–русски, так же воспитал и свою дочь; обстановка очень мало подходящая для русского православного священника.
132
Все это относится к довоенному времени.
133
Ныне митрополит Западноевропейских русских православных церквей, Экзарх Патриарха Вселенского.
134
Сын священника; он окончил училище правоведения, а потом служил в канцелярии Государственной думы по вероисповедному отделу.
135
Рукоположен мною в священнический сан в 1925 г. Я обратил на него внимание на одном из съездов «Христианской молодежи» и вместе с о.Булгаковым расположил его к принятию сана. См.с.381.
136
В Ницце три церкви: собор, церковь на рю Лонгшан № 6 и церковь на русском кладбище. Исполняющий должность настоятеля Ниццких церквей протоиерей Г.Ломако, с 1945 г. протопресвитер.
137
Впоследствии он был посвящен Митрополитом Евлогием в священники и стал настоятелем Лондонской церкви (ныне протоиерей).
138
Все это относится к довоенному времени.
139
См.с.378.
140
См.с.361.
141
См.с.75.
142
См.с.347.
143
См.с.389.
144
См.с.345.
145
С братьями М.М. и С.М. Осоргиными я познакомился в Германии в Баден–Бадене. Они играли видную роль в Баденском приходе. М.М исполнял обязанности псаломщика, а С.М. — регента; оба брата были люди церковного склада.
146
Впоследствии епископ Херсонесский.
147
Замечательно, что один жертвователь из Марокко, пожелавший остаться неизвестным, до сих пор, на протяжении многих–многих лет ежемесячно вносит на Сергиевское Подворье по 100 франков в месяц. Дай ему Господь здоровья и всякого благополучия!
148
Мы понемногу выплачивали наш долг М.А.Гинзбургу и погасили его полностью.
149
В члены Приходского совета были избраны: князь Г.Н.Трубецкой, Н.Т.Каштанов, П.В.Семичев, И.В.Никаноров, М.К.Ушков, С.М.Серов, князь Б.А.Васильчиков, Н.И.Гучков, И.Н.Оприц, князь И.С.Васильчиков.
150
В настоящее время епископ Катанский, ректор Богословского Института.
151
При большевиках о.Сергий Булгаков преподавал на богословских курсах в Симферополе, а потом был выслан за границу.
152
Принял священство в 1931 г.
153
Ныне протоиерей, декан Богословского Института.
154
Все эти указания относятся к довоенному времени.
155
См.с.356.
156
Запись относится к довоенному времени.
157
О.С.Четвериков написал большой труд «Паисий Величковский».
158
Бывший полковник лейб–гвардии Московского полка. Впоследствии (в 1946 г.) епископ.
159
В настоящее время о.Д.Владыков — протопресвитер.
160
Эти сведения относятся к 1935 г.
161
См.с.395.
162
См.с.400.
163
См.с.399.
164
В настоящее время настоятель Кламарской церкви архиепископ Киприан.
165
Потом Общество галлиполийцев наняло особняк на rue de la Faisanderie и утроило церковь в гараже, в глубине сада. В 1942 г. при церкви организовался приход, а год спустя она была переведена в первый этаж особняка на rue Montevideо, № 5.
166
1 июля 1939 г. был назначен в церковь Введения Божией Матери, 91, Rue Olivier de Serres (церковь «Христианского движения»).
167
Зять митрополита Платона (Американского).
168
Бывший член Государственной думы Марков 2–й.
169
О.И.Ктитарев был законоучителем в Смольном институте.
170
При нем Бийанкурская церковь устроилась в новом постоянном помещении, которое, главным образом благодаря его трудам, приняло вид благолепного храма.
171
Впоследствии по болезни о.И.Ктитарев покинул Александро–Невский храм. С 1945 г. — протопресвитер.
172
15 ноября 1942 г. о.А.Чекан переведен в Александро–Невский храм; ныне протоиерей.
173
Брат Быченской своими руками соорудил чудные паникадила.
174
Ныне о.И.Максименко протоиерей.
175
В этом маленьком музее казаки собрали вывезенные из России ценные и дорогие предметы их прошлой боевой жизни: оружие, золотые и серебряные полковые чаши, знамена и проч.
176
Впоследствии число монахинь увеличилось.
177
Недавно возникла еще одна общинка неподалеку от Аньера — в Руель–Шату. Впоследствии там устроили церковь во имя Спиридона Тримифунтского.
178
Г–н Лафон женат на русской.
179
О.Дмитрия Троицкого Митрополит Евлогий назначил благочинным и наградил его митрою; он умер в октябре 1939 г. После него настоятелем был о.Иоанн Лелюхин, а теперь — о.Михаил Соколов.
180
См.с.493.
181
Эти строки относятся к 1939 г. Осенью 1946 г. тело о. Георгия было предано земле на кладбище Sainte–Genevieve des Bois.
182
У Бакуниных — хирурга Бакунина и его жены Е.Н.Бакуниной — была в Москве лечебница. Там провел последние дни своей жизни и там скончался Патриарх Тихон.
183
К 1939 г. более 400 могил.
184
Увы, в эти колокола по случаю военного времени нам не было позволено звонить, даже в день освящения храма.
185
Храм Успения Божией Матери в Sainte–Genevieve des Bois, действительно, оказался последним, который освятил Митрополит Евлогий. В 1944 г. возник еще один храм–приход в Париже во имя Скорбящей Божией Матери на rue de la Tour, № 42, но Митрополит Евлогий по болезни уже не мог быть на его освящении. Первым его настоятелем был о.Сергий (Иртель). После его ухода и доныне настоятелем этого храма состоит игумен о.Сильвестр (Хорун).
186
См.с.395.
187
По смерти Митрополита Евлогия Экзарх Патриарха Вселенского. См.с.388.
188
Матушка о.Спасского первое время работала там на заводе, но пробыли они в Монтаржи недолго — я перевел о.Георгия в Париж.
189
См.примечание на с.458.
190
См.с.380.
191
Тогда о.Недошивин был еще белым священником. Потом он принял монашество. В настоящее время (1937 г.) он в сане архимандрита.
192
Государственный переворот (фр.). (Прим. ред.)
193
Мою условную лояльность митрополиту Сергию Московскому «карловчане» считали большевизмом.
194
О.Герасима я оставил в Риве. Вскоре он перешел к «карловчанам».
195
Протоиерей Г.Леончуков в июне 1923 г. был пострижен в монашество с наречением ему имени Иоанн и возведен в сан архимандрита.
196
См.с.462–463.
197
Впоследствии финляндский генерал–губернатор.
198
См.с.461.
199
См.с.459.
200
Сначала он организовал приход неподалеку — в Канне, главном городе этого департамента.
201
См.с.434–435.
202
Смысл.389.
203
См.с.461–462.
204
См.с.478.
205
Эти строки относятся к 1937 г.
206
См.с.467.
207
См.с.468.
208
См.с.467.
209
См.с.481.
210
См.с.465.
211
См.с.469–470.
212
YMCA — Young Men Christian Association.
213
См.с.420.
214
В их числе трех женщин.
215
Во время германской оккупации м.Мария была арестована 9 февраля 1943 г. и содержалась до Пасхи в концлагере у форта Романвиль, затем в Компьенском лагере, а оттуда она была увезена в Германию в Равенсбрюк, где 31 марта 1945 г. погибла в газовой камере (см. «Мать Мария», 1947, изд. O.Zeluck'a в Париже).
216
См.с.304.
217
«Вы очень ироничны» (фр.). (Прим. ред.)
218
Узнав о положении архиепископа Серафима, я из заточения его вызволил.
219
В этих странах я поддерживаю отношения и с «новостильниками» и со «старостильниками».
220
Интересная подробность: несмотря на ненависть к христианству, самые ярые его гонители, племя берберов (отсюда и производное «варвары»), выжигают на лбу своим детям крест как эмблему племени. Символический смысл креста забыт, а знак остался. Непостижимая, непобедимая сила Крестного знамения!
221
О.Авраамия (Терешковича) в апреле 1937 г. сменил о.Михаил Ярославцев, ныне игумен о.Митрофан.
222
См.с.465.
223
Католики платят индусу 2–3 рупии, если он согласен креститься.
224
В миру Елизавета Константиновна Митрофанова, вдова ректора Варшавского университета, дочь сенатора Турау.
225
См.с.107.
226
Cм.с.443.
227
Община просуществовала в этом составе недолго; потом к ней присоединилось несколько новопостриженных монахинь. Однако внутренняя жизнь общины не налаживалась, возникали трения, и в конце концов с разрешения Митрополита Евлогия монахини (за исключением м.Дорофеи) вернулись к м.Мелании в Rozay–en–Brie, а некоторое время спустя, летом 1946 г., с благословения Владыки они обосновались в Bussy–en–Othe (в департаменте Yonne, близ станции Laroche, в усадьбе В.Б.Эльяшевича. Здесь был использован сарай, в котором устроили: внизу — церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, а наверху — кельи. Усадебный дом предоставлен владельцем для детского приюта, который монахини и будут обслуживать. Отныне община именуется «Покровской».
228
См.с.433.
229
В 1936 г. они пострижены в мантию под именем Серафима (Коротай) и Иова (Никитин).
230
См.с.398.
231
См.с.458–459.
232
Эта глава была написана в конце 1937 г.
233
См.с.337–338.
234
Епископ Брент умер в 1927 г.
235
Лекции епископа Фрира по истории Англиканской Церкви, читанные им в Петербурге в 1912 г., изданы YМСА с моим предисловием (Париж, 1930 г.).
236
Одни из них поехали в качестве делегатов с правом голоса, другие — без права голоса.
237
Общество помощи Русской Церкви и духовенству (англ.). (Прим. ред.)
238
В этой русской перифразе приведен «Богородичен» 1–го часа в речи Митрополита Евлогия.
239
В Болгарии не так давно вышел объемистый, научно малоценный, труд епископа Серафима, обличающий учение о Софии; а сын священника о.Ливена посвятил отрицательной критике трудов о.Булгакова свою диссертацию.
240
См.с.508–514.
241
Епископ Фрир был председателем Англо–русского содружества.
242
Вскоре епископ покинул кафедру и жил смиренным монахом в той обители, где принял монашество. В 1938 г. он умер.
243
См.с.343–344.
244
Указ от 26 марта (8 апреля) 1921 г. № 423, см. с.354.
245
См. с.353.
246
По многим причинам я не мог исполнить это поручение, о чем своевременно сообщил Святейшему Патриарху.
247
В форму «Обращения» к Лиге наций и всем правительствам держав было облечено постановление о реставрации Дома Романовых.
248
Указ 22.IV. (5.V.) 1922 г. № 349.
249
Русские церкви на Балканах.
250
Япония, Китай и Харбинская епархия.
251
Из духовенства на Съезде был только один священник Чубов, приехавший, кажется, из Болгарии.
252
См. с. 537 — 538.
253
1 См. с. 547.
254
Теперь святая икона снова в монастыре.
255
Секретарем был выбран епископ Димитрий Хайларский; потом, дополнительно, привлекли к секретарской работе графа Граббе и о.Ломаку.
256
«Старость — не радость» (лат.). (Прим. ред.)
257
Эта икона находится в Александро–Невской церкви; над ней устроена художественная резная дубовая «сень».
258
См. с. 575.