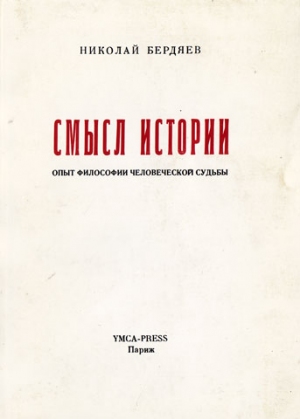ПРЕДИСЛОВИЕ
Русская мысль в течение XIX века была более всего занята проблемами философии истории. На построениях философии истории формировалось наше национальное сознание. Не случайно в центре наших духовных интересов стояли споры славянофилов и западников о России и Европе, о Востоке и Западе. Еще Чаадаевым и славянофилами была задана русской мысли тема по философии истории, ибо загадка России и ее исторической судьбы была загадкой философии истории. Построение религиозной философии истории есть, по-видимому, призвание русской философской мысли. Самобытная русская мысль обращена к эсхатологической проблеме конца, она окрашена апокалиптически. В этом — отличие ее от мысли Запада. Но это и придает ей прежде всего характер религиозной философии истории. Я всегда особенно интересовался проблемами философии истории. Мировая война и революция обострили этот интерес и направили мои занятия преимущественно в эту сторону. У меня созрел план книги по основным проблемам религиозной философии истории, который был положен в основание лекций, прочитанных в Москве в Вольной Академии Духовной Культуры в течение зимы 1919- 1920 гг. Записи этих лекций положены были в основание этой книги. Прилагаю к книге написанную в 1922 г. статью "Воля к жизни и воля к культуре", которая очень существенна для моей концепции философии истории.
I. О сущности исторического. Значение предания
Исторические катастрофы и переломы, которые достигают особенной остроты в известные моменты всемирной истории, всегда располагали к размышлениям в области философии истории, к попыткам осмыслить исторический процесс, построить ту или иную философию истории. Так бывало всегда в прошлом Первая замечательная философия истории, которая была построена в христианский период всемирной истории, философия истории Блаженного Августина, в значительной степени предрешившая дальнейшие построения философии истории, совпала с одним из самых катастрофических моментов всемирной истории — с крушением античного мира и падением Рима. Та своеобразная философия истории, которая была в дохристианскую эру, эта первая философия истории, которую знает человечество,— книга пророка Даниила, также связана с исключительно катастрофическими событиями в судьбе еврейского народа. После великой французской революции, после Наполеоновских войн мысль человеческая тоже обратилась к построениям в области философии истории, к попыткам так или иначе постигнуть и осмыслить исторический процесс. В миросознании Ж.де-Местра и Бональда немалую роль играет философия истории Я думаю, что не может быть особенных споров о том, что не только Россия, но и вся Европа и весь мир вступают в катастрофический период своего развития. Мы живем во времена грандиозного исторического перелома. Началась какая-то новая историческая эпоха. Весь темп исторического развития существенно меняется. Он не таков, каким был до начала мировой войны и последовавших за мировой войной русской и европейской революций,-он существенно иной. И темп этот не может быть назван иначе, как катастрофическим. Открылись вулканические источники в исторической подпочве. Все заколебалось, и у нас получается впечатление особенно интенсивного, особенно острого движения "исторического". Я думаю, что это острое чувство особенно важно для того, чтобы мысль человеческая и сознание человеческое обратились к пересмотру основных вопросов философии истории, к попыткам построить по-новому философию истории. Мы вступаем в эпоху, когда к этим проблемам будет обращено сознание человеческое более, чем оно было обращено до сих пор. На этих вопросах я и думаю сосредоточиться. Но, прежде чем перейти к самому существу основных вопросов философии истории, или, вернее, метафизики истории, я должен сделать введение, посвященное анализу сущности "исторического".
Что такое "историческое"? Для понимания "исторического", для того, чтобы мысль была обращена и к восприятию "исторического", и к его осмысливанию, необходимо пройти через некое раздвоение. В те эпохи, когда дух человеческий пребывает целостно и органически в какой-либо вполне кристаллизованной, вполне устоявшейся, вполне осевшей эпохе, не возникают, с надлежащей остротой, вопросы философии, вопросы об историческом движении и о смысле истории. Пребывание в целостной исторической эпохе не благоприятствует историческому познанию, построению философии истории. Нужно, чтобы произошло расщепление, раздвоение в исторической жизни и в человеческом сознании, для того чтобы явилась возможность противоположения исторического объекта и субъекта, нужно, чтобы наступила рефлексия, для того чтобы началось историческое познание, для того чтобы получилась возможность построения философии истории. Поэтому я думаю, что можно представить в виде такой схемы три периода отношения к "историческому". И я сейчас определю, как относится каждый из этих периодов к историческому познанию. Первый период—период непосредственного, целостного, органического пребывания в каком-нибудь устоявшемся историческом строе. Этот период, конечно, очень интересен для исторического познания, но в нем историческое познание еще не зарождается. Это период, в котором мысль статична, и поэтому динамичность объекта исторического познания очень плохо воспринимается человеческим умом. Второй период - неизбежно, роковым образом всегда и всюду наступающий период раздвоения, расщепления, когда утвердившиеся исторические устои начинают расшатываться в своих основах, начинается историческое движение, исторические катастрофы и катаклизмы, которые могут быть разного темпа, но рганический лад и ритм целостной жизни прекращается. Вот когда начинается это раздвоение и расщепление: познающий субъект не чувствует себя непосредственно и целостно пребывающим в самом историческом объекте, зарождается рефлексия исторического познания. Этот второй период важен для исторической науки, но для настоящего построения философии истории, для настоящего осмысливания исторического процесса он все-гаки не благоприятен, потому что в нем происходит разрыв между субъектом и объектом, выведение рефлектирующего субъекта из той жизни, в которой он непосредственно пребывал. Происходит разобщение с самой этой внутренней жизнью, с самим "историческим". Происходит противоположение между "исюрическим" и познающим, которое отдаляет от него внутреннюю сущность "исторического". В этом периоде возникает историческая наука, в этом периоде может даже возникнуть историзм в смысле общей точки зрения на культуру. Но - и это один из парадоксов этой области, к которому мы будем не раз возвращаться,—между "историческим" и "историзмом" существует не тождество, а огромная разница и даже противоположность. Историзм, свойственный исторической науке, сплошь и рядом бывает очень далек от тайны "исторического". Он к ней не подводит. Он утерял все способы сообщения с этой тайной. Историзм не познает, не понимает—мало того, он отрицает "историческое". Для того чтобы приобщиться к внутренней тайне "исторического", в которой пребывает непосредственно человек в органическую целостную эпоху человеческой жизни, которую, пребывая в ней, он не познает, над которой он не рефлектирует, для того чтобы осмыслить "историческое",—для этого нужно пройти через противоположение познающего субъекта познаваемому объекту, нужно по-новому, пройдя через тайну раздвоения, приобщиться к тайне "исторического". Нужно вернуться к тайникам исторической жизни, к ее внутреннему смыслу, к Внутренней душе истории для того, чтобы осмыслить ее и пост роить настоящую философию истории. Это — третий период, третья эпоха, эпоха возвращения к "историческому". И вот, когда я говорю, что катастрофические моменты истории особенно благоприятны для построения философии истории, я имею в виду такие катастрофы духа человеческого, когда он, пережив крушение известного жизненного исторического строя и лада, пережив момент расщепления и раздвоения, может сопоставить и противопоставить эти два момента —момент непосредственного пребывания в историческом и момент расщепленности с ним, чтобы перейти в третье состояние духа, которое дает особенную остроту сознания, особенную способность к рефлексии и, вместе с тем, в нем совершается особенное обращение духа человеческого к тайнам "исторического". Это и есть то состояние, которое особенно благоприятно для постановки вопросов философии истории. Для того чтобы стало ясно, о чем я говорю, утверждая, что второй период, период раздвоения, рефлексии, в котором возникает историческое познание и начинает строиться философия истории, всегда роковым образом недостаточно глубок, недостаточно проникает в тайники истории, я должен остановиться на характеристике того, что называют эпохой "просвещения" человеческой культуры.
Когда мы говорим об эпохе "просвещения", то речь идет не только о просвещении XVIII века, классическом периоде "просвещения" в новой истории. Я думаю, что через "просветительный" период проходят культуры всех времен и народов. В развитии культур всех народов есть известная цикличность. Это сходство культурных процессов указывает на органический характер в развитии культур. Греческая культура, одна из величайших культур, которые знало человечество, тоже имела свою эпоху "просвещения", внутренне сходную с той эпохой, которую человечество пережило в XVIII веке. Период софистов есть своего рода расцвет греческой культуры, совершенно с теми же особенностями, которые характерны и для эпохи "просвещения" XVIII века, хотя там были специфически эллинские черты. В основном эпоха "просвещения" греческой культуры так же разрушала священное в историческом, органически-традиционное, предания исторические, как это делала эпоха просвещения XVIII века, как это делает всякая эпоха "просвещения". Эпоха "просвещения" есть такая эпоха в жизни каждого народа, когда ограниченный и самонадеянный человеческий разум ставит себя выше тайн бытия, тайн жизни, тех божественных тайн жизни, из которых исходит, как из своих истоков, вся человеческая культура и жизнь всех народов земли. И вот, в эпоху "просвещения" начинается постановка человеческого разума вне этих непосредственных тайн жизни и над ними. Для этих эпох характерна попытка сделать малый человеческий разум судьей над тайнами мироздания и тайнами человеческой истории. При этом, конечно, человек выпадает из непосредственного пребывания в историческом. Эпоха "просвещения" отрицает тайну "исторического". Она отрицает "историческое" как специфическую реальность. Она его разлагает, производит над ним такие операции, что оно перестает быть той первоначальной целостной реальностью, которая и делает его "историческим". Она разобщает человеческий дух и человеческий разум с "историческим". Поэтому эпоха "просвещения" XVIII века была глубоко антиисторичной. Хотя в XVIII веке возник самый термин "философия истории", который был впервые употреблен Вольтером, и возник целый ряд исторических книг и произведений, но антиисторизм XVIII века так общеизвестен, что нет надобности на этом особо останавливаться. Сделалось истиной общепризнанной в философии истории, что лишь романтическое движение, романтическая реакция, направленная против просвещения XVIII века в начале XIX, впервые приобщили нас к тайне исторического и сделали возможным настоящим образом познание исторического движения. Только эта реакция духовно вернула нас к тому, что просветительная эпоха преследовала и уничтожала, как мифы и предания исторической старины. Она делала попытки их познать и осмыслить, но по-своему. Разум "просветительный", разум эпохи просвещения XVIII и XIX века есть самоутверждающийся, самоограниченный разум. Это не тот разум, который внутренне приобщен к разуму мировой истории, к разуму самой истории, потому что, поистине, существует разум истории, с которым этот просветительный разум внутренно разъединяется и становится над ним судьей. "Просветительный" разум притязает быть судьей органического разума истории. Но, поистине, высший разум должен заключать в себе не только тот объем человеческого самосознания, человеческого разума, который свойственен известной органической эпохе, скажем эпохе XVIII и XIX века со всеми ее недостатками и дефектами. Разум должен быть приобщен и к первобытной мудрости человека, к тем первоощущениям бытия, первоощущениям жизни, которые зарождаются на заре человеческой истории и даже на заре доисторической жизни, в том анимистическом понимании мира, которое свойственно всем народам на самой первоначальной стадии. Эта мудрость, свойственная первоначальным эпохам, проходит затем через внутренние таинственные глубины жизни всей истории человеческого духа, через зарождение христианства и через средние века до нашего времени. Только такой разум постигает внутренний свет, который присущ каждой из этих эпох. Только такой разум будет истинным, просвещающим и просветленным разумом. Но это разум "просвещения", который праздновал свои классические победы в XVIII веке,—этот разум знает очень немного, к очень немногому внутренно приобщен, очень немного понимает, с большей частью тайн исторической жизни он внутренно разобщен. Вот эта слепота "просветительного" разума есть внутренняя кара, постигающая его за то самоутверждение, за то самодовольство, с которым этот разум подчинил себе не только все человеческое, но и сверхчеловеческое по своей природе.
В торжестве "просветительного" разума зародилась та наука, которая противополагала познающий субъект познаваемому объекту истории и в этом направлении совершила очень многое. Ей удалось многое расчленить, собрать, накопить, частично опознать. Но все это сопровождалось глубоким бессилием в опознании самого существа "исторического". Постепенно происходит такой процесс, в котором само познаваемое отдаляется, теряется из виду, перестает существовать в той своей первоначальной реальности, в которой оно только и может быть названо "историческим" и может раскрыть тайну истории. Этот процесс особенно ясно обнаруживается в области работы исторической критики. Только в XIX веке сделалась возможной настоящая историческая наука, потому что в XVIII веке считали возможным, наприм., утверждать, что религию выдумали жрецы для того, чтобы обманывать народ. В XIX веке это уже невозможно. Но особенно ясно можно проследить этот процесс в той работе, которая совершается над священным преданием в области истории церковной. Это - новая область, которая раньше была запретной. Интересно присмотреться, какой же процесс происходит в этой критической работе? В христианском мире все зиждется на священном предании, на священной преемственности этого предания. Историческая критика прежде всего начала его разрушать. Началось это с эпохи реформации. Реформация впервые начала сомневаться в священном предании. Она перестала с ним считаться и, в силу половинчатости, присущей всякой реформации, оставила только священное писание. Затем эта работа над разрушением священного предания пошла дальше и дальше и привела наконец к разрушению и самого священного писания. Поистине, священное писание есть не что иное, как неотъемлемая часть самого священного предания. Поэтому, раз отвергается священное предание, неизбежно должно быть отвергнуто и священное писание. Я привожу этот пример, чтобы показать, как эта историческая критика сделалась совершенно бессильной объяснить самую тайну религиозного явления. Она вокруг этой тайны вращалась, но самой тайны возникновения христианства никак познать не могла. Вся огромная немецкая критическая литература в этой области, имеющая несомненные заслуги в разработке всякого рода материалов, сознает невозможность постигнуть эту тайну. Все уходит из рук, все выпадает из поля зрения. Какая-то основная тайна, которая была дана в приобщении к преданию, в приобщении субъекта к объекту, исчезает, и остается лишь мертвый материал истории. Я думаю, что тот процесс, который происходит в области критики истории церковной, происходит и в области истории вообще. Потому что, поистине, существует не только священное предание церковной истории, но существует и священное предание истории, священное предание культуры, священные внутренние традиции. И только тогда, когда познающий субъект не разрывает с этой внутренней жизнью, может он приобщиться к ее внутреннему существу. Когда разрывает,-он до конца должен пройти путь самоотрицания.
Получаются лишь клочья истории, получается какое-то сплошное разоблачение исторических святынь.
Я думаю, что большая заслуга одного из самых интересных направлений в области философии истории, именующегося экономическим материализмом и обоснованного Марксом, заключается именно в том, что оно довело до последнего вывода, до последнего результата тот процесс разоблачения исторических святынь и исторических преданий, который в исторической науке начинается с эпохи просвещения, но не доводится до конца. Я знаю только одно направление в этой области, которое до конца и последовательно разлагает и умерщвляет все исторические святыни и исторические предания, без компромиссов, совершенно последовательно, — это направление марксистского понимания истории. То заподазривание внутренней тайны "исторического", которое началось в эпоху просвещения, которое в области религиозной началось еще в эпоху реформации, которое расцвело в XIX веке и сделалось достоянием всей исторической науки, остановилось на полпути. Все идеологические в широком смысле слова направления исторической науки не до конца разоблачают и умерщвляют историческое предание. Какие-то клочья его все-таки остаются. Один лишь экономический материализм, в циническом заподазривании всякого предания, всякой священной преемственности истории, доходит до конца и совершает акт революционного бунта, революционного восстания против "исторического" до самых последних пределов и выводов. В концепции экономического материализма исторический процесс оказывается окончательно лишенным души. Души, внутренней тайны, внутренней таинственной жизни нет больше ни в чем. Заподазривание святынь приводит к тому, что единственной подлинной реальностью исторического процесса оказывается процесс материального экономического производства, и те экономические формы, которые из него рождаются, являются единственно онтологическими, подлинными, первичными и реальными. Все остальное является лишь вторичным, лишь рефлексом, надстройкой. Вся жизнь религиозная, вся духовная культура, вся человеческая культура, все искусство, вся человеческая жизнь есть лишь отражение, рефлекс, а не подлинная реальность.
Происходит окончательный процесс обездушивания истории, умерщвления внутренних ее тайн через изобличение главной ее тайны, которой, по мнению исторического материализма, является тайна производства, рост производительных сил человечества. Этим доводится до конца начавшаяся в эпоху "просвещения" критическая разрушительная работа, отвергающая и самое "просвещение", ибо экономический материализм Маркса преодолевает "просвещение" в той его рационалистической форме, в которой оно расцветало в XVIII веке, и обосновывает своеобразный исторический эволюционизм, вместе с тем изобличая последние расцветы "просветительного" пути. На этом пути дальше идти некуда. Экономический материализм явно обнаруживает невозможность на этом пути постигнуть тайну внутренней судьбы народов, духовной жизни народов, судьбу человечества. Она просто отрицается как проблема, она считается иллюзорной проблемой, порождаемой лишь известными экономическими условиями. Но здесь в экономическом материализме изобличается основное противоречие, которое экономический матеhиализм осмыслить не может, потому что не может возвыситьcя над ним, но которое бросается в глаза тому, кто подвергает это учение суду философа.
В самом деле, если экономический материализм считает, что все человеческое сознание есть лишь надстройка над экономическими отношениями, то откуда же берется тот разум самих глашатаев экономического материализма, разум самих Марксов и Энгельсов, который возвышается над этим пассивным отражением экономических отношений? Маркс, создавая учение об экономическом материализме, претендует на обладание такого рода разумом, который возвышается над состоянием пассивного рефлекса экономических отношений. Но если экономический материализм, как идеологическое построение, является лишь отражением известных производственных отношений, скажем тех отношений, которые создались в XIX веке на почве борьбы между пролетариатом и буржуазией, то непонятно, каким образом глашатаи этого учения могут претендовать на большую истинность, чем все другие, построения которых есть лишь самообман, порождаемый этим рефлексом. Ведь тогда это - одна из иллюзий, порожденных все той же экономической действительностью. Поэтому в марксизме доведены до конца притязания и самомнение "просветительного" разума. Он думает, что обладает тем просветительным и просвещающим разумом, который возвышается над всемирно-историческими судьбами человечества, над всей его духовной жизнью, над всеми человеческими идеологиями, видит все их заблуждения и иллюзии, являющиеся таким же отражением экономического процесса, как и он сам. Это стремление сочетать притязания просветительного разума с мессианскими притязаниями, близкими к мессианским притязаниям древнего Израиля, потому что это - притязание на единственное, несущее свет сознание ,- свет, претендующий быть не одной из идеологий, но единственной, и окончательной, окончательным светом, изобличающим тайну исторического процесса. Но изобличает он не тайну исторического процесса, а отсутствие этой тайны, изобличает страшную зияющую пустоту исторических судеб человечества, жуткую пустоту человеческой истории, изобличает небытие человеческого духа, небытие всей духовной жизни человечества, религии, философии, всякого человеческого творчества, наук, искусств и т.д. Марксизм утверждает, что все это —небытие. В этом — своеобразная сила и могущество марксизма. Я думаю, что отрицательная заслуга такого построения очень велика, потому что оно убивает всякие половинчатые, полуидеологические направления, которые сложились в XIX и XX веке, и ставит дилемму: или приобщиться к этой тайне небытия, погрузиться в бездну небытия,- или вернуться к внутренней тайне человеческой судьбы, вновь соединиться с внутренними преданиями, внутренними святынями, пройдя через горнило величайших испытаний, величайших соблазнов, пройдя все стадии этой разрушительной, критической, отрицательной эпохи. Историческое познание и философия истории должны иметь свою гносеологию и свою теорию познания, как и всякая область человеческого познания. То, что я сказал до сих пор, можно отнести именно к этой области. Все это в конце концов ведет к одной цели - опознать существо "исторического" как некоторой особой реальности, существующей в иерархии реальностей, из которых состоит бытие. Это есть опознание совершенно особого, совершенно своеобразного объекта, неразложимого на другие объекты, материальные или духовные. Конечно, нельзя смотреть на "историческое" как на реальность материального порядка, физиологического, географического или какого-нибудь другого. Точно так же немыслимо разлагать историческую реальность на какие-либо психические реальности. Историческое" есть некоторый еле-цификум, есть реальность особого рода, особая ступень бытия, реальность особого порядка. И вот, признание исторического предания, исторической традиции, исторической преемственности имеет особенное значение для опознания этого специфически "исторического". Вне категории исторического предания невозможно историческое мышление. Признание предания есть некоторое a priori —некоторая абсолютная категория для всякого исторического познания. Вне этого есть лишь какие-то клочья. Тот процесс, который производит над историей исторический материализм, неизбежно приводит к распылению исторической реальности, превращению ее в сыпучий песок. Историческая реальность есть прежде всего реальность конкретная, а не абстрактная, и никакой другой конкретной реальности, кроме исторической, не существует и существовать не может. Именно "историческое" есть сращенная форма бытия. Ведь конкретный по своему буквальному смыслу и значит сращенный в противоположность абстрактному, как разорванному, разъединенному, расщепленному. В истории нет ничего абстрактного, отвлеченного. Все абстрактное по существу противоположно историческому. Это социология имеет дело с отвлеченным, с абстрактным, а история — только с конкретным. Социология оперирует с такими понятиями, как понятие класса, понятие социальной группы,- все это абстрактные категории. Социальная группа, класс - это мысленное построение, в действительности не существующее. "Историческое" есть объект совершенно другого порядка. "Историческое" не только конкретно, но и индивидуально, в то время как социологическое не только абстрактно, но и общее. Социология не оперирует ни с какими индивидуальными понятиями, а история только с ними. Все подлинно историческое имеет индивидуальный и конкретный характер. На эту землю в такой-то день вступил Иоанн Безземельный, говорит Карлейль, самый конкретный и индивидуализирующий из историков, — вот в чем история. Есть даже попытка построить философию истории на почве принципов кантовской философии, попытка Риккерта из школы Виндельбанда, которая базируется на том, что историческое познание тем и отличается от естественнонаучного, что оно всегда вырабатывает понятие об индивидуальном, тогда как естественнонаучное об общем. В той форме, как поставлено это Риккертом, это довольно одноосторонне, но, во всяком случае, он поставил ту интересную рроблему, что мы в историческом действительно имеем дело конкретным и индивидуальным. Ложна же эта постановка проблемы в том отношении, что общее само может быть индивидуальным. Возьмем, напр., понятие "историческая нация". Это —понятие общее, но вместе с тем конкретная историческая нация есть понятие совершенно индивидуальное. Вековоой спор номиналистов и реалистов обнаруживает недостаточное проникновение в тайну индивидуального. Платону не расскрывалось еще индивидуальное. Познание бытия, как градация индивидуальностей, не означает номинализма, ибо "общее" может быть признано индивидуальностью. Противоположение нежду историческим и социологическим очень важно установить для всего дальнейшего. Чтения мои будут посвящены не ипросам социологии, а вопросам философии истории, познали) исторических судеб. Поэтому я и называю свои чтения "Судьба человека": это есть конкретная задача философии истории. Философия истории, историческое познание, есть дин из путей к познанию духовной действительности. Это есть наука о духе, приобщающая нас к тайнам духовной жизни. Она имеет дело с той конкретной духовной действительностью, которая гораздо более богата и более сложна, чем та, которая открывается, напр., в индивидуальной человеческой психологии. Именно философия истории берет человека в конкретной полноте его духовной сущности, в то время как психология, физиология и другие области знания, которые тоже имеют дело с человеком, берут его не конкретно, а с отдельных лишь сторон. Философия истории берет человека в совокупности действия всех мировых сил, т. е. в величайшей полноте, в величайшей конкретности. По сравнению с этой конкретностью абстрактны все другие способы рассмотрения человека. Человеческая судьба постигается только в этом конкретном познании философии истории. Человеческая судьба в других научных дисциплинах не рассматривается, так как человеческая судьба есть совокупность действий всех мировых сил. И эта совокупность мировых сил и порождает действительность высшего порядка, которую мы именуем исторической действительностью. Это — особая и высшая духовная действительность. И хотя в истории действуют и играют крупную роль и материальные силы, и экономические факторы, так что в историческом материализме, который я духовно отрицаю, нельзя не признать частичной истины, но материальный фактор, действующий в исторической действительности, и сам имеет глубочайшую духовную почву. Он является, в последнем счете, духовною силою. Историческая материальная сила есть часть духовной исторической действительности. Вся экономическая жизнь человечества имеет духовный базис, духовную основу. К этому придется еще вернуться, когда я буду по существу говорить о разных вопросах философии истории.
Человек есть в высочайшей степени историческое существо. Человек находится в историческом, и историческое находится в человеке. Между человеком и "историческим" существует такое глубокое, такое таинственное в своей первооснове сращение, такая конкретная взаимность, что разрыв их невозможен. Нельзя выделить человека из истории, нельзя взять его абстрактно, и нельзя выделить историю из человека, нельзя историю рассматривать вне человека и нечеловечески. И нельзя рассматривать человека вне глубочайшей духовной реальности истории. Я думаю, что "историческое" нельзя, как это в большинстве случаев пытаются делать различные направления в философии истории, рассматривать только как феномен, только как явление внешне воспринимаемого мира, данного нашему опыту, и противополагать его в том смысле, в-каком противополагает Кант, действительности нуоменальной, самой сущности бытия, внутренней сокровенной действительности. Я думаю, что история и историческое не есть только феномен. Я думаю, - и это есть самая радикальная предпосылка философии истории, что "историческое" есть нуомен. В "историческом" в подлинном смысле раскрывается сущность бытия, раскрывается внутренняя духовная сущность мира, а не внешнее только явление, внутренняя духовная сущность человека. "Историческое" глубоко онтологично по своему существу, а не феноменально. Оно внедряется в какую-то глубочайшую первооснову бытия, к которой оно нас приобщает и которую делает понятной. "Историческое" есть некоторое откровение о глубочайшей сущности мировой действительности; о мировой судьбе, о человеческой судьбе как центральной точке судьбы мировой. "Историческое" есть откровение о ноуменальной действительности. Подход к ноуменально "историческому" возможен через глубочайшую конкретную связь между человеком и историей, судьбой человека и метафизикой исторических сил. Для того чтобы проникнуть в эту тайну "исторического", я должен прежде всего постигнуть это историческое и историю как до глубины мое, как до глубины мою историю, как до глубины мою судьбу. Я должен поставить себя в историческую судьбу и историческую судьбу в свою собственную человеческую глубину. Самой глубине человеческого духа раскрывается присутствие какой-то исторической судьбы. Все исторические эпохи, начиная с самых первоначальных эпох и кончая самой вершиной истории, эпохой нынешней,—все есть моя историческая судьба, все есть мое. Здесь нужно идти по пути прямого противоположения тому пути, по которому идет критическая разрушительная работа в отношении к историческому процессу, которая разобщает человека, человеческий дух и историю и делает их непонятными, враждебными, чуждыми друг для друга. Нужно идти обратным путем, нужно постигать весь исторический процесс не как чужое мне, не как такой процесс, против которого я восстаю, не как навязанное мне, не как давящее меня, порабощающее меня, против которого я восстаю и в своей деятельности, и в своем познании,— так можно идти только к зияющей пустоте и зияющей бездне, которая разверзается в истории и в самом человеке. Обратный же путь, по которому нужно идти и на котором можно построить истинную философию истории, есть путь глубокого тождества между моей исторической судьбой и судьбой человечества, так глубоко родной мне. В судьбе человечества я должен опознать мою родную судьбу и в моей судьбе я должен опознать историческую судьбу. Только таким путем можно приобщиться к внутренней тайне "исторического", открыть величайшие духовные судьбы человечества. И обратно, только таким путем можно раскрыть в себе самом не пустоту своей уединенности, в противоположении себя всему богатству мировой исторической жизни, а опознать все богатства и ценности в себе самом, соединить свою внутреннюю индивидуальную судьбу с всемирной исторической судьбой. Поэтому, настоящий путь философии истории есть путь к установлению тождества между человеком и историей, между судьбой человека и метафизикой истории. Поэтому я и назвал свои чтения: судьба человека (метафизика истории).
История, как величайшая духовная реальность, не есть данная нам эмпирия, голый фактический материал. В таком виде истории не существует и ее опознать нельзя. История опознается через историческую память как некоторую духовную активность, как некоторое определенное духовное отношение к "историческому" в историческом познании, которое оказывается внутренне, духовно преображенным и одухотворенным. Только в процессе одухотворения и преображения в исторической памяти уясняется внутренняя связь, душа истории. Это также верно для опознания души истории, как верно для опознания души человеческой, потому что личность человеческая, не связанная памятью в нечто единое, не дает возможности опознать душу человеческую как некоторую реальность. Но историческая память, как способ опознания "исторического", неразрывно связана с историческим преданием, вне его не существует и исторической памяти. Отвлеченное пользование историческими документами никогда не дает возможности опознать "историческое". Оно не приобщает к нему. Кроме работы над этими историческими памятниками, работы, конечно, очень важной и необходимой, нужна еще и преемственность исторического предания, с которым связана историческая память. Только здесь завязывается какой-то узел в глубине, связывающей духовную судьбу человека и духовную судьбу истории. Вы не поймете ни одной из великих исторических эпох, будь то эпоха ренессанса, эпоха расцвета средневековой культуры, зарождения раннего христианства или период расцвета эллинской культуры, вы не поймете ни одной из этих великих эпох иначе как путем исторической памяти, в откровениях которой узнаете свое духовное прошлое, свою духовную культуру, свою родину. Вы должны переносить свою духовную судьбу во все великие эпохи для того, чтобы постигнуть их. Когда вы берете их только извне,— они для вас внутренне мертвы. Но эта историческая память, которая заставляет нас внутренне приобщиться к "историческому", неразрывно связана с историческим преданием.- Историческое предание и есть эта внутренняя историческая память, перенесенная в историческую судьбу. Философия истории есть некоторое одухотворение и преображение исторического процесса. В известном смысле историческая память объявляет жесточайшую борьбу вечности с временем, и философия истории всегда свидетельствует о величайших победах вечности рад временем и тлением. Она говорит о победе нетленности. Онa есть памятник победы духа нетления над духом тления, историческое познание и философия направлены в сущности Не на эмпирическое,-они имеют своим объектом загробное уществование. Подобно тому как есть загробный мир, когда говорят об индивидуальном существовании, точно так же, когда мы обращаемся к великому историческому прошлому, это есть обращение к потустороннему миру. Поэтому в исторической памяти, в обращении к прошлому, есть всегда какое-то совершенно особое чувство приобщения к другому миру, а не только к той эмпирической действительности, которая нас со всех сторон давит, как кошмар и которую мы должны победить, чтобы подняться на какую-то новую высоту, к той исторической действительности, которая есть подлинное откровение иных миров. И философия истории есть философия не эмпирической действительности, а философия миров загробных. Когда вы блуждаете в римской Кампании, где произошло таинственное слияние мира загробного с миром историческим, где исторические памятники сделались явлениями природы, вы приобщаетесь к какой-то иной жизни, к тайнам прошлого, к тайнам загробного мира, приобщаетесь к тайнам мира, в котором вечность побеждает тлен и смерть. Поэтому истинная философия истории есть философия победы истинной жизни над смертью, есть приобщение человека к другой, бесконечно более широкой и богатой действительности, чем та, в которую он ввергнут непосредственной эмпирией. Если бы для индивидуального человека не существовало путей приобщения к опыту истории, то как жалок, пуст и смертен по всему своему содержанию был бы человек' Но человек в своей настоящей жизни не только тогда, когда он строит философию истории — он этим редко занимается,—но и во многих духовных актах своей жизни находит истинную реальность великого исторического мира через историческую память, через внутреннее предание, через внутреннее приобщение судеб своего индивидуального духа к судьбам истории. Он приобщается к бесконечно более богатой действительности, он побеждает этим тленность и малость свою, преодолевает свой бедный и суженный кругозор.
II. О сущности исторического. Метафизическое и историческое.
История не есть объективная эмпирическая данность, история есть миф. Миф же есть не вымысел, а реальность, но реальность иного порядка, чем реальность так называемой объективной эмпирической данности. Миф есть в народной памяти сохранившийся рассказ о происшествии, совершившемся в прошлом, преодолевающий грани внешней объективной фактичности и раскрывающий фактичность идеальную, субъект-объективную. Мифология, по глубокомысленному учению Шеллинга, есть первоначальная история человечества. Но помимо мифов, которые уходят в глубину прошлого, различные исторические эпохи насыщены элементами мифотворчества. Каждая великая историческая эпоха, даже и в новой истории человечества, столь неблагоприятной для мифологии, насыщена мифами, — так, например, великая французская революция, которая была недавно, при ярком свете рационалистического дня. История о ней насыщена мифами, был создан миф о великой французской революции; миф этот поддерживался, а не разрушался историками в течение очень долгого периода времени, и только сравнительно позднее историки начали разрушать его, как это сделал Тэн в своей истории революции. Такие мифы существуют об эпохе Ренессанса, об эпохе Реформации, об эпохе средневековья, я не говорю уже о более отдаленных исторических эпохах, когда мысль не была еще просвещена ярким светом разума. Мы не можем понять исключительно объектной истории. Нам нужна внутренняя, глубинная, таинственная связь с историческим объектом. Нужно, чтобы не только объект был историчен, но чтобы и субъект был историчен, чтобы субъект исторического познания в себе ощущал и в себе раскрывал "историческое". Только по мере раскрытия в себе "исторического" начинает он постигать все великие периоды истории. Без этой связи, без собственной внутренней "историчности" не мог бы он понять историю. История требует веры, история это - не простое насилие над познающим субъектом внешних объективных фактов, это есть некоторый акт преображения великого исторического прошлого, в котором совершается внутреннее постижение исторического объекта, внутренний процесс, роднящий субъект с объектом. При полной оторванности их постижения не может быть. Все это меня привело к тому, что на историческое познание должно быть распространено с некоторыми изменениями Платоновское учение о познании как припоминании. Поистине всякое проникновение в великую историческую эпоху тогда лишь плодотворно, тогда есть подлинное познание, когда оно есть внутреннее припоминание, внутренняя память всего великого, совершившегося в истории человечества, какое-то глубинное соединение, отождествление того, что совершается внутри, в самой глубине духа познающего, с тем, что было когда-то в истории, в разные исторические эпохи.
Каждый человек по своей внутренней природе есть некий великий мир — микрокосм, в котором отражается и пребывает весь реальный мир и все великие исторические эпохи; он не представляет собой какой-то отрывок вселенной, в котором заключен этот маленький кусочек, он являет собой некоторый великий мир, который может быть по состоянию сознания данного человека еще закрытым, но, по мере расширения и просветления его сознания, внутренне раскрывается. В этом процессе углубления сознания раскрываются все великие исторические эпохи, вся история мира, с которой имеет дело историческая наука, проводящая все через критику памятников, исторических письмен, археологии и т.п. Но если есть внешний повод, толчок, исходная точка для какого-то глубинного Припоминания, человек должен в самом себе познать историю, постигнуть ее, раскрыть, напр., глубочайшие пласты эллинского мира, чтобы поистине постигнуть историю Греции, историк должен раскрыть в себе глубинные пласты мира древне-еврейского, чтобы постигнуть эту историю. Итак, можно сказать, что в этом микрокосме заключены все исторические эпохи прошлого и этого человек не может в себе задавить пластами времени и ближайшей исторической жизни; это может быть прикрыто, но никогда не может быть окончательно задавлено. Этот процесс внутреннего просветления и внутреннего углубления должен привести к тому, что через эти пласты человек прорвется внутрь, в глубь времен, потому что идти в глубь времен значит идти в глубь самого себя. Только в глубине самого себя человек может найти настоящим образом, глубину времен, потому что глубина времен не есть что-то внешнее, чуждое человеку, извне ему данное, извне ему навязанное, глубина времен есть глубочайшие сокровенные пласты внутри самого человека, пласты лишь прикрытые, лишь оттесненные узостью сознания на второй или третий план. Исторические мифы имеют глубокое значение для этого процесса припоминания; в историческом мифе дан передающийся в народной памяти рассказ, помогающий припомнить в глубине человеческого духа какой-то внутренний пласт, связанный с глубиною времен. Процесс отчуждения субъекта от объекта, который создается просветительной критикой, критикой сознания, может дать материал для исторического познания, но, поскольку он убивает миф и отрывает глубину времен от глубины человека, он отрывает человека и от истории. Все это приводит нас к переоценке и новой оценке значения предания для внутреннего постижения истории. Это историческое предание, которое историческая критика думала разрушить, является путем для великого сокровенного акта припоминания, и, поистине, в предании историческом человек имеет не внешний импульс, не внешне навязанный факт, чуждый ему, а внутренний, сокровенный, скрытый внутри таинственной жизни, в котором он узнает самого себя, с которым он связан в неразрывное целое. Это вовсе не значит, что предание не подлежит исторической критике и что всякое предание в том виде, в каком оно существует, должно приниматься безапелляционно, на веру и на нем должна останавливаться историческая наука,— я не это хочу сказать,—я думаю, что историческая критика очень многое сделала в области критики предания, имеющего характер объективно-непреложный и объективно-научный, что восстанавливать традиционную историю, покоящуюся на предании, нет основания. Я хочу сказать, что в предании есть внутренняя ценность, указывающая не на то, что все так произошло, как говорится, напр., в предании об основании Рима, предании, которое было разрушено Нибуром и последними историками, а на то, что в предании, сохранившемся в народной памяти, скрыт какой-то намек, символика исторических судеб этого народа, имеющая первостепенное значение для построения философии истории и для постижения внутреннего ее смысла. Историческое предание есть нечто большее, чем познание исторической жизни, потому что в символическом предании раскрывается внутренняя жизнь, глубина действительности, преемственно связанная с тем, что раскрывает человек путем внутреннего духовного самопознания. Эта связь предания с тем, что раскрывается в самопознании, представляется в высшей степени ценной. Внешние факты истории имеют огромное значение. Но гораздо большее значение имеет для построения философии истории эта внутренняя таинственная жизнь, не прерывающаяся и во внешней текучей длительности,— и именно она говорит нам, что история дана нам не извне, а изнутри, и мы в конце концов, воспринимая историю, конструируем ее в большей зависимости и большей связи с внутренними состояниями нашего сознания, внутренней его широтой и внутренней его глубиной. И вот то состояние сознания, самопознания, которое постулирует и предполагает историческая критика и объективная историческая наука как единственно верное, есть состояние сознания очень суженное и выброшенное на поверхность. В этом — аберрация исторической критики; многое кажется объективным, неопровержимым, убедительным в этой критике лишь для первоначального поверхностного пласта сознания, но когда переходишь в глубину, когда расширяешь сознание, то видишь, что это не есть истинное сознание и что глубина лежит внутри исторической действительности. Когда вы читаете научную книгу по истории, скажем по истории древних народов, то ясно чувствуете, что из истории культуры этих народов окончательно вынута душа, вынута внутренняя жизнь, что вам дается какой-то внешний снимок, внешний рисунок. Все это приводит к тому выводу, что так называемая "историческая критика" есть лишь один момент в развитии истории, через который проходит человек в своем познании, один из моментов, не самых существенных и менее всего глубоких, после которого человек вступает в какой-то совершенно другой период, в какие-то другие отношения к историческому процессу. Тогда меняется и по-новому осмысливается то внутреннее предание, тот внутренний миф истории, который в период исторической критики был отвергнут.
Темой истории, как я уже говорил с самого начала, является судьба человека в земной человеческой жизни, и эта судьба человека, осуществляющаяся в истории народов, постигается прежде всего как судьба человека в духе познающего. История мира, история человечества свершается не только в Объекте, не только объективно свершается в макрокосме, но свершается и в микрокосме. Вот эта связь постижения истории в микрокосме с постижением истории в макрокосме, столь необходимая для метафизики истории, предполагает исключительное сближение и особое отношение между историческим и метафизическим. Противоположение исторического и метафизического, которое является преобладающим пониманием в течение долгого периода в науке и философии, а также и в некоторых формах сознания религиозного, как, например, в сознании индусском, не предполагает возможности явления метафизического в историческом, возможности того, что исторический факт не есть только внешний, эмпирический факт, который методологически должен быть всегда противоположен всему метафизическому. Другая точка зрения предполагает, что метафизическое может непосредственно перейти в историческое и в нем быть явлено. Эта точка зрения, как мы увидим дальше, особенно благоприятная для построения философии истории, предполагает какой-то центр истории, где метафизическое и историческое соединены. Только в христианской философии истории, как я постараюсь показать, поистине сближается и отождествляется метафизическое и историческое. То понимание предания, о котором я говорил как об источнике глубочайшего познания исторической действительности и духовной действительности, есть принятие его как внутренней жизни познающего духа, а не как авторитета. Чуждость человеческого духа этому преданию означала бы внешнюю навязанность предания. Поистине должно быть такое отношение к преданию: оно есть некоторая свободная, духовная преемственная связь внутри человека, оно значит не нечто трансцендентное, навязанное человеку, а имманентное. Только такое понимание предания есть истинное, дающее возможность построения философии.
Теперь подойдем с новых сторон, с новых точек зрения к вопросу о сущности исторического. Я ставлю вопрос: каким образом в истории человеческого сознания, в истории человеческого духа конструировалось "историческое"? Каким образом человеческое сознание пришло к тому, что осознало историческое свершение, исторический процесс? Каким образом впервые пришло сознание, что история свершается, что есть особая реальная действительность, которую мы именуем историческим миром, историческим движением, историческим процессом? Для этого мы должны обратиться к миру эллинскому и миру еврейскому. Поистине нужно сказать, что в основе европейского сознания заложены эти два начала: начало эллинское и начало еврейское; из их сочетания образовался мир христианский, который органически соединил в себе два великих мира нашего прошлого и открыл новую жизнь. Я думаю, что для всякого изучающего историю должно быть ясно, что эллинской культуре, эллинскому миру, эллинскому сознанию было чуждо сознание истории. Понятие исторического свершения в эллинском мире не существовало; величайшие греческие философы не могли подняться до сознания исторического свершения, у величайших греческих философов нельзя найти философии истории; ни у Платона, ни у Аристотеля, ни у одного из величайших греческих философов нельзя найти понимания истории. Я думаю, что это глубочайшим образом связано с греческим мироощущением, с эллинским восприятием мира. Греки воспринимали мир эстетически, как завершенный и гармонический космос; величайшие греки, в которых наиболее выразился греческий дух в его силе, а не в слабости, воспринимали мироздание статически, как некоторое классическое созерцание соразмерности космоса. Это характерно для всех греческих мыслителей, они не могли воспринять исторического процесса, исторического свершения,— он не имел исхода, не имел конца, не имел начала, в нем все повторяется, все находится в вечном круговороте, в вечном возвращении. Эта цикличность процесса характерна для греческого миросозерцания, оно представляло себе движение истории как круговорот. Эллинское сознание всегда было обращено не к грядущему, в котором завершается история, в котором должен быть центр истории и выход, а к прошлому. Для греческого сознания характерно было созерцание законченного гармонического состояния, которое они никогда не связывали с будущим. Поэтому для греческого сознания не было того отношения к будущему, которое сделалось бы исходной точкой восприятия исторического процесса и сделало бы возможным сознание истории как некоторой совершающейся драмы. История, поистине, есть драма, имеющая свои акты от первого до последнего, имеющая свое начало, свое внутреннее развитие, свой конец, свой катарзис, свое свершение. Это понимание истории как трагедии было чуждо эллинскому сознанию; сознание исторического свершения нужно искать не в эллинском мире, а в сознании и духе древнего Израиля. Идея исторического внесена в мировую историю евреями, и я думаю, что основная миссия еврейского народа была: внести в историю человеческого духа это сознание исторического свершения, в отличие от того круговорота, которым процесс этот представлялся сознанию эллинскому. Для сознания древнееврейского процесс этот всегда мыслился в связи С мессианством, в связи с мессианской идеей. Сознание еврейское, в отличие от эллинского, было всегда обращено к грядущему, к будущему: это — напряженное ожидание какого-то великого события, разрешающего судьбы народов, судьбу Израиля. Всю мировую судьбу еврейское сознание мыслило не как замкнутый круговорот. Идея истории приурочена к тому, что в грядущем будет какое-то событие, разрешающее историю. Этот характер построения исторического процесса конструировался впервые в еврейском сознании; здесь впервые появляется сознание "исторического", и поэтому философию Исюрии надо искать не в истории "греческой" философии, а в Исюрии еврейства. Такой философией истории была книга пророка Даниила; в этой книге чувствуется процесс в человечестве, как некая драма, которая ведет к определеннбй цели. Толкование Даниилом сна Новохудоносора есть первая в истории человечества попытка создать схему истории, которая йотом повторялась и дальше развивалась в христианской философии истории. У пророка Иеремии был тот взгляд на историю, что Бог карает народы. Иеремия любил Новохудоносора, как Божье орудие. Этот профетизм еврейского сознания, это обращение к грядущему, конструировало не только философию истории, оно конструировало "историческое". В то время как эллинскому миру было свойственно гармоническое созерцание космоса, миру еврейскому было чуждо это созерцание космоса, пребывающего неподвижно; еврейскому миру дано было открыть историческую драму человеческой судьбы, драму, основанную на свершении какого-то великого события в судьбе еврейского народа и вместе с тем в судьбе всего человечества. Это — древне-еврейская мессианская идея, свойственная исключительно еврейскому народу. Мессианская идея и есть специфическая идея, которую еврейский мир внес в историю человеческого духа.
Я хотел бы привести несколько параллелей для пояснения моей мысли. С чем связано то, что греки, которые внесли величайшие откровения в историю человеческого духа, не знали и не понимали истории, не знали и не понимали "исторического"? Я думаю, что связано это с тем, что эллинский мир не знал по-настоящему свободы,—ни в греческой религии, ни в греческой философии не раскрывалась подлинно свобода. Античная покорность судьбе есть наиболее характерная черта для духовного образа эллинского мира, эллинского сознания. Этому миру было чуждо сознание свободы, творящего субъекта истории, без которого история невозможна, невозможно ни свершение, ни восприятие ее. Это связано с тем, что в эллинском мире форма всегда преобладала над содержанием; в эллинском искусстве, в эллинской философии, политике, во всех областях эллинской жизни начало совершенства формы, начало оформления преобладало над началом материи, над содержанием, с которым связано иррациональное начало человеческой жизни. Это иррациональное начало и есть начало свободы, которое позже было внесено в мир христианством. В христианском мире раскрывается содержание, а не форма, раскрывается иррациональное начало, и из этого и в связи с этим раскрывается та человеческая свобода и тот свободный творящий субъект, без которого невозможно постижение исторического процесса. В христианском сознании, в связи с еврейским сознанием, посколько еврейское сознание конструирует "историческое", раскрывается та свобода зла, без которой нельзя ни воспринять, ни постигнуть исторического процесса, потому что, поистине, если бы не было свободы зла, связанного с основными началами человеческой жизни, если бы не было этого темного начала, то не было бы и истории, и мир начался бы не с начала, а с конца, с того совершенного царства Божия, которое мыслится как совершенный космос в форме совершенного добра, совершенной красоты. Но не с этого совершенного космоса началась история мира, потому что история мира началась со свободы, со свободы зла. Таково было зачатие великого исторического процесса. И не в связи с сознанием эллинским, которое прежде всего было направлено на совершенство формы космоса, раскрылась история. Я думаю, что для чисто отвлеченного арийского сознания, для арийского монизма всегда несоединимы "историческое" и "метафизическое". Не случайность, что такие мыслители нашего времени, которые считают себя представителями чисто арийского духа, как Чемберлен и Древс, философ Гартмановской школы, интересные и своеобразные, устанавливают глубочайшую противоположность метафизического и "исторического". Вся их критика семитического элемента в христианстве основана на том, что они в христианстве видят незаконное соединение метафизического и "исторического",— признания, что в исторические факты метафизическое вошло, воплотилось, влилось, что метафизическое неразрывно связано с историей. Это чисто арийское сознание обращено даже не к эллинской форме арийской культуры, а к индусской, более первоначальной и, может быть, более строгой, чистой форме арийского духа, и там, в этом индусском сознании, ищет чистого выражения метафизического, совершенно свободного, незапятнанного, без всякой примеси "исторического". Индусское сознание есть самое антиисторическое из всех сознаний мира, и судьба индусская есть самая не историческая из всех судеб. Все, что было наиболее глубокого в Индии, не было связано с историей; там не было настоящей истории, не было настоящего исторического процесса; духовная жизнь индусскому народу представляется прежде всего как индивидуальная духовная жизнь, как индивидуальная духовная судьба, в глубине которой раскрывается высший мир, раскрывается Божество, особенным путем, не связанным никакими нитями с судьбой исторической. Историческое и метафизическое индусы противопостают; отворачивание и отвлечение от исторической действительности, от исторической судьбы есть гарантия чистоты сознания для индусского духа, потому что всякая связанность затемняет дух. Эта несоединимость "исторического" и метаисторического приводит к восприятию истории лишь как внешнего сцепления феноменов, не имеющих никакого внутреннего плана, внутреннего смысла. Это —внешний эмпирический мир, низшая действительность, низший порядок, который нужно преодолеть и от которого нужно отрешиться для того, чтобы войти в истину метафизического, в истину высшего ду-хонного мира, на котором почила печать духа. Это — чисто арийский монизм, который обыкновенно противополагают дуализму сознания еврейского и сознания христианского.
Философия истории, по -историческому своему происхождению, имеет неразрывную связь с эсхатологией, она объясняет нам, почему историческое зародилось в еврейском народе. Эсхатология есть учение о конце истории, об исходе, о разрешении мировой истории. Эта эсхатологичная идея совершенно необходима для того, чтобы была осознана и конструирована идея истории, для осознания свершения, движения,имеющего смысл и завершение. Без идеи исторического завершения нет восприятия истории, потому что история по существу — эсхатологична, потому что она предполагает разрешающий конец, разрешающий исход, предполагает катастрофическое свершение, где начинается какой-то новый мир, новая действительность, а не та, которая раскрывалась греческому сознанию, чуждому эсхатологии. Исторически это подтверждается тем, что из всех народов древнего мира чувство истории и исторической судьбы было кроме еврейского народа только у персов. Это был единственный арийский народ, которому было дано сознать "историческое", и это связано с тем, что у персов в их религиозном сознании очень силен момент эсхатологический, апокалиптика, которая имела сильное влияние на апокалиптику еврейскую. Персии принадлежит первенство в раскрытии момента эсхатологического. Это — единственный из народов, кроме еврейского, для которого историческая судьба раскрывалась в перспективе разрешающего конца. Борьба Ормузда и Аримана разрешается катастрофой, после которой кончается история и начинается уже что-то иное. Без этой перспективы конца процесс не может быть воспринят как историческое движение. Движение без перспективы конца, без эсхатологии не есть история, оно не имеет внутреннего плана, внутреннего смысла, внутреннего свершения. В конце концов, движение, которое не идет к разрешающему концу и не имеет его, так или иначе срывается на движение круговое. Поэтому упразднение самого смысла исторического процесса делает невозможным и его восприятие.
Если в еврейском народе впервые была осознана возможность философии истории, то настоящая философия истории, как особая область духовного познания и особая форма духовного восприятия мира, свойственна лишь миру христианскому, христианскому сознанию. Христианству, в котором произошло воссоединение всех откровений мира, эллинского мира и мира еврейского, свойственна была неведомая древнему миру, быть может и самому еврейскому миру, особая историчность. Одна из самых интересных и глубоких мыслей Шеллинга — это мысль о том, что христианство в высшей степени исторично, что христианство есть откровение Бога в истории. Между христианством и историей существует связь, какой не существует ни в одной религии, ни в одной духовй силе мира. Христианство внесло исторический динамизм, ключительную силу исторического движения и создало возможность философии истории. Я утверждаю, что христианство создало не только ту философию истории, которая называется христианской в вероисповедном смысле, как философия истории Б.Августина или Боссюета, но и все последующие философии истории вплоть до философии истории Маркса, который с присущим ему историческим динамизмом так характерен для христианского периода истории. Христианство внесло динамизм, потому что оно внесло идею однократости, неповторимости событий, что миру языческому было сдоступно. Там была идея многократности, повторяемости оПытий, которая делала невозможным восприятие истории, цежду тем как однократность, неповторяемость и единичность, которую внесло в историческую действительность христианское сознание, связаны с тем, что для христианского сознания в центре мирового процесса и исторического процесса стоит некоторый факт, совершившийся однократно, типичный, неповторяемый, единственный, ни с чем не сравнимый, ни на что не похожий, однажды бывший и не могущий повториться, факт исторический и вместе с тем и метафизический, т. е. раскрывающий глубины жизни,- факт явления Христа. История есть свершение, имеющее внутренний смысл, некая мистерия, имеющая свое начало и конец, свой центр, свое связанное одно с другим действие, история идет к факту — явлению Христа и идет от факта — явления Христа. Этим определяется глубочайший динамизм истории, движение истории к сердцевине мирового процесса и движение ее от сердцевины этого процесса. Эллинскому миру никогда не раскрывалась возможность такого понимания, он не знал такого исторического и вместе с тем метафизического факта. Для эллинского мира во временном процессе истории не раскрывалось божественное. Истина, божественная ценность, божественная гармония раскрывались эллинскому сознанию лишь в вечной природе. Греки не знали исторического движения, мчащего вce миры к катастрофическому факту. История возможна только тогда, тогда только возможно восприятие истории, если мировой процесс воспринимается как процесс катастрофический. Восприятие истории как катастрофического процессапредполагает некоторый центр, в центре этом дан исторический факт и вместе с тем раскрывается божественное, внутреннее делается внешним, воплощаемым. Это как раз то, что было чуждо сознанию эллинскому и совершенно чуждо глубокому духовному сознанию Индии, потому что именно в Индии не было этого напряженного предчувствия такого великого центрального события в истории. Для Индии все великое в духовной жизни раскрывается лишь в индивидуальной глубине человеческого духа. Христианство впервые внесло в сознание то понятие свободы, неведомое эллинскому миру, которое было также необходимо для конструирования истории и философии истории. Без понятия свободы, определяющего драматизм исторического процесса и трагизм его, невозможно понимание истории, потому что трагизм рождается из свободы, из действенной свободы, из свободы зла, свободы тьмы. Это определяет драматическую борьбу в истории, драматическое движение истории, которого нет для того сознания, которое мыслит всякое добро, всякую красоту и всякую истину как божественно необходимую. Так мыслило эллинское сознание. Христианство дало историю, дало идею истории тем, что оно впервые признало до конца, что вечное может иметь выход во временном; в христианском сознании вечное и временное пребывают нераздельно: вечное входит во временное, временное в вечное. В греческом сознании временное было круговоротом — христианство произвело прорыв, оно преодолело идею круговорота, утвердило свершение истории во времени, раскрыло смысл истории. Христианство внесло динамизм и то освобождающее начало, которое создало эту бурную, бунтующую историю западных народов, которая и сделалась историей по преимуществу. Судьба христианских народов по сравнению с судьбой народов не христианских, древних или современных, есть по преимуществу судьба, связанная со всеми крупными событиями истории, с самым центром истории. Это — связано с той свободой, которую внесло христианство, и с тем динамизмом, который оно внесло в силу однократности фактов метафизических и исторических. Оно внесло напряженность исторического процесса, которая не христианским народам, за исключением народа еврейского, не свойственна, особенную напряженность, особенный внутренний драматизм, особенный темп истории. Образовался особенный великий христианский мир — динамический, в отличие от мира античного, который, по сравнению с ним, был миром статическим. Античный статический мир был связан с имманентным чувством бытия и жизни: для античного сознания, для античного чувства жизни существовал лишь замкнутый купол небес, под которым и внутри которого протекала вся человеческая жизнь; трансцендентный прорыв и трансцендентные дали этому миру не раскрывались, вся красота, вся красота жизни духовной и божественной, раскрывалась лишь имманентно, в природном круговороте. В христианском мире разверзаются, раскрываются дали, разверзается купол неба, и устремленность в даль создает динамизм истории, драму истории, в которую вовлечены и те люди и народы, которые отпили от христианского сознания, но остались, по своей судьбе, христианскими, остались историческими. Поэтому, я думаю, что тот исторический бунт, который свойственен веку XIX И XX и который сопровождается отпадением от христианства и потерей христианского света, все же связан с христианством и родился на христианской почве. Этот динамизм христианства, эта свобода христианства, разрывающая грани, это иррациональное начало, связанное с содержанием жизни, определяют исторический процесс. Христианский динамизм, христианская историчность не свойственны никакому другому сочнанию. Только христианство признало общую конечную цель человечества, сознало единство человечества и этим создало возможность философии истории. Историческая действительность предполагает, как я уже несколько раз отмечал, иррациональное, которое делает возможным динамизм, потому что без этого иррационального начала, как начала бурлящего, как начала, подлежащего оформлению, вызывающего борьбу света и тьмы, как столкновения противоположностей, без этого начала невозможна история, невозможен истинный динамизм. Это иррациональное начало нужно понимать не в том смысле, в каком его понимает Риккерт, не в гносеологическом смысле, противополагающем индивидуальное, как иррациональное, общему, как рациональному, а в каком-то другом, онтологическом смысле, в смысле признания иррационального начала в самом бытии, в смысле того иррационального начала, без которого невозможна свобода и невозможен динамизм.
История предполагает Богочеловечество. Характер религиозного и исторического процесса предполагает глубочайшее столкновение и взаимодействие Божества и человека, Божественного Промысла, Божественного фатума, Божественной необходимости и неизъяснимой таинственной человеческой свободы. Если бы действовало только одно начало, одно начало природной необходимости, или только одно начало Божественной необходимости, или только одно человеческое начало, не было бы драмы истории, не было бы той разыгрывающейся трагедии, которая, поистине, есть глубочайшее столкновение, взаимодействие и борьба Божества и человечества на основе свободы. Тут есть непримиримые начала, антиномии, противоположности. И только христианским сознанием это было внесено в историю человеческого духа. Без свободы духа человеческого как начала самобытного, не сводимого ни к Божественной свободе, ни к Божественной необходимости, как начала иррационального и необъяснимого не было бы мировой истории. Если бы существовала только Божественная свобода, Божественная необходимость или если бы существовала только природная необходимость, то истории, в истинном смысле этого слова, не было бы, она не зародилась бы. Существование одной лишь Божественной необходимости, одного Божественного начала, одной Божественной свободы привело бы к тому, что история началась бы с царства Божия и потому истории не было бы. Существование одной природной необходимости привело бы к бессмысленному сцеплению внешних фактов, в которых не было бы внутреннего свершения, осмысленной драмы, осмысленной трагедии, влекущей к какому-то разрешающему концу. Поэтому всякая монистическая философия, чистый монизм, который признает существование одного только начала, неблагоприятен для построения философии истории, для восприятия динамизма истории. Чистый монизм по существу своему антиисторичен и склонен всегда к отрицанию человеческой свободы, к отрицанию того, что в основе истории, как ее религиозно-метафизическое a priori, лежит эта иррациональная свобода зла.
Хотелось бы сделать еще несколько замечаний, которые с новых сторон подтвердят мои основные положения, мое основное понимание философии истории. Прежде всего, я хотел бы указать на то, что существует ложное и очень распространенное в современном сознании отношение к историческому процессу, которое делает его мертвым и внутренне невоспринимаемым. Одна из лжей современного сознания - антиисторическое и анархическое, бунтующее отношение к историческому процессу, когда индивидуум, личность, почувстновав оторванность и отьединенность от всего "исторического", разрыв с ним, восстает против исторического процесса, как против насилия. Но это, в конце концов, есть состояние не освобождающее, а рабье, потому что тот, кто бунтует и восстает против великого, Божественного и человеческого содержания истории, сознает его не как собственное, внутреннее, и нем раскрывающееся, а как ему навязанное извне. Такое бунтующее анархическое отношение основано на рабском сосюннии духа, а не на свободе духа. Свободен духом тот, кто перестал ощущать историю как внешне навязанную, а начал ощущать историю как внутреннее событие в духовной действительности, как свою собственную свободу. Только такое, поистине, свободное и освобождающее отношение к истории и дало возможность понять историю как внутреннюю свободу человека, как момент небесной и земной судьбы человека. В ней человек проходит свой особый, страстотерпческий путь, в котором все великие моменты истории, самые страшные, самые страдальческие, оказываются внутренними моментами этой человеческой судьбы, ибо история есть внутреннее, полное драматизма свершение судьбы человека. И те увидят только пустоту в истории, а не истину, которые не пожелают признать в процессе истории этой великой человеческой судьбы, которые видят в ней лишь внешнее, навязанное извне.
Поистине, в истории сочетаются два элемента, два момента, без которых история невозможна,—момент консервативный и момент творческий. Процесс истории невозможен без сочетания того и другого момента. Под консервативным моментом я понимаю связь с духовным прошлым, внутреннее предание, принятие из этого прошлого того, что в нем есть наиболее священного. Также невозможно восприятие истории и без момента динамически-творческого, без творческого продолжения, завершения истории, творческого устремления к разрешению истории. Таким образом, должна быть внутренняя связь с прошлым, глубочайшее обращение к памятникам прошлого и дерзновение творческого почина. Отсутствие одного из этих элементов — или момента консервативного, или момента творческого, динамического - уничтожает существование истории. Чистый, отвлеченный консерватизм отказывается продолжать историю, он говорит, что все уже завершилось, что теперь все подлежит лишь охранению. Такое отношение к истории делает невозможным ее восприятие. Связь с прошлым, с тем, что было священного в прошлом, есть связь с творческой динамической жизнью; верность заветам прошлого есть верность заветам творческой динамической жизни наших предков; поэтому связь, внутренняя связь с предками, с родиной, со всем священным, есть всегда связь с творческим динамическим процессом, обращенным к грядущему, к разрешению, к исполнению, к созданию нового мира, новой жизни, к соединению этого нового мира с старым прошлым миром; происходит оно в вечности, в каком-то внутреннем, едином историческом движении, творческом динамическом движении, совершается воссоединение в жизни вечной. Такое понимание исторического процесса, в котором совершается соединение временного и вечного, сближается и отождествляется историческое и метафизическое, то, что нам дано в исторических фактах, в историческом воплощении и что раскрывается в глубочайшей духовной действительности, приводит к соединению истории земной с историей небесной.
Что нужно понимать под историей небесной? В небесной истории, в глубинах внутренней жизни духа предопределяется та история, которая раскрывается и развертывается в земной жизни, в земной человеческой судьбе, в земной исторической судьбе человечества, в том, что мы называем земной историей. Это — пролог на небе, подобно тому прологу, с которого начинается Гетевский Фауст. Сама судьба Фауста есть судьба человека, и этим прологом на небе предопределилась земная судьба человечества. Философия истории должна быть метафизикой истории с раскрытия того пролога на небе, которым определяются исторические судьбы, с раскрытия внутренней духовной истории, потому что небо —есть наше внутреннее духовное небо. Это и будет раскрытием той истинной связи между историческим и метафизическим, в которой я вижу глубочайшее значение всякой христианской философии истории. Она преодолевает разрыв и противоположность, она познает величайшее соединение, сближение и отождествление, таинственное преосуществление, таинственное преображение одного в другое,—небесного в земное, исторического в метафизическое, внутреннего во внешнее. Философия истории, попытка осмыслить исторический процесс, есть некоторое пророчество, обращенное назад, подобно пророчеству, обращенному вперед, потому что поистине в философии истории раскрывается не объективная данность, не воспринятие фактичности исторического процесса, а пророческое проникновение в прошлое, которое есть также и проникновение в будущее, потому что метафизическая история прошлого раскрывается как будущее, а будущее раскрывается как прошлое. Разрыв между ними повергает нас в тьму, делает для нас недоступным восприятие исторического процесса. Этот разрыв совершается всеми теми, которые чувствуют себя оторванными от великого исторического прошлого и не ведают великого исторического будущего, которые чувствуют это великое историческое прошлое как им навязанное и чувствуют историческое будущее как для них страшное в своей неведомости, непостижимости и непознаваемости, потому что будущее — непознаваемо. Этому нужно противополагать искание в исторической судьбе связи с собственной человеческой судьбой, которое в вечности связывает прошлое с будущим. Так раскрываются внутренние духовные силы истории, которые закрыты для того, кто статический момент, статическое восприятие настоящего превращает в статическое восприятие прошлого и будущего. Ложно то восприятие прошлого и будущего, которое воспринимает их не динамически, не в их внутренней динамической связи, не в их внутренней и духовной связанности и завершении, а воспринимает их в оторванности, абстрактности, неконкретности, воспринимает какую-то мертвую точку. Поэтому такое отношение к историческому процессу, как бы оно ни казалось эволюционным, в сущности является глубоко статическим восприятием, потому что статическое состояние того настоящего, в котором находится познающий субъект, оторвавший себя от прошлого и будущего и вырвавший себя из внутренней преемственности движения, из внутреннего свершения в прошлом и будущем, и связанный этим настоящим, мешает постигнуть и настоящее и делает прошлое не живым, а мертвой эволюцией, мертвым внешним движением. История останавливается и застывает в прошлом. Только пророческое отношение к прошлому в истории приводит ее в движение, так же как пророческое отношение к грядущему связывает его с настоящим и прошлым в каком-то внутреннем полном духовном движении. Только пророческое отношение к истории может оживить омертвевшую историю, в мертвую статику влить внутренний огонь духовного движения.
Человеческая судьба есть не только земная, но и небесная судьба, не только историческая, но и метафизическая судьба, не только человеческая, но и Божественная судьба, не только человеческая драма, но и Божественная драма. Мертвую эволюцию, мертвое движение сделать живым, движущим, сделать внутренне духовным может только пророческое обращение к истории, к прошлому. Смысл этого кажется мне понятным после всего того, что я сказал. Основной вывод всех моих чтений о сущности истории, о сущности философии истории тот, что не может быть противоположения человека и истории, духовного мира человека и великого мира истории. Такое противоположение есть омертвение человека и омертвение истории. Метафизика истории, к которой мы должны стремиться, рассказывает не об истории, как об объекте внешнем, объекте и предмете познания, который остается для нас объектом внешнего предметного мира; метафизика истории есть вхождение в глубину истории, во внутреннее ее существо, это есть раскрытие истории, сама она, ее внутренняя жизнь, ее внутренняя драма, ее внутреннее движение и свершение; она имеет дело с субъект-объектом. Таким духом тождества исторического субъекта и объекта проникнуты мои чтения по метафизике истории. При таком понимании истории одно из заблуждений, одна из аберраций сознания должна быть разрушена, это — обычный взгляд на разорванность, противоположность истории "посюстороннего" и "потустороннего". Эта аберрация сознания получается оттого, что мы на зарю человечества, на историю первоначального человечества переносим наше время. Мы проводим резкую черту между историческим и метафизическим, между земной историей и небесной историей, которая не соответствует подлинной действительности, которая есть лишь абстракция нашего сознания. Поистине, на заре человеческой истории, которая отражалась в Библии и в мифологии (мифология, по учению Шеллинга, есть первоначальная история человечества),—все свершающееся не есть какой-то момент в историческом процессе во времени, подобном нашему времени, на нашей земле; в далекой глубине истории стерты границы между небесным и земным. В Библейской мифологии рассказывается и о земной исторической судьбе человечества, и о небесной судьбе, о мифологической истории человечества; грани между небесным и земным оказываются стертыми, как вообще они стерты в первоначальной истории человечества. Лишь позже они отвердели, и появился разрыв земного и небесного. На этом мы строим первоначальную историю, между тем как внутреннее, сокровенное может быть понято и осознано только в предположении, что не было этой отверделости, не было этих границ и что первый этап земной судьбы человечества зарождался на небе, зарождался в какой-то духовной действительности, которая вместе с тем была действительностью исторической, с которой имеет дело историческая наука, с которой имеет дело археология, о которой говорят памятники, проходящие через историческую критику. Метафизика истории имеет дело с судьбой человека во внутренней близости и во внутреннем тождестве небесной и земной судьбы его.
III. О небесной истории. Бог и человек.
Небесная история и небесная судьба человека предопределяют земную судьбу и земную историю человека. Есть пролог на небе, в котором задана мировая история, поставлена тема ее. Что представляет собой эта небесная история? Это и есть истинная метафизическая основа истории. Небо и небесная жизнь, в которой зачат исторический процесс, есть ведь не что иное, как глубочайшая внутренняя духовная жизнь, потому что, поистине, небо — не только над нами и не только в каком-то отдалении от нас, как трансцендентная сфера, почти недостигаемая,— небо есть и самая глубочайшая глубина нашей духовной жизни. Когда мы идем в эту глубину от поверхности, то, поистине, соприкасаемся мы с жизнью небесной. В этой глубине заложен духовный опыт, отличный от земной действительности, как более глубокий слой бытия, более обширный по захватываемым им планам. Этот глубинный слой и является источником истории. История имеет источник во внутренней духовной действительности, в том опыте человеческого духа, в котором человеческий дух уже не является чем-то отдаленным и противуполагаемым духу божественному, а в котором он непосредственно с ним соприкасается, в котором раскрывается драма взаимоотношений между Богом и человеком. Небесная действительность, в этом смысле, и есть та глубочайшая действительность, в которой поставлена тема об отношениях между Богом и человеком, об отношениях человека к абсолютному источнику жизни. Это отношение человека к Богу и абсолютному источнику жизни и есть глубинная сфера, в которой зачата история, в которой скрыто зерно ее, в которой предопределен в основном всемирно-исторический процесс. Если история не есть лишь внешний феномен, если она имеет какой-то абсолютный смысл и связь с абсолютной жизнью, если в ней есть подлинно онтологическое, то это значит, что она должна зачинаться и совершаться в недрах Абсолютного, т.е. в тех недрах бытия, с которыми соприкасается, в своей последней глубине, духовная жизнь и духовный опыт.
А это значит, что если таким образом смотреть на предопределение исторического процесса глубиной духовной жизни, т. е. тем, что я называю небесной жизнью, то нам приходится признать движение истории как зачатое в недрах Абсолютного, в самой Божественной жизни. Сама Божественная жизнь, в каком-то глубочайшем, сокровеннейшем смысле, есть история, есть историческая драма, историческая мистерия. Вот этот характер драмы и мистерии, движущей и совершающей историческую судьбу в жизни Божественной, отрицает только последовательный и совершенно отвлеченный монизм. Лишь отвлеченный монизм мыслит Божество как совершенно неподвижное, как совершенно противоположное всякому процессу, всякому драматическому действию, всякой внутренней трагедии страстей, столкновений глубочайших духовных сил. Такой абсолютный отвлеченный монизм относит всякое движение лишь к несовершенному множественному миру, который есть мир феноменальный, мир эмпирический, мир не подлинной реальности, а мир вторичный, лишь являющийся, в котором движется множественность, в котором происходят трагические конфликты, порождающие историческую судьбу. Монизм мыслит такой мир лишь как иллюзорный и кажущийся, а не подлинный бытийственный. Движение связано лишь с миром относительным и не распространяется на мир абсолютный, на самую глубину жизни Божества.
Такой последовательный монизм, совершающий разрыв между глубиной духовной жизни, между природой Божества и между миром, который множествен, весь находится в противоречиях и в движении и весь захвачен свершением истории, заключает в себе непреодолимую внутреннюю порочность. Свойства исторической судьбы этого внутреннего мира оказываются не только ни в каком смысле не переносимы в самую глубину подлинной Божественной жизни, но и ни в каком смысле с ней не связаны. Ни одна из форм последовательного отвлеченного монизма не в состоянии внутренно объяснить само происхождение множественного мира. Непостижимо, как в недрах абсолютной жизни неподвижного и единого Божества, к которой не применима никакая форма исторического движения, на которую не переносимо никакое начало множественности, никакие конфликты, никакие столкновения, как в так понимаемой абсолютной жизни, можно объяснить возникновение и начало того множественного тварного мира, в котором свершается исторический процесс, в который мы вовлечены, которым мы захвачены и судьбу которого мы разделяем как нашу собственную человеческую судьбу. Это непостижимо ни для пантеистического монизма индусского типа, для которого мир представляется призрачным, ни для Парменида, ни для Платона, который не преодолел дуализма единого-неподвижного и множественного-движущегося, ни для Плотина, ни для отвлеченного монизма в германском идеализме. Для них это—непостижимая тайна. В конце концов все эти направления должны впадать в акосмизм: они должны признавать подлинным бытие Божества единого, Абсолютного, недвижного, а движущийся множественный мир, заключающий в себе внутренние конфликты,—нереальным в онтологическом смысле этого слова. Самое интересное, на что следовало бы обратить внимание, это то, что последователи отвлеченного монизма, по странной иронии мысли, впадают в своеобразный непреодолимый дуализм: они вносят резкий разрыв между едиными бездвижнымв своем абсолютном совершенстве Божеством, с одной стороны, и миром и человеком - с другой, миром движения исторической судьбы, миром трагических конфликтов, миром множественным, со всеми связанными с множественностью противоречиями, они вносят такую противоположность, такую невозможность перекинуть мост от одного к другому, что это есть, конечно, крайняя и непреодолимая форма дуализма. Чтобы избежать такого дуализма, нужно отвергнуть форму монизма, признающую подлинно существующим лишь единое бездвижное-Абсолютное. Эта форма монизма влечет к непреодолимому дуализму. И всякая философия, и всякая форма религиозного сознания, допускающая не только момент монистический, но и дуалистический, преодолевает безнадежность такого дуализма; она перебрасывает мост между двумя мирами, постигает смысл и судьбу множественного и трагически переживающий свою историю мир и человека рассматривает в связи с судьбой самого Абсолютного, с заложенной в нем, предопределенной в нем внутренней драмой, которая свершается в недрах самой абсолютной божественной жизни.
В каком отношении стоит такое понимание природы абсолютной Божественной жизни в двух его основных формах, которые я пытался охарактеризовать, к христианскому сознанию? Это сложный и спорный вопрос, потому что по официальному догматическому учению Церкви, по преобладающей церковной философии может казаться, что для христианского сознания совершенно неприемлемо всякое допущение возможности движения, возможности исторического процесса в недрах Божественной жизни. Очень распространено в христианской мысли то учение, в силу которого принцип движения и трагической судьбы на природу Божества не распространяется. Но я глубочайшим образом убежден, что христианское учение о неподвижном покое Бога, о бездвижности Абсолютного и распространимости принципа истории лишь на сотворенный мир, мир относительный, отличный по существу от мира Абсолютного, что все это учете есть учение экзотерическое, внешнее, которое не говорит о самом внутреннем, о самой сокровенной эзотерической истине в учении о Божестве. Можно даже сказать, что такое учение о неподвижности самой Божественной жизни, и такая боязнь признать ее подвижность, признать существование внутренней трагедии в жизни Божественной, находится в разительном противоречии с самой основной тайной христианства — с христианским учением о троичности Божества, с христианским учением о Христе как центре этой Божественной жизни, с христианской мистерией Голгофы. Потому что, поистине, христианство в самой глубочайшей глубине понимает сущность бытия, подлинную действительность и подлинную реальность как внутреннюю мистерию, как внутреннюю драму, трагедию, которая есть трагедия Божества. Потому что, поистине, судьба Распятого на кресте Сына Божьего, что составляет самую глубочайшую тайну христианства, есть не что иное, как трагическая страстная мистерия, переживаемая Божеством потому, что она предполагает перенесение принципа движения, внутреннего трагического конфликта на природу Божественной жизни. Если сам Христос, Сын Божий, переживает трагическую судьбу, если историческая судьба, если историческое движение, есть и в Нем, то это есть не что иное, как признание трагедии, переживаемой Божественной жизнью. Нельзя утверждать трагической судьбы Божьего Сына, искупительной смерти Его, и вместе с тем не признавать движения в самой Божественной жизни. Этим самым утверждается для христианского сознания возможность перенесения принципа трагического движения и на внутреннюю природу Божества. И, поистине, благоприятен для отрицания движения в природе Божества тот чистый тип монизма, который отрицает троичность Божества и считает признание троичности Божества внесением начала множественности в Божественную жизнь. Между тем вся тайна христианства заключается в этом внесении троичного начала и в разыгрывающейся внутри троичного начала страстной трагической судьбе Именно такое понимание природы Абсолютного предопределяет для христианства самое творение мира. Поистине, для христианского сознания мир сотворен потому, что был Бог-Сын. Сотворение мира Богом-Отцом есть момент глубочайшей тайны отношения между Богом-Отцом и Богом-Сыном. Само движение для глубинного христианского сознания, сама возможность процесса определяется тем, что в самой глубине жизни Божьей, в глубине жизни духовной, в самой глубине этой жизни открывается тайна Божья, раскрывается внутренняя страстная жажда Божья, внутренняя тоска по своему Другому, по тому Другому, который может быть для Бога объектом величайшей, беспредельной любви, тоска Божья и любовь к тому Другому и беспредельная жажда получить от Другого взаимность, быть любимым. Эта внутренняя •трагедия любви Божьей к своему Другому и ожидание ответной любви и есть та сокровенная тайна Божественной жизни, с которой связано творение мира и творение человека. Потому что сотворение мира и человека было не чем иным, как таким внутренним движением, такой внутренней, полной драматизма историей в жизни Божества, историей Божественной любви между Богом и своим Другим. И в троичном понимании Бога второй лик Божественной Троичности, лик Сына Божьего, понимаемый как беспредельная любовь, и есть сердцевина как Божественной трагедии, так и трагедии мировой, и судьбы мировой. Тут происходит внутреннее соединение этих двух судеб: исторической судьбы Божественной жизни и исторической судьбы жизни мировой, жизни человеческой. Такое понимание глубины жизни Божественной, жизни духовной, без которого невозможно постигнуть возникновение истории и подлинной судьбы мировой и человеческой, связано с тем, что глубина духовной жизни понимается динамически, как творческое движение и как трагическая судьба.
Существует ли какое-нибудь основание для понимания глубины духовной жизни, духовной действительности, как неподвижности, как покоя, как противоположности всякой исторической судьбе? Я думаю, что это один из основных, глубочайших не только религиозных, но и философских вопросов, который проводит раздельную линию на протяжении всей истории человеческого самосознания: по одну сторону — динамическое понимание духовной действительности, по другую — статическое понимание ее, как покоя. Уже в греческой философии, в которой предопределены, в сущности, все основные типы философских направлений, раскрывавшихся на протяжении всей дальнейшей истории, уже там зачались вечные образцы обоих этих основных типов. Так, Парменид и элеаты понимали глубочайшую духовную действительность, Божественную действительность, подлинную реальность, метафизически сущее, как единое и бездвижное, в то время как Гераклит,— один из величайших философов мира, понимал метафизическую действительность как огненное движение. На протяжении всей истории философского самосознания происходит столкновение и борьба этих двух типов, и нужно сказать, что в философии всегда преобладал тип Парменидовский - учение о бездвижности, статичности подлинно сущего, о метафизически нереальном, не сущем характере мира движения, мира исторических судеб. Вот эта закваска, эта философская традиция и явилась одним из источников внутри самого христианского сознания непонимания динамики Божественной жизни, понимания ее как неподвижной, противоположной историческим судьбам. Но эта традиция находится в непримиримом конфликте с христианской мистерией, с основной христианской тайной страстей и мук Сына Божьего. Его исторической судьбы.
Обычное философское возражение, которое делается против возможности движения в недрах абсолютного, носит формальный и рационалистический характер. Это возражение заключается в том, что допущение возможности движения, возможности истории, исторической судьбы в Божественной жизни находилось бы в непримиримом противоречии с совершенством Божества, что всякое движение, всякая судьба, всякая история предполагает недостаток, несовершенство. Предположение, что внутри Божественной жизни есть какая-то нужда, какая-то внутренняя Божественная тоска, которая еще не удовлетворена и которая поэтому указывает на несовершенство самого Абсолютного, не может быть допущено. Но это формальное и рационалистическое возражение вряд ли может импонировать и вряд ли может казаться особенно уместным и сильным в приложении к глубочайшей тайне Божественной жизни. Это есть отрицание внутренней антиномичности всякого Богопознания, гладкое рационалистическое понимание природы Абсолютного, которое вырождается в мертвый деизм или отвлеченный монизм, для которого, вообще, непостижимо само возникновение мира и непонятна вся мировая судьба. С этим же успехом, нисколько не меньшим, можно утверждать не только то, что перенесение принципа исторического движения на сокровенную жизнь Божества обозначает недостаток в жизни Абсолютного, но и противоположное, что отсутствие творческого движения, творческой исторической судьбы в недрах Абсолютного тоже означает недостаток, несовершенство Абсолютного. Потому что, поистине, творческое движение есть не только восполнение недостатка и не только говорит о существовании еще не удовлетворенных запросов, но творческое движение есть и признак совершенства бытия. Всякое бытие, лишенное творческого движения, было бы ущербным бытием: один из моментов, момент творческого движения, творческой судьбы и творческой истории, в нем отсутствовал бы. Поэтому такого рода возражение, которое, между прочим, очень принято в официальной догматической христианской философии, носит печать ограниченного рационалистического мышления и, поистине, противоречит природе Божества Потому что, если есть возможность приблизиться к познанию абсолютной жизни лишь через признание антиномичности этой жизни, ибо это противоречие и есть основной признак нашего прикосновения к глубочайшей тайне жизни духа, то мы не можем к ней прикоснуться с гладким критерием нашей формальной логики. И, поистине, настоящий путь к познанию тайны духовной действительности, к познанию той Божественной жизни, в которой зачата и заложена вся мировая история, вся человеческая история, возможен не через отвлеченную философему, которая была бы построена по всем принципам формальной логики, а через конкретную мифологему. Очень важно было бы остановиться на этих двух различных путях к постижению глубочайших тайн духовной, Божественной жизни. Отвлеченной философемой они постигнуты быть не могут. Наиболее совершенна та философема, которая укладывается в рамки отвлеченного монизма, потому что тип монизма Спинозы, тип индусского монизма, тип даже гегелевского монизма (с некоторыми осложнениями, потому что у него есть процесс в Абсолютном) это есть, конечно, наименее противоречивая и наиболее совершенная философема о Божественной жизни. Но именно монизм этот находится в глубочайшем конфликте с существом христианского сознания. Наиболее существенно для монистической философии, это то, что она вообще не может разрешить проблемы мира, проблемы множественности мира, возникновения мира, истории мира, его трагических конфликтов, его трагической судьбы, его внутренне переживаемых противоречий. Поэтому я думаю, что приближение к тайнам Божественной жизни, и не только к ним, но и к исканию ключа для разрешения какой-то прикосновенной к ним тайны жизни мировой и человеческой, со всей сложностью исторической судьбы, разрешимо лишь через конкретную мифологему. Не через отвлеченную философскую мысль, построенную по принципам формальной рационалистической логики, постижима Божественная жизнь, а через конкретный миф о Божественной жизни как страстной судьбе конкретных действующих Ликов, Ипостасей Божества. Это — не философема, а мифологема. Такая мифологема была у гностиков, и поэтому гностики, при всех их недостатках, при всей мутности некоторых форм гностицизма, все же более постигали тайны Божественной жизни как исторической судьбы, чем отвлеченные философы, которые оперировали с философемами. Такая мифологема даёт возможность постигнуть существо небесной истории, этапы Божественной жизни, эоны, или возрасты, периоды Божественной жизни. Само понятие Божественных эонов есть понятие, связанное с конкретной судьбой, по существу неуловимое и непостижимое ни для какой отвлеченной философемы. Только мифологема, которая понимает Божественную небесную жизнь как небесную историю, как драму любви и драму свободы, разыгрывающуюся между Богом и Его Другим, которого Бог любит и жаждет взаимности, только признание тоски Божьей дает разгадку небесной истории и этим указывает внутренний путь к разгадке мировой и человеческой судьбы. Лишь такая свобода Бога и свобода человека, любовь Божья и любовь человеческая в их глубочайшем внутреннем трагическом соотношении, является опытным путем к постижению истоков всякой исторической судьбы, лишь в ней дается ее завязка. Некоторый антропоморфизм должен быть утверждаем не стыдливо и робко, а сознательно и смело. Действительно, лишь такое внутреннее постижение Божественной жизни и Божественной судьбы, в ее глубочайшем внутреннем родстве с человеческой судьбой и человеческой внутренней жизнью, дает разгадку тайны Божественной жизни, необходимую для разгадки метафизики истории. Только такого рода конкретная мифологема может сделать внутренне постижимым то, что совершенно непостижимо для пантеистического монизма, формально философски конструируемого. Для такого пантеистического монизма совершенно непонятно самое возникновение человека, самый смысл его судьбы, потому что, поистине, непонятно, почему в недрах единой неподвижной Божественной жизни могло зародиться то трагическое движение, которое связано с судьбой человека. Лишь постижение самой этой Божественной жизни, как внутренне родственной человеческой трагедии, делает возможным постижение смысла самого возникновения человека и самой его судьбы, то есть внутреннего соотношения между Богом и человеком, которое и есть разгадка соотношения между Богом и миром. Потому что, поистине, в центре мира стоит человек и судьба человека определяет судьбу мира, через него и для него. Только это делает постижимым смысл глубочайшей тайны и внутренней Божественной жизни, и тайны жизни множественного движущегося мира. Это и есть тайна отношений между Богом и человеком, тайна любви и свободы, тайна свободной любви. Вот это понимание внутренних отношений Бога и человека, как драмы свободной любви, обнажает и раскрывает источники истории. Поистине, вся историческая судьба и есть не что иное, как судьба человека, судьба же человека есть не что иное, как судьба глубочайших внутренних отношений между человеком и Богом. И эти внутренние отношения одинаково открьшаются для нас и в духовном опыте, и во внешних исторических судьбах. Из одного для нас должно делаться ясным и другое. Это предполагает понимание самой Божественной жизни как драмы между Богом и Его Другим, в центре которой стоит Сын Божий — совершенный Бог и совершенный человек. Поэтому тайна Христа и есть тайна отношений между Богом и человеком, трагедия свободной любви. Это — мифологема. Для меня миф не означает чего-то противоположного реальному, а, наоборот, указывает на глубочайшую реальность. Эта мифологема может быть настоящим ключом к разгадке метафизики истории.
Я говорю о вопросах, которые могут показаться очень далекими от вопросов философии истории, и, может быть, не для всех ясна здесь связь, но дальше будет ясно, почему эти предпосылки для философии истории совершенно неизбежны и необходимы, почему нужно остановиться на таких первоначальных вопросах метафизики бытия, чтобы перейти к метафизике истории. И вот, для того чтобы еще больше раскрыть свое понимание того, что история зачинается в недрах Абсолютного, в самой Божественной жизни, что в нем есть начала трагического движения (это есть настоящая предпосылка эзотерической христианской философии истории), я скажу несколько слов о том очень глубоком и своеобразном учении германской мистики, которое повлияло и на германскую философию и которое очень существенно для раскрытия и постижения возможности движения в Абсолютном. Я имею в виду учение не только величайшего германского мистика, но и одного из величайших мистиков всех времен — учение Якова Беме о "темной природе в Боге". Это имеет глубочайшую связь с тем, что я говорил, это — конкретная иллюстрация к пониманию основной предпосылки метафизики истории. Я думаю, что это одно из самых значительных открытий германского духа. Поистине, германский дух сделал наиболее изумительные свои открытия в старой германской мистике и дальше развил их в германской философии, отчасти в германском искусстве и вообще в германской культуре. Я думаю, что в первооснове этой духовной культуры лежит постижение бытия, постижение глубочайшего, первичного бытия,как иррационального и темного по своей основе (не в смысле злого, потому что тьма эта заложена до самого возникновения различия между добром и злом). Где-то, в несоизмеримо большей глубине, есть Ungrund, безосновность, к которой неприменимы не только никакие человеческие слова, неприменимы не только категории добра и зла, но неприменимы и категории бытия и небытия. Это глубже всего, и это и есть первоначальный исток, который составляет, как учит Беме и вслед за ним Шеллинг, "темную природу в Боге". Что в природе Бога, глубже Его, лежит какая-то изначальная темная бездна и из недр ее совершается процесс теогонический, процесс Богорождения; этот процесс есть уже вторичный процесс по сравнению с этой первоначальной безосновной, ни в чем не выразимой бездной, абсолютной, иррациональной, не соизмеримой ни с какими нашими категориями. Есть какой-то первоначальный исток, ключ бытия, из которого бьет вечный поток, и в этот вечный источник извечно вносится Божественный свет, в нем совершается акт Богорождения. Признание такой иррациональной, темной первоосновы и есть один из путей к раскрытию и постижению тайны возможности движения в недрах Божественной жизни. Потому что существование такого первоначального темного источника, такой первоначальной темной природы обозначает возможность трагической судьбы Божественной жизни. Если в Божественной жизни разыгрывается трагедия страстей, какая-то Божья судьба, в центре которой стоит страдание самого Бога, Сына Божьего, если совершается в этом страдании искупление мира, избавление мира, то это может быть объяснимо только тем, что есть глубинный источник такого трагического конфликта, трагического движения и трагических страстей в недрах самой Божественной жизни. Это есть то, что отрицается всякой гладкой рационалистической теорией о Божестве, всеми приглаженными учениями, которые так панически боятся перенести трагическое движение на Божественную жизнь, потому что говорят о Божестве, лишенном всяких внутренних противоречий и всяких внутренних конфликтов, то есть логизированном и рационализированном до конца. Это величайшее открытие сделано германскими мистиками и если не впервые, то с наибольшей силой явлено в их творениях. Оно определило, в значительной степени, судьбу всей германской философии, потому что, поистине, во всей германской философии раскрывается то, что в первооснове бытия лежит некоторое иррациональное волевое начало и что весь смысл и вся сущность мирового процесса заключается в просветлении этого темного иррационального начала в космогонии и теогонии. Отсюда можно сделать вывод, который и будет предпосылкой моей метафизики истории: земная судьба предопределяется небесной, в небесной жизни совершается трагедия просветления и избавления через Божественные страсти, трагедия, которой определяется процесс просветления в истории мира.
Такое понимание Абсолютного, характерное для германской мистики и отчасти для германской философии, в особенности философии Шеллинга и еще более Баадера, совпадает и с более глубинным пониманием христианства. Все это приводит нас к тому, что, прежде чем дальше развивать нашу метафизику истории, мы должны раскрыть первоначальную мистерию, совершающуюся в недрах бытия, первоначальную драму бытия. В чем она заключается? Эта драма есть драма соотношений между Богом и человеком. Как мы постигнем эту первоначальную драму? Я думаю, что эта первоначальная драма или мистерия христианства есть мистерия рождения Бога в Человеке и Человека в Боге. Поистине, в основе христианства лежит тайна рождения Бога в человеке и рождения человека в Боге. В большей или меньшей степени в разные периоды христианства раскрывается та или другая сторона этой тайны. В судьбе исторической более раскрывается тайна рождения Бога в человеке. Если рождение Бога в человеке есть центральная точка мировой судьбы, судьбы человеческой, земной судьбы этого мира, то есть не менее глубокая тайна, которая в то же время свершается и в самих недрах Божественной жизни,— тайна рождения человека в Боге. Потому что, если есть тоска человеческая по Богу и ответом на эту тоску является откровение Бога в Человеке и рождение Бога в человеческом духе, то есть и тоска Божья по человеку и рождение в Боге человека, тоска по любимому и любящему в свободе, и ответом на эту тоску — рождение человека в Боге. Свершается тайна антропогонического процесса. Это есть ответное движение на движение Божье. Если есть движение Божье, в котором рождается Бог, то есть и ответное движение, в котором рождается человек, открывается человек,—движение человека к Богу. Это и есть первоначальная мистерия духа, первоначальная мистерия бытия, которая есть вместе с тем и центральная мистерия христианства. Потому что в центральной точке христианства, в лике Христа - Сына Божьего, соединяются две тайны. Поистине, в образе Христа совершилось рождение Бога в Человеке и рождение человека в Боге, в этой тайне осуществилась свободная любовь между Богом и человеком, и не только в совершенстве открылся Бог, но и в совершенстве открылся человек, открылся для Бога впервые совершенный человек, как ответ на движенье Божье. Это внутренний сокровенный процесс в самой Божественной действительности, это - какая-то глубочайшая Божественная история, которая отражается и во всей внешней истории человечества. Поистине, история -не только откровение Бога, но и ответное откровение человека Богу. Вся сложность исторического процесса заключается во взаимодействии и во внутреннем взаимодействии этих двух откровений, потому что история есть не только план откровения Божьего, но и ответное откровение самого человека, и поэтому история есть такая страшная,,такая сложная трагедия. Если бы история была только откровением Бога и восприятием, по ступеням, этого откровения, то не была бы она столь трагичной. Трагедия, драма истории, предопределенная в самой Божественной жизни, определяется тем, что тайна истории есть тайна свободы. Тайна свободы и есть тайна не только того, что свершается откровение Божье, но и того, что свершается ответное откровение человеческой воли, откровение человека, ожидаемое Богом в самих недрах Божественной жизни. Мир потому зачался, что Бог изначально возжелал свободы. Если бы Он не возжелал и не ждал свободы, то мирового процесса и не было бы. Вместо мирового процесса было бы неподвижное, изначально совершенное царство Божье, как необходимая предопределенная гармония. Только потому мировой процесс есть страшная трагедия, только потому совершается кровавая история, только потому в центре истории стоит распятие, крест, на котором распят сам Сын Божий, только потому в центре стоит страдание Бога, что, поистине, Бог захотел свободы, что первоначальная мистерия мира, первоначальная драма мира есть мистерия и драма свободы в отношениях между Богом и Его Другим, тем, кого Бог любит и кем хочет быть любимым, и лишь в свободе — смысл этой любви. Эта первоначальная, рационально непостижимая, в своем первоисточнике совершенно иррациональная, ни на что не сводимая свобода, и есть разгадка трагедии мировой истории. В этой свободе совершается не только откровение Божье человеку, но и ответное откровение человека Богу, потому что свобода и есть источник возникновения движения, процесса, внутреннего конфликта, внутренне изживаемого противоречия. Поэтому связь между свободой и метафизикой истории — неразрывна. В свободе коренится разгадка постижения и Божественной жизни как трагической судьбы, и жизни мировой, жизни человеческой, как трагической судьбы и истории. Если бы не было свободы, не было бы и истории. Свобода есть метафизическая первооснова истории. Откровение истории постижимо для нас, для человеческого духа, лишь через Христа, как совершенного человека и совершенного Бога, как совершенного соединения, как рождения Бога в человеке и человека в Боге, откровения Божьего человеку и ответного откровения человека Богу. Абсолютный человек — Христос, Сын Божий и Сын Человеческий стоит в центре и небесной и земной истории. Он является внутренней духовной связью этих двух судеб. Вне Его непостижима связь между миром и Богом, между множественным и единым, между мировой действительностью, действительностью человеческой и действительностью абсолютной. История потому только и есть, что в сердцевине ее есть Христос. Христос и есть глубочайшая мистическая и метафизическая основа и источник истории, драматической, трагической судьбы ее. К Нему идет и от Него идет Божественное, страстное движение и мировое человеческое страстное движение. Без Христа его не было бы и оно было бы непонятно. В еврейском народе потому и зачалась история, что там было мистическое предчувствие, в котором зачата связь между небесной и земной историей. Через Христа, поистине, метафизическое и историческое перестают быть разделенными, делаются соединенными и отождествленными, Само метафизическое делается историческим и само историческое делается метафизическим; небесная история делается земной историей, земная история постигается как момент небесной истории. Понимание первоначальной мистерии и первоначальной драмы бытия как драмы свободной любви, как того, что Бог захотел свободы, есть обратная сторона того, что Бог захотел человека, затосковал по человеку, если говорить об этом в терминах и выражениях мифологемы, а не отвлеченной философемы. И то, что Бог захотел человека, это значит, что он захотел свободной любви его. На этом основалась и на этом разыгралась тема всемирной истории, всемирной исторической судьбы. Это будет красной нитью проходить через все мои чтения, когда я буду говорить о том, как в разных этапах мировой истории разыгрывается трагедия первоначальной мистерии, отображенная в нашей множественной действительности, трагедия отношений между Богом и человеком, мистерия свободной любви, со всеми страданиями и непримиримыми противоречиями, которые присущи этой первоначальной мистерии. Потому что, поистине, в свободной любви заключена не только тема всемирной истории, но в ней дано уже и разрешение этой темы не через необходимость, а через свободу. Тема эта придает мировой истории тот страшный и кровавый характер, который многих заставляет усомниться в том, что существует промысел Божий, и заставляет думать, что вся история мира есть отвержение Его существования. Непримиримой кажется такая страшная судьба, такое торжество векового злого начала над добрым с существованием Божьего Промысла. Но если понять само бытие Божье и изначальную мистерию жизни как мистерию свободной любви, то возражение это делается не только не верным, но, наоборот,— именно трагическая страдальческая и мучительная судьба всей мировой истории является только манифестацией этой внутренней мистерии любви, манифестацией того, что судьба мира задана в непостижимой тайне свободы, которая и породила все те муки мировой и человеческой жизни, которые могли бы быть прекращены необходимостью, могли бы быть прекращены Божьим принуждением. Но это противоречило бы^воле Божьей о свершении человеческой судьбы в свободной любви. Поэтому все уклоны всемирной истории, которые стремились создать гармонию, победить темное начало, справиться с непокорной свободой, заменив ее принуждением и необходимостью в добре, обозначали лишь вторичный признак этой единой и первоначальной мистерии Божественной свободы. Они характерны и, в свете христианского сознания, должны быть раскрыты как соблазн, всегда сопутствующий судьбе человека. Величайшая тайна христианства, которая положена в основу христианской церкви,—тайна благодати и есть не что иное, как христианству ведомое примирение и преодоление рокового конфликта между свободой и необходимостью. Это — преодоление и "роковой" свободы, и "роковой" необходимости. Слово "роковой" здесь — образ несовершенный и не адекватный внутреннему существу самих реальностей, отражающий несовершенство наших слов и нашего языка. Свобода заключает в себе такое темное иррациональное начало, которое не дает никакой внутренней гарантии, что свет победит тьму, что божественно заданная тема будет разрешена, что дан будет ответ на заданную Богом тему о свободной любви. Свобода может быть "роковой", она может повести по тем путям победы тьмы, которые ведут к истреблению бытия. Такой роковой характер свободы есть уже начало необходимости Если бы мировая история определялась только одной ничем не просветленной свободой или ничем не ограниченной, связанной со свободой необходимостью, фатумом, то мировой процесс был бы внутренне безвыходен; он не нашел бы себе исхода в свободной любви, явленной в сердцевине мира Христом как совершенным Богом и совершенным Человеком. Ни свобода, ничем не просветленная, ни необходимость не могут дать гарантии, не могут обеспечить такого разрешения мировой драмы свободной любви. Поэтому и есть благодать, которая означает разрешение конфликта между свободой и необходимостью в каком-то таинственном замирении свободы с Божественным фатумом. Благодать не противоречит свободе, благодать находится во внутреннем тождестве со свободой, благодать побеждает иррациональную тьму свободы и ведет ее к свободной любви. Поэтому основная тайна христианства связана с благодатью, то есть с преодолением конфликта между роком свободы и роком необходимости в свободной любви. Именно в благодати реализуются отношения между Богом и человеком и разрешается поставленная тема Божественной драмы. Поэтому во всемирной истории, в судьбе мира и судьбе человека действует не только свобода человеческая, не только природная необходимость, но действует и Божественная благодать, без которой судьба эта не была бы осуществлена и мистерия не могла бы совершиться.
Это —один из основных моментов всякой христианской философии истории, которая имеет своим предметом раскрытие человека в истории. В истории происходит очень сложное взаимодействие трех начал начала необходимости, начала свободы и претворяющего начала благодати. Соотношение этих трех начал и определяет всю сложность исторической судьбы человека, в них нужно видеть первоначальные метафизические силы, действующие в истории. Так, в судьбе гуманизма, который будет в центре моего внимания, ясно раскроется это взаимоотношение между благодатью, свободой и необходимостью. Весь мировой процесс стоит под знаком Человека, Человека не с маленькой буквы, а с большой, в сердцевине его лежит судьба Человека, которая определяется первоначальной Божественной драмой. Лишь миф о Человеке как центре этой мировой судьбы и моменте в самой божественной судьбе дает разгадку основной проблемы метафизики истории и предопределяет те основные духовные силы, которые здесь действуют. Лишь связь между процессами теогоническим, космогоническим и антропогоническим дает объяснение истории как начала метафизического внутреннего и духовного, а не противо-метафизического, не противоположного внутренней духовной действительности; связь эта не разделяет, а соединяет в некотором внутреннем единстве, которое дано нам в Нашем духовном опыте. Я утверждаю, что духовный опыт человеческий, когда он действительно углублен, раскрывает эту связь между метафизическим и историческим, между небесной действительностью, которая есть углубление духовной действительности, и действительностью земной, он дает разгадку судьбы человеческой, внедренной в судьбу самого Бо-жссгва, дает разгадку истории как истории не только мировой, не только человеческой, но и истории небесной. Это приводит нас к очень сложным проблемам другого порядка, проблемам о природе времени, об отношении между временем и вечностью, об отношении между прошлым и будущим, что составляет дальнейшие метафизические предпосылки нашего постижения истории, без которого настоящая метафизика истории — невозможна.
IV. О небесной истории. Время и вечность.
Основным вопросом, основной посылкой всякой философии истории является, несомненно, вопрос о значении времени, о природе времени, потому что история есть процесс во времени, временное совершение, движение во времени. Поэтому значение, которое придается истории, связано непосредственно с тем значением, которое мы придаем времени. Имеет ли время метафизическое значение? Связано ли с временем что-то существенное, идущее до глубочайшего ядра бытия, или время есть лишь форма и условие для мира явлений, для мира феноменального? Связано ли оно с подлинным бытием, или время только феноменологично, связано только с явлением и не распространяется на внутреннюю сущность бытия, на внутреннее его ядро? Несомненно, всякая метафизика, которая будет видеть в историческом что-то существенное для глубины бытия, связана с признанием онтологического значения времени, т. е. с учением о том, что время существует для самой сущности бытия. Это вопрос об отношении времени и вечности. Существует как бы непримиримая противоположность между временем и вечностью, и никакая связь между ними не может быть установлена. Время есть как бы отрицание вечности, есть некоторое состояние, никаких корней в вечной жизни не имеющее. Это — одна точка зрения. Или, быть может, само время внедрено в вечность и с ней связано? Вот вопрос, о котором я хочу говорить, который мне представляется центральным для «метафизики истории и является существенной предпосылкой для всякого понимания исторического процесса. Это ведет к признанию того, что существует как бы два времени — время дурное и время хорошее, время истинное и время не истинное. Есть испорченное время и есть глубинное время, сопричастное самой вечности, в котором этой порчи нет. Это - тот вопрос, который разделяет разные философские направления. Одно из этих философских направлений, которое является менее преобладающим в истории философской мысли и к которому я всецело примыкаю, признает, что так же, как во времени возможно вхождение вечного,—возможен и разрыв замкнутости времени и выход времени в вечность, когда какое-то вечное начало в нем действует. Время не есть замкнутый круг, в который ничто не может проникнуть из вечной действительности, а есть нечто размыкающееся. Это одна сторона. С другой стороны, эта точка зрения предполагает, что и самое время есть что-то внедренное в глубину вечности. То, что мы называем временем в нашем мировом историческом процессе, в нашей мировой действительности, представляющей процесс во времени,-это время есть какой-то внутренний период, какая-то внутренная эпоха самой вечности. Это значит, что существует не только наше земное время, в нашей земной действительности, но существует истинное небесное время, в которое это время внедрено и которое оно отражает и выражает; что существуют, по выражению старинных гностиков, зоны божественной глубины бытия. Но эти зоны указывают на то, что и для самой основы бытия существует время, что и там есть какой-то временной процесс, что временной процесс не есть только форма этой нашей замкнутой действительности, противополагаемой какой-то глубинной действительности, будто бы ничего общего с временем не имеющей. Нет, в ней есть свое небесное, свое божественное время. А это ведет к признанию того, что самый временной процесс, который есть мировой исторический процесс, совершающийся в нашем времени, зачинается в вечности, что в вечности зачинается то движение, которое совершается в нашей мировой действительности. Ложный разрыв между временем и вечностью характерен для целого ряда философских направлений, например для всякого феномента-листа, в форме ли Кантовского критицизма, или в форме английского эмпиризма, потому что всякий феноменализм считает, что между мировой действительностью, являющейся во времени, и между самой сущностью бытия, между явлением и вещью в себе не существует никаких непосредственных путей сообщения. Это — несоизмеримые сферы и положения. Оли внутренно совершенно разорваны, и соединения тут быть не может. Мы живем в мире, являющемся во времени, и в него ничего непосредственно не переходит из той глубинной и истинной действительности, которая не подвержена времени, на которую природа времени не распространена. У Канта это выражено в виде законченного учения о том, что пространство и время суть трансцендентальные формы чувственности, формы восприятия, в которых является для нас познаваемый мир. Этот мир во внешнем восприятии является в пространстве и времени, а во внутренней душевной жизни только во времени, потому что пространство не является формой внутренней, являющейся душевной действительности, но одинаково на внутреннее ядро бытия не могут быть распространены ни форма пространства, ни форма времени. Надо сказать, что и в платонизме, и в древней индусской философии нет связи между временем и внутренней сущностью бытия. Внутренняя сущность бытия понималась как безвременность, не как некий процесс, имеющий свое время и свои эпохи, а как бездвижная вечность, противоположная всякому временному процессу. Таким образом понимаемое отношение между вечностью и временем наложило своеобразную печать и на все христианское сознание, потому что и в христианском сознании тоже очень сильна та струя, которая считает, что на глубину жизни божественной не распространяется природа времени. Это непосредственно связано с тем, распространяется ли природа движения, природа процесса, на божественную жизнь? То, что я говорю, - это то же самое, но рассматриваемое лишь с другой стороны. И я думаю, что это носит экзотерический характер, не выражающий последней глубины гнозиса, когда говорят, что в божественной жизни нет никакого времени. Это значит также, что экзотерический характер имеет то положение, очень распространенное и, может быть, преобладающее в религиозном сознании, что на божественную жизнь не распространена природа истории, потому что человеческая история неразрывно связана с временем и вне времени быть не может. Если для нашего исторического процесса предполагается существование испорченного и дурного времени, то для самой глубины бытия, для жизни божественной предполагается существование какого-то хорошего истинного времени, не противоположного вечности, а представляющего внутренний момент самой вечности, некоторую эпоху вечности. Наше время, наш мир, весь наш мировой процесс - от момента его начала до момента его конца - есть эпоха, период, зон жизни вечности, период или эпоха, внедренная в вечную жизнь. Поэтому, в этом мировом процессе нет замкнутости от всех тех глубочайших сил, божественных и таинственных для нас, которые из мира вечности могут вторгаться в этот мировой процесс. Это есть глубочайшее противление тому закоснелому сознанию, для которого замкнут круг нашей мировой действительности, нашего мирового целого и происходящего с ним процесса, которое не допускает возможности вхождения в этот мир из мира иного действенных сил и влияния нашего мирового процесса в этот иной мир, в эту иную действительность, в глубину ее. Я думаю, что лишь при динамическом, а не закостенелом понимании природы мирового процесса можно построить настоящую метафизику истории.
Если такого рода замыкание существует в религиозном сознании, которое временно считало нужным закрыть этот мир от мира иного, то, с другой стороны, и в сознании научно-позитивном, и в самых крайних его формах, как в сознании материалистическом, признавалась замкнутость этого нашего исторического зона, отрицалось существование иного мира. Этим временным процессом, являющимся нашему сознанию, исчерпывается вся сущность бытия. Иного мира-нет, круг нашей действительности — замкнут. Замыкание нашей действительности ведет к отрицанию существования каких бы то ни было иных миров. Размыкание этого круга ведет к допущению существования иных миров. Для построения метафизики истории неизбежна основная предпосылка, что "историческое" вводит в самую вечность, что оно вкоренено в вечности. История не есть выброшенность на поверхность мирового процесса, потеря связи с корнями бытия,—она нужна для самой вечности, для какой-то свершающейся в вечности драмы. История есть не что иное, как глубочайшее взаимодействие между вечностью и временем, непрерывное вторжение вечности во время. Если христианство необычайно исторично, если оно конструировало историю', то это связано именно с тем, что для христианского сознания вечное является во времени, вечное может быть во времени воплощено. Христианство, в нашем времени, в нашем временном процессе, мировом и историческом, обозначает то, что вечность, т. е. божественная действительность, может внедряться во времени, разрывать цепь времени, входить в нее и являться в нем преобладающей силой. История свершается не только во времени и не только предполагает время, без которого ее нет, но история есть непрерывная борьба вечного с временным. Это есть постоянная борьба, постоянное противодействие вечного во времени, постоянное усилие вечных начал свершить победу вечности, свершить ее не в смысле выхода из времени, не в смысле отрицания времени, не в смысле перехода в то положение, которое не имеет никакой связи с временем, потому ччо это было бы отрицанием истории, а победу вечности на самой арене времени, т.е. в самом историчес^м процессе. Эта борьба вечности с временем есть непрерывная трагическая борьба жизни и смерти на протяжении всего исторического процесса, потому что взаимодействие и столкновение вечных и временных начал и есть не что иное, как столкновение жизни и смерти, потому что окончательное выделение времени из вечности, победа временного над вечностью, было бы победой смерти над жизнью, окончательный уход из временного в вечное было бы уходом из этого исторического процесса. В действительности, существует третий путь и третье начало, к которому сводится и самое существо борьбы вечности жизни со смертностью времени через внедрение вечного во временное.
История, для восприятия ее, для ее констатирования и понимания во всей полноте ее, предполагает существование конца, т.е. предполагает окончание этого мирового зона, окончание той мировой эпохи вечности, которую мы именуем нашей мировой действительностью, нашей мировой жизнью. Это есть преодоление всего тленного, временного или смертного - началом вечным, побеждающим в самой временной мировой действительности; это есть победа над тем, что Гегель называет плохой бесконечностью. Плохая бесконечность есть отсутствие конца во времени, это есть бесконечный процесс во времени, который не знает окончательной победы и разрешения. Такое понимание бесконечного процесса сделало бы исторический процесс бессмысленным, сделало бы невозможным восприятие его как трагедии, имеющей разрешение. Об этом я скажу, когда буду говорить о прогрессе и о связи прогресса с идеей конца истории. Пока же нужно установить, как предпосылку истории, что время истории, вот то время нашей ми-.ровой действительности, в котором протекает история, этот зон земной судьбы человека, находится в вечности и только потому, что история находится в вечности, время приобретает онтологическое значение. Смысл этой истории, совершающейся в этом земном зоне, заключается в том, чтобы войти в какую-то полноту вечности, чтобы этот зон, выйдя из состояния своего несовершенства, дефектности, вошел в какую-то полноту бытия жизни вечной. Эта предпосылка метафизики истории, связанная с отношением времени и вечности, ведет к постановке вплотную проблемы еще гораздо более близкой всякой конкретной истории, без которой она невозможна, которая составляет ее существо,—к проблеме отношения между прошлым, настоящим и будущим. Если историческая действительность неразрьюно связана с временем, если она есть процесс во времени, процесс временной и предполагает какое-то особое, онтологическое, существенное для бытия значение времени, то является вопрос, какое же существует соотношение между прошлым и будущим? Время нашей мировой действительности, время нашего мирового зона, есть время разорванное; оно есть время дурное, заключающее в себе злое, смертоносное начало, время не цельное, разбитое на прошлое, настоящее и будущее. Гениально в этом отношении учение о времени Бл. Августина. Время не только разорвано на части, но одна часть его восстает против другой. Будущее восстает на прошлое, прошлое борется против истребляющего начала будущего. Исторический процесс во времени есть постоянная трагическая и мучительная борьба этих растерзанных частей времени — будущего и прошлого. Эта разорванность так странна и страшна, что в конце концов превращает время в некий призрак, потому что, если мы проанализируем три части времени, момент прошлого, настоящего и будущего, то мы можем прийти в отчаяние: все три момента оказываются призрачными, потому что нет прошлого, нет настоящего и нет будущего. Настоящее есть лишь какое-то бесконечно мало продолжающееся мгновение, когда прошлого уже нет, а будущего еще нет, но которое, само по себе, представляет некую отвлеченную точку, не обладающую реальностью. Прошлое — призрачно потому, что его уже нет. Будущее—призрачно потому, что его еще нет. Нить во времени рачо рвана на три части, нет реального времени. Это поедание одной части времени другой приводит к какому-то исчезновению всякой реальности и всякого бытия во времени. Во времени обнаруживается злое начало, смертоносное и истребляющее, потому что, поистине, смерть прошлого, которую несет всякое последующее мгновение, повержение его в тьму небытия, которое несет всякое свершение во времени, и есть начало смерти. Будущее есть убийца всякого прошлого мгновения; злое время разорвано на прошлое и будущее, в середине которого стоит некая неуловимая точка. Будущее пожирает прошлое для того, чтобы потом превратиться в такое же прошлое, которое в свою очередь будет пожираемо последующим будущим. Разрыв между прошлым и будущим есть ос-ионная болезнь, основной дефект, основное зло времени на-III си мировой действительности. Если признать существование только нашего злого и больного времени, в котором прошлое и будущее разорваны, то нельзя было бы опознать и признать существование подлинной, реальной исторической действительности, которая свершалась бы в каком-то настоящем, целостном, подлинном и реальном, не разорванном и не смертоносном времени, которая свершалась бы во времени, несущем жизнь, а не смерть. Время нашей мировой действительности только внешне кажущимся образом несет жизнь; в действительности — оно несет смерть, потому что, создавая жизнь, оно повергает в пучину небытия прошлое, потому что нсякое будущее должно сделаться прошлым, должно подпасть под власть этого пожирающего потока будущего и нет той реальности истинного будущего, в которую вошла бы вся полнота бытия, в которой истинное время победило бы дурное время, в которой разрыв прекратился бы и целостное время было бы вечным настоящим или вечным сегодняшним днем; потому что время сегодняшнего дня, в котором все свершается, в котором нет прошлого и будущего, а одно лишь истинное настоящее, и было бы истинным временем. Присмотримся ближе к природе нашего плохого времени и свершающейся в нем истории. Можно ли сказать, как это сплошь и рядом говорят разные философии истории и разные точки зрения на исторический процесс, что будущее — реально, что прошлое менее реально, чем будущее, или что прошлое менее реально, чем настоящее? Если хотя бы на одну секунду допустить, что прошлое, отошедшее, те оторванные части, которые отходят в вечность, утеряли свою реальность, а подлинная реальная действительность—одно лишь настоящее и возникающее будущее завтрашнего дня, то мы должны окончательно отрицать реальность исторического, потому что реальность исторического есть не что иное, как реальность прошлого. Вся историческая действительность, с которой имеет дело история, есть действительность той оторванной части времени, которая отнесена к прошлому, в которой всякое "будущее" вытеснено в "прошлое". Как же произошло это отделение в прошлое всей исторической действительности, всех великих исторических эпох, всей великой жизни человечества, с величайшими творениями, с самыми великими, захватывающими дух эпохами,— реальность это или нереальность? Достаточно ли нам сказать, что прошлое было, и, сказав, что это прошлое было, что была история еврейского народа, древнего Египта, история Греции и Рима, история христианства, средневековья, ренессанса, реформации, французской революции,—согласиться на то, что все это бывшее, принятое в историю, не есть существенно реальное, но принадлежит к подлинной действительности, которая несоизмерима с реальностью и действительностью того будущего, которое еще не народилось, будущего завтрашнего дня, того будущего, которое будет через столетие. Эта точка зрения очень распространена, но она в конце концов ведет к отрицанию подлинной действительности исторического, потому что она ведет к такому взгляду на историческую действительность, на весь процесс исторического свершения, при котором все превращается в какие-то быстро сменяющиеся и, в конце концов, призрачные мгновения, пожираемые мгновениями последующими, и проваливающимися в бездну небытия столь же смертных мгновений. Метафизика истории должна признать прочность исторического, признать, что историческая действительность, та действительность, которую мы считаем прошлым, есть действительность подлинная и пребывающая, не исчезнувшая, не умершая, а вошедшая в какую-то вечную действительность; она является внутренним моментом, внутренним периодом этой вечной действительности, отнесенной нами к прошлому, которое нами непосредственно не воспринимается, как воспринимается настоящее только в силу того, что мы живем в испорченном, больном времени, во времени разорванном, что это есть не что иное, как отражение разорванности нашего бытия, не вмещающего цельности. Мы можем жить в историческом прошлом, как мы живем в историческом настоящем и как уповаем, что будем жить в историческом будущем. Есть какая-то целостная жизнь, которая совмещает три момента времени — прошлое, настоящее и будущее в едином целостном всеединстве, поэтому историческая действительность, отошедшая в прошлое, не есть умершая историческая действительность; не менее реальна она, чем та, которая свершается в данное мгновение, или та, которая будет свершаться в будущем и которую мы тоже не воспринимаем, а на которую лишь уповаем, которую ожидаем. Прошлое остается, пребывает, и зависит от разорванности и ограниченности нашего человеческого бытия, от того, что мы не живем в эгом целостном прошлом, что мы отрезаны от него, что мы замкнуты в мгновении настоящего,—между прошлым и будущим, и воспринимаем это прошлое как отошедшее. Оно сп, вечная действительность. Прошлое с своими историческими эпохами есть вечная действительность, в которой каждый из нас, в глубине своего духовного опыта, преодолевает болезненную разорванность своего бытия. Каждый может быть приобщен к истории постольку, поскольку он существует в целом эоне мировой действительности. Поистине, религиозное сознание не может примириться с тем, чтобы что-нибудь из Подлинно живого могло умереть, исчезнуть. Христианство — величайшая религия прежде всего потому, что она есть религия воскресения, что она не мирится с умиранием и исчезновением, что она стремится к воскресению всего подлинно существующего.
В самой нашей исторической действительности, в самой жизни, в этом дурном, разорванном времени, в котором прошлое кажется отошедшим, а будущее незародившимся и мы замкнуты в мгновении сомнительного настоящего, какое начало, какая сила ведет борьбу с этим злым, смертоносным характером времени, борьбу духа вечности, без которого невозможна была бы связь истории, цельность истории, связь времени, без которой распадение между прошлым, будущим и настоящим сделалось бы столь бесповоротным и окончательным, что состояние мира напоминало бы состояние того безумца, который окончательно потерял память, потому что, поистине, потеря памяти есть главный и основной признак сумасшествия? Память есть то начало, которое ведет непрерывную борьбу со смертоносным началом времени. Память есть борьба со смертоносною властью времени во имя вечности. Память есть основная форма восприятия реальности прошлого в нашем дурном времени. В нашем дурном, разорванном времени прошлое пребывает только через память. Историческая память — величайшее проявление духа вечности в нашей временной действительности. Она поддерживает историческую связь времен. Память есть основа истории. Без этой памяти истории не было бы, потому что если история и совершалась бы, то в этом разорванном времени так безнадежно было бы отрезано настоящее от будущего и прошлого, что восприятие истории стало бы невозможно. Все историческое знание есть не что иное, как припоминание, как та или иная форма торжества памяти над духом тления. Через память мы восстанавливаем это отошедшее от нас, умершее, удалившееся и, как будто канувшее в какую-то темную бездну, прошлое. Поэтому память есть вечное онтологическое начало, создающее основу всего исторического. Память хранит отчее начало, нашу связь с отцами, потому что связь с отцами и есть связь настоящего и будущего с прошлым. Окончательное забвение нашего отчества было бы окончательным забвением прошлого. Это было бы тем сумасшествием, при котором человечество пребывало бы в клочьях времени, в разорванных мгновениях времени, без всякой связи времен. Поэтому футуристическое чувство жизни, которое построено на культе будущего и на культе каждого данного мгновения, такое футуристическое мироощущение было бы настоящим сумасшествием человечества, при котором связь бытия была бы окончательно разорвана, т.е. была бы потеряна всякая связь времен в памяти, была бы подорвана всякая возможность восприятия этой связи. Исторический процесс имеет двойственную природу, потому что он, поистине, с одной стороны, сохраняет, а с другой - истребляет: с одной стороны, исторический процесс есть связь прошлого и будущего, с другой стороны, он есть разрыв с прошлым; он имеет природу консервативную и революционную. Лишь взаимодействие этих начал создает историю. Действие одного из этих начал привело бы к тому, что произошел бы настоящий разрыв времен; поистине, историческое свершение основано не только на том, чтобы сохранялась связь настоящего, будущего и прошлого, но также и на том, чтобы прошлое продолжалось в будущем, чтобы не только не было допущено обеднение нас великими богатствами прошлого, но чтобы мы не были лишены возможности обогащаться и творимым будущим. Поэтому совмещение этих двух начал необходимо для процесса истории. История, по своему существу, и есть такая связь, история есть связное свершение. В истории через больное и дурное время, пожирающее и истребляющее, превращающее жизнь нашу в кладбище, где, на костях умерших отцов, воздвигается новая жизнь сынов, забывших отцов, действует истинное время, не разорванное время, время, поддерживающее связь, в котором нет разрыва между прошлым, настоящим и будущим, время ноуменальное, а не феноменальное. Поэтому нет ничего важнее дня истинного исторического сознания, как установление должного отношения к прошлому и будущему. Тот исключительный культ будущего и то отворачивание от прошлого, коюрые свойственны разным теориям прогресса, подчиняют жизнь разрывающему, смертоносному началу, истребляющему связи, нарушающему цельность действительности в едином времени. Рабство у времени, у его смертоносной власти, мешает постигнуть смысл человеческой судьбы как судьбы небесной. В дурном времени происходит разрыв между метафизическим и историческим, в то время как метафизическое возникновение истории должно установить связь между тем и другим. Разрыв между вечным и временным и есть величайшее залуждение сознания, и есть препятствие для возникновении настоящей философии истории.
Теперь я перейду к последней основной предпосылке метафизики истории, потому что, в конце концов, все то, что я говорил о небесной истории, касается религиозных предпосылок истории. Такой основоположной религиозной предпосылкой истории, без которой она не может быть понята, является ирилыние начала свободы зла, лежащего в основе истории, потому что начало истинной свободы есть в то же время и признание начала свободы зла, и без этой свободы исторический процесс не может быть познан. Без этого он может быть познан во времени, в смысле установления той или иной закономерности, но это не ведет к познанию метафизики истории, не ведет в последнюю глубину истории. Древние мифы и предания идут в большую глубину и больше дают для проникновения во внутреннее существо истории. Они говорят, что начало свободы зла было заложено в основу мирового исторического процесса. В самом деле, если признать основной темой метафизики истории судьбу человека, то два основных взгляда могут быть защищаемы в этом отношении: один взгляд, который в девятнадцатом веке являлся преобладающим и, казалось по видимости, окончательно вытеснил другой,- это взгляд эволюционный, по которому человек эволюционно восходит и возвышается в мировом историческом процессе, являясь продуктом мировой жизни. Человек есть дитя мира, он есть продукт процессов развития из низших состояний; из состояния животного и полуживотного, путем эволюции и совершенствования, человек делается человеком, подымается к все более и более высоким состояниям. Это один из взглядов. Другой взгляд, который считался вытесненным научным сознанием XIX и XX века, полагает, что эволюционным процессам в судьбах человека, вторичным и частичным, предшествуют некоторые акты нисхождения, грехопадения человека, отпадения его от источников божественной жизни, от высшей правды. Это лежит в основе преданий и мифов об изначальном грехопадении, лежит в основе Библии и христианского сознания, равно как и многих других форм религиозного сознания. Религиозному сознанию более свойственно допустить, что существовал какой-то процесс отпадения человека от источников жизни, после которого уже свершается его судьба в мировой жизни, между тем как взгляд научный исключает отождествление судьбы человека с судьбой мировой и не допускает такого предмирного прошлого человека, которое заранее определяло бы его судьбу. В действительности, чисто эволюционный взгляд, последовательно проведенный, отрицает существование судьбы человека как темы метафизики истории. Допустите, что существует процесс эволюции, в котором из низших состояний человек возвышается до состояния человеческого и в человеческом состоянии совершенствуется все далее и далее по прямой линии, в которой человек определяется мировыми силами, является дитятею мира. Это не значит признать судьбу человека темой метафизики истории. Для того чтобы признать, что существует судьба человека в мировой истории, нужно признать предмирность человека, нужно признать, что судьба человека начинается и определяется до возникновения той мировой действительности, в которой свершаются все те процессы эволюции и развития, которыми эволюционная теория хочет объяснить и возникновение человека, и дальнейшее его развитие и движение. Это есть, в сущности, отрицание судьбы человека. Судьба человека предполагает существование изначальной человеческой природы, сотворенной высшей божественной природой и претерпевающей свою трагическую судьбу в мире. Предполагается, что действуют какие-то предмирные силы, определяющие человека, из которых человек черпает внутренние источники для свершения своей судьбы. Без этого ни о какой судьбе, в настоящем смысле слова, говорить нельзя. Существует судьба человека только в том случае, если человек есть дитя Божье, а не дитя мира. Я думаю, что это и есть настоящая религиозно-метафизическая предпосылка для метафизики истории: человек есть дитя Божье, претерпевающее трагическую судьбу в мире, в котором есть процесс ниспадения и процесс развития, потому что в основе этой судьбы, в самих ее Источниках, лежит первородная свобода, которой дитя Божье Пыло наделено и которое являлось истинным отображением Творца. Эта свобода, которой наделен человек, как дитя Божье, потому и явилась источником трагизма его судьбы, трагизма истории, со всеми конфликтами и ужасами, что свобода, по самому существу своему, предполагает свободу не только добра, но и зла. Если бы существовала только свобода доб-ри и свобода Божья как некое предопределение в судьбе че-лонска, то не существовало бы мирового процесса. Мировой процесс и исторический процесс существуют потому, что в ос-нопг чаложена свобода добра и зла, свобода отпадения от источника высшей Божественной жизни, свобода возвращения и прихождения к ней. Эта свобода зла и есть настоящая основа истории. И древнее предание о грехопадении человека, о грехопадении Адама и Евы, которое в форме краткой истории рассказывает о том, что свершилось в истории бытия до возникновения мирового процесса, есть повесть о зачинании него рии, лежащем за гранью, отделяющей наше время от вечности. Это первичное действие, передаваемое в древнем мифе, в древнем предании, совершилось не в пределах нашего времени, а в вечности и зачалось в вечности. Оно породило порчу нашего времени, то зло нашего времени, которое связано с разрывом времени, с разрывом единого цельного времени — на прошлое, настоящее и будущее. Высшее достоинство человека и высшая его свобода — это сознание предмирного и высшего происхождения человека, начала его судьбы, в дальнейшем подпавшей действию совокупности мировых сил, которые и изучает наука со своей эволюционной теорией. Это означает не то, что все эволюционное учение ложно и неверно; iro означает лишь то, что оно имеет другой внутренний смысл. В эволюционной теории очень много верного говорится о процессе происхождения человека и о судьбе его в. мире. Но эта эволюционная история имеет дело с вторичными, а не первичными процессами и ничего не говорит о тех более глубоких началах, которые предшествуют самому возникновению нашей мировой действительности, самому возникновению нашего времени, тех процессов, о которых говорят религиозные предания и которые доступны лишь для метафизического познания. Поистине, тут происходит не столкновение этих двух точек зрения, а объяснение одной другою. Влияние среды на человека, которое изучает эволюционная научная теория, происходит, но происходит в его вторичной судьбе, в нашем мировом круге, который мы объясняем из некоторых событий, происшедших до возникновения нашей мировой действительности, в какой-то более глубокой действительности, в действительности предмирной. Тогда только постигается история человеческая как свободное испытание человеческих духовных сил и как искупление первоначального зла отпадения, которое совершилось в силу присущей человеку свободы. Величайший смысл этой свободы, определяющей судьбу человека нашей временной мировой действительности, бросает свой отсвет и на самую судьбу человека в пределах истории. Он говорит о том, что в пределах самой мировой истории всякое принуждение и не свободное осуществление высшей Божьей воли и высшей Божьей правды Богу не нужно, что Богом должно быть отвергнуто и совершенствование человека как результат процессов необходимости, как принуждение. Все несвободное нежеланно для Бога. Поистине, можно было бы сказать слова, с которыми Великий Инквизитор обращается с укором к Христу, но это можно было бы сказать не с выражением укора, а с выражением хвалы, как величайшую религиозную истину о сущности человеческого существования. Великий Инквизитор говорит: "Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за Тобой, прельщенный и плененный Тобою". Свобода, по существу своему, есть начало трагическое —начало трагического раздвоения, расщепления заложено в изначальной свободе, и без свободы такая трагическая судьба немыслима. Мыслим лишь процесс развития или процесс разложения, но не судьба в истинном смысле слова. Судьба —и в этом заключается величайшее откровение христианского мира, которое отличает его от мира античного,-опирается на свободу, в то время как античный мир не понимал свободы. Это мы видим в судьбе античной трагедии, которая была основана на роке. Чувство свободы в древнем языческом мире было утеряно, существовало лишь темное ее предчувствие. В христианском мире это в корне меняется. В христианском мире судьба человека связывается с изначальной свободой, поэтому можно сказать, что лишь христианское сознание пришло к идее Промысла Божьего, положенного в построение первой философии истории — построение Бл. Августина. Промысел Божий не есть необходимость, не есть насилие, а есть антиномическое сочетание Божьей воли с человеческой свободой.
Как же начинается, с точки зрения этого древнего предания об изначальной свободе человека и поэтому об изначальном отпадении, как начинается историческая судьба человека на земле? В нашей мировой действительности, в нашем времени, историческая судьба человека начинается с погружения Человека в недра природы, то есть, по теософической терминологии, с инволюции. Произошло то погружение в природу, необходимость которого была результатом свободного отпадении от высших божественных источников жизни, после чего сама свобода была утеряна и превратилась в некоторую внутреннюю необходимость и скованность. С первобытного зла начинается его естественная природная судьба, которую изучают биология, антропология и социология. Это судьба человеческая, погруженная в природу, судьба не дитяти Божьего, не свободного духа, сотворенного по образу и подобию Божьему, судьба естественного природного существа, дитяти мира. Человек был и на протяжении всей истории остается двойственным существом, сопричастным двум мирам — высшему Божьему миру, который он в себе отображает, миру свободному, И миру природно-естественному, в который человек погружен, судьбы которого он разделяет и который многими путями действует на человека и связывает его по рукам и ногам нисюлько, что сознание его затемняется, забывается высшее происхождение его, сопричастность его высшей духовной действительности. Эта зависимость от природы, от погруженности в естественную необходимость, это выпадение из высшей Божьей действительности, от которой человек получил свою сиободу, в какую-то другую природную действительность, от которой он получает образ необходимости и которая запечатлевает на нем свой закон, — на первых ступенях человеческой истории отражается в процессе мифологическом, в том процессе сознания, который дан в первоначальной мифологии. У Шеллинга гениально раскрывается учение о мифологии как повторении в человеческом духе и сознании процессов природы. История естественного процесса природы, космогонического образования природы, отражается и повторяется в человеческом сознании, в человеческом духе на первоначальных стадиях человеческого сознания в форме мифологии; поэтому мифологическое сознание полно космическими мифами, в них раскрывается человек как природное существо, связанное с духами природы, раскрывается связь его с тем первоначальным процессом миротворения и образования мира, который лежит глубже самого отвердения материи, того отвердения материи, с которого научное сознание начинает рассматривать процесс эволюции мира. Еще до самого этого отвердения материи происходили какие-то глубокие процессы природы, в которые была внедрена судьба человека, отпавшего от высшего источника духовной жизни, и с которыми она тесно переплетена. Поэтому, можно сказать, что первоначальная история человека, доисторическая его история, есть некоторый религиозный мифологический процесс. Мифология есть первоначальный источник истории человека. Это - первая страница повести о земной человеческой судьбе после его небесной судьбы, после пролога, свершившегося в небесной истории. После пролога, повествующего о внутреннем отношении между Богом и человеком, о свободе человека и человеческом отпадении, начинается следующий акт, который свершается уже в природном мире в форме мифологического процесса. Этот мифологический процесс — второй акт в вечности и первый акт в земной человеческой истории. В самой глубочайшей глубине времени, в той глубине, в которой свершается первичная судьба человека, первичное его нисхождение к грани, резко отделяющей время нашей действительности от вечности, в этой глубине первоначальной стадии нашего исторического времени воспринимаются моменты, еще причастные к вечности, и лишь в дальнейшем, уже в другом времени, происходит затвердение, замыкание нашего мирового зона, который начинает противополагаться вечности. То, что мы называем небесной вечностью, удаляется в трансцендентную даль, которая из этого мира оказывается изъятой. Но в первоначальных религиозных мифах, в преданиях человечества все эти грани между вечностью и временем еще не резко проведены, и это и есть одна из величайших тайн, затрудняющих постижение древней религиозной жизни. Наше сознание так свыклось с нашей мировой действительностью, с ее замкнутостью и границами, отделяющими земную действительность от вечности и от другого истинного времени, что нам очень трудно разбить эту затверделость нашего сознания и пробиться к тому первичному сознанию на заре человеческой судьбы, когда граней этих еше не было. В Библии, в первоначальных религиозных преданиях, в первоначальных мифах мира нет такой грани, поэтому так трудно понять это переплетение истории земной и небесной, времени и вечности: все происходит как будто на этой нашей земной планете, в этом нашем времени, в этой нашей мировой действительности, и вместе с тем происходит в другом времени, другом мире, до возникновения нашего мирового зона. Поэтому первоначальные исторические сведения, которые давались Библией до возникновения исторической науки, рассматривались как научное познание в области истории, географии, геологии, антропологии. Это было поколеблено дальнейшим развитием философского сознания и научных знаний; шинная наука Библии потеряла всякое значение. Но это менее всего означает, что религиозная правда, которая заключалась н библейских преданиях, в какой-либо мере может быть затронута этой научно-философской критикой, потому что религиозная правда всех преданий и мифов заключается вовсе не в том, что они дают какие бы то ни было естественнонаучные или исторические познания, которые могут конкурировать с современной историей, геологией, биологией и т. д., а в том, что они символически раскрывают какие-то глубочайшие процессы, совершавшиеся за гранями, отделяющими время нашего эонa от другой вечной действительности. Вся научно-философская критика не может быть распространена на этого рода откровения. Поскольку религиозно-церковное сознание пыталось выдавать себя за науку обязательного характера, оно ставилось во враждебное отношение к науке и тем самым делало беззащитной религиозную истину. Но для религиозно-философского сознания ясно, что эти области могут быть разграничены. Религиозный смысл, скрытый в древних преданиях и в древних мифах, не представляет из себя науки, объективного знания и не может конкурировать с ним, а представляет из себя раскрытие истин гораздо более глубоких, распространяющихся на совершенно другие сферы. Великая истина Библии, в которой дана точка пересечения, встречи небесной истории с земной историей, начало небесной судьбы человека и начало его земной судьбы, должна быть истолкована и философски и религиозно не в свете ветхозаветном, а в свете новозаветном. Нужно сказать, что внутри самого христианства преобладало ветхозаветное истолкование Библии; вся библейская космология и антропология преломленлены в ограниченности того сознания, которое было свойственно ветхозаветному человеку. Вот эти границы, в которых раскрывалась Божественная истина ветхозаветному человеку, отпечатлелись и на Библии, откровение ее преломилось в человеческой ограниченности и передалось и на более высокие ступени духовного сознания в этой ограниченности. Применение церковно-религиозного сознания к библейским истинам как бы принимает те границы откровения в ветхой природе человека, в судьбе еврейского народа и судьбе тех народов, с которыми еврейский народ был неразрывно связан. Это отпечатлевается и на сознании уже христианско-новозаветном и ставит ему известные границы. Христианская антропология и космология, христианское учение о происхождении человека, носит, в своей преобладающей форме, печать ограниченности ветхозаветного человека. Это отпечатлевается на христианской догматике и кладет печать на христианскую метафизику истории, потому что она имеет связь с антропологическими и космологическими учениями в библейских границах. Ветхозаветное библейское сознание мешает создать истинную метафизику истории, потому что метафизика истории, в своих основных посылках, должна разорвать те границы ветхого сознания человека, которые еще неокончательно преодолены и в христианстве, потому что метафизика человека в сознании ветхого Адама, раскрывающаяся в древних откровениях человечества, продолжает ставить свои границы и в новозаветный период человеческой истории. Это влияет на построение метафизики истории. Необходима переработка и претворение внутренней истории человека, в свете новозаветном, в свете нового Адама, нового человека, для которого не существует уже того гнета, под которым жил ветхий человек, гнета природной необходимости и гнета гнева Божьего, который делал невозможным встречу с Богом лицом к лицу, о котором говорится, что если бы человек увидел лицо Божье, то был бы испепелен. Это ветхозаветное чувство Бога, это чувство природы, этот ветхозаветный страх Божьего гнева, который почувствовал человек после ниспадения в низшую сферу природной жизни, и то преодоление этого чувства через новозаветное откровение нового Адама, которое делает Бога бесконечно близким человеку, и то чувство свободы в новозаветном сознании от духов природы, от демонов природы, терзавших человека в мире античном,— это является основой судьбы человека во всей его христианской истории. Вся христианская история человечества тем и отличается от истории мира языческого и мира библейского, что в нем произошел какой-то внутренний духовный сдвиг, после которого человек внутренне начал освобождаться, с одной стороны, от власти демонов природы через тайну искупления, с другой стороны, от подавленности Богом еврея, который ощущал Бога как далекую от него, грозную и гневную силу, непосредственная встреча с которой страшна и опасна для человека. В свете этого нового откровения и этой новой человеческой природы может быть осмыслена не только вся христианская новая история, но и вся древняя история и вся библейская история. Этот процесс в пределах христианского сознания до сих пор еще недостаточно выявился, и нужно сказать, что новозаветное раскрытие истины библейской скорее было достоянием отдельных великих мистиков, как, например, Я. Беме, в его "Mysterium magnum", a не преобладающей христианской философией. Для философии истории это является краеугольным камнем. Основным в философии истории, с точки зрения той новой человеческой природы, которая раскрывается со времени христианства, является то, что весь мировой процесс становится под знак нового Адама — Христа. Начинается совершенно новая эра в постижении сущности и смысла истории. На этом кончается то, что я понимаю под небесной историей человека, и начинается переход к его земной истории, к земной его судьбе. В судьбе еврейского народа я вижу точку пересечения, наиболее острую встречу этой небесной и земной судьбы. Поэтому философии чемной судьбы человечества может быть начата с философии еврейской истории, философии судьбы еврейского народа. Здесь нужно искать оси всемирной истории. Тема, поставленная в судьбе еврейского народа, разрешается на протяжении осей всемирной истории.
V. Судьба еврейства.
Еврейству принадлежала совершенно исключительная роль в зарождении сознания истории, в напряженном чувстве исторической судьбы, именно еврейством внесено в мировую жизнь человечества начало "исторического". И я хочу обратиться вплотную к самой исторической судьбе еврейства и его значению во всемирной истории как одного из непрерывно действующих и до наших дней мировых начал, обладающих своей специфической миссией. Еврейство имеет центральное значение в истории. Еврейский народ есть, по преимуществу, народ истории, и в исторической судьбе его чувствуется неисповедимость Божьих судеб. Историческая судьба этого народа не может быть объяснена позитивно-исторически, потому что в ней наиболее ясно проявляется "метафизическое" и та грань между метафизическим и историческим, о которой я говорил как о препятствии для постижения внутреннего смысла истории, именно здесь, в судьбе еврейского народа, исчезает. Я вспоминаю, что в дни моей юности, когда меня привлекало материалистическое понимание истории, когда я старался проверить его на судьбах народов, мне казалось, что величайшим препятствием для этого является историческая судьба еврейского народа, что с точки зрения материалистической судьба эта совершенно необъяснима. Нужно сказать, что со всякой материалистической и позитивно-исторической точки зрения этот народ давно должен был бы перестать существовать. Его существование есть странное, таинственное и чудесное явление, которое указывает, что с судьбой этого народа связаны особые предначертания. Судьба эта не объясняется теми процессами приспособления, которыми пытаются объяснить материалистически судьбы народов. Выживание еврейского народа в истории, его неистребимость, продолжение его существования как одного из самых древних народов мира в совершенно исключительных условиях, та роковая роль, которую народ этот играет в истории, - вес это указывает на особые, мистические основы его исторической судьбы. История еврейства есть не только феномен, но есть и ноумен в том особом смысле, на который я указывал уже, говоря о противоположении феномена и ноумена в истории. Я говорил уже, что в историческом открываются нс только внешние явления, но может обнаруживаться и самый ноумен, само существо бытия. Это - особенность судьбы еврейского народа, необъяснимость его судьбы как древней, дохристианской, так и судьба его уже в христианскую эру. Всемирно-историческая роль еврейства, в сущности, не может быть поколеблена научной критикой традиционной библейской истории, таинственность этой судьбы остается неприкосновенной. Совершенно особая причастность еврейства к "историческому" и исключительная напряженность, внесенная им в историю, этой критикой не задевается. Вокруг судьбы еврейства разыгрывается особо напряженный драматизм истории. В чисто арийском духе такой напряженности нет. В арийстве есть некоторая пресность. Как ни значителен дух Греции, дух Индии, быть может, даже превосходящий дух еврейского народа, - остается несомненным неисторический характер этого духа и этого склада культуры. Судьба истории, драматизм истории, напряженность исторического действия и исторического движения из этого духа непосредственно не вытекают. Индия остается образцом очень древней культуры, по существу не исторической, застывшей в глубине своих внутренних духовных созерцаний, но не вошедшей в непосредственное, драматическое действие всемирной истории. То же самое можно сказать, в другом смысле, и о Греции. В Греции дано было откровение арийского духа в величайших созерцаниях художественных и философских, не превзойденных ни одной культурой мира, но это есть замкнутый статический космос, в котором напряженного исторического действия нет. Греция в конструировании "исторического" дала очень мало. С чем это связано? "Историческое" имеет религиозную основу. Это является основной предпосылкой того, что основа исторического лежит в той или другой форме религиозного сознания. В религиозной природе еврейского народа и еврейского духа заложено такое начало, которое должно было определить его напряженный исторический характер, его напряженную историческую судьбу. Прежде всего; если сравнить еврейскую религию с другими дохристианскими религиями, религиями языческими, то можно сказать, на что не раз уже указывалось, что еврейская религия есть откровение Бога в исторической судьбе народа, в то время как языческие религии были откровения Бога в природе. Это различие религиозной основы языческих арийских религий от религии еврейской определяет историчность еврейского народа. Еврейская религия проникнута мессианской идеей, которая стоит в ее центре. У Израиля было ожидание дня суда, выхода из той горестной исторической судьбы, которую народ переживает, переход в какую-то всеразрешающую новую мировую эпоху. Мессианская идея определяет исторический драматизм этого народа. Обращенность к грядущему Мессии, страстное ожидание Его рождает двойственность религиозного сознания еврейского народа, которая составляет узел судьбы европейского народа и исторической судьбы человечества. Эта двойственность мессианского сознания обращена к историческому движению и историческому разрешению. Еврейский дух, который представляет из себя особый тип, отличный от всех других расовых типов, в XIX и XX веке сохраняет свои основные особенности, роднящие его с духом древнего Израиля. И в современном еврействе можно узнать судьбу всего того же народа, но в бесконечно разные моменты исторической жизни и судьбы. Еврейский Дух XIX и XX века перекликается с древнеевропейским духом. В нем есть иная, искаженная и извращенная форма мессианизма, есть ожидание иного Мессии, после того как истинный Мессия был еврейством отвергнут, есть все та же обращенность к будущему, все то же настойчивое и упорное требование, чтобы будущее принесло с собою всеразрешающее начало, какую-то все раз решающую правду, и справедливость на земле, во имя которой еврейский народ готов объявить борьбу всем историческим традициям и святыням, всякой исторической преемственности. Еврейский народ есть, по существу своей природы, народ исторический, активный, волевой, и ему чужда та особая созерцательность, которая свойственна вершинам духовной жизни избранных арийских народов. К. Маркс, который был очень типичным евреем, в поздний час истории добивается разрешения все той же древней библейской темы: в поте лица своего добывай хлеб свой. То же еврейское требование земного блаженства в социализме К. Маркса сказалось в новой форме и в совершенно другой исторической обстановке. Учение Маркса внешне порывает с религиозными традициями еврейства и восстает против всякой святыни. Но мессианскую идею, которая была распространена на народ еврейский как избранный народ Божий. К. Маркс переносит на класс, на пролетариат. И подобно тому, как избранным народом был Израиль, теперь новым Израилем является рабочий класс, который есть избранный народ Божий, народ, призванный освободить и спасти мир. Вес черты богоизбранности, все черты мессианские переносятся на этот класс, как некогда перенесены они были на народ еврейский. Тот же драматизм, та же страстность, та же нетерпимость, которые раньше связаны были с народом Божьим - Израилем. Еврейский народ был всегда Божьим народом, народом трагической исторической судьбы. Прежде чем Бог еврейского народа был создан как единый Бог, Творец вселенной, как Господь, - Он был Богом всего народа, народным Богом. Эта связанность идеи монотеистической, идеи единого Бога с национальной судьбой избранного народа Божьего и создала свою особенность и специфичность религиозной судьбы еврейского народа. Здесь мы сталкиваемся с другой стороной религиозного сознания арийцев, которое определило особенную историю еврейского народа. Богосознание еврейского народа было богосознание трансцендентное; оно предполагает огромную дистанцию, которая делала невозможным лицезреть Бога лицом к лицу без опасности погибнуть. Семит снизу смотрел на бесконечную высоту Бога, эта далекость и страшность Бога, это трансцендентное сознание Бога вне человека и над человеком очень благоприятствовали созданию исторического драматизма. Это и вызывает напряженное движение, драматическое отношение между человеком, народом и трансцендентным Богом, встречу народа с Богом путем истории. Типическое же богосознание арийское, которое достигает своей чистоты в сознании индусов и в древнеиндийской религии, есть сознание имманентное. ощущение Бога как находящегося в последней глубине самого человека. Но такое сознание не особенно благоприятно для исторического движения. Это вырабатывает такую форму созерцательности, такую форму углубления вовнутрь, которая противоположна религиозной жизни, создающей историческое движение вовне. Все основы религиозного сознания еврейского народа были таковы, что они были благоприятны для исторического движении. Такова конкретная идея Бога у евреев как Бога личного, у которого существует личное отношение к человеку. Это - основа истории народа. Историчность такого отношения между человеком и Богом, между народом и Богом вытекает из внешнего драматизма положения. У еврейского народа, по его первоначальному жизнеощущению, была страстная мечта о справедливости в земной судьбе народа. Я думаю, что эта другая специфическая особенность еврейского народа, требовавшая осуществления справедливости в этой земной судьбе и обращавшаяся с вымогательством к будущему, предопределяет всю сложность этой исторической судьбы. У греков, типичных арийцев, никогда не было этой мечты о справедливости. Эллинскому духу идея эта совершенно чужда. Поскольку она была в греческом духе, она являлась идеей побочной. Все это тесно связано с вопросом об отношении к индивидуальности и с тем или иным отношением к вопросу о бессмертии души. Греки более всего сделали для выработки идеи бессмертии психеи, бессмертия души. Это была особая мечта греческого народа на вершинах его духовной жизни. В орфизме, у Платона, в греческой мистике Греция приходила к этой идее. Греция выработала понятие психеи, между тем как для еврейского народа, для которого центр тяжести лежал не столько в индивидуальной судьбе человека, сколько в судьбе народа, понятие психеи было чуждо. У евреев в их религиозном сознании поражает отсутствие идеи бессмертия души почти до последнего периода истории еврейского народа перед христианством. Очень поздно пришли они к идее личного бессмертия. В еврейском понимании отношения между Богом и человеком бессмертен один Бог. Бессмертность человека казалась еврейскому сознанию преувеличивающим значение человека. Для этого сознания существовало лишь бессмертие народа. Ренан, этот блестящий, но неглубокий писатель, религиозно плоский, но не лишенный психологической наблюдательности, в своей "Истории еврейского народа", быть может, самом интересном его труде, дает блестящие характеристики еврейского народа, хотя он и перегибает дугу и недостаточно понимает религиозные судьбы еврейского народа. Так, например, он очень метко говорит: "Древний семит отверг как химеричные все формы, под которыми другие народы представляли себе загробную жизнь. Один Бог вечен; человек живет только несколько лет, бессмертный человек был бы Богом. Человек может продлить немного свое эфемерное существование лишь в своих детях". Я думаю, и это является для меня ключом для объяснения всей исторической судьбы еврейства, что в еврейском сознании столкнулась жажда еврейского народа осуществления земной справедливости, земной правды, земного блага с индивидуальным бессмертием. В мессианском сознании еврейского народа была заложена двойственность, которая и была источником роковой судьбы еврейства, потому что здесь было истинное ожидание Мессии, Сына Божия, который в еврейском народе должен был явиться, и ожидание ложного Мессии, противоположного Христу. Эта двойственность мессианского сознания привела к тому, что еврейский народ не узнал Мессию, за исключением избранной своей части в лице апостолов и немногих первохристиан. Народ не узнал Мессии в Христе, отверг Его и распял. Это - центральный факт во всемирной истории, к которому всемирная история шла, из которого она исходит и который делает еврейство как бы осью всемирной истории. В еврействе ставится тема, разрешающаяся уже во всемирной христианской истории. Дело в том, что в этом наряженном еврейском стремлении к осуществлению правды на земле, земной справедливости и земного блага есть не только какое-то истинное и религиозно оправданное начало, но есть, поистине, и какое-то ложное богоборческое начало, есть нежелание принять предначертания Божьей судьбы, есть противление Богу и божественному миропорядку, есть человеческий произвол, утверждающий, что судьбе людей и народов, как она складывается в истории и жизни мира по Божьей воле и по какому-то неисповедимому и непонятному для нашего человеческого разума смыслу, может быть противопоставлено человеческое понимание справедливости и человеческое понимание правды, которая должна быть осуществлена здесь, на земле, на поверхности земной планеты, в которую переносится центр тяжести всякой жизни, потому что другой, вечной, бессмертной жизни как будто и нет. Это есть отрицание бессмертия человека, отрицание той бесконечной жизни, в которой осуществляется смысл всякой судьбы человеческой. Судьба человеческая, полная страданий и мук, непонятных и неоправдываемых в пределах этого небольшого отрывка жизни, который изменяется временем с момента рождения до момента смерти, в какой-то другой жизни получает свое разрешение, превосходящее логику справедливости малого человеческого разума и малого человеческого нравственного сознания. В еврейском народе было не только истинное требование и истинное ожидание мессианского конца всемирной истории, победы над неправдой, но было и ложное народное притязание, являющееся вызовом Божьему Промыслу и сталкивающееся, по существу, с самой идеей бессмертной жизни, потому что все в этой смертной жизни должно было быть окончено и разрешено. Справедливость, по этой идее, должно быть окончено и разрешено. Справедливость, по этой идее, должная быть осуществлена во что бы то ни стало уже в этом мире. "Еврейский мыслитель, подобно современному нигилисту, держался того мнения, что если в мире немыслима справедливость, то пусть мира совсем не будет!" (Ренан). Книга Иова - одна из самых потрясающих книг Библии. Внутренняя нравственная диалектика, которая рассказывается в Библии, исходит из того положения, что праведный человек должен пользоваться счастливой жизнью на земле и потому незаслуженные страдания, которые выпадают на долю праведного Иова, вызывают в нем глубокий нравственно-религиозный кризис. Сама тема судьбы Иова ставится безотносительно к тому, существует ли бессмертие и какая-то бесконечная жизнь, где эти страдания получают свое разрешение. В этой земной судьбе Иова должна быть окончательно осуществлена правда и справедливость, потому что ни в каком другом месте она осуществлена быть не может. Награда или наказание в какой-то другой жизни, в религиозной предпосылке, положенной в основу книги, не мыслится. В земном плане раскрывается диалектика одной из основных и величайших тем человеческого духа-темы о том, что праведники могут страдать на земле, в то время как грешники и люди злые могут быть счастливы и торжествовать, - тема вечная, которая повторяется и до наших дней в величайших творениях человеческого духа. Эта тема в сознании еврейского народа была ограничена слабостью и бессилием еврейского религиозного сознания поставить судьбу человеческую в перспективу вечной жизни. Из этого ограничения и рождается вся историческая напряженность еврейского народа в земной его жизни, именно потому, что судьба человеческая и судьба народа не ставились в перспективу вечной жизни, а лишь в перспективу исторической жизни на земле. В эту историческую жизнь на земле евреи внесли величайшую активность, внесли в нее религиозный смысл, в то время как арийские народы приходили к тому, чтобы ставить проблему индивидуальной судьбы. Для арийства самого по себе трудно было осмыслить историческую судьбу в земной жизни. Арийское сознание в этой жизни указывало путь созерцания жизни вечной, историческая судьба человечества казалась ему пустой, в то время как есть созерцание иных духовных миров. В конце концов, и на высшей стадии духовной жизни греческого мира не было религиозного сознания смысла исторической земной судьбы. Если мы возьмем Платона, это величайшее явление духа в Греции, то и у него сознание религиозного и метафизического смысла исторической судьбы отсутствовало: он обращался к первообразам бытия и к миру идей, в них узнавал первичную бездвижную действительность и от них не мог вернуться к движущемуся эмпирическому миру с внутренним осмысливанием процесса истории. Здесь чувствуется граница религиозного сознания эллинскою мира.
Противоречие между историческим бессмертием народа и индивидуальным бессмертием характерно для всей судьбы еврейского народа. Даже у пророков, предвещавших христианское откровение, нет идеи бессмертия. В еврейской религии нет также, в строгом смысле слова, ни мифологии, ни мистерий, ни метафизики. Немецко-еврейский философ Коген - представитель неокантианства - в последний период своей деятельности обратился к своим религиозным истокам и начал проповедовать своеобразный еврейский модернизм, очищенный критическим философским разумом. Коген утверждает, что его религия есть профетическая религия, по своему существу обращенная к будущему миру, в то время как всякая мифологическая религия обращена к прошлому и связана с прошлым. Миф есть рассказ, всегда связанный с прошлым. Этот профетизм еврейского религиозного сознания, который ставит еврейскую религию выше всех остальных, объясняет отсутствие в ней элементов мифологических. С точки зрения Когена, этот профетизм еврейской религии придает ей по преимуществу этическую окраску. Герман Коген в своем толковании юдаизма приспособляет к нему кантовскую философию. Он забывает, что есть один миф и в юдаизме - это миф, обращенный не к прошлому, а к будущему: миф эсхатологический. Еврейскому сознанию свойствен эсхатологический миф, который является мистической основой еврейского народа, с которым связана историческая жизнь еврейства. Слово "миф" имеет в моих устах реальное значение, а не противоположное реальности. Эта особенность еврейского сознания, которая является особенностью его исторической судьбы, приводит к тому, что социализм как некоторое всемирно-историческое начало имеет юдаистический источник. Социализм не есть явление наших дней, но в наши дни он приобретает особенную силу и исключительное влияние на весь ход истории. Социализм есть одно из всемирно-исторических начал, но все всемирно-исторические начала имеют свои корни в глубине веков, и, как все начала, имеющие древние истоки, они постоянно действуют и ведут борьбу с началами противоположными. Я думаю, что социализм имеет источники рслигиозно-юдаистические, связанные с эсхатологическим мифом еврейского народа, с глубокой двойственностью его сознания, трагической не только для истории еврейства, но и для истории человечества. Именно эта двойственность исторического сознания евреев порождает еврейский религиозный хилиазм, обращенный к будущему со странным требованием и ожиданием осуществления тысячелетнего царства Божия на земле, наступления судного дня, когда зло будет окончательно побеждено добром, когда прекратятся несправедливость и страдания в земных судьбах человечества. Это хилиастическое ожидание является первоначальным источником для религиозно окрашенного социализма. Это связано еще с тем, что еврейство по своей духовной природе коллективистично, в то время как арийство - индивидуалистично. Эта связанность еврейского духа с судьбой народа, эта невозможность мыслить судьбу индивидуальную вне существования народа вне судьбы Израиля, это перенесение центра тяжести на историческую сверхличную народную жизнь делает этот народ коллективистическим, в то время как в арийской культуре и в арийском духе мы впервые имеем раскрытие начала индивидуального, прославление индивидуального духа. Еврейскому духу были чужды идея индивидуальной свободы и чувство индивидуальной вины. В еврействе идея свободы не была индивидуальной, это была свобода народа - она конструировалась коллективистично, и вина не была идивидуальна, это не была вина отдельного человека, а вина народа перед лицом Бога. Это требование, религиозное и социалистическое, чтобы правда во что бы то ни стало победила на земле, это ожидание правды и победы, особенной правды и справедливости в коллективной судьбе народа - стало главным движущим духовным началом, - из-за которого разыгралась вся трагедия отвержения еврейским народом Христа. Это сделалось главным мотивом, главным основанием, почему Христос был отвергнут еврейским народом.
Ренан, со свойственной ему односторонностью в этой области, дает острую характеристику различия между арийским и семитическим типом. Он говорит: "Ариец, допускающий с самого начала то, что боги несправедливы, не питает такого страстного желания добиться мирских благ. Он не принимает всерьез утех жизни, увлеченный своей химерой загробной жизни (только такая химера и может подвинуть на великие дела, ариец строит свой дом для вечности, семит же хочет, чтобы добро пришло, пока он жив. Он не хочет ждать; слава и благо, которых не чувствуешь, для него не существуют. Семит слишком верит в Бога, ариец слишком верит в вечность человека. Семит дал Бога, ариец дал бессмертие души". Эта характеристика очень односторонняя и в такой крайней форме не соответствует сложной исторической действительности, но есть здесь известная доля истины, и она объясняет исключительную напряженность этого мессианского ожидания евреями наступления дня блаженного царства Божьего на земле. Есть здесь что-то как бы предопределяющее двойственный характер еврейского мессианизма. Вот место из книги пророка Исаии. Если вникнуть в него, нас поразит то, что, с одной стороны, это может быть источником действительного ожидания земного царства, а с другой стороны, это есть ожидание какого-то божественного мессианского пира: "Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа. как воды наполняют моря".
Вот такого страстного ожидания наступления дня блаженства Божьей правды, царства Божьего не было никогда и нигде, ни у одного народа мира, кроме этого мессианского пророческого сознания. Вместе с тем, это мессианское сознание могло иметь и свою противоположную сторону. Оно могло превратиться в еврейском народе в ожидание Мессии как земного царя, который осуществит царство Израиля, национальное царство Израиля на земле, в котором наступит окончательное блаженство. Возможность такого понимания мессианского сознания все время присутствует в древнееврейской апокалиптике. Тот же Ренан говорит: "Истинный израильтянин - этот человек, терзаемый недовольством, пребывающий во власти неутолимой жажды будущего". Неутолимая жажда будущего и есть жажда наступления такого дня царства Божьего на земле. "Иудей неспособен, как христианин, к покорности Провидению. Для христианина нищета, унижения-добродетели, для иудея это-бедствия, с которыми надо бороться. Злоупотребления, насилия, переносимые христианином со смирением, иудея возмущают". Это проводит границу между еврейским сознанием, и тем христианским сознанием, которое для евреев, не победивших своего еврейства, является неприемлемым и невместимым. В этом - основа революционного характера религиозного сознания еврейства. Еврей легко становится революционером и социалистом. Евреи поддерживают тот ложный миф, что в основе истории лежит эксплуатация человека человеком. Я говорю это не в узком современном смысле слова, а в смысле характеристики типа, в смысле вызова судьбе, тем испытаниям и страданиям, которые выпадают в этой судьбе, и настойчивого, страстного, напряженного требования, чтобы уже здесь, в этой земной судьбе, были осуществлены правда и блаженство. У евреев эта идея земного царства была не светской, секулярной, а религиозной, теократической. С этим связано то, что у евреев было сравнительно слабо чувство государства в мирском смысле слова, государства секулярного. Здесь мы встречаемся с одним противоречием. В то время как ни один народ никогда не жаждал так страстно осуществления своего национального земного царства в земной исторической судьбе, именно этот народ был в своей истории лишен того элементарного, чего не были лишены другие народы. Он был лишен возможности иметь свое самостоятельное государство. Страстное желание осуществления своего земного царства привело в конце концов к противоположному полюсу - не оказалось у еврейского народа царства, которое было у других народов, никогда так не жаждавших осуществления земного царства. Это - один из парадоксов в судьбе еврейства, связанный с судьбой еврейского мессианизма. Духовная жизнь еврейского народа должна была привести к явлению Христа и к распятию Христа. Христос не осуществил упований еврейского народа, не стал земным царем и не осуществил земного царства Израиля. Это и привело к коренному противоречию в судьбе еврейского народа. В то время как еврейский народ отверг распятие, он, в судьбе своей, оказался распинаемым. Это и было основное противоречие всей его религиозной судьбы. Эта страстная мечтательность еврейского народа о своем национальном земном царстве, которое предваряет страстную мечтательность новейшего времени об осуществлении социального земного царства уже не еврейского народа, а земного царства всего человечества в социализме, в социалистическом земном раю, не через Мессию, а через мессианский класс-пролетариат, - это страстное отношение к земной исторической судьбе, связанное с основной духовной особенностью еврейского народа, противоречит чаяниям жизни бессмертной, потому что осуществление высшей Божьей правды не переносится в высшую бессмертную жизнь. Верящий в бессмертие должен трезво относиться к плану земной жизни и видеть, что в нем невозможно окончательно преодолеть темное иррациональное начало, что в нем неизбежны страдания, зло и несовершенства. Чувство бессмертия у еврейского народа, народа, религиозно поднявшегося на самую высшую ступень до христианства, было гораздо слабее, чем у персов и египтян. У персов, великого арийского народа Востока, были зачатки подлинной веры в бессмертие и в воскресение, а у египтян была страстная жажда воскресения тела умершего, на которой и была построена вся египетская история. Построение пирамид было великим памятником человеческого духа, опровергающим верность материалистического понимания истории, материалистического отношения к жизни
[1]. В конце концов, и еврейский народ в дальнейшей своей исторической судьбе должен был прийти к вере в бессмертие и к вере в воскресение. Он прошел тот же путь, который проходили другие народы до начала христианской эры истории. Еврейский народ был народом-моноидеистом, у него было потрясающее чувство реальности Бога. Эта потрясающая душу реальность и конкретность Бога так овладевает еврейским народом, что вытесняет всякое другое чувство и всякое другое понимание и постижение. Между тем, как осмыслить идею бессмертия души оказалось необходимым в дальнейшей исторической судьбе. Наступил такой новый опыт и такое испытание в еврейском народе, и вплотную стал перед ним этот вопрос. Тогда возникает в еврейском мире так же, как возникло в мире эллинском и вообще в древнем мире, который верил в непосредственную победу добра, правды и праведника здесь, на земле, - сомнение в справедливости земной судьбы. Наступил момент, когда в это изверились, когда начали ощущать, что здесь, на земле, правда, добро и праведник не получают справедливого возмездия. Праведник страдает, он распинается. Это начинает чувствоваться в книге Иова, в притчах Соломона, в орфизме, у Платона и после этого начинается искание иного мира, разрешение индивидуальной судьбы в ином плане. В древнееврейском мире, как и в мире эллинском, возникает, по-разному, великая религиозная проблема распятия праведного человека, творившего величайшее добро. Эта проблема распятия праведника в греческой культуре была поставлена в судьбе Сократа и послужила духовным толчком для философии Платона. Смерть Сократа заставила Платона отвернуться от мира, в котором столь праведного человека могли подвергнуть незаслуженной казни, и искать иного мира добра и красоты, в котором невозможна несправедливая гибель праведника. Этот мотив повторяется повсюду в древнем мире. Он повторяется в мире языческом, повторяется и в мире еврейском. С возникновением этого исключительного и обостренного духовного опыта начинается обращение к иному высшему миру и искание разрешения судьбы человечества в этом ином мире. Момент возникновения такого рода религиозного опыта в религиозной жизни дохристианского мира есть не что иное, как переход от национального склада религиозного сознания к складу идивидуальному, возникновение религиозного индивидуализма. Этот религиозный индивидуализм повсюду в древнем мире сменяет собой предшествующую стадию объективизма, обращенного к жизни народа и нации в этой земной действительности. Отсюда происходит обращение к глубинам индивидуальным в судьбе человеческой, которую пытаются объяснить за пределами национальной земной жизни. Период объективизма сменяется индивидуализмом. Это - переходный период. Этот субъективизм является периодом зарождения христианства. Христианская истина раскрывается человеку в тот период его духовной жизни, когда старая национальная религиозность начинает расшатываться и колебаться, когда дух человеческий начинает болеть об индивидуальной судьбе человека, которая не нашла себе разрешения ни в пределах ветхозаветных, ни в пределах язычества. С этим переходом от объективно-народной религиозности к религиозности субъективно-индивидуальной связывается в судьбе еврейского народа развитие и колебание его мессианского сознания. Мессианское сознание начинает испытывать внутреннее раздвоение между национальным мессианским сознанием, которое исключительно прикреплено к судьбе израильского народа, к этой земной исторической судьбе народа, и универсальным мессианским сознанием, которое ждало некоего божественного явления, несущего благую весть для всей вселенной, а не только для народа израильского, и которое этим своим универсальным характером принесет благую весть и для индивидуальной души каждого человека. В старом складе национальной религиозности происходит процесс внутреннего расщепления и раздвоения. Сознание идет путем индивидуализма, но вместе с тем это связано с большим универсализмом. Мессианская идея несет благую весть не только для всего человечества, но несет и для каждой индивидуальной человеческой судьбы. В этой постановке разрешалась вся трагедия. Этим подготовлялось христианство. В еврейском народе должен был родиться Христос, в еврейском народе с его напряженным чувством истории, обращенным к будущему, должно было совершиться центральное явление всемирной истории - явление этого мира и явление мира иного, имманентное и трансцендентное. Здесь совершается величайшая человеческая трагедия, в которой судьба еврейского народа связана с судьбами всей христианской истории. Роль еврейства связана с тем, что еврейство было наделено такими мессианскими ожиданиями, какими не был наделен ни один народ мира. Только еврейству дано была прямо и непосредственно ждать явления Мессии в мире, в то время как всем другим народам в мире языческом были даны лишь туманные предчувствия и не было прямого обращения сознания к грядущему Мессии. И вот этот народ, которому было дано это мессианское сознание, в котором должен был родиться Мессия, этот народ не выдержал испытания двойственности своего сознания и своего ожидания, не понял явления Распятого. Сущность трагедии, разыгрывавшейся между еврейством и христианством, в том, что Мессия должен был явиться в еврейском народе и что еврейский народ не мог принять Мессию распятого. Еврейский народ ждал Мессию и пророчествовал о Мессии, и еврейский народ Мессию не принял и отверг, потому что не мог принять Мессию в образе раба, он ждал Мессию в образе царя, который осуществит земное царство Израиля. Это напряженное ожидание еврейского народа было прообразом религиозного социализма еврейского народа. Тайны распятия еврейский народ принять не мог, он не мог принять Христа, потому что Христос явился в образе смиренной, а не торжествующей в земной жизни правды. Он отверг всей своею жизнью и своею смертью ложное упование еврейского народа на блаженное земное царство. Таким образом, в христианстве было отвергнуто то, что еврейский народ - народ Божий в каком-то другом смысле, кроме того смысла, что в народе еврейском должен был явиться Христос. Поскольку Христос явился в нем, - он был народом Божьим, но после отвержения Христа он перестал быть народом Божьим. Никакой мессианизм после явления Христа в еврейском старом смысле слова - невозможен, и мессианское ожидание после явления Христа есть ожидание ложного Христа, явление Мессии, обратного Христу. Национальный мессианизм есть всегда та или иная форма возвращения к юдаизму, так же как и мессианизм классовый. Мессианизм социалистический имеет юдаистические корни, ожидание антихриста. Избранный народ в христианстве есть - церковный народ. Эта двойственность еврейского мессианизма, с одной стороны, обращенного к Мессии Христу, а с другой стороны, связанного с антихристом, с принудительно-религиозным осуществлением правды на земле, ведет к тому, что всякое отвержение Христа, которое было в мире на протяжении всей истории, совершается всегда на тех же основаниях и по тем же мотивам, по которым Христос был отвергнут ложным еврейским мессианизмом, по которому Он был распят евреями. Это есть отрицание свободы духа во имя принудительного осуществления царства Божьего на земле. Христос отвергается потому, что Он умер на кресте, вместо того чтобы царственной мощью уничтожить зло и страдание и начать историю блаженную и справедливую. Это создает тот величайший из парадоксов, то противоречие в судьбе еврейского народа, которое формулировано замечательным французским католическим писателем, недавно умершим, к сожалению, мало известным, но заслуживающим большей известности, Леоном Блуа. Он так формулировал основную трагедию еврейского народа: "Евреи обратятся лишь тогда, когда Христос сойдет с креста, Христос же может сойти с него лишь тогда, когда евреи обратятся ("Le salut par les Juifs")". Этими гениально острыми словами обнажается не только трагедия еврейского народа, но и трагедия христианского мира, вскрывается основное возражение против христианства. Главное возражение против христианства есть то" что христианство не осуществилось в мире, не удалось, как часто говорят, правда не победила на земле, страдания в мире продолжаются. Около двух тысяч лет тому назад пришел Христос, Спаситель и Искупитель мира, а зло, страдание, ужасы и муки продолжаются. Это возражение против христианства, типическое возражение ложного еврейского мессианизма, основано на том, что явление Мессии, Сына Божьего, должно было бы осуществить на земле добро и окончательно победить зло, прекратить всякое страдание, всякую муку, всякую тьму и водворить блаженство. Но отвержение Христа есть еврейское отвержение. И это еврейское отвержение свойственно арийскому племени не менее, чем еврейству. Это приводит к тому основному парадоксу всей истории еврейской и всей истории христианской, что без еврейства христианство было бы невозможно и невозможна была бы христианская история. Без еврейства, не принявшего тайны Голгофы, не было бы Голгофы. Христианская история находится во внутренней борьбе с еврейским духом. И отношение к еврейству является внутренним испытанием для христианского духа, потому что как податливость и слабость христиан, отдающая их во власть еврейского духа, так и расовый антисемитизм, переходящий в насилие, одинаково не выдерживают этого испытания. Антисемитизм не понимает всей религиозной серьезности еврейского вопроса. Расовый антисемитизм сплошь и рядом заражается тем ложным еврейским духом, против которого он восстает. Ненависть к евреям - нехристианское чувство. Христиане должны относиться к евреям по-христиански. В пределах самой христианской истории происходит постоянное взаимодействие начал юдаистических и начал эллинских, которые и являются главными источниками всей нашей культуры. Я думаю, что столкновение двух начал существует и в пределах самой христианской церкви. Христианскому духу свойственна семитическая прививка, без которой невозможна была бы историческая судьба христианства. Древняя еврейская тема, поставленная еврейской историей, тема всемирной истории. Вокруг этой темы разыгрывается всемирная история, в центре которой стоит Христос. От Христа начинается новая всемирная эра. С этим связано то, что еврейский вопрос неразрешим в пределах истории. Сионизм - самое благородное течение в еврействе, но он бессилен разрешить еврейский вопрос. Еврейская тема, поставленная в Библии, продолжает быть темой, вызывающей страсти и в веках XIX и XX. Материальная прикованность к миру сему в капитализме Ротшильда и социализме Маркса есть еврейская, по идее, прикованность, хотя она и не имеет обязательной связи с евреями. И вокруг нее разыгрываются страсти и кровавая борьба. Но враждебный христианству юдаизм может быть свойствен и неевреям, а равно как евреи по крови могут быть от него свободны. Никакой вульгарный антисемитизм ни может быть оправдан религиозным постижением судьбы еврейства. Окончательное разрешение еврейского вопроса возможно лишь в плане эсхатологическом. Это и будет разрешение судьбы всемирной истории, в последнем акте борьбы Христа и антихриста. Без религиозного самоопределения еврейства задача всемирной истории не может быть разрешена.
VI. Христианство и история.
В одной из предшествующих глав я уже много говорил об исключительной связи христианства с историей, об историчности христианства и ссылался на Шеллинга, который в своих "Vorlesungen liber die Methode des akademischen Studiums" с необыкновенной остротой выразил мысль о том, что христианство прежде всего — исторично, что оно есть откровение Божества в истории. Вместе с тем я говорил, что христианство по своей природе исключительно динамично, а не статично, что оно является стремительной силой в истории и что этим оно Рглубоко отличается от склада созерцания античного мира, который был статичен. Эта динамичность была так велика, что христианство порождало движение и тогда, когда совершалось отступничество от христианства. Тогда динамизм сказывался в других формах, был восстанием, бунтом против судьбы, свойственным исключительно христианскому периоду истории, потому что христианство является или источником истинного движения, или порождает бурное ложное движение. Эта исключительная историчность и динамичность христианства связана прежде всего с тем, что центральный факт христианской истории — явление Христа - есть факт однократный и неповторяемый, а неоднократность и неповторяемость есть основная особенность всего "исторического". К этому неповторяемому центральному факту вся мировая история шла, и от него вся история идет. Эта однократность и неповторяемость исторического, эта связь истории небесной и истории земной в мире христианском имеет исторически сложную конструкцию, в которой преломились все основные предшествующие силы духовной истории; в нем прежде вест взаимодействуют два начала — начало юдаистичсское и начало хшшнское. Лишь эта встреча и взаимодействие еврейскою и .ншинского начал создала христианство в истории В самом христианстве происходит постоянное преобладание ю одних, m других начал, то юдаистических, то эллинских. Каждое из лих начал определяет ту или другую сторону многообразного и сложного христианского мира. Юдаистические элемешы являются началами ветхозаветными, началами откровения закона и, в известные моменты, они могут определить собою перерождение христианства в сторону ветхозаветную, законническую, они противятся откровению благодати, любви и свободы. Они могут являться источником фарисейства внутри христианского мира. С другой стороны, те же начала являются источником противоположного духа, духа апокалиптического, обращенного к новым завершающим откровениям. Дух этот действует в направлении прямо противоположном ветхозаветным началам, но и то и другое юдаистическое начало является наиболее историческим, потому что и действие элементов законнических, закрепляющих историческое преемство, и действие элементов апокалиптических, обращенных к грядущему, одинаково являются историческими. Вообще нужно сказать, что христианская церковь, по самому существу своей природы, является силой исторической по преимуществу. Она есть преломление откровения в исторической организации человечества, она религиозно направляет судьбы человечества, судьбы народных масс. Церковь есть исторически направляющая сила, она преемственно связана с теми юдаистическими началами христианства, которые являются, по преимуществу, историческими ее элементами. Эллинские начала внутри христианства составляют богатство христианства, но они менее динамичны. С ними связана преимущественно созерцательная сторона христианства. Вся созерцательная метафизика христианства со всей его догматикой и созерцательной мистикой — эллинского происхождения. Они гораздо более эллинские по своему духу, чем юдаистические, потому что великое созерцание божественного бытия более свойственно духу эллинскому, чем бурно движущемуся историческому духу еврейскому. С эллинскими элементами христианства связана и всякая эстетика, всякая красота, потому что эллинский мир является колыбелью, источником, на веки веков, красоты в мире христианском и вообще в мире. С ними связана вся красота христианского культа. И все протестантские попытки очистть христианство от язычества приводили лишь к ослаблению христианской эстетики и христианской метафизики, т. е. как раз того, что связано с духом эллинским.
Исключительная историчность и динамичность христианства связаны с тем, что христианство впервые окончательно открывает миру начало духовной свободы, неведомой миру античному, и в такой форме, которая была неведома и миру еврейскому. Христианская свобода предполагает разрешение исторического действия через действие свободного субъекта, свободного духа. Эта разрешимость истории путем действия свободы активного субъекта существенна для природы христианства и для природы истории, потому что без допущения такого свободно действующего субъекта, своей свободной активностью определяющего исторические судьбы человечества, конструкция истории, конечно, невозможна. Греки утверждали необходимость добра, разумность добра. Они понимали добро как разумную необходимость, как результат победы разума. Сократ был выразителем эллинского понимания. В добре есть закономерность, действуют неотразимые для разума начала. Противоположны ему начала случайные, нерациональные. Греческое понимание добра не связывалось со свободой. Настоящее понятие добра в греческой философии, даже на высочайших ее вершинах, никогда не нашло себе выражения. Христианство же утверждает свободу добра. Оно утверждает, что добро есть продукт свободы духа, и что только то добро, которое есть результат свободы духа, обладает истинной ценностью и является настоящим добром. Принудительную разумную необходимость добра христианство отвергает. Это — существенный признак христианского миросозерцания. Христианство утверждает не только свободу как высшее достижение, как победу высшего божественного разума, но утверждает и другую свободу, которой определяется судьба человека и судьба человечества, и которые делают историю. В христианстве само Провидение и действие Провидения есть свобода, а не фатум. Христианство не мирится с той покорностью судьбе, с которой мирился античный мир. Эта покорность судьбе, как высшая мудрость, какую только мог завоевать себе человек, выразилась и в греческой трагедии, и в греческой философии. В христианском духе есть какое-то мятежное начало, не мирящееся с этой покорностью судьбе. Но свобода избрания, свобода утверждения добра, коренящегося в тайниках воли, а не в разуме, предполагает ту свободу творящего субъекта, действующего субъекта, без которого настоящий динамизм истории невозможен. Совершенная неисторичность или антиисторичность как древней культуры Индии, так и Китая связаны с нераскрытостью этой свободы творящего субъекта. Она не раскрывалась и в философии Веданты, одной из величайших философских систем, она не раскрывалась и теми философами, которые, в известном смысле, утверждали свободу как абсолютное слияние, абсолютное тождество человеческого духа с божественным духом. Свободы человеческого духа Индия не знала. С этим связана недостаточная историчность всего склада этой своеобразной культуры. Христианство впервые окончательно раскрыло эту, неведомую еще дохристианскому миру, свободу творящего субъекта. Это христианское раскрытие внутренних динамических начал истории, свершения исторических судеб человека, народа и человечества — окончательно создало ту бурную всемирную историю, которую знает христианский период человеческой истории и которая до христианства лишь подготовлялась. Какая же тема является первичной во всемирной истории? Основной темой всемирной истории я считаю тему о судьбе человека, ту тему о судьбе человека, которая ставится во взаимодействие человеческого духа и природы. Это взаимодействие, это действие свободного человеческого духа в природе—в космосе — и есть первичное основание, первичное начало исторического. В истории человечества мы видим разные формы взаимодействия между человеческим духом и природным целым, которые проходят через разные исторические эпохи. Первичная стадия истории, которая является непосредственным результатом акта небесно-исторической драмы отдаления от Бога, драмы грехопадения, как драмы свободы, повергла человека и человеческий дух в недра природной необходимости. Произошло ниспадение человека в природные недра, сковывание природными стихиями, в которых дух человеческий был заколдован и из которых он своими собственными силами никак не мог подняться, не мог расколдовать того страшного колдовства, которое повергло его в среду природной необходимости. Все первичные стадии человеческой истории, которые характерны для диких и варварских состояний, для древних культур и первоначальной истории мира античного, связаны с этой погруженностью человеческого духа в стихийно-природное. Свободный человеческий дух как бы утерял свою первичную свободу и перестал ее сознавать. Погруженный в недра необходимости, он, в своем философском сознании, не возвышается до самосознания свободы, до самосознания себя, как творящего, духовного субъекта. Этим объясняется, что древнему миру истинное начало свободы не было раскрыто, потому что человеческий дух, заколдованный, утерял вследствие своего изначального отпадения от Духа Божьего свою свободу; произошло как бы перерождение: свобода переродилась в необходимость, дух не мог возвыситься до религиозного откровения свободы или до философского познания свободы. Тема о всемирной исторической судьбе человека есть тема об освобождении творящего человеческого духа из недр природной необходимости, из этой природной зависимости и порабощенности низшими стихийными началами. Все связано с постановкой и разрешением этой темы в мире античном, в Греции и вообще во всем древнем языческом мире. Эта погруженность человеческого духа в природную стихию связана была с горькой зависимостью человека и с мучительным страхом, испытываемым человеком перед демонами природы; падший человеческий дух, внедренный в жизнь природы, был порабощен природой, но вместе с тем находился с ней и во внутренней глубокой связи. Духовная жизнь самой природы была для него более открыта, чем для последующих стадий, он ощущал природную жизнь как жизнь живого организма, одухотворенного, населенного демонами, и находился с ними в постоянном общении. Древние мифологи говорят о связи с этими духами природы. На этой почве возникли все древние мифы и порождено взаимодействие между человеком и природой. Павший человеческий дух не стал повелителем природы, он, по свободному произволению своему в плане предмирном, стал рабом природы, неразрывной ее частью. Это рабство у природы, эта зависимость от нее в первоначальных стадиях человеческой истории выражалась в форме связи с природой. Языческий мир был населен демонами. Человек бессилен был возвыситься над этими демонами, над этим природным круговоротом. Образ человека был подобен не высшей божественной природе, а низшей природе, населенной элементарными духами. Человек окрасился в тот цвет, в который окрасила его низшая природа, в которую он пал, которая поработила его и от которой он своими силами не мог освободиться. Величайшее дело христианства в мире, хотя это и недостаточно еще познано внутри христианского мира, заключалось в том, что через явление в мир Христа, через мистерию искупления человека и мира, христианство освободило человека от власти стихийной низшей природы, от власти демонов; оно, как бы силой, извлекло человека из этой погруженности в недра стихийной природы и поставило его духовно на ноги; оно выделило его из этой низшей природы, поставило его высоко, как самостоятельное духовное существо, изъяло из этой подчиненности природному мировому целому, выделило и вознесло до небес. Только христианство возвратило человеку ту духовную свободу, которой человек был лишен, когда находился во власти демонов, духов природы и стихийных сил, как то было в мире дохристианском. В этом нужно видеть существо христианства в деле освобождения человека, в деле свободного разрешения человеческой судьбы, в этом — величайший смысл искупления от внешнего и от внутреннего рабства, от злых стихий, действующих внутри его собственной природы. Рабство человека у демонов природы было также рабством его у самого себя, у своих собственных низших стихий. От этого рабства сам человек, в котором свобода переродилась в необходимость, освободиться не мог. По вине своей он ослабил ту мощь свободы, которая нужна для этого. Возвращение этой мощи свободы, возвращение человеку печати его высокого божественного происхождения, стирание с образа его этой рабьей печати, печати звериного происхождения, совершается через христианское искупление, через явление Божественного Человека, Богочеловека, Человека, как второго лица Божественной Троичности. Только такое явление Божественного Человека, только взятие на себя этим Божественным Человеком всех последствий содеянного человеком в мире, Его крестные страдания, Его искупительная кровь, только эта мистерия искупления возвращает человеку свободу, делает его не подвластным низшим стихиям и вновь возвращает ему, в высшей форме, утраченное богосыновство. Древние религии также стремились к искуплению. Поистине, прообраз христианского искупления был во всех древних мистериях. Мистерия Озириса, мистерия Адониса, мистерия Диониса были лишь затуманенными предчувствиями и страстной жаждой истинной мистерии искупления. В этих мистериях человек страстно жаждал освободиться от рабства природы, жаждал завоевать бессмертие, освободиться от власти низших стихийных духов, но нигде и никогда мистерии древнего мира не достигали окончательного освобождения человека, потому что они были погружены в круговорот низшей стихийной природы. Это были имманентные, природные мистерии, в которых человек изживал избавление от горести бытия в недрах стихийных, природных круговоротов. Так, мистерии Диониса совершались по круговороту самой природной жизни, природной смерти и природного рождения, природной зимы и природной весны. Они не возвышали человека над стихийной природой и настоящего искупления не давали. Древний мир, который познал эти мистерии, страстно жаждал избавления и к концу своему был более чем когда-либо одержим ужасами перед демонами природы. Этот ужас в последние дни существования древнего мира, когда очень усилились и умножились мистические культы, достиг высочайших размеров и сделался, поистине, невыносимым. Жизнь людей, жаждавших избавления от этого ужаса, жаждавших искупления, стала, поистине, трагичной. Только христианство вывело человека из этого круговорота стихийной природной жизни, поставило его на ноги, возвратило свободу человеческому духу, открыло новый период в судьбе человека, период, когда судьба человека начинает определяться и разрешаться через свободно действующий субъект, когда человек сознает свободу.
Этот процесс освобождения от природной стихии имеет и обратную сторону, которую с горечью называют "смертью великого Пана". Именно конец античного мира и начало христианства знаменуют собою какое-то удаление от человека в какую-то чуждую глубину внутренней жизни природы. Великий Пан, раскрывающийся миру античному и близкий древнему человеку, погруженному в недра природы, великий Пан вгоняется в глубь природы и закрывается от человека. Между человеком, вступившим на путь искупления, и природой образуется бездна. Христианство закрывает наглухо внутреннюю жизнь природы и не допускает человека к этой жизни. Оно как бы умерщвляет природу. Это —обратная сторона совершенного христианством великого дела освобождения человеческого духа. Для того чтобы человеческий дух перестал рабствовать у природы, для него должен был закрыться доступ к этой внутренней жизни духов природы, потому что до известного духовного возраста, до совершения мистерии искупления, до духовной возмужалости человека, когда он действительно станет на ноги, всякое новое возвращение его к состоянию древнего язычества, которое кончилось ужасом демонов природы, было опасно и грозило человеку новым падением. Христианство совершило процесс освобождения человеческого духа через отделение его от внутренней жизни природы. Природа осталась погруженной в тот языческий мир, от которого нужно было оттолкнуться. Так продолжалось почти все средние века. Внутренняя жизнь природы страшила человека. Сношение с духами природы было признано черной магией. У христианского человека остался ужас перед природой как кровной связью с язычеством. Христианство принесло благую весть об освобождении от этого ужаса и рабства, оно объявило непримиримую, страстную, героическую борьбу с природой в человеке и вне человека, борьбу аскетическую, которая явлена в потрясающих образах святых. Это отворачивание от природы, эта потеря ключей к ее внутренней жизни прежде всего характеризует христианский период истории в отличие от периода дохристианского. Последствия этого очень парадоксальны по внешности. Результат и последствия христианского периода — механизация природы, в то время как для всего языческого мира, для культуры всего древнего мира, природа была живым организмом. Природа, в христианскую эпоху, сначала была страшной и жуткой, вызывала чувство опасности. С этим связана была опасность познания природы, бегство от природы, духовная борьба против нее. Позже, на заре новой истории, началось техническое воздействие на природу, началась механизация природы, связанная с восприятием природы как мертвого механизма, а не живого организма.
Эта механизация является вторичным или третичным результатом христианского освобождения человека от демонолатрии. Для того чтобы вернуть человеку свободу и дисциплинировать его, вьщелить человека из природы и возвысить, христианство механизировало природу. Как это ни парадоксально, но для меня ясно, что только христианство сделало возможным позитивное естествознание и позитивную технику. Пока человек находился в непосредственном взаимодействии с духами природы, пока он строил свою жизнь на мифологическом миропонимании, он не мог возвыситься над природой в акте познания через естественные науки и технику. Нельзя строить железные дороги, нельзя проводить телеграфы и телефоны, страшась демонов природы. В человеческой жизни должно было померкнуть чувство одухотворенности и демонич-ности природы и непосредственной связи с природой для того, чтоб он мог работать над природой, как над механизмом. Механическое миросознание восстало на христианство, но оно явилось духовным результатом христианского акта освобождения человека от стихийной природы и от демонов природы. Человек, внедренный в природу, находящийся в общении с внутренней ее жизнью, не мог научно познавать ее, не мог технически овладеть ею. Этот результат должен пролить свет на всю дальнейшую судьбу человека. Христианство освободило человека от подвластности природе, поставив его духовно в центре мироздания. Антропоцентрическое чувство бытия древнему человеку было чуждо. Он чувствовал себя неразрывной частью природы. Только христианство дало это антропоцентрическое чувство, которое и сделалось основной движущей силой новых времен. Новая история, со всеми своими противоречиями, стала невозможной, потому что явилось это антропоцентрическое чувство, чувство центральности человека, возвышающее его над природой и полученное целиком от христианства. Все новые противники христианства не сознают в достаточной степени свою зависимость от этого христианского источника.
Христианская история освобождения человека от природы должна была привести к тому, что человек ушел во внутренний духовный мир, чтобы в нем совершить какую-то огромную, героическую борьбу с природными стихиями, чтобы преодолеть эту подвластность человека низшей природе и выковать человеческий образ, выковать свободную человеческую личность. Это великое дело, центральное в судьбе человека, было совершено христианскими святыми. Титаническая борьба со страстями мира, которую вели великие христианские подвижники и отшельники, совершила дело освобождения человека от низших стихий. Человек должен был оттолкнуться от природы, чтобы выковать новую человеческую личность, связанную с явлением нового Адама, в то время как человеческий образ древнего мира осуществлялся по образу ветхого Адама, того Адама, который в предмирном и всемирном акте, как собирательное человечество, впал в низшую, стихийную природу. Новая человеческая личность должна была выковаться по образу нового Адама, освобожденной от всякой подвластности смертоносным стихиям мира, от власти демонов низшей породы. Это выковывание новой личности нового Адама открыло христианский период истории, начиная с более раннего периода отшельничества, через средневековое монашество и через все века, в которые велась эта борьба во имя выковывания новой личности. Христианство впервые признало бесконечную ценность человеческой души. Христианство внесло то сознание, что человеческая душа стоит больше, чем все царства мира, потому что "какая польза приобрести весь мир и потерять душу свою". Это - одна из основ евангельского учения. Борьба христианства с природными стихиями стала существенной для христианства. Она создала христианский дуализм духа и природы. Это не есть онтологический дуализм. Этот христианский дуализм духа и природы является в высочайшей степени динамическим, движущим началом. Без такого дуализма, без противоположения действующего субъекта вне его находящейся объективной природной среде, с которой он ведет борьбу, которой он противодействует, невозможен дуализм истории. Период погружения субъекта в объект не благоприятствует историческому динамизму.
Судьба всего античного мира до явления христианства должна была закончиться двояко, двумя моментами, из которых каждый имел очень существенное значение для конструирования всемирной истории и для начала новой эры. Весь античный мир должен был в конце концов прийти к объединению во вселенское целое, т. е. к преодолению всякого партикуляризма. Распадение на Восток и Запад, на целый ряд древних культур и народов, на множество партикуляристи-ческих религий в конце концов должно было привести к процессу объединения и к образованию единого великого вселенского целого, духовного и материального. В этом процессе объединения имело огромное значение дело, совершенное Александром Македонским для объединения Востока и Запада. Духовное объединение началось в великий эллинистический период, когда сливались все религии Востока и Запада; для него характерен синкретизм, в котором собраны были все культурные типы, выработанные в древнем мире. Образование единого всемирного государства, Римской империи, было результатом интегрирующего процесса древнего мира, который сделал возможной всемирную историю. Всемирная история единого человечества началась с этого периода объединения Востока и Запада. Христианство исторически возникло и раскрылось в этот период вселенской встречи всех результатов культурных процессов древнего мира, в период, в котором соединились культуры Востока и культуры Запада, в котором соединение культуры эллинской с культурами Востока преломилось в культуре римской. Это объединение древнего мира, этот эллинистический синкретизм обусловили образование единого человечества, до которого не возвысился древний еврейский дух, несмотря на всю пророческую силу, несмотря на то, что он был колыбелью христианства. Партикуляризм свойствен был всему древнему миру. Вселенскость христианства, как природный процесс человеческого мира, предопределилась этим объединением Востока и Запада в эллинистическую культуру и в мировую Римскую империю. Христианство возникло в маленьком народе, который не занимал центрального места в истории того времени, когда на первом плане было то, что совершилось в Риме, может быть, в Александрии. В Палестине, партикуляристической, национально обособленной, совершался величайший факт всемирной истории, который должен быть признан центральным не только христианами то, что произошло в Вифлееме, предопределило всю всемирную историю. В то время как на арене истории совершались такие великие события, в Риме, в Египте, в Греции происходили процессы объединения, образовывалось универсальное объединение народов и культур в единое вселенское человечество, в это время образовалась точка, совсем не центральная по видимости, в которой совершалось величайшее излияние Божественного, величайшее откровение и соединение процессов, идущих сверху и идущих снизу, процессов, объединенных потоком древней истории в единый всемирный поток в последний период его существования. Образовался новый христианский мир, началась всемирная история, которая древнему миру не была известна. Таков был один из результатов.
Другой результат, очень странный и трагический, заключался в том, что древний мир должен был не только объединиться и образовать единое целое, но и должен был пасть, должно было совершиться великое падение античного мира, великое падение язычества. Пала величайшая культура, связанная с миром эллинским, пало величайшее в мире государство — Римское. Это падение совершилось тогда, когда было достигнуто состояние вселенскости. Высшее цветение древнего мира было тогда, когда были сравнительно небольшие государства, не претендовавшие на всемирное значение, не достигшие блеска и могущества, а падение его совершилось именно тогда, когда мир этот сделался вселенским, когда образовалось всемирное государство, когда образовалась самая утонченная эллинистическая культура. Я думаю, что это —один из самых центральных фактов всемирной истории, который более, чем другие факты, заставляет задуматься над природой исторического процесса и переоценить многие теории исторического прогресса. Не случайным было это падение древнего мира. Оно определилось не только нашествием варварских народов, которые разрушили ценности древнего мира и открыли период варваризации, но и какой-то внутренней болезнью, которую все более и более признают историки, в корне поразившей эту культуру и сделавшей неизбежным ее падение именно в период величайшего ее внешнего блеска. Падение Рима и древнего мира учит нас двум вещам прямо противоположным. Оно говорит, что в культуре есть непрочность и хрупкость всех земных вещей и всех земных достижений; оно постоянно напоминает нам о том, что перед лицом вечности, перед вечной судьбой, все достижения земной культуры, даже в самой могущественной и цветущей форме, — тленны и заключают в себе смертоносную болезнь. Но вместе с тем это падение в свете истории нашего времени учит нас не только о смертности культуры, не только о том, что культура переживает моменты зарождения, расцвета и умирания, но также и о том, что культура есть начало вечности, потому что, поистине, изумителен тот результат, что не только этот великий древний мир пал и настал период варварства и тьмы, которыми характеризуются первые времена средневековья, века VII, VIII и IX, которые были периодами варваризации, но вместе с тем на веки веков осталась культура. Она вошла глубочайшим пластом в жизнь христианской Церкви; в христианскую Церковь вошла как эллинская культура, с ее искусством и философией, со всеми ее достижениями, так и римская культура, с которой католическая церковь глубочайшим образом связана. Падение Рима и античного мира не обозначает смерти, а обозначает какую-то катастрофу в истории, когда на поверхности земли все сдвинулось, но и что-то вошло внутрь, и коренное начало древней культуры осталось жить навеки. Римское право вечно живо, вечно живо греческое искусство и философия и все другие начала древнего мира, составляющие основу нашей культуры, единой и вечной, но переживающей лишь разные моменты. Падение древнего мира учит нас прежде всего тому, что все прямолинейные учения о прогрессе никуда не годятся и не выдерживают никакой критики, что такого прогресса по прямой линии — нет. Все основные события истории, в сущности, эту теорию отвергают. Один из крупнейших историков древнего мира, Эдуард Мейер, считает, что культуры переживают периоды развития, кульминационного пункта расцвета, затем умирания и падения. В конце концов он думает, что в древнем мире были такие великие культуры, по сравнению с которыми последующие времена обозначают лишь возврат к прошлому; например, древняя культура Вавилона была настолько совершенной, что во многих отношениях не уступает нашей культуре XX века. Это очень существенно для философии истории. В Греции был период просвещения, который совпал с софистической разрушительной критикой, аналогичной тому течению, которое было в XVIII веке. Это просвещение должно было торжествовать по прямой линии развития. Но мы видим, что период просвещения в Греции оборвался, началась великая реакция, идеалистическая и мистическая, которая обозначается с Сократа и Платона. Эта великая духовная реакция против скептически-рационалистического просвещения проходит через все средние века, она занимает огромный период истории, период больше 1000 лет, и явно опровергает просветительную теорию развития. Это совершенно непонятно с точки зрения прогрессивно-просветительной. Почему в мире произошла такая длительная реакция? Многие историки Греции, как, напр., Белох, настроены враждебно к этому духовному течению и, начиная с Платона, видят реакционное движение, которое продолжается до эпохи Возрождения. Почему же не продолжалось "просветительское" развитие? Здесь ставится очень интересная проблема философии истории.
Христианство возникло в период позднего цветения и утончения древней культуры, того утончения, которое связано с периодом эллинистическим. В христианстве нельзя искать той наивности, которая свойственна древней религии и древнему человеку. Христианство открывается человеку в период культурной утонченности. Я думаю, что это один из существенных и важных моментов для определения характера христианства. Христианство, по своему характеру, не есть натуральная, природная религия. Если классифицировать религии, то христианство должно быть признано не природной религией, связанной непосредственно с чувством природы и отражением в душе ее таинственных процессов в органической цельности, а религией культурно-исторической, в которой тайна жизни и тайна Божества открывается через дуализм души, уже отошедшей от наивного чувства и связи с природой.
Это очень существенная сторона для характеристики христианства. В христианстве происходит встреча и соединение двух великих потоков всемирной истории и вместе с тем по-новому ставится и решается одна из центральных и основных тем мировой истории: тема Востока и Запада. Христианство есть встреча и соединение восточных и западных духовных исторических сил. Без этого соединения христианство немыслимо. Это — единственная всемирная религия, которая, имея свою непосредственную колыбель на Востоке, является, прежде всего, религией Запада, отражающей в себе все особенности Запада. Христианство возникает в период образования единого человечества через Римскую империю и эллинистическую культуру, когда Восток и Запад окончательно объединяются. Поэтому в христианстве дается та предпосылка всемирной истории, без которой философия истории вообще невозможна. Дается предпосылка единства человечества и единства Промысла Божия, действующего в исторических судьбах, когда новая религия возникает на почве объединения Востока и Запада. И вот христианство переносит центр тяжести истории с Востока на Запад. Оно есть точка пересечения мировых движений, оно идет с Востока на Запад, оно движется так, как движется солнце. За ним идет всемирная история. Всемирная история окончательно переносится с Востока на Запад, и народы Востока, которые дали первые страницы истории человечества, создали первые великие культуры и были колыбелью всех культур и религий, как бы выпадают из всемирной истории. Восток делается все более и более статичен. Динамическая сила истории целиком переносится на Запад. Христианство вносит исторический динамизм в жизнь западных народов. Восток уходит внутрь и сходит с арены всемирной истории. Поскольку Восток остается не христианским, он не приобщается к всемирной истории. Те народы Востока, которые не принимают христианства, не входят в поток всемирной истории. Это еще раз, опытным путем, подтверждает ту истину, что христианство является величайшей динамической силой и что те народы, которые окончательно уходят от христианства и не идут за христианством, перестают быть историческими народами. Это не значит, что Восток умирает и что на Востоке невозможна жизнь. Я склонен даже думать, что народы Востока еще вновь войдут в поток истории и могут сыграть мировую роль. Мировая война, последствия которой мы переживаем, будет способствовать тому, чтобы втянуть в новый поток всемирной истории народы Востока; быть может, она приведет еще раз к всемирному объединению Востока и Запада за пределами европейской культуры, и мы переживем нечто аналогичное "эллинистической" эпохе. Но о прошлом мы должны сказать, что Восток, с известного момента, перестает быть двигающей силой истории. Под Востоком я понимаю не Россию, потому что Россия не есть чистый Восток, а есть своеобразное сочетание Востока с Западом. Это создает всю сложность исторической судьбы ее, но вместе с тем это придает русской исторической судьбе иной характер, чем не христианская судьба народов Востока.
Все, что я говорил об освобождении человеческого духа из недр природы, о личности человеческой, об образе и подобии Божьем в человеке, о первоначальном подчинении человека низшей природной стихии, которое свойственно было дохристианскому периоду истории, все это ведет к тому, что тема человеческой личности впервые сознательно ставится христианством, потому что впервые лишь христианство ставит вопрос о вечной судьбе человеческой личности. Для древнего мира языческого и для мира еврейского настоящая глубинная постановка вопроса о судьбе человеческой личности была недоступна и невозможна. Христианство признает духовную изначальность и духовную первичность человеческой природы и невыводимость человеческой личности ни из какой низшей природы, ни из какой нечеловеческой среды. Христианство непосредственно связывает человеческую личность с высшей божественной природой и с божественным ее происхождением, поэтому христианство глубоко противоположно эволюционно-натуралистическому пониманию человека. В то время как эволюционный натурализм рассматривает человека как дитя мира, как дитя природы и отрицает эту духовную первородность человека, это высшее аристократическое происхождение человека, христианство как раз утверждает его изначальную человеческую природу и независимость ее от низших стихийных процессов. Это делает впервые возможным осознание человеческой личности, высшего ее достоинства. Историческая выработка человеческой личности совершалась настоящим образом лишь в христианский период истории. Я думаю, что выковывание и укрепление человеческой личности совершилось в тот период истории, который долгое время, с гуманистической точки зрения, считался для личности неблагоприятным,— в период средневековья. Средневековье, в период расцвета, укреплялось и дисциплинировалось двояким путем — в монашестве и рыцарстве. Именно образы монаха и рыцаря были образами дисциплинированной человеческой личности, именно в монахе и рыцаре личность человека была многоценной. Там личность была закована в латы, как физически, так и духовно, и достигла независимости от действия внешних стихийных сил, которые разрывали ее в клочья. Недостаточно внимания обращают на то, какое колоссальное значение для выковывания того человека, который с необычайной энергией стал во весь свой рост и творчески заявил свои права в эпоху Возрождения, какое значение имела для этого человека та эпоха средневековья, которая внутренне концентрировала его духовные силы, которая в образе рыцаря и монаха выковала человеческую личность и укрепила человеческую свободу. Вся христианская аскетика имела значение такой концентрации духовных сил человека и недопущения их растраты. Духовные силы человека были внутренне подобраны и сосредоточены. И если не всегда творческие силы получали возможность достаточно свободно себя проявить и расцвести, то они, во всяком случае, сосредоточивались и сохранялись. В этом был один из величайших и неожиданных результатов периода средневековой истории. Поэтому и был возможен внешний творческий расцвет в эпоху Ренессанса, что он был внутренне подготовлен в средние века. Если бы человек не прошел аскетической школы воздержания от растраты сил, то он не вошел бы в новую историю полным творческой мощи и дерзновения, каким вошел он в эпоху Ренессанса. В этом существенная противоположность между средневековьем и новой историей. Если европейский человек выходит ныне из новой истории истощенным и с растраченными силами, то он вышел из истории средневековой с силами накопленными, девственно непочатыми и дисциплинированными в школе аскетики. Образ монаха и образ рыцаря предшествовали эпохе Ренессанса, и без этих образов человеческая личность никогда не могла бы подняться на должную высоту.
Но тот конец средневековой истории, который должен был привести к возникновению новой истории, эпохи Ренессанса и гуманизма, означает, что средневековый период не мог разрешить тех вопросов, которые были поставлены, что средневековая идея Царства Божия не осуществилась и что неудача в ее осуществлении привела к восстанию человека в эпоху Возрождения и Гуманизма. Величайший результат средневековья заключается не только в том, что оно раскрыло свою идею, но и в том, что оно обнаружило внутренние противоречия и неосуществимость этой идеи. Средневековье должно было прийти к этому краху. Теократия не осуществилась и не могла осуществиться принудительно. Но результатом средневековья было сосредоточенье духовных сил человека для творчества новой истории, а не в том, в чем оно само полагало свои цели. Обыкновенно ведь результатом исторического движения является совсем не то, к чему сознательно стремятся его творцы, а совсем другое. Так, величайшим результатом движения, образовавшего Римскую империю, было не то, что она образовалась. Существование Римской Империи было кратковременно — она пала и разложилась. Но величайшим результатом ее разложения было то, что образовалось то единое человечество, которое и было основой всемирной христианской Церкви. Я думаю, что вне сознания людей средневековья было то, что они выковывали человеческую личность для нового периода всемирной истории. В их сознании были идеи теократии или феодализма, которые не удались, или преходящие формы рыцарства, которые новой историей были сметены (что нужно отделить от внутреннего, духовного рыцарства, которое остается вечным). Еще в пределах средневековья, в XIII и XIV веке, был христианский Ренессанс, происходило возвращение к античным формам, уже средневековая схоластика была победой античной формы в философии. Данте был высшей точкой средневекового Ренессанса.
VII. Ренессанс и гуманизм.
В эпоху средних веков силы человеческие были как бы внутренне духовно сосредоточены, но не были достаточно внешне проявлены. Но средневековье кончилось средневековым христианским Ренессансом, в котором западноевропейская культура достигла высочайшей точки своего развития. Я имею в виду ранний Ренессанс мистической Италии, в начале которого заложены пророчества Иохима из Флориды, святость Франциска Ассизского, гениальность Данте. Это христианское средневековое Возрождение, с которым связана живопись Джотто и все течение начального периода Итальянского искусства. Это вообще один из самых необычайных моментов западноевропейской духовной культуры. В нем была поставлена великая задача чисто христианского возрождения и положена основа чисто христианского гуманизма, отличного от того гуманизма новой истории, который начинается позже. Этот христианский гуманизм стоит выше всего того, что дала нам духовная культура Западной Европы. Весь средневековый замысел религиозной культуры, быть может, величайший замысел в истории по своей глубине, по своему универсальному размаху, по взлету мечты, с которой была связана эта культура, претендовавшая создать Царство Божье на земле в величайшей красоте, какую только видел мир, в которой было уже частичное возвращение к античным основам, потому что всякое возрождение есть возвращение к греческим источникам культуры,— этот величайший замысел религиозной культуры не удался, и средневековое Царство Божье не осуществилось и не могло осуществиться. Величайшие достижения этого христианского Ренессанса были необычайны, потому что необычайна была святость Св. Франциска Ассизского и гениальность Данте, но это был творческий духовный опыт, после которого выяснилось, что человечество не могло идти тем путем, который был предуказан всем средневековым сознанием. Дальнейший путь был отпадением и отхождением от этой средневековой культуры. Это был иной путь, на котором осуществлялся не христианский Ренессанс, а во многом антихристианский. В Ренессансе действовал и христианский гуманизм раннего периода, и гуманизм антихристианский. Это-центральная тема всей философии истории, тема о судьбе человека. Это — один из решающих моментов в судьбе человека. Средневековое сознание заключало в себе какие-то дефекты, недостатки, которые должны были раскрыться в конце средневековья и начале нового времени. В чем же заключается ущербность этой средневековой идеи Царства Божия, в силу которой средневековье должно было прийти к концу, не могла увенчаться успехом теократическая культура и должна была прийти к внутреннему надлому и краху, должна была кончиться история средневековья и начаться история нового человека, в которой появился дух, ведущий борьбу с духом средневековья? Я думаю, что недостаточность средневекового сознания прежде всего заключается в том, что не была раскрыта настоящим образом свободная, творческая сила человека и человек, в средневековом мире, не был отпущен на свободу для свободного, творческого дела, для свободного созидания культуры, не были в этом смысле испытаны в свободе те духовные силы человека, которые были выкованы христианством и христианским средневековым периодом истории. Средневековая аскетика укрепила человеческие силы, но силы эти не были отпущены для испытания в свободном творчестве культуры. Выяснилось, что принудительное осуществление Царства Божия —невозможно; принудительно без согласия, без участия свободных, автономных человеческих сил не может быть создано Царство Божье. Для религиозной культуры в мире необходимо было откровение человеческих сил, человеческого творчества, чтобы человек, пройдя через этот трудный период трагического испытания на свободе своих сил, пришел наконец к высшим формам религиозного сознания, чтобы мог он автономно создать теономическую культуру и приложить творческие свои силы для создания Царства Божья. Опыт новой истории есть не что иное, как опыт свободного раскрытия человеческих сил. Неизбежно было явление в истории гуманизма нового европейского человека, для того чтобы по-настоящему была испытана творческая свобода человека. Средневековье, сосредоточив и дисциплинировав духовные силы человека, вместе с тем связывало^их. Оно держало их в подчинении духовному центру, оно централизовало всю человеческую культуру. Это подчинение было во всем складе средневековой культуры. На заре нового времени произошла децентрализация, были отпущены на свободу творческие силы человека. И вот шипучая пора этих творческих сил и создала то, что мы называем Ренессансом, последствия которого продолжаются и до XIX века. Вся новая история есть ренессансный период истории. Этот исторический период стоит под знаком отпущения на свободу творческих сил человека, духовной децентрализации, отрыванья от духовного центра, дифференциации всех сфер общественной и культурной жизни, когда все области человеческой культуры становятся автономными. Автономной является наука, искусство, государственная жизнь, экономическая жизнь, вся общественность и вся культура. Этот процесс дифференциации и автоно-мизации и есть то, что называется секуляризацией человеческой культуры. Была секуляризирована даже религия. Искусство и познание, государство и общество в новое время пошли секуляризованными путями. Все сферы общественной и культурной жизни перестают быть связанными и становятся свободными. Это — характерная особенность всей новой истории. Переход от средневековой истории к новой означает некоторый поворот от Божьего к человеческому, от Божьей глубины, от сосредоточенности внутри, от ядра духовного вовне, во внешнее культурное выявление. Этот поворот от духовной глубины, с которой были связаны человеческие силы, к которой они были внутренне прикреплены, есть не только освобождение человеческих сил, но есть также переход на поверхность человеческой жизни, из глубины на периферию, переход от средневековой религиозной культуры к светской культуре, когда центр тяжести из Божьей глубины переносится в чисто человеческое творчество. Духовная связь с центром жизни начинает все более и более слабеть. Вся новая история есть прохождение европейским человеком пути, все более отдаляющегося от духовного центра, пути свободного испытания творческих сил человека.
Буркхарт говорит, что в эпоху Возрождения произошло открытие человека, открытие индивидуума. Но что означает это открытие человека? Вернее сказать, что внутренний человек был открыт в эпоху средневековья, поскольку тогда происходила внутренняя духовная работа, поскольку человек стоял тогда в центре христианской веры и христианского миросозерцания, но отношение к человеку было совершенно иное, чем в эпоху Возрождения. Эпоха Возрождения вновь открывает природного человека, в то время как христианство, с момента своего явления в мир, открыло духовного человека, нового Адама, в отличие от ветхого Адама дохристианского мира. Христианство объявило борьбу природному человеку, борьбу с низкими стихиями во имя духовного выковывания человеческой личности, во имя искупления человека. Средневековое христианство природного человека связало, оно сковало силы человеческие, отвратило человека от природы в нем самом и от природы в окружающем мире. Природа в средние века была закрыта. Обращенность к природе была одной из основ античной жизни, она была связана с природой очень глубоко. Поэтому обращение к природе нового человека было связано с обращением к античности. Ренессанс есть не что иное, как обращение человека к природе и обращение его к античности. Это обращение к природным основам человеческой жизни, это раскрывание творческих сил в природной сфере создает подпочву гуманизма. Гуманистическое сознание, которое было порождено этим двояким обращением к античности и к природе, это гуманистическое сознание повернуло человека от духовного человека к природному человеку. Оно развязало природные человеческие силы и вместе с тем разорвало связь с духовным центром, оторвало природного человека от духовного человека. Это обращение к природным своим силам, это раскрытие нового сознания на этой почве, создает юношескую уверенность человека в себе, в своих творческих возможностях. Силы человека безграничны, и нет границ человеческому творчеству в искусстве и в познании, в его государственной и общественной жизни. Человек новой истории переживает свой медовый месяц. Он ощущает освобожденность своих сил и глубочайшую связь с непосредственной природной жизнью и с античностью, которая была с природой связана. Замечательно, что именно в Италии, где произошел расцвет творческих свободных человеческих сил, не было прямого восстания против христианства. В Италии, в сущности, всегда сохранялась связь с античностью через Рим, никогда не терялись связи с ней и античность не была чужда всей Итальянской истории. В Итальянском Ренессансе не происходило разрыва с католической церковью, было странное сосуществование с католической верой. Это сосуществование заходило так далеко, что папы являются покровителями Ренессанса. Ренессансный дух проявляется с необычайной силой в Ватикане. С этой стороны происходит обогащение самого католичества. Этим отличается темперамент романских народов от северного темперамента германских народов, который в конце концов привел к протестантскому восстанию. Темперамент итальянский и вообще романский, со своей эстетической привязанностью к культу, не приводил к такому революционному восстанию. Там было скорее положительное творчество, чем восстание против религиозного и духовного прошлого.
В чем же заключается самая сущность обращения к природе и к античности? Это обращение было исканием совершенных форм во всех сферах человеческого творчества. Такое формальное начало в человеческом творчестве есть всегда ренессансное обращение к античности. Я не раз уже говорил о том, что для всего склада эллинской культуры существенно преобладание формы, которая достигает имманентного совершенства. Всякая попытка оформления мысли, художественного творчества, государственной и правовой жизни есть обращение к античности. Я думаю, что уже в патриотической мысли, поскольку в ней было обращение к Платону и Аристотелю, было оформление христианского духовного содержания эллинскими идеями. Но несоизмеримо могущественнее было обращение к античным формам на заре новых времен. Это искание новых совершенных форм носит двоякий характер. Обращаются прямо к античному искусству, к античной философии, к античному государству. С другой стороны, происходит искание совершенных форм в самой природе. Ренессанс так повернул человека к природе, что направил его творческие искания в сторону раскрытия совершенных форм в самой природе и через природу. Предрешают направления искусства искания источника совершенства в совершенных формах самой природы. Все искусство Ренессанса учится совершенству форм у природы, как учится и у античного искусства. В этом — глубочайшая сущность ренессансного духа. Это было искажением совершенных форм для нового духа, прошедшего через средневековую историю, духа, не похожего на дух античный, но по-новому обратившегося к античному искусству, античному познанию, античному государству, ко всем формам античной жизни. В Ренессансе произошло бурное и страстное столкновение нового духовного содержания христианской жизни, которое возрастало на протяжении всех средних веков, столкновение человеческой души, заболевшей тоской по иному, трансцендентному миру и не способной уже удовлетвориться этим миром, с вечно возрождающимися и возрождающими античными формами. То была душа, заболевшая жаждой искупления и приобщения к тайне искупления, которой не знает античный мир, душа, отравленная христианским сознанием греха, христианской раздвоенностью между двумя мирами, не способная удовлетвориться формами природной жизни и культурной жизни античного мира. На Ренессанс наложила свою печать эта двойственность сознания, унаследованная от опыта средневековья со всеми его раздвоениями на Бога и дьявола, на небо и землю, на дух и плоть,-в нем сочетается христианское трансцендентное сознание, разрывающее все грани с имманентным сознанием античного натурализма Весь Ренессанс ни на одно мгновенье не был цельным, не мог быть возвратом к язычеству. Весь Ренессанс, основанный на бурном столкновении языческих и христианских начал человеческой природы, как вечных начал, имманентных и трансцендентных, был необычайно сложен. Все это опровергает старое мнение, что Ренессанс был Возрождением язычества, что в Ренессансе возродилась языческая радость жизни, обращенная к природной жизни, что с христианскими началами ренессансный человек окончательно разорвал и вся эпоха эта была окрашена в какой-то единый цвет. Культурные историки теперь признают, что Ренессанс является бурным столкновением двух начал, что в нем сильны и начала языческие, и начала христианские. Это особенно ясно можно видеть по автобиографии Бенвенутто Челлини, который оставил замечательный памятник об эпохе Ренессанса. Бенвенутто Челлини может быть назван язычником XVI века; он совершает самые ужасные преступления, характерные для его века, он кладет печать на свое время. Но этот же Бенвенутто Челлини остается христианином. В замке св. Ангела его посещает религиозное видение. Если это верно для Бенвенутто Челлини, жившего в поздний период Ренессанса, наиболее удалившегося от средневековых христианских начал, то это еще более верно для более ранних стадий христианства. Все люди Кватроченто характеризуются такого рода раздвоенностью. Ренессанс обнаруживает невозможность в христианский период истории классического совершенства форм и классической ясности. Для духа христианского, для которого разверзлись небеса, раздвинулись грани мира, для которого жизнь не может быть имманентно замкнутой, в этом мире невозможно достижение совершенных форм, тех совершенных форм, которых, на вершине своей, удалось достигнуть древнему эллинскому миру, который создал образ земного эдема, совершенной красоты земной жизни. Это было возможно всего только раз во всемирной истории. И в истории христианской бывают попытки возрождения и возврата, есть тоска по эллинской красоте, но в христианском мире невозможно уже на веки веков это достижение красоты и это достижение ясности и цельности духа, потому что разорванность, которую вносит христианское сознание между земной и небесной жизнью, между жизнью временной и вечной, между имманентно замкнутым и трансцендентно-бесконечным миром — непреодолима в пределах земной истории, земной культуры.
Христианство создает тип культуры, тип •творчества, в котором все достижения символичны. Так, искусство христианского мира, по природе своей, не классично, оно символично, но символические достижения всегда бывают несовершенны и никогда не обладают ясностью, ибо символическое достижение предполагает такую форму, которая является знаком существования чего-то совершенного лишь за пределами данного земного достижения. Символ есть мост, переброшенный между двумя мирами, он говорит о том, что совершенная форма достижима лишь за какой-то гранью, но недостижима в этом замкнутом круге мировой жизни. Эта недостижимость совершенства формы очень чувствуется в центральный период Ренессанса — Кватроченто. Этот период великих исканий отличается несовершенством форм. Это несовершенство земной формы говорит о неземном совершенстве. Искусство не создает совершенства, а говорит о тоске по совершенству и символически эту тоску изображает. И это характерно для всего склада христианской культуры. Если взять различие между архитектурой готической и классической, то это будет особенно ясно. В то время как классическая архитектура достигает здесь законченного совершенства, как купол Пантеона, готическая архитектура, по существу, несовершенна и к совершенству формы не стремится. Она вся вытягивается в какой-то тоске и томлении к небесам и говорит, что лишь там, в небесах, возможно достижение совершенства, здесь же возможно не достижение, а лишь томление, страстная по нем тоска. Эта невозможность составляет характерную особенность и всей христианской культуры. Христианская культура, по своей природе, не может быть завершена. Она обозначает начало вечного искания, томления, вытягивания вверх и лишь символическое отображение того, что за этими пределами возможно. Эта раздвоенность христианской и языческой души достигает наиболее острого и наиболее прекрасного своего выражения в творчестве величайшего художника Кватроченто — Ботичелли. В искусстве Ботичелли эта раздвоенность ренессансного человека, это столкновение языческих и христианских начал достигает особенной напряженности. Весь творческий путь Ботичелли кончился тем, что он пошел за Савана-ролой,—он пережил трагедию, подобную Гоголю, когда тот сжег, под влиянием о. Матвея, свои рукописи. В творчестве Ботичелли чувствуется невозможность достижения совершенных форм в искусстве христианской души, чувствуется болезненный надлом христианской души, неудача в достижениях культурного творчества. О Ботичелли говорили, что его Венеры покинули землю, а Мадонны покинули небо. Эта невозможность пребывания на земле совершенного образа Мадонны составляет характерную черту духа Ботичелли, в этом главная тоска его. Для меня искусство Ботичелли является самым прекрасным и в то же время научающим тому, что Возрождение должно было претерпеть внутреннюю неудачу. Может быть, сущность и величие Возрождения именно в том, что Возрождение не удалось и удаться не могло, потому что невозможно античное, языческое Возрождение, невозможно Возрождение совершенных земных форм в христианском мире. Для этого мира неизбежно искание совершенных форм и обращение к античным формам, но так же неизбежно и глубочайшее разочарование в осуществимости этих форм здесь. Имманентное осуществление совершенства в культурном творчестве невозможно в христианский период истории. Неудача Возрождения и есть, быть может, величайшее его достижение, потому что в этой неудаче осуществляется величайшая красота в творчестве. В раздвоенных образах Кватроченто достигается пубокое познание судьбы человека в христианский период истории и дается великий опыт того, в каких пределах воз-ложна игра творческих сил человека, принадлежащего к хри-ланскому периоду мировой истории. После явления Христа, после дела искупления, невозможно уже осуществление твор-ва в формах античного имманентного совершенства. На это могут возразить, что в Чинквеченто было достигнуто большее совершенство форм. В искусстве Микель Анджело и Рафаеля будто бы достигается настоящее совершенство. Но изумительна судьба этой вершины совершенства итальянского искусства XVI века: это достижение высшей точки в искусстве Рафаеля было началом падения Ренессанса. Уже в Рафаеле, в творчестве которого достигается совершенство композиции, начинается внутреннее обездушивание. В нем нет того внутреннего трепета, который чувствуется в искусстве Кватроченто. После искусства Квинквеченто начинается болонская школа и школа барокко, которые обозначают отцветание Ренессанса. Обращение к былым творческим эпохам обыкновенно ведет к тому, что они не просто повторяются, но происходит преломление старых и вечных начал в новых началах. В эпоху Ренессанса произошло не простое повторение, не простой возврат к античному творчеству, а произошло своеобразное преломление античных форм в новом духе, в новом содержании, изменившее все результаты. В конце концов, сходство между античным и ренессансным преувеличено. Совершенства античного в искусстве Ренессанса нет, так как вообще никогда ничто не повторяется. Платонизм эпохи Возрождения очень мало походит на античный платонизм. Как в области искусства, так и в области создания искусственных форм государственности, в которых не повторяется ничего похожего на формы античные. Это —обман внешнего сходства, в действительности же вся творческая культура эпохи Возрождения гораздо менее совершенна, чем творческая культура периода расцвета эллинской культуры, никогда, быть может, не превзойденная в человеческой истории и вместе с тем гораздо более богатая своими исканиями и гораздо более сложная, чем более простая и целостная культура греческая.
Внутренний дух новой истории, дух, вдохновлявший Ренессанс и продолжавший вдохновлять весь Ренессансный период не только XV и XVI века, но и всей новой истории, только теперь приходит к концу. Дух этот есть гуманизм, и он лег в основу всего нового миросозерцания. Началась новая гуманистическая эра. Началось Возрождение не только в Италии, но и вообще в Европе. Одним из величайших проявлений Ренессанса должно быть признано творчество Шекспира. Это было обнаружение той свободной игры творческих человеческих сил, которое началось после того, как человеческие силы были отпущены на свободу. Ренессанс повторяется во всех европейских странах, но величайший расцвет его совершенства в Италии. Гуманизм представляет собой закваску новой истории.— Понять новый гуманистический дух - значит понять самое существо новой истории, значит понять всю судьбу человека в новой истории, понять неотвратимость тех испытаний, которые человек переживает в новой истории, до нашего времени, осмыслить и объяснить эти испытания. Я думаю, что в самой первооснове гуманизма заложено было глубокое противоречие, раскрыть которое и составляет тему философии новой истории. Все неудачи новой истории, неудачи в человеческой судьбе, которые подстерегали человеческую свободу, которые отравляли радость творчества, все горькие разочарования, которые мы переживаем до ньшешнего дня, основаны на этом коренном противоречии. Что же это за противоречие?
Гуманизм, по своему смыслу и уже по самому своему наименованию, означает вознесение человека, постановку человека в центре, восстание человека, его утверждение и раскрытие. Это-одна сторона гуманизма. Гуманизм, говорят, раскрыл человеческую индивидуальность, дал ей полный ход, освободил от той подавленности, которая была в средневековой жизни, направил ее по свободным путям самоутверждения и творчества. Но в гуманизме есть начало и прямо противоположное. В гуманизме есть основание не только для вознесения человека, не только для раскрытия творческих сил человека, но и для принижения, для иссякания творчества, для ослабления человека, потому что гуманизм, обратив в эпоху Ренессанса человека к природе, перенес центр тяжести человеческой личности изнутри на периферию; он оторвал природного человека от духовного, он дал свободу творческого развития природному человеку, удалившись от внутреннего смысла жизни, оторвавшись от божественного центра жизни, от глубочайших основ самой природы человека. Что человек есть образ и подобие Божье, что человек есть отображение Божьего существа, гуманизм это отрицает. Гуманизм, в преобладающей своей форме, утверждает, что человеческая природа есть образ и подобие не божественной природы, а природы мировой, что он есть природное существо, дитя мира, дитя природы, созданное природной необходимостью, плоть от плоти и кровь от крови природного мира и поэтому разделяющий ее ограниченность и все болезни и дефекты, заложенные природном существовании. Таким образом, гуманизм не только утверждал самонадеянность человека, не только возносил человека, но и принижал человека, потому что перестал считать его существом высшего, Божественного происхождения, перестал утверждать его небесную родину и начал утверждать исключительно его земную родину и земное происхождение. Этим гуманизм понизил ранг человека. Произошло то, что самоутверждение человека без Бога, самоутверждение человека, переставшего ощущать и сознавать свою связь с высшей божественной и абсолютной природой, с высшим источником своей жизни, привело к разрушению человека. То начало, которое было заложено в христианском духе, возносившее человека, согласно которому он есть образ и подобие Божье, дитя Божье, существо, усыновленное Богом, гуманизм низверг. Христианское сознание о человеке начало слабеть. Таким образом, раскрывается внутри гуманизма самоистребляющая диалектика.
Гуманизм переживает разные стадии. Чем он ближе к ис-: точникам христианским, католическим, и вместе с тем античным, тем прекраснее, тем сильнее человеческое творчество. Чем он более отдаляется от христианского средневековья, тем более порывает он с античными основами, тем более иссякают творческие силы и ослабляется красота человеческого духа. Это одно из самых несомненных и вместе с тем парадоксальных положений, которое раскрывается в новой истории. С этим связано страшное несоответствие между началом и концом гуманизма, между началом, которое породило расцвет Ренессанса, в котором чувствовалась еще эта средневековая, христианская, католическая основа человеческой личности и была связь с античностью, и тем концом гуманизма, в котором совершается все больший и больший разрыв с средневековыми католическими основами, а вместе с тем с античностью. Чем более отходит человек в своих исторических путях и в своем сознании от начал средневековых, тем более отходит он и от начал античных и изменяет первоначальному завету Ренессанса. Античные начала, в сущности, никогда не были уничтожены, особенно у романских народов. Тот новый дух, который обнаруживается в новой истории, направляет человека по совершенно новым путям, не схожим ни с путями средневековой его судьбы, ни с путями его античной судьбы. Между тем как духовных основ человека было в сущности две: античная — эллинская и средневековая — христианская, или католическая. Это парадоксальное на первый взгляд утверждение блестяще подтверждает всю диалектику о человеке. Диалектика эта заключается в том, что самоутверждение человека ведет к самоистреблению человека, раскрытие свободной игры сил человека, не связанного с высшей целью, ведет к иссяканию творческих си л. Страстное стремление к созданию красоты и совершенства форм, с которого начался ренессансньш период истории, ведет к разрушению и ослаблению совершенства форм. Это увидим мы во всех областях человеческой культуры.
Ренессансньш период истории есть великое испытание человеческой свободы. Оно было провиденциально неизбежным. Не могло создаться Царство Божье без такого свободного испытания человеческих сил. Средневековый замысел земной теократии не включал этого свободного испытания человеческих сил. Без свободы, без свободного творчества не могло человечество прийти к Царству Божьему. Но одно дело — ут-верждать неизбежность этого процесса новой истории, как какую-то неотвратимость, и видеть глубокий смысл пережитых человечеством гуманистических гблужданий, другое дело — утверждать, что гуманизм, по своим основам и путям, заключает в себе высшую, подлинную правду и что испытание человеческих сил и человеческой свободы оказалось на высоте. Я думаю, что человек прошел через отпадение и падение, он пережил их последствия, но пройти этот путь он должен был во имя величайшего смысла всякого свободного испытания. Это противоречие гуманизма и есть тема философии новой истории. Через раскрытие этого противоречия мы должны прийти к концу ренессанса, и к концу гуманизма, который мы переживаем в очень острой форме. Этим завершается новая история, и мы вступаем в какой-то совершенно неведомый период, четвертый период всемирной истории, не имеющий еще наименования. Это есть окончательное исчерпание гуманизма, окончательное изживание и исчерпание Ренессанса.
Следующий период развития гуманизма в новой истории, совершающийся с внутренне неизбежной диалектикой, после небывалой по мощи манифестации свободного человеческого творчества в Возрождении, представляет собой эпоха реформации. В эпоху реформации миссию берет на себя другая раса. В то время как возрождение начинается на юге, у народов романских, реформация есть достояние народов северных, по преимуществу народов германских. Реформация создается другим расовым темпераментом, в ней раскрывается иной дух. Реформация была религиозным восстанием человека, но восстанием человека не в форме положительного творчества, а в форме протеста и религиозного отрицания. Это связано как с положительными, так и с отрицательными свойствами германской расы. В германской реформации были некоторые черты германского духа, которые ставят его, в некоторых отношениях, выше духа романского. Это-какая-то особенная углубленность, особенное стремление к духовной чистоте. Черты эти привели к тому, что Возрождение и гуманизм приняли прежде всего религиозные формы. В романском католическом мире произошло творческое гуманистическое возрождение, которое не принимало формы восстания против католической церкви. Папы покровительствовали Возрождению и сами были заражены духом Возрождения. Но внутри католической церкви, в человеческой ее стороне, обнаружились гнилостные процессы, и против этого восстал дух протеста в германской расе. Это приняло не столько характер созидательный, сколько характер бунтарский. Обнаружение гуманизма в реформации означало и утверждение истинной свободы против насилия над человеческой природой, которое происходило в католическом мире, и вместе с тем утверждение ложной свободы человека, в которой человек начал уже истребляться. Это характерно для самого существа Реформации: она, с одной стороны, утверждает свободу человека, и в этом истинный ее момент и положительное ее призвание; с другой стороны, утверждает человека менее, чем утверждало сознание католическое. Эта, может быть, недостаточно ясная мысль требует раскрытия. В то время как католическое христианское сознание утверждает существование двух начал — Бога и человека, утверждает самостоятельность человека перед лицом Бога, признает взаимодействие двух начал, самобытность двух природ, протестантское, Лютеранское христианское сознание в конце концов утверждает существование только одного Бога и божественной природы и самостоятельность человеческой природы отрицает. Это есть монизм, но монизм, противоположный натуралистическому. Религиозное и мистическое сознание протестантизма утверждает одного Бога и божественную природу и отрицает самобытность человека, онтологическую основу человеческой свободы. Лютер утверждал свободу религиозной совести. В протесте против католичества он утверждал автономность религиозного сознания человека, но он отрицал первооснову свободы человека. Он склонялся к учению Бл. Августина о благодати, которое не давало места свободе. Это очень характерно не только для реформации, но и для всего германского духа, который лег в основу германской философии, германского идеалистического монизма. Единое божественное начало раскрывается внутри человека, но отрицается самостоятельная человеческая природа пред лицом божественного начала. Сама человеческая природа для отвлеченной германской мистики и отвлеченного германского идеализма есть неистинная природа, не относящаяся к самому существу бытия. Такое учение было заложено уже в Реформации, и Реформация, таким образом, не только утверждала человеческую свободу, но и начала метафизически ее отрицать. В Реформации было не только гуманистическое начало, но и начало антигуманистическое. Кроме того, Реформация хотела истребить в христианстве языческое начало, она враждебна античным, эллинским истокам христианства. Реформация кладет основание такому духовному течению, которое все более и более разрывало с античной красотой и с античными формами. Это очень характерный и существенный момент во внутренней диалектике гуманизма. Мне важно раскрыть лишь основные моменты этой диалектики, чтобы перейти к основной теме о конце Ренессанса.
Дальнейшим моментом этой диалектики было просвещение XVIII века, которое тесно связано с явлением нового человека в эпоху Ренессанса. Здесь мы видим уже начало саморазложения гуманизма. Просвещение XVIII века не напоминает по духу своему того первоначального расцвета человеческого творчества, которое мы видим в Ренессансе. В рационализме просвещения нельзя узнать той, полной энтузиазма веры человека в силу своего познания, которую мы встречаем в эпоху Ренессанса. Там встречаем мы безграничную веру в способность человека проникнуть в тайны божественной природы. Этот необычайный подъем в познании тайн природы чувствовался и в теософических и в натурфилософских течениях Ренессанса, ощущавших природу как божественную и живую, в которую человек должен проникнуть, с которой он должен слиться, и в первых гениальных открытиях естествознания. В век "просвещения", при всей его вере в разум, нет этой упоенности познанием природы. Начинается подрыв самого разума, понижение качества разума, потому что тот высший разум, который соединяет человека с божественным космосом, начинает тускнеть, связь с ним теряется. Это начало того уединения человека, отрывания от духовного начала, которое ведет и к уединению от жизни космической. Последствия этого мы видим уже в XIX веке. Такое же могущественное проявление гуманистического духа новой истории, как в возрождении, как в реформации, как в просвещении XVIII века, мы видим и в великой французской революции. Это — один из существенных моментов в судьбе ренессансного периода истории, в судьбе гуманистичного самоутверждения человека. Гуманистически самоутверждающийся человек неизбежно должен был прийти к тем деяниям, которые были совершены великой французской революцией, испытание свободных человеческих сил должно было быть перенесено и на эту сферу. То, что в Ренессансе совершалось в науке и искусстве, что совершалось в реформации в жизни религиозной, что в эпоху просвещения протекало в сфере разума, должно было быть переведено и в общественное коллективное действие. В общественном коллективном действии должна была быть проявлена эта вера человека в то, что он, как природное существо, совершенно свободно и самочинно может изменять человеческое общество, изменять ход истории, что он в этом отношении ничем не связан, что он должен провозгласить и осуществить свое право и свободу. На этот путь вступила революция и совершила один из величайших гуманистических экспериментов. Революция есть эксперимент, которым проверяются внутренние противоречия гуманизма, задания гуманизма и результаты гуманизма, оторванного от духовной основы. Революция бессильна была осуществить свои задания, она не могла осуществить прав человека и свободной жизни человеческой. Она претерпела великую неудачу. Она осуществила Лишь тиранию и поругание человека. Если была неудача Возрождения, которое было великой манифестацией человеческого творчества, но бессильно было осуществить совершенство земных форм, если была неудача реформации, которая, Поманив свободой, обнаружила религиозное бессилие и приняла формы отрицания, а не созидания, то еще большая неудача совершилась в революции. Революция не удалась, и весь XIX век есть обнаружение этой неудачи французской революции и раскрытие духовной реакции, которая возникла в начале XIX века и идет и до нашего времени, обнаруживая существо и смысл этой неудачи. Путем, на котором стояла революция, человек не мог осуществить своих прав и своей свободы, Не мог достигнуть блага. Если в 89 году революция движется пафосом прав человека и гражданина, пафосом свободы, то в 93 году она доходит до отрицания всяких прав и всякой свободы. Она пожирает самое себя, обнаруживая, что в ее основании нет начала, которое онтологически укрепляет права человека. Обнаруживается, что права человека, забывающие права Бога, истребляют себя и не освобождают человека. Это показала духовная реакция начала XIX века, которая внесла глубочайшие мысли, оплодотворившие весь век. XIX век, в значительной степени, есть реакция против XVIII века и революции. Социализм, столь характерный для XIX века, был не только порождением французской революции, он был также реакцией на французскую революцию, реакцией против того, что французская революция не исполнила своих обещаний, не осуществила свободы, равенства и братства. Социализм есть материалистическое и атеистическое извращение теократической идеи. Социализм хочет осуществить благо человека, положив предел освободительному движению Ренессанса. Печальная история французской революции, основанная на гуманистическом самоутверждении человека, обнаруживает внутреннее противоречие, не допускающее истинного освобождения и осуществления человеческих прав и порождающее неизбежную реакцию. Один интересный французский мыслитель, Фабр д'Оливе, в своей книге "Histoire philosophique du genre humain" делает попытку признать существование трех начал в истории человеческих обществ: необходимости (le Destin), Божественного Провидения (la Providence) и человеческой свободы (la volonte de 1'Homme), которые постоянно находятся во взаимодействии. Во французской революции действует начало человеческой свободы, человеческой воли против начала Провидения, против божественного начала, в разрыве с ним, а реакция на революцию есть не что иное, как действие необходимости. Le Destin начинает вступать в свои права против человеческого произвола. Наполеон был орудием необходимости, восставшей на человеческий произвол. На оргию человеческой свободы, на безграничную человеческую самонадеянность, оторвавшую человека от высших начал, обрушивается необходимость со всей своей силой. Это начало необходимости обрушилось и на французскую революцию. Удар необходимости был карой за ложь гуманистической свободы, в которой природный человек отрывается от человека духовного и перестает ощущать духовный смысл свободы. Реакция падает на произвол, но против свободы духовной бессильна эта реакция необходимости.
В то время как первое возрождение было обращено к античности, дальнейшие возрождения, которые были в культуре XIX века, уже окрашены в цвет возврата к средневековью. Таковы творческие искания человеческой личности в движении романтическом. Это есть тоже проявление гуманизма, но пытающееся спасти человеческое творчество, оплодотворив его средневековыми началами. В средних веках ищут духовного питания для человеческого творчества. Романтическое возрождение хочет вернуть человеческому творчеству то высокое положение, которое связано с христианским сознанием, и этим предотвратить его падение. Это обращение к средневековым началам характерно также и для конца XIX века, когда происходит мистическое движение в известных кругах духовной культуры. Следует еще указать на то, что гуманизм достигает своего совершенного развития и вершины человеческого творчества, когда он удерживается на середине чистой человечности, напр, в германском возрождении, в гениальной личности Гете. Это было последним явлением чистого, идеального гуманизма. Гердер видел в человечности высшую цель истории. Он был последним настоящим гуманистом. Для Гердера Человек — впервые отпущенное на свободу существо, он стоит прямо. Человек по свободе своей —король. В Герде-ровском гуманизме образ человека еще связан с образом Божьим. Это —гуманизм религиозный, но религия Гердера вся в гуманности. Человек — посредник между двумя мирами. Человек создан для бессмертия, в силах человека заложена бесконечность. Пафос Гердера, как и Лессинга, был в воспитании человеческого рода. Цель человека в самом себе, т. е. в гуманности. После германского возрождения Гердера и Гете, после романтиков, гуманизм радикально перерождается и теряет связь с эпохой Возрождения. XIX век раскрывает начала уже прямо противоположные. Начинается кризис гуманизма и иссякание ренессансного духа. Раскрываются противоположные бездны.
VIII. Конец Ренессанса и кризис гуманизма. Вхождение машины.
Теперь мы подходим к самой центральной теме чтений по философии истории — к теме о конце Ренессанса и о кризисе гуманизма. Я ощущаю эпоху, в которую мы вступаем, как конец ренессансного периода истории. Требует особого разъяснения, почему ренессансная энергия новой истории истощилась, почему творческий дух Ренессанса постепенно угасал и рождался другой дух. Для того чтобы постигнуть глубинную сущность этого процесса, нужно обратиться к первоначальной основе всего исторического процесса, как я его раньше уже обрисовал. В основе исторического процесса лежит отношение человеческого духа к природе и судьба человеческого духа в этих взаимодействиях с природой. Это составляет первоначальную ткань исторического процесса. Можно установить три периода в отношении человека к природе: первоначальный период—дохристианский, период языческий, который характеризуется еще погруженностью человеческого духа в стихийную природу, и непосредственной органической слиянностью с природой. Эта погруженность человеческого духа в природу является первоначальной стадией отношений между человеком и природой. В этот период человек воспринимал природу анимистически. Следующая стадия отношений человека к природе связана с христианством и продолжается в течение всего средневековья. Она стоит под знаком героической борьбы человеческого духа с природными стихиями, с природными силами. Этот процесс борьбы человеческого духа с природой характеризуется отворачиванием от природы, обращением человеческого духа внутрь, в глубину, отношением к природе как к источнику греха, к источнику порабощения человека низшими стихиями. Наконец, третий период отношения человеческого духа к природе, который начался в эпоху Ренессанса, характеризуется новым обращением человеческого духа к природной жизни. Но это новое обращение человеческого духа к природной жизни очень резко отличается от того непосредственного общения с природой, которым началась всемирная история, которое было начальной стадией взаимодействия между духом и природой. Здесь уже происходит не духовная борьба со стихиями природы, которая характерна для средневековья и для наиболее христианского периода истории, а борьба во имя покорения и завоевания природных сил для превращения их в орудие человеческих целей, человеческого интереса и благополучия. То обращение к природе, которое началось в эпоху Ренессанса, не сразу раскрыло такого рода отношения, первоначально оно было лишь художественным и познавательным созерцанием тайн природы. В дальнейшем обнаруживается новое отношение человека к природе. Завоевывается и покоряется человеку внешняя природа, и от этого меняется сама человеческая природа. Внешнее покорение природы меняет не только природу, не только образует новую среду, но меняет и самого человека. Сам человек под влиянием этого процесса радикальным и коренным образом изменяется. Происходит переход от органического типа к механическому. Если предшествующая стадия знаменовалась органическим отношением человека к природе и ритм человеческой жизни соответствовал ритму жизни природной, если самая материальная жизнь человеческая протекала как жизнь органическая, то, с известного момента истории, происходит очень радикальный сдвиг и переворот: переход к механическому и машинному складу жизни. История ренессансного периода, который продолжался несколько столетий, не совпадает с Ренессансом в точном смысле слова. XVI, XVII и XVIII века - переходный период, когда человек считает себя свободным от организма и еще не подчиненным механизму. Человеческие силы отпущены на свободу для творческого действия. Человек вышел уже из недр органической жизни, общественной и индивидуальной, он развязан, он дифференцирован и освобожден от принудительной связи с центром органическим, которому был раньше подчинен. Но не образовалось новой связи и скрепы с новым центром, не образовалось еще механизма как нового уклада и нового соподчинения. Этот период богатой содержанием истории воспринимается как наиболее свободное проявление играющих творческих сил человека. В этот период человек не подчинен ни старому органическому центру, ни новому механическому центру.
Что же произошло в истории человечества, что радикально изменило весь склад и ритм жизни и что, ускоренным темпом, положило начало тому концу Ренессанса, который намечается в XIX веке и в XX достигает наиболее резкого своего выражения? По моему глубокому убеждению, произошла величайшая революция, какую только знала история, — кризис рода человеческого, революция, не имеющая внешних признаков, приуроченных к тому или другому году, подобно революции французской, но несоизмеримо более радикальная. Я говорю о перевороте, связанном с вхождением машины в жизнь человеческих обществ. Я думаю, что победоносное появление машины есть одна из самых больших революций в человеческой судьбе. Мы еще недостаточно оценили этот факт. Переворот во всех сферах жизни начинается с появления машины. Происходит как бы вырывание человека из недр природы, замечается изменение всего ритма жизни. Ранее человек был органически связан с природой и его общественная жизнь складывалась соответственно с жизнью природы. Машина радикально меняет это отношение между человеком и природой. Она становится между человеком и природой, она не только по видимости покоряет человеку природные стихии, но она покоряет и самого человека; она не только в чем-то освобождает, но и по-новому порабощает его. Если ранее человек находился в зависимости от природы, если скудна была его жизнь в силу этой зависимости, то изобретение машины и та механизация жизни, которой это сопровождается, с одной стороны, обогащает, но, с другой стороны, создает новую форму зависимости и рабства, гораздо более сильного, чем то, которое чувствовалось от непосредственной зависимости человека от природы. Какая-то таинственная сила, как бы чуждая человеку и самой природе, входит в человеческую жизнь, какой-то третий элемент, не природный и не человеческий, получает страшную власть и над человеком, и над природой. Эта новая страшная сила разлагает природные формы человека. Она подвергает человека процессу расчленения, разделения, в силу которого человек как бы перестает быть природным существом, каким он был ранее. Эта сила более всего сделала для окончания Ренессанса. Мы встречаемся здесь с очень странным на первый взгляд и загадочным парадоксом, вникнув в который мы очень многое поймем в новой истории. Парадокс заключается в том, что ренессансная эпоха истории началась с обращения к природе, с искания совершенных природных форм. С этого началось искусство и познание эпохи Ренессанса. Хотели как бы оприродить и натурализовать общественную жизнь человека. Это обращение открывало новую эру, идущую на смену средневековой борьбе человека с природой, средневековому отворачиванию от природы. Но дальнейшее развитие Ренессанса, развитие гуманизма раскрывает в этом обращении такое начало, которое по-новому и гораздо более глубоко отрывает человека от природы, отрывает его так, как он никогда в эпоху средневековья не был оторван. Леонардо да Винчи, один из величайших гениев Ренессанса, не только в художественном, но и в научном отношении, по тнорчеству которого можно изучать дух ренессансного человека и в котором очень многое зачалось от нового духа, Леонардо да Винчи, искавший источники совершенных форм искус-ст на и познания в природе и, может быть, больше других постоянно об этом говоривший, был одним из виновников того грядущего процесса машинизации и механизации человеческой жизни, который убил ренессансное обращение к природе, оторвал человека от природы, по-новому поставил между человеком и природой машину, механизируя человеческую жизнь и замыкая человека в искусственную культуру, в этот период создаваемую. Таким образом, ренессансное обращение к природе, которое не было делом духовного человека и раскрывало лишь природного человека, не заключало никаких гарантий от того процесса, который должен был отвратиnь человека от природы и начать процесс разложения и распыления самого человека как природного существа. Процесс этот в конце новой истории идет ускоренным темпом и представляет совершенно новое явление, противоположное исходным началам Ренессанса. Этот процесс истощения творческих сил человека в результате отрыва его от духовного центра жизни и исключительное обращение к периферии жизни сопровождается гибелью всех гуманистических иллюзий. Колеблется и разлагается образ человека, личность человека, которую выковало христианство в средние века. В эпоху раннего Ренессанса приоткрывается творчество духовного человека, но в дальнейшем природный человек, оторванный от духовного человека, не мог удержать свою личность и не имел неисчерпаемого творческого источника. Человек уходит на внешнюю периферию жизни, обращает свои силы на создание механического машинного царства. Укрепление творчества человека связано с раскрытием в человеке глубинного, сверхчеловеческого, божественного начала. Когда человек отрывается от этого божественного начала, когда он закрывает в се-Пс доступ к нему и ему доступ к себе, тогда он колеблет в себе человеческий образ, тогда делается он все более и более бессодержательным, а воля его — беспредметной. Высший творческий источник и высшая цель, которые не могут быть человеческими, исчезают, закрываются родники творчества, исчезает предмет творчества. Это иссякание живых родников творчества, которое по природе своей должно быть признано не только человеческим, но и сверх-человеческим, это исчезновение цели и предмета творчества, которые должны быть признаны сверх-человеческими, означают разложение человека, потому что человек, вступивший на путь исключительного самоутверждения, когда он перестает признавать высшее начало, когда он признает себя самодовлеющим существом, истребляет себя по неизбежной внутренней диалектике, отрицает себя. Для того чтобы человек до конца утвердил себя и не утерял источника и цели своего творчества, он должен утверждать не только себя, но и Бога. Он должен утверждать в себе образ Божий. Если он не носит в себе образа высшей Божественной природы,— он теряет всякий образ, он начинает подчиняться низшим процессам, низшим стихиям, начинается расчленение на элементы его собственной природы, он начинает подчиняться той искусственной природе, которую он сам вызвал к жизни, подчиняться природе механической машины, и это его обезличивает, обессиливает, уничтожает. Для того чтобы утвердилась человеческая индивидуальность, человеческая личность, для этого она должна сознавать свою связь с началом более высоким, чем она сама, для этого она должна признать существование другого, Божественного начала. Когда человеческая личность ничего не хочет знать, кроме себя, она распыляется, допуская вторжение низших природных стихий, и сама исходит в этой стихии. Когда человек ничего не признает, кроме себя, он перестает ощущать себя, потому что для того, чтобы ощущать себя, нужно признать и не себя, для того, чтобы быть до конца индивидуальностью, нужно признавать не только другую человеческую личность и индивидуальность, нужно признать божественную личность. Это и дает ощущение человеческой индивидуальности, безграничное же самоутверждение, не желающее ничего знать над собой, которое оказалось пределом гуманистических путей, ведет к потере человека. Гуманизм направляется против человека и против Бога. Если ничего нет над человеком, если нет ничего выше человека, если человек не знает никаких начал, кроме тех, которые замкнуты в человеческом круге, человек перестает знать и самого себя. Последствием отрицания высшего начала является то, что человек роковым образом подчиняется низшим, не сверх-человеческим, а подчеловеческим началам. Это является неизбежным результатом всего длинного пути безбожного гуманизма в новой истории. Индивидуализм, не знающий границ и ничему себя не подчиняющий, расшатывает индивидуальность. Мы видим в последних плодах новой истории странную и таинственную трагедию человеческой судьбы. С одной стороны, мы видим раскрытие идеи индивидуальности, которой не знала предшествующая эпоха, которая открывает что-то новое в человеческой культуре и вносит какие-то новые ценности, с другой стороны, мы видим такое расшатывание человеческой индивидуальности, какого раньше никогда не было. От безграничности и безудержности индивидуализма индивидуальность погибает. Мы видим действительный результат всего гуманистического процесса истории: гуманизм переходит в анти-гуманизм.
Для того чтобы особенно остро ощутить этот процесс перехода гуманизма в свою противоположность, возьмем двух властителей дум последних десятилетий XIX века и начала XX, двух гениальных людей, принадлежащих к противоположным полюсам человеческой культуры, не имеющих между собой ничего общего, представителей совершенно разных и враждебных духовных укладов, но одинаково властно наложивших свою печать на судьбы человечества. Один —наложил свою печать на индивидуальные вершины духовной культуры, другой - на человеческие массы, на социальную среду. Я говорю о Фридрихе Нитцше и о Карле Марксе. Эти два человека, которые нигде, ни в одной точке не встречаются, которые могут лишь взаимно отталкиваться, одинаково кончают гуманизм и начинают переход в анти-гуманизм.В них человеческое самоутверждение, по-разному, переходит в отрицание человеческого образа, и происходит это на двух совершенно противоположных путях. У одного из них, у Фридриха Нитцше, который есть плоть от плоти и кровь от крови гуманизма и вместе с тем кровавая жертва, принесенная за грехи гуманизма, гуманизм кончается индивидуалистически. В его образе, в его судьбе, расплачивается новая история за ложь, допущенную в иервоистоках гуманизма. Гуманизм в Нитцше кончает свою бурную, трагическую историю. Это выражено в словах Зара-тустры: "'человек есть стыд и позор, он должен быть преодолен". У Нитцше происходит преодоление и переход гуманизма в анти-гуманизм в форме идеи сверхчеловека. В идее сверхчеловека гуманизм кончается на вершине культуры. На новом антигуманистическом пути человек отрицается как позор и как стыд во имя сверхчеловека. В этом сказалась страстная и бурная потребность в сверхчеловеческом. Но то, как Нитцше переходит к сверхчеловеку, обозначает отрицание человека, самоценности человеческого образа, человеческой личности, безусловного ее значения. То, что было одной из глубочайших основ христианского откровения, что было внесено христианством в духовную жизнь, — признание безусловного значения человеческой души. Нитцше отрицает. Человек есть лишь преходящий момент, лишь средство для явления в мир высшего существа; он целиком приносится в жертву этому сверхчеловеку, во имя сверхчеловека человек отрицается и отвергается. Нитцше восстает против гуманизма, как против величайшей помехи на путях утверждения сверхчеловека. Таким образом, в судьбе гуманистического индивидуализма происходит перелом. После Нитцше возврат к гуманизму уже невозможен. Он глубоко вскрыл противоречия гуманизма. Заканчивается европейский гуманизм на вершинах духовной культуры, и умирает серединное гуманистическое царство, царство чистой человечности, чистой гуманистики. Культура с гуманистическими науками и искусствами делается невозможной. Нитцше духовно открывает какую-то новую эру по ту сторону гуманизма, которая обозначает глубочайший кризис гуманизма. Глубокие духовные течения, которые возникают после Нитцше, не носят гуманистического характера, они определенно окрашиваются в религиозно-мистический цвет. Гуманистические начала оказываются старомодными, за которые держаться уже нельзя. В процессе все большего углубления свергают и отодвигают на второй план гуманистический тип культуры. Так произошло падение гуманизма в лице одного из гениальнейших людей, в лице Фр. Нитцше. В его страдальческой судьбе совершилось падение гуманизма. Но Нитцше был еще обращен с какой-то страстной тоской к Ренессансу. Он тосковал оттого, что силы Ренессанса истощались. Он в самом себе чувствовал иссякание силы Ренессанса, и это выражено в таких характерных для него проявлениях, как идеализация образа Цезаря Борджии. Рисуя этого героя эпохи Ренессанса, он старался восстановить иссякающие творческие силы и создать как бы возможность нового Ренессанса. Но творческая гениальная индивидуальность Нитцше обозначала не это новое возрождение, не этот Ренессанс Ренессанса, а обозначала его кризис, его конец. В Нитцше, который так страстно и бунтующе утверждал творческую индивидуальность, который дошел до последнего дерзновения в утверждении индивидуальности, человеческий образ тускнеет и вырисовывается пока еще таинственный, но жуткий образ сверхчеловека, черты которого лишь грезятся, в котором есть такое подлинное религиозное упование о каком-то высшем состоянии, но есть в то же время и возможность религии антихристианской, безбожной, сатанической.
В другом человеке, одаренном исключительно острым умом и большой силой и ни в чем не похожем на творческий и привлекательный образ Фр.Нитцше,-в образе К.Маркса с не меньшей остротой переживается конец Ренессанса и кризис гуманизма. В то время как в личности Фр. Нитцше происходит индивидуалистическое самоотрицание человека и самоотрицание гуманизма, в К.Марксе происходит коллективистическое саморазложение гуманизма и коллективистическое колебание образа человека. Подобно Нитцше, и К.Маркс не может удержаться на одном только человеческом, на утверждении человека, человеческой индивидуальности. И он переходит к нечеловеческому и сверхчеловеческому. Но не-человеческое и сверхчеловеческое сознание К.Маркса отличается от не-человеческого и сверх-человеческого у Фр. Нитцше. И К. Маркс, подобно Нитцше, отрицает самоценность человеческой индивидуальности и личности, он отрицает христианское откровение о человеческой душе и ее безусловном значении. Для него человек является лишь орудием для явления не-чело-почсских и сверх-человеческих начал, и во имя этих нечеловеческих и сверхчеловеческих начал от также объявляет войну прошв гуманистической морали: он проповедует жестокость К человеку и к ближнему во имя создания нечеловеческого, сверхчеловеческого царства коллективизма. В этих двух антиподах, в этих двух полярных явлениях есть формальное сходство, есть два конца ренессансного периода истории, два исходи из кризиса гуманизма, два способа перерождения гуманизма в антигуманизм, две формы самоистребления человека. К.Маркс есть также дитя человеческого самоутверждения, человеческой гордыни, восставшей на Бога, утверждавшей и признававшей только себя и свою человеческую волю как Высшую волю. К. Маркс, в самом истоке своего пути, отвергает всякое сверхчеловеческое начало. Не случайно он философски исходит из антропологизма Фейербаха, для которого человек сделался Богом и тайны религии были тайнами человеческой природы. На этих путях человеческого самоутверждения, человеческой гордыни и признания только человеческой воли происходит внутренний крах человека. Здесь, так же Как у Нитцше, вырисовываются неясные черты грядущего явления сверхчеловека, во имя которого отрицается человек. Так у Маркса вырисовываются неясные, но страшные черты нечеловеческого коллектива, во имя которого отрицается человек. Человек признается средством и орудием для появления нечеловеческого коллектива, в котором должен погибнуть лик человеческий, человеческий образ должен быть подчинен новому коллективному целому, распространяющему на все и на вся свои страшные щупальцы и отрицающему самоценность всего чисто человеческого, всех чисто человеческих черт. Для Маркса заветы гуманистической морали теряют всякую ценность. Гуманистическая мораль является для него старой буржуазной моралью ренессансного периода истории, буржуазной [является - видимо, пропущено, прим. Я.Кротова к электронной публикации] и вся гуманистическая культура. В старом буржуазном царстве провозглашены были права человека. Все это ста-буржуазное царство подлежит гибели, оно разложится, и на месте его возникнет новое, не гуманистическое, не человеческое, в котором будет своя новая, нечеловеческая, негуманистическая мораль и культура, со своими новыми, нечеловеческими "наукой" и "искусством"— это и будет новое явление страшного "коллектива". В К. Марксе, как и в Фр. Нитцше, раскрылся предел гуманизма: у Нитцше предел этот раскрылся на вершинах культуры, у Маркса — в массовых низах. Проникновение в то, что приносят с собой эти люди, наложившие страшную печать на последние десятилетия жизни человечества и на Западе, и у нас, очень многое должно раскрыть в самом внутреннем существе процесса перерождения гуманизма. В Марксе происходит окончательное отворачивание от всех заветов эпохи Ренессанса. Если Нитцше тоскует по великому творчеству Ренессанса и хочет оживить его источники, то Маркс уже не тоскует. Он объявляет войну самим первоисточникам Ренессанса и все творчество Ренессанса объявляет идеологической надстройкой над экономическим базисом, в котором царствует эксплуатация человека человеком. Иссякает Ренессанс, кризис гуманизма заканчивается. Радость ренессан-сного чувства жизни, та радость, которая была связана с этим свободным периодом человеческой жизни, с свободной кипучей игрой сил, —исчезает, к ней нет уже возврата. В новый период начинает колебаться и образ природы, и образ человека. В колебании этом играет колоссальную роль то изменение человеческой жизни, которое связано с вхождением в человеческую жизнь машины. Изменение, которое мы видим в Марксе, имеет глубочайшую связь с вхождением машины; этот факт наиболее поразил Маркса, поразил настолько, что он положил его в основу своего миросознания, сделал его первичным фактом всей человеческой жизни и раскрыл все его необъятное значение для человеческой судьбы.
Наступление конца Ренессанса связано с тем, что процесс демократизации наносит существенный урон и в конце концов отрицает самую возможность возрождения, потому что Ренессанс, по природе своей, аристократичен. Я думаю, что и весь гуманизм и царство гуманности, по существу своему,— аристократичны. Демократизация культуры, распространение культуры на человеческие массы и вхождение масс в культуру изменяет весь уклад жизни и делает невозможным это средне-аристократическое человеческое царство. Этот процесс ставит на совершенно другие рельсы, на другие пути, всю человеческую историю. Человек, к концу новой истории, в период кризиса гуманизма, переживает глубокое одиночество, покинутость, оставленность. В средние века человек жил в корпорациях, в органическом целом, в котором не чувствовал себя изолированным атомом, а был органической частью целого, с которым он чувствовал связанной свою судьбу. Все это прекращается в последний период новой истории. Новый человек изолируется. Когда он превращается в оторванный атом, его охватывает чувство невыразимого ужаса и он ищет Возможности выхода путем соединения в коллективы, для того чтобы преодолеть и прекратить это одиночество и покинутость, которые грозят гибелью, духовным и материальным голодом. На этой почве, от этой атомизации и рождается процесс обращения к коллективизму, создание нового начала, в котором человек ищет исхода из своего одиночества.
С ренессансным самочувствием человека, тем новым самочувствием, которым начинается вступление человека в новую историю, рождается уверенность в своих безграничных творческих силах, в своей способности созидать жизнь путем искусства, в безграничность своего познания в смысле проникновения в тайны природы. Эта самоуверенность человека давно уже начала ослабевать. Она заменяется сознанием ограниченности человеческих сил, ограниченности творческой мощи человека и заменяется раздвоением человека, рефлексией его над самим собой. Самоуверенность и самоутверждение че-л опека из индивидуального становится коллективным. Но вопрос об ограничении могущества человека в разных областях, в путях отрицания всего сверхчеловеческого, отрицания всякой связи между человеком и сверхчеловеческим приводит в конце концов к торжеству позитивной философии. Человек, утверждая только самого себя и отрицая в себе большее, чем человеческое, в конце концов подрывает сознание своей мощи. Это —одно из парадоксальных противоречий всего гуманизма новой истории. В то время как он начал с утверждения могущества человека в его познании и искусстве, в пересоздании человеческого общества и во всех других сферах, в дальнейшем эта погруженность человека исключительно в самого себя и замкнутость от всего сверхчеловеческого приводит к тому, что человек начинает сомневаться в безграничности своих сил. Такого рода кризис гуманизма, такого рода рефлектирующее сомнение человека началось уже давно. Оно проявляется во всех сферах человеческой культуры. Это разложение гуманизма происходит во всех областях. Начнем с области познания. Познанию ренессансный человек отдавался экстатически, полный веры в постижимость для него тайн природы. Казалось, что католическая догматика ставила границы его познанию и новый человек хотел вырваться из этих ограничений. В натур-философии, в естественных науках Возрождения, в самой магии, которая расцветала в разнообразных формах в эпоху Возрождения, чувствовал человек безграничную мощь своего познания; он не рефлектировал над своими познавательными средствами, не сомневался в них. В дальнейшем этот процесс исключительного утверждения мощи человеческого познания оторвал познание от высших религиозных и духовных основ, с которыми оно было связано в эпоху средневековья и в древнем дохристианском мире, и это привело к подрыву познавательных средств человека. Начинается рефлексия, которая находит свое гениальное выражение в философии Канта. Уже в кантианстве замечаются духовные симптомы окончания Ренессанса. Уже пафос Канта не есть пафос Ренессанса, не есть пафос радости познания, сознания безграничных его перспектив. Пафос Канта есть рефлектирующее сознание границ познания, потребность в юридическом оправдании. Такое познавательное самочувствие человека есть уже начало иссякания ренессансной познавательной энергии. Познавательный подъем Ренессанса создает такое могущественное развитие науки в лице Галилея, в лице Ньютона. Кант же делает предметом критической рефлексии математическое естествознание. Эта критическая работа, которая начинает с сомнения в безграничной познавательной мощи человека, порождает целую борьбу с антропологизмом и с гуманистическими началами в познании, которая достигает особенной остроты у Когена и Гуссерля. Все эти направления в борьбе с антропологизмом в философии ставят вопрос так, что человек оказывается препятствием для осуществления акта познания. Один из выучеников и представителей этого течения в философии употребил такое странное и на первый взгляд смешное выражение: субъективистическое присутствие человека является величайшим препятствием для философского познания. Значит есть какой-то нечеловеческий акт познания, очищенный от всего гуманистического, если производить это слово от слова человек. Это все — симптомы окончания и преодоления Ренессанса и гуманизма в области познания. Нужно сказать, что такой же конец Ренессанса, может быть в еще более яркой форме, давно уже переживается Европой в явлении позитивизма, который в настоящее время уже изжит и не имеет сильных защитников, но в XIX веке играл большую роль. Позитивизм есть анти-ренессансное явление и кризис гуманизма. О. Конт, очень замечательный мыслитель, гораздо более замечательный, чем это может казаться по порожденному им позитивистическому течению, представляет собой яркое явление возвращения к некоторым элементам средневековья. Позитивизм О. Конта был тягой к средним векам и попыткой положить конец в области познания, в области духовной жизни и социальной жизни, той свободной игре творческих человеческих сил, которая характерна для эпохи Ренессанса. О. Конт хочет преодоления того, что он называет "умственной анархией", которая связана с французской революцией. Он хочет перейти к органическому типу жизни от типа критического, т. е. хочет духовной централизации, принудительного подчинения нового человека некоторому духовному центру по образцу средневековья, хочет прекращения индивидуального произвола, самочинного и анархического проявления творческих сил. Как и Маркс, он хочет подчинить всю жичнь некоторому принудительному центру, но он видит его в умственной аристократии ученых. О. Конт хочет создать позитивную религию, для которой берет все формы средневекового католического культа: культ позитивных святых, позитивный календарь, религиозная регламентация всей жизни, создание иерархии ученых - все это возвращение к католичеству без Бога. Берется весь католический тип, но вера в Бога заменяется верой в высшее существо —человечество, во имя которого создается культ "вечной женственности". О. Конт ставит этому существу алтарь у себя в комнате. Этим он доказывает, насколько религиозная природа человека не может быть угашена никакими позитивными выдумками. Это — явление частичного возвращения к средневековому духу, окончание свободного индивидуализма ренессансной эпохи. Позитивизм ставит границы познавательным возможностям человека, не допускает перехода этих границ, и это несомненно противоположно ренессансному духу. Такой же конец Ренессанса, как у О. Конта, чувствуется и в утопическом социализме Сен-Симона. В нем тоже происходит глубокая реакция против французской революции, против философии XVIII века, против всего либерального гуманизма. Конечно, атеистическая религия О.Конта, по содержанию своему, не имеет ничего общего с средневековьем, как и религия Сен-Симона. Но Сен-Симон восстает против критической работы, совершенной просвещением и французской революцией; он хочет создать систему жизни, подобно тому как существовала теократическая система в средние века. Сен-Симон и О. Конт одинаково и не случайно высоко ценили Жозефа де-Местра — гениальное выражение средневековой реакции против XVIII века и революции. Они искали духовного преодоления<индивидуализма. Этот процесс окончания Ренессанса совершается и в жизни государства. И здесь мы имеем очень интересное явление. Вся новая история не только после французской революции, но и до французской революции характеризуется существованием гуманистических монархий. Государство Людовика XIV есть государство гуманистическое. Когда Людовик XIV сказал: "L' etat с' est moi", он совершал акт самоутверждения своей человеческой воли. Весь стиль абсолютной монархии Людовика XIV и всех монархий XVII и XVIII века, родственных ему, не может быть выражен в более ясных формах, это — стиль гуманистического самоутверждения. На это гуманистическое самоутверждение монархической власти французская революция ответила гуманистическим самоутверждением демократии, народ сказал: "L'etat c'est moi", революционный народ сказал, что государство — это он. Одному гуманистическому самоутверждению было противопоставлено другое гуманистическое самоутверждение. Гуманистическая демократия есть ответ на гуманистическую монархию. Гуманистическая монархия не может существовать бесконечно, она должна окончиться. Когда человек теряет сверхчеловеческие основы своей жизни, когда утверждаются лишь человеческие начала власти, тогда начинается тот внутренний процесс революции, который должен привести к последнему гуманистическому пределу —революционной демократии. Этот процесс на Западе в классической форме произошел во французской революции, но и падение русской абсолютной монархии в глубине было связано с тем, что в ней совершился процесс человеческого самоутверждения, достигший своего предела в монархии Николая II, и он должен был вызвать процесс самоутверждения революции, как естественную кару за человеческое самоутверждение монархии. Таким образом, государства ренессансного периода истории характеризуются двумя явлениями - гуманистической монархией и гуманистической демократией. Вместе с тем этот ренессансньш период очень характерен для создания национальных государств как замкнутых национальных организмов. Я думаю, что сейчас мы вступаем в период кризиса и конца гуманистических национальных государств ренессансного периода истории. Если гуманистическая монархия в дальнейшем процессе своего развития должна была перейти в гуманистическую демократию, то наступает период, когда произойдет потрясение основ и гуманистической монархии, и гуманистической демократии, когда внутри их раскроются начала, которые являются уже не гуманистическими началами, а какими-то скрытыми нечеловеческими началами, которые одинаково восстают и против гуманистических монархий, и против гуманистических демократий. Судьба государств, не только судьба нашего русского государства в нашей революции, но и Европейских государств, вступает в период глубокого кризиса. На Западе происходит кризис гуманистических демократий с их изолгавшимся парламентаризмом, с механикой количеств. Кризис этот начался уже давно, давно уже чувствовалась механичность этого строя жизни, внутренняя его порочность, внутренняя невозможность и дальше жить такими формальными гуманистическими началами. Очевидно, должно явиться какое-то другое органическое начало, которое бы шло на смену. Не случайно начинают высказываться взгляды, возвращающие к средневековью, как,например,учение о корпоративном представительстве. Корпоративное представительство основано на той идее, что человеческое общество должно слагаться не из атомов, а из органических корпораций, родственных цехам, которые должны иметь свое органическое представительство. Это есть как бы возвращение, на новых основаниях, к цеховому средневековому строю. Эта идея связана с кризисом парламентского государства, которое никого в сущности не удовлетворяет. Есть здоровое зерно и в идее корпоративного представительства. Все большие государства начали стремиться к мировой империалистической политике. В империализме происходит отрыв от гуманистических основ национального государства, империализм порождает волю к власти и к могуществу, в пределе — могуществу мировому. В нем есть зачаток и сверхчеловеческого начала. Это то же сверхчеловеческое начало, какое есть в коллективизме.
Кризис гуманизма и конец гуманизма переживается также и в области жизни моральной. Несомненно, мы переживаем конец той гуманистической морали, которая считалась цветом моральной жизни всей новой истории, всего периода новой истории. Эта гуманистическая мораль приходит к концу в целом ряде явлений конца XIX века и начала XX века. Окончательный конец ее обнаруживается и в мировой войне, и в тех последствиях, которыми она сопровождалась, но эта гуманистическая мораль, со всеми иллюзиями ее, начала приходить к концу гораздо раньше. Так, прежде всего гуманистической морали был нанесен самый страшный удар Нитцше, который вскрыл ее противоречия. Все течение духовной культуры, которое было связано с Нитцше в конце XIX и начале XX века, подвергло сомнению заповеди гуманизма. Оно перестает ставить человека, его человеческие интересы, его благо и нужду в центре внимания. Это же потрясение., гуманистической морали происходит и по разным другим линиям. Несомненно, что, с одной стороны, революционные анархические течения, имевшие гуманистический исток, разрушают гуманистическую мораль. С другой стороны, религиозно-мистические течения, обнаружившиеся в конце XIX и начале XX века, также знаменуют потрясение основ гуманистической морали —они ставят сверхчеловеческую цель для морали, начинают отрицать самодовлеющий характер человеческих начал. Кончается серединное гуманистическое царство, то царство гуманности, о котором говорил Гердер. Он учил, что гуманность есть высшая цель всемирной истории. Это гуманистическое царство возможно было лишь в некой середине. Оно означало, что не было еще разделения до последних, самых глубоких пластов. Оно возможно в более поверхностных пластах культуры, когда последняя судьба культуры не ставится еще в человеческом сознании, когда весь склад культуры удерживает меру, не срывается на противоположные полюсы, не разлагается на противоположные начала. Это равновесие существует в гуманистический период истории. Оно делает возможным расцвет культуры. Когда ставится конечная проблема, последняя и предельная проблема, культура переходит за пределы человеческие, происходит срыв из чисто человеческого царства в полярно противоположные начала. Тогда серединное человеческое царство исчезает. Нитцше потому и кончает гуманизм, что он ставит последнюю, предельную проблему. Потому и Маркс кончает гуманизм, что он ставит предельную проблему общественности. Потому и религия гуманистическая саморазлагается, что она ставит последние, окончательные задачи, которые не могут удержаться в серединном человеческом царстве.
Я уже говорил о высшей точке гуманистического царства, гуманистической культуры, не порвавшей еще с божественными началами, а гармонически сочетавшей божественное и человеческое,— о явлении Гете. Гуманизм Гете был внутренно-религиозно обоснован. Но Гете, при всей своей духовной просветленности, все же находился в серединном человеческом царстве. Великое искусство Гете и его великое познание природы не доходили до последних пределов. Ничего апокалиптического, обращенного к конечным судьбам человека и мира не существовало в сознании Гете. Жизнь Гете была высшим расцветом человеческого творчества до наступления такого нового катастрофического мироощущения. Это было высшее проявление гуманистического творчества. После него гуманизм, который был в германской культуре конца XIX и начала XX века, после этого настоящего гуманизма, в высшем смысле этого слова, подлинно прекрасный гуманизм, связанный с ясным образом природы, делается все более и более невозможным. Начался роковой процесс внутренней порчи, раздвоения, нарастания катастрофы, вулканического извержения изнутри истории, и возврата к этому прекрасному гуманистическому царству уже нет. Невозможен возврат к гуманистической морали и искусству, к гуманистическому познанию. Произошла какая-то непоправимая катастрофа в судьбе человека, катастрофа надрыва его человеческого самочувствия, неизбежная катастрофа перехода его человеческого самоутверждения в человеческое самоотрицание, катастрофа ухода _от природной жизни, отрывания и отчуждения от природной жизни. Этот процесс есть страшная революция, происходящая на протяжении целого столетия, заканчивающая новую историю и открывающая новую эру.
IX. Конец Ренессанса и кризис гуманизма. Разложение человеческого образа.
Прежде всего я хотел бы остановиться на очень характерном и типическом кризисе Ренессанса в социализме. Социализм имеет огромное значение, он занимает большое место в жизни второй половины XIX и начала XX века. Это есть явление не только в жизни экономической, но и в судьбе европейской культуры, обнаружение внутренних в ней процессов. Социализм я буду рассматривать как целостное явление, как явление духа, а не в каком-либо специфически экономическом смысле. И вот, все основы такого целостного социализма глубоко противоположны основам Ренессанса. Сущность Ренессанса в том, что в нем обнаружился свободный избыток творчества человека. Социализм же есть явление, которое раскрывается не на почве избытка, а на почве недостатка и скудости. Там происходит не развязывание, а связывание творческих сил человека, подчинение их принудительному центру. В социализме отпущенный на свободу человек вновь приковывается к принудительно организованной и принудительно урегулированной жизни. Социализм есть явление, по существу своему, противоположное лозунгам индивидуализма. Но та почва, на которой возник социализм и индивидуализм, имеет много общего.
Я думаю, что в основе социализма лежит глубочайшее разъединение людей, человеческого общества, человеческой общее темности, та одинокость человеческая, которая является выражением индивидуализма. Социализм есть обратная сторона глубочайшей человеческой разобщенности. Ужас от своей покинутости, покинутости и предоставленное своей судьбе без всякой помощи, без всякого соединения с другими людьми, и побуждает к принудительному устроению общественной жизни и человеческой судьбы. Это указывает на то, что социализм рождается на той же почве, на которой рождается индивидуализм, что он есть также результат атомизации человеческого общества и всего процесса истории. Если пафос Ренессанса был подъем человеческой индивидуальности, то пафос социализма — образование нового, механического коллектива, подчиняющего себе все, направляющего всю жизнь по своим путям, для своих целей. Возникновение такого коллектива на почве атомизированного общества означает конец Ренессанса и начало новой эпохи в жизни человеческого общества.
Нет больше свободной творческой жизни человеческой индивидуальности. Эллинские начала человеческой культуры в социализме отодвигаются на второй план. Если в основании нашей культуры лежит соединение начал юдаистических и начал эллинских, то здесь одерживают верх начала юдаистические. Тот процесс, который начинается с появления в Европейской культуре новой силы - социализма, его торжества и распространения, обозначает начало закрепощения, противоположного тому процессу, с которого началась новая история. Процесс закрепощения—аналогичный тому, который начался в эпоху императора Диоклетиана, в эпоху раннего средневековья. Начало, которое несет с собой социализм, очень аналогично этому периоду возникновения раннего средневековья. Те процессы, которые происходили в уже кончающемся античном мире в эпоху императора Диоклетиана, мы обнаруживаем и в социалистических началах, наиболее прогрессивных, наиболее революционных. В социализме обнаруживается какое-то реакционное начало — начало внутренней реакции против всей новой истории, реакции против всего ренессансного освободительного периода и против французской революции. Это важно установить, чтобы понять процесс, с которым мы имеем дело. Тяга к социализму является характерной не только для нас, но и для всей Европы, где, быть может, в другой форме, но будут происходить процессы социализации, которые должны быть рассматриваемы как реакция против освободительных процессов новой истории, тех процессов, которые освободили человеческую индивидуальность. Здесь происходит самоотрицание человеческой индивидуальности, начинается бегство от самого себя и искание нового соединения, искание какой-то новой соборности, новой лжецерковности, потому что эпоха Ренессанса началась с того, что человек был оторван и предоставлен себе. Здесь же начинается подчинение всех сфер жизни общественной и культурной новому принудительному центру. Те основы, некоторых покоилось общество XIX века, должны были обнаружить противоречия. Эти основы обнаружили свою несостоятельность и вызвали реакцию. Гуманизм и индивидуализм не могли решить судьбы человеческого общества, они должны были разложиться. Должен был появиться, вместо ренессансного образа свободного человека, антиренессансный образ нового организма или, вернее, механизма, все себе подчиняющего и все поглощающего.
Подобно тому как обнаруживается конец Ренессанса в социализме, он обнаруживается и в анархизме, который есть предельное течение в судьбах европейского общества. И он, по существу своему, по духу своему, антиренессансен. Анархизм по внешности производит впечатление учения, обладающего пафосом свободы, требующего свободы, выставляющего начало самоутверждения человеческой личности. Но он возник не от свободного избытка и имеет не творческую избыточную природу. Возник он из зависти и мести. Пафос возмездия, пафос злобной ненависти к прошлому, к прошлой культуре, ко всему историческому для анархизма очень существен. Но такого рода злобная мстительность, такого рода пафос страданий и недостатка, есть пафос антиренессансный, он не знает радости ренессансного избыточного творчества. Поэтому и анархизм не имеет творческой природы. Ее нельзя искать в истощающем, злобном и мстительном отрицании. Это истощающее отрицание не оставляет места для положительного творчества. Радости свободного творчества, свободного избытка анархизм не знает и знать не может. В этом он, подобно социализму, не имеет ренессансной природы. В анархизме происходит чрезвычайно интересный процесс самоотрицания свободы. В нем утверждается свобода, как бы пожирающая себя, как бы внутренне себя испепеляющая. Это не та свобода, которая дает радость расцвета творческой индивидуальности,— свобода идеалистического гуманизма. Это какая-то предельная, угрюмая и мучительная свобода, в которой человеческая индивидуальность увядает и гибнет, в которой происходит надрыв и свобода обращается в насилие. Большая часть анархических учений в конце концов утверждает формы коллективизма или коммунизма. Таковы программы Бакунина и Кропоткина. Для меня несомненно, что в анархизме, этом предельном течении европейского общества, также обнаруживается истощение и конец Ренессанса: анархизм не имеет гуманистического характера. Вся мораль, вся оценка жизненных отношений человека к человеку в анархизме не гуманистичны в смысле гуманизма Гердера, Гете или В. Гумбольдта. В анархизме, так же как и в социализме, обнаруживается внутреннее реакционное начало, внутренняя реакция против того ренессансного гуманистического периода, которым характеризуется новая история. Анархизм в конце концов есть форма реакционного восстания против культуры, неприятие культуры с ее неравенствами, с ее страданиями и вместе с тем с ее величайшими подъемами и расцветом, непринятие ее во имя процесса уравновешивающего, сглаживающего и сметающего все возвышающееся. Это реакционное течение внутри анархизма, как и внутри социализма, есть форма кризиса гуманизма и конца Ренессанса.
Но особенно ясно обнаруживаются симптомы конца Ренессанса в новейших течениях в искусстве. Этот конец Ренессанса начал обнаруживаться уже довольно давно. Уже в импрессионизме обозначился конец Ренессанса. Все аналитически-расчленяющие процессы в искусстве носят этот антиренессансный характер. Но настоящий конец Ренессанса, окончательный разрыв с ренессансными традициями мы встречаем в футуризме во всех его формах. Все разнообразие этих течений одинаково характеризуется разрывом с античностью и означает конец Ренессанса в человеческом творчестве. Для всех этих течений характерно глубокое потрясение и расчленение форм человека, гибель целостного человеческого образа, разрыв с природой. Искание совершенной природы, совершенных человеческих форм было пафосом Ренессанса, в этом была его связь с античностью. В футуризме погибает человек как величайшая тема искусства. В футуристическом искусстве нет уже человека, человек разорван в клочья. Все начинает входить во все. Все реальности в мире сдвигаются с своего индивидуального места. В человека начинают входить предметы, лампы, диваны, улицы, нарушая целостность его существа, его образа, его неповторимого лика. Человек проваливается в окружающий его предметный мир. Начинают нарушаться строгие формы, между тем как строгость формы и есть античное основание художественного творчества, которое вдохновляло творчество человека новой истории. Этот глубокий разрыв с античностью и с Ренессансом можно проследить на таких художниках, как Пикассо в его наиболее интересном кубистическом периоде. У Пикассо мы видим процесс разделения, распыления, кубистического распластования целостных форм человека, разложение его на составные части для того, чтобы идти вглубь и искать первичные элементарные формы, из которых он слагается. В ренессансном же искусстве было целостное восприятие форм человека. В этом целостном искании формы подражали природе, в которой формы эти сотворены Божьим творчеством, подражали античному искусству. Искусство Пикассо разрывает с образцами природы и с образцами античности. Оно уже не ищет совершенного целостного человека, оно потеряло способность к целостному восприятию, оно срывает покров за покровом, чтобы обнаружить внутреннее строение природного существа, идя все дальше и дальше вглубь и открывая образы настоящих чудовищ, которых Пикассо и создает с такой силой и выразительностью. Можно сказать, что все футуристические течения, гораздо менее значительные, чем живопись Пикассо, идут все дальше и дальше в процессе разложения. Когда в картины вставляют куски бумаги или газетных объявлений или когда в картине вы видите составные части мусорной ямы, тогда окончательно ясно, что разложение заходит слишком далеко, что происходит процесс дегуманизации. Человеческая форма, как и всякая природная форма, окончательно погибает и исчезает. Такая утрата совершенных человеческих форм характерна и для творчества Андрея Белого. Творчество Андрея Белого родственно во многом футуризму, хотя оно неизмеримо более значительно, чем творчество большей части футуристов. Оно обозначает глубочайший разрыв с античными традициями в искусстве. В творчестве А. Белого, в его замечательном романе "Петербург", человек проваливается в космическую безмерность, опрокидываются и смещаются формы человека, отличающие его от предметного мира. Начинается процесс какой-то дегуманизации, смешения человека с нечеловеческим, с элементарными духами жизни космической. Совершенство формы в антично-ренессансном смысле в этом искусстве исчезает, начинается новый ритм космического распыления. Таковы несомненно антигуманистические начала в творчестве А. Белого. В нем все дальше и дальше идет процесс рас-пластания и распыления человека на вершинах искусства нового времени. В самых последних плодах своего творческого пути человек нового времени приходит к отрицанию своего образа. Человек, как индивидуализированное существо, перестал быть темой искусства, он погружается и проваливается в социальные и космические коллективности.
Такой же конец Ренессанса и такие же антигуманистические начала можно вскрыть и в других течениях культуры. Так, теософические течения носят характер антиренессансный и антигуманистический. Это, может быть, не так ясно с первого взгляда, но это не трудно вскрыть, если вдуматься в теософические и оккулыические течения. В них человеческая индивидуальность подчиняется космическим иерархиям духов. Человек перестает играть ту центральную и обособленную роль, которую он играл в ренессансный, гуманистический период истории, он вступает в иные космические планы, начинает чувствовать себя управляемым демонами и ангелами. Это ощущение подчиненности человека космическим иерархиям создает такую настроенность, такое понимание жизни, при которых ренессансная свободная, кипучая игра творческих сил делается невозможной, внутренне неоправдываемой и недопустимой. И в таком теософическом и оккультическом течении, как учение Рудольфа Штейнера, нет центрального и исключительного места для человека. В конце концов, и в этом течении человек есть лишь орудие космической эволюции, человек есть продукт действия разных космических сил, точка пересечения разных планетарных эволюции, в которой складываются осколки разных миров,—человек преходящ в эволюции мира. Неоправданно наименование антропософии для учения Штейнера. Не ренессансный характер и не ренессансная настроенность в такого рода течении совершенно ясны. Если сравнить современного теософа Штейнера с ренессансным теософом Парацельсом, то будет совершенно ясной противоположность ренессансного и антиренессансного духа: у Парацельса была творчески-избыточная радость в постижении тайн природы, вырывание из недр ее сокровенной тайны, у Штейнера нет радости творческой избыточности, наоборот, он указывает на тяжкий путь человеческой муштровки, которая в конце концов приводит к тому, что человек раскрывает свою зависимость от космических иерархий. Здесь есть чувство большой подневольности человека, чувство большой тяжести жизненного процесса, безмерная его трудность и то же разочарование в новой истории, которое характерно для всех явлений общественности и культуры нашего времени. В религиозных и мистических движениях конца XIX и начала XX века, которые для этой эпохи очень характерны и идут на смену течениям позитивным и материалистическим, также обнаруживается характер антиренессансный и антигуманистический. Там есть страстное искание духовного центра жизни, сознание необходимости подчинения, невозможности дальше жить на путях свободной творческой игры, ничему не подчиненной, ничем не регулированной. Происходит обращение к духовным основам, родственным средневековью, в противоположность тем началам, которые господствовали во всем новом, ренессансном периоде человеческой истории. Если для ренессансного периода была характерна большая умственная свобода, с которой и начался Ренессанс, то в конце этого периода умственная свобода теряется. Человек в этой безграничной умственной свободе как бы истощил свои умственные силы и начинает порабощать самого себя, отрицать результаты той умственной работы, которая была произведена им на протяжении всей новой истории.
Начинает обнаруживаться величайший кризис творчества и глубочайший кризис культуры, который„в течение последних десятилетий обнаруживает все более и более умножающиеся симптомы. Этот кризис творчества характеризуется дерзновенной жаждой творчества, быть может до сих пор небывалой, и вместе с тем творческим бессилием, творческой немощью и завистью к более целостным эпохам в истории человеческой культуры. Обнаруживаются внутренние противоречия, которые явились результатом ренессансного периода, в силу которых все результаты творчества оказываются неудовлетворительными, не соответствующими творческому заданию. В то время как творческое задание обозначает взлет ввысь для создания новой жизни и нового бытия, творческое осуществление обозначает ниспадение вниз для созидания дифференцированных продуктов культуры. В то время как творческий подъем хочет создать новое бытие, в результате получается стихотворение, картина, научная или философская книга, творится новая форма законодательства, новая форма человеческих нравов. Все продукты человеческого творчества несут на себе печать земной тяжести. Они не есть высшее бытие, высшая жизнь. Они получают формы, не соответствующие творческому подъему, и поэтому результаты творчества глубоко не удовлетворяют творца. В этом—основное противоречие творчества. И в нашу эпоху оно обострилось как никогда. Я даже думаю, что самая сильная и самая глубокая сторона нашей эпохи в том, что она до конца осознала этот кризис творчества. Люди ре-нессансной эпохи творили радостно, не ощущая всей горечи того, что творчеством создается не то, что задается. Когда великие мастера Ренессанса творили свои картины, они ощущали радость творчества, не отравленную горечью раздвоенного сознания, и это давало им возможность быть великими мастерами. Великие же течения нашего времени носят отпечаток глубокой внутренней неудовлетворенности, мучительного искания выхода из тисков, в которых человеческое творчество сдавлено. Такие величайшие творческие индивидуальности, как Нитцше, Достоевский, Ибсен, сознавали трагедию творчества, они мучились этим внутренним кризисом творчества, этой невозможностью создать то, что задано в творческом подъеме. Это все — симптомы конца Ренессанса, обнаружение внутреннего противоречия, которое делает невозможной дальнейшую ренессансную свободную игру человеческих сил, творящих науки и искусства, творящих формы государства, нравов, законодательства и всего, что в этом периоде творилось. Здесь обнаруживается такое внутреннее раздвоение, такое расщепление, которое в прежнее время, в период ренессансного творчества, никогда не было обнаружено. В глубине человеческой культуры поднимаются какие-то внутренние стихии варварства, которые мешают дальнейшему творчеству классической культуры, классических форм искусства и науки, классической формы государства, классической формы нравов и быта. Наступает конец серединного царства культуры, происходят взрывы изнутри, вулканические извержения, которые обнаруживают неудовлетворенность культурой и конец Ренессанса в самых разнообразных формах. Наступают сумерки Европы, которая так блистательно расцветала в течение ряда столетий, которая считала себя монополистом высочайшей культуры и навязывала свою культуру, иногда с таким насилием, всему остальному миру. Гуманистической Европе наступает конец, начинается возврат к средневековью. Мы вступаем в ночь нового средневековья. Предстоит новое смешение рас и культурных типов. Это и есть один из результатов познания философии истории, который мы должны усвоить для того, чтобы знать, какая судьба ожидает все народы Европы и Россию и что означает этот конец гуманистической Европы, это вступление в ночную эпоху истории.
Для конца новой истории характерно, во всех ее областях, во всех ее результатах, переживание глубочайшего разочарования, разочарования во всех основных стремлениях, мечтах и иллюзиях новой истории. В каждой линии новой истории мы можем найти это разочарование: не осуществилось ничто из этих стремлений, ни в области познания —в науке и философии, ни в области художественного творчества, ни в области жизни государственной, ни в области жизни экономической, ни в области реальной власти над природой. Те гордые мечты человека, которые окрыляли его в этот ренессансный период, сокрушены. Человек стал бескрылым. Человеку пришлось особым каким-то образом смириться. Гордые мечты человека о безграничном познании природы привели к познанию границ познания, к бессилию науки постигнуть тайну бытия. Наука мельчает и разъедается рефлексией. Философия окончательно поражена недугом рефлексии, вечным сомнением в познавательных силах человека. Новейшие гносеологические направления до самого познания бытия так и не доходят, они останавливаются у порога настоящего философского познания мира. Философия проходит через раздвоение и не верит в достижение цельного познания философским путем. Начинается кризис философии, внутреннее бессилие, искание религиозных основ для философии, подобно тому как это происходило в конце древнего мира, когда философия начала окрашиваться в мистический цвет. То же самое происходит и в области искусства. Большое и великое искусство прежнего времени как будто безвозвратно уходит; начинается процесс аналитического раздробления, измельчания, появляется футуристическое искусство, которое перестает уже быть формой человеческого творчества, в котором творческий акт начинает разлагаться. То же глубокое раздвоение обнаруживается и в общественных течениях. Ни пустая свобода, ни принудительное братство не могут дать радости людям. Это начинает все более и более сознаваться чуткими людьми. Рухнули идеалы французской революции. Все более начинают сознавать внутреннюю бессодержательность и тщету демократии. Предстоит глубочайшее разочарование в социализме и анархизме. На всех этих путях невозможно разрешить судьбу человеческого общества. Словом, во всех линиях новой истории есть горькое чувство разочарования, мучительное несоответствие того творческого подъема, с которым человек вошел в новую историю, полный сил и дерзновения, и того творческого бессилия, с которым он выходит из новой истории. Он кончил новую историю глубоко разочарованным, надломленным, раздвоенным и творчески истощенным. Это творческое истощение, соединенное с жаждой творчества, есть очень характерный результат того обессиления человека, которое является карой за самоутверждение человека в новой истории, за гуманистическое самоутверждение, когда человек, не пожелавший подчинить себя ничему сверхчеловеческому, теряет образ свой, растрачивает свои силы. И это опять та черта, в которой современный человек конца новой истории походит на человека в период окончания древнего мира. Тогда тоже чувствовался надрыв и какая-то тоска по высшему творчеству, по иной, высшей жизни и вместе с тем невозможность ее осуществить. Все это указывает на то, что в человеческой истории есть периодическое возвращение тех же моментов, не в том смысле, чтобы они могли по существу повторяться, потому что ничто исторически индивидуальное не повторяется, но в том, что есть формальное сходство, которое помогает постигнуть нашу эпоху, сопоставив ее с эпохой античного мира и началом новой христианской эры.
Эту растрату сил человека новой истории я уже пытался объяснить, когда говорил о переходе от средневековья к эпохе Ренессанса. В то время как средневековый период истории, с аскетикой, монашеством и рыцарством, сумел предохранить силы человека от растраты и разложения для того, чтобы они могли творчески расцвести в начале Ренессанса, весь гуманистический период истории отрицал аскетическую дисциплину и подчинение высшим, сверхчеловеческим началам. Этот период характеризуется растратой человеческих сил. Растрата человеческих сил не может не сопровождаться истощением, которое в конце концов должно привести к потере центра в человеческой личности, личности, которая перестала себя дисциплинировать. Такая человеческая личность должна постепенно перестать сознавать себя, свою самость, свою особость. И мы замечаем это решительно во всех течениях современной культуры в социализме, в монархизме и империализме. Это заметно в современных течениях в искусстве и в современных ок-. кулыических течениях. Решительно во всем чувствуется потрясение человеческого образа, разложение той человеческой личности, которая выковывалась в христианстве и выковывание которой было задачей европейской культуры. Она начинает слабеть и внутренне терять свой образ, терять свое самосознание, она лишается внутреннего духовного упора. И вот начинается искание духовного центра, связь с которым могла бы восстановить надорванные силы личности. Человеческая индивидуальность чувствует, что на тех свободных путях, по которым она шла в ренессансный период, ей грозит все большее и большее истощение и утрата свободы, она ищет начал, над ней возвышающихся, ею руководящих. Личность человеческая ищет для себя святыни, она жаждет свободно подчинить себя, чтобы вновь обрести себя. Повторяется та парадоксальная истина, что человек себя приобретает и себя утверждает, если он подчиняет себя высшему сверхчеловеческому началу и находит сверхчеловеческую святыню как содержание своей жизни, и, наоборот, человек себя теряет, если он себя освобождает от высшего сверхчеловеческого содержания и ничего в себе не находит, кроме своего замкнутого человеческого мирка. Утверждение человеческой индивидуальности предполагает универсализм. Это доказывается всеми результатами новой культуры, новой истории, во всем - и в науке, и в философии, и в искусстве, и в морали, и в государстве, и в хозяйственной жизни, и в технике, доказывается и опытно обнаруживается. Доказано и показано, что гуманистическое безбожие ведет к самоотрицанию гуманизма, к перерождению гуманизма в антигуманизм, к переходу свободы в принуждение. Так кончается новая история и начинается какая-то другая история, которую я, по аналогии, назвал новым средневековьем; в ней человек вновь должен связать себя, чтобы собрать себя, вновь должен подчинить себя высшему, чтобы не окончательно погубить себя. Для того чтобы человеческая личность вновь обрела себя, чтобы та христианская работа над человеческим образом, которая составляет существенный момент в судьбе человека во всемирной истории, продолжалась и дальше, для этого необходим возврат, по-новому, к некоторым элементам средневекового аскетизма. То, что средние века переживали трансцендентно, должно быть пережито имманентно. Работа свободного самоограничения человека, свободной дисциплины, волевого подчинения себя сверхчеловеческой святыне, может предотвратить окончательное истощение творческих сил человека, она приведет к накоплению новых творческих сил и сделает возможным новый христианский Ренессанс, который для избранной части человечества наступит лишь на почве укрепления человеческой личности. Средневековье было основано, и в этом была его духовная сущность и высший пафос, на внутренней отрешенности от мира. Эта отрешенность от мира создала великую средневековую культуру. Средневековая идея Царства Божьего есть идея отрешенности от мира, приводящая к владычеству над миром. Это — тот основной парадокс средневековья, который был вскрыт такими историками средневековой культуры, как Эйкен,— мироотрицание церкви привело к идее миродер-жавства церкви. Что это не могло удаться, об этом я уже говорил. Свобода духа не была по-настоящему раскрыта в средневековом сознании. Драма новой истории была внутренне неизбежна. Но опыт нового человека, поставившего себе задачей владычество над миром, сделал его рабом мира. В этом рабстве он утерял свой человеческий образ, и потому теперь человек должен пройти через новую отрешенность для победы над миром в себе и вокруг себя, для того чтобы стать владыкой, а не рабом. Это и есть то духовное положение, в которое попадает человек в конце новой истории, у порога новой эры. Я мыслю эту новую эру как раскрывающую два пути перед человеком. На вершине истории происходит окончательное раздвоение. Человек волен пойти путем самоподчинения себя высшим божественным началам жизни и на этой почве укрепить свою человеческую личность и волен подчинить и поработить себя другим, не божественным и не человеческим, а злым сверхчеловеческим началам. Это есть тема о том, почему всемирная история есть внутреннее раскрытие Апокалипсиса. Личность человеческая, на вершине новой истории, не может вынести рабства у общества и у природы, и вместе с тем она чувствует все большее и большее рабство и у природы, и у общества. Происходит порабощение человеческой личности природой и общественной средой. Машиной, развитием материальных производительных сил пытался человек овладеть природными стихиями, но вместо этого он становится рабом созданной им машины и созданной им материальной социальной среды. Это уже обнаружено в капитализме и будет обнаружено и в социализме. Таков трагический результат всей новой истории, трагическая ее неудача. Но эта неудача новой истории не означает бессмыслицы новой истории, не вызывает окончательно пессимистического понимания судьбы истории. Она имеет внутренний смысл, если понимать всемирную историю как трагедию, а именно так ее и нужно понимать. Если считать, что разрешение ее не может быть имманентным, внутри самой истории, а лишь вне ее пределов, если так отнестись к истории, тогда все неудачи истории получают глубокий внутренний смысл и мы начинаем постигать, что смысл истории заключается не в том, чтобы осуществлялись задачи, поставленные в тот или иной ее период. Осуществление заданий истории за ее пределами как раз и обнаруживает глубочайший внутренний смысл истории, потому что если бы в какое-нибудь мгновение истории были осуществлены задачи истории и пришел человек к окончательному удовлетворению, то такая удача истории в сущности обнаружила бы бессмысленность истории, как это ни кажется парадоксальным, потому что настоящий смысл истории заключается не в том, чтобы она была разрешена в какое-либо мгновение, в какой-либо период времени, а в том, чтобы раскрылись все духовные силы истории, все ее противоречия, чтобы было внутреннее движение трагедии истории и лишь в конце явлена была всеразре-шающая истина. Только тогда конечное ее разрешение бросит обратный свет на все предшествующие периоды истории, в то время как разрешение задачи истории в одно из мгновений не значило бы разрешения задачи истории для всех ее периодов, на всем ее протяжении. Сейчас мне важно указать, что мое понимание глубокой неудачи истории вовсе не означает того, что я утверждаю бессмыслицу истории, потому что для меня сама эта неудача в каком-то смысле есть священная неудача. Сама эта неудача указывает на то, что высшее призвание человека и человечества —сверх-исторично, что возможно лишь сверх-историческое разрешение всех основных противоречий истории.
Нужно указать еще и на то, что Россия занимает совершенно исключительное положение в этом процессе окончания Ренессанса. В России мы переживаем конец Ренессанса и кризис гуманизма острее, чем где бы то ни было на Западе, не пережив самого Ренессанса. В этом — своеобразие и оригинальность русской исторической судьбы. Нам не было дано пережить радость Ренессанса, у нас, русских, никогда не было настоящего пафоса гуманизма, мы не познали радости свободной игры творческих избыточных сил. Вся великая русская литература, величайшее наше создание, которым мы можем гордиться перед Западом,— не ренессансная по духу своему. В русской литературе и русской культуре был лишь один момент, одна вспышка, когда блеснула возможность Ренессанса - это явление Пушкинского творчества, это - культурная эпоха Александра I. Тогда и у нас что-то ренессансное приоткрылось. Но это был лишь короткий период, не определивший судьбы русского духа. Русская литература XIX века, в начале которой стоял чарующий гений Пушкина, была не'пушкинская; она обнаружила невозможность пушкинского творчества и пушкинского духа. Мы творили от горя и страдания; в основе нашей великой литературы лежала великая скорбь, жажда искупления грехов мира и спасения. Никогда не было у нас радости избыточного творчества. Вспомните Гоголя и весь характер его творчества. Это скорбная и мучительная творческая судьба. Такова же судьба двух величайших русских гениев — Толстого и Достоевского. Все их творчество не гуманистическое и не ренессансное. Весь характер русской мысли, русской философии, русского морального склада и русской государственной судьбы несет в себе что-то мучительное, противоположное радостному духу Ренессанса и гуманизма. Сейчас мы переживаем во всех сферах нашей общественной жизни и культуры кризис гуманизма. В этом - чрезвычайная парадоксальность нашей судьбы и какое-то своеобразие нашей природы. Нам дано раскрыть, может быть острее, чем народам Европы, противоречие и неудовлетворительность срединного гуманизма. Достоевский наиболее характерен и наиболее важен для осознания внутреннего краха гуманизма. Гуманизм в Достоевском переживает величайший крах. Именно Достоевский сделал здесь великие открытия. Достоевский, который так болел о человеке, о судьбе человека, который сделал человека единственной темой своего творчества, именно он и вскрывает внутреннюю несостоятельность гуманизма, трагедию гуманизма. Вся диалектика Достоевского направлена против существа гуманизма. Его собственный трагический гуманизм глубоко противоположен тому историческому гуманизму, на котором была основана ренессансная история, который исповедовали великие гуманисты Европы. Эти особенности русского Востока обозначают своеобразную его миссию в познавании конца Ренессанса и конца гуманизма. Именно России дано здесь что-то обнаружить и открыть, и именно в России высказывается какая-то особенно острая мысль о конечных исторических судьбах. Не случайно на вершинах русской религиозной философии мысль всегда была обращена к Апокалипсису. Начиная с Чаадаева и славянофилов и далее у Владимира Соловьева, у К.Леонтьева и Достоевского, русская мысль была занята темами философии истории, и эта русская философия истории была-апокалиптической. И русская революция, по метафизическому существу своему, есть крах гуманизма и этим подводит к апокалиптической теме. Так приближаемся мы к последним проблемам метафизики истории, к проблемам прогресса и конца истории.
X. Учение о прогрессе и конец истории.
Идея прогресса для метафизики истории является центральной. Начиная с конца XVIII века и весь XIX век она играет определяющую роль в миросозерцании европейского человечества. Однако прежде всего нужно указать на то, что идея прогресса, хотя и является очень новой, созданной последним периодом "передового" человеческого сознания, в сущности имеет, как и все истины, древние и глубокие религиозные корни. И поскольку в ней есть существенная связь с самой глубиной исторической жизни, она обнажает это древнее свое происхождение. Идею прогресса нельзя смешивать, как это достаточно уже разъяснено, с идеей эволюции. Идея прогресса предполагает цель исторического процесса и раскрытие смысла его зависимости от этой конечной цели. Скажу более — идея прогресса предполагает такую цель исторического процесса, которая не имманентна ему, т. е. лежит не внутри истории, не связана с какой-либо эпохой, с каким-либо периодом прошлого, настоящего или будущего, но возвышается над временем и только потому и может она признавать имеющим смысл то, что внутри исторического процесса заложено. Древние корни этой идеи— религиозно-мессианские. Это—старинная, древняя юдаистическая идея о мессианском разрешении истории, о грядущем Мессии, о земном разрешении судьбы Израиля, которая превратилась в судьбу всех народов, идея о наступлении Царства Божьего, царства совершенства, царства правды и справедливости, которое, раньше или позже, должно осуществиться. Эта мессианская и хилиа-стическая идея в учении о прогрессе секуляризируется, т.е. теряет свой явно религиозный характер и приобретает мирской, а сплошь и рядом и антирелигиозный характер. Можно с большим основанием говорить, что учение о прогрессе было для многих религией, т.е. существовала ^религия прогресса, которую исповедовали люди XIX века, и она заменяла для них христианскую религию, от которой они отступили. Эту религиозную, по своим притязаниям, идею прогресса нужно подвергнуть анализу для того, чтобы вскрыть ее основные внутренние противоречия.
В последний период человеческого сознания вера в прогресс была подвергнута сомнению, кумиры прогресса свергнуты и уже многое сделано для критики этой идеи. Основное противоречие, которое нужно вскрыть в учении о прогрессе и которое ясно в свете моей метафизики истории, заключается в ложном отношении учения о прогрессе к проблеме времени—к прошлому, настоящему и будущему. Учение о прогрессе есть, прежде всего, совершенно ложное, не оправданное ни с научной, ни с философской, ни с моральной точки зрения обоготворение будущего за счет настоящего и прошлого. Учение о прогрессе представляет из себя религиозное исповедание, верование, потому что обосновать научно-позитивное учение о прогрессе нельзя, потому что научно-позитивно можно обосновать только теорию эволюции, учение же о прогрессе может быть только предметом веры, упования. Учение о прогрессе есть "обличение невидимой вещи"— грядущего, есть "извещение уповающих". И вот этой верой, этим упованием, связанным с учением о прогрессе, невозможно разрешить самую трагическую проблему метафизики истории— проблему времени. Я выяснил уже центральное значение проблемы времени для метафизики истории и пытался вскрыть порочную природу времени, которое распадается на прошлое и будущее и которого уловить нельзя, в котором всякая реальность распылена, раздроблена и разорвана. Учение о прогрессе находится во власти этой разорванности. Учение о прогрессе предполагает, что задачи всемирной истории человечества будут разрешены в будущем, что наступит какой-то момент в истории человечества, в судьбе человечества, в которой будет достигнуто высшее совершенное состояние и в этом высшем совершенном состоянии будут примирены все противоречия, которыми полны судьбы человеческой истории, будут разрешены все задачи. В это верили и Конт, и Гегель, и Спенсер, и Маркс. Правомерно ли такое предположение? Какое мы имеем основание в это верить, и если бы даже мы это основание имели, то почему это может вызвать в нас энтузиазм, почему это должно быть нами нравственно принято и почему такого рода надежда может быть для нас радостной? Оснований для этого нет никаких, кроме того, что в учении о прогрессе бессознательно заложено, тайно пребывает некоторое религиозное упование на разрешение всемирной истории. Это есть надежда, что трагедия всемирной истории придет к концу. Разрешение этой трагедии есть цель прогресса, но в позитивных учениях о прогрессе, как они являлись в XIX веке, задавлено и сознательно исключено такого рода религиозное верование и такого рода религиозная надежда. Наоборот, верование, надежда и упование прогресса противополагаются различными теоретиками прогресса такого рода религиозным верованиям, надеждам и упованиям. Но если совершенно устранить это религиозное зерно идеи прогресса, то что, в сущности, от нее останется? Почему прогресс может быть внутренне принят? Ведь прогресс, позитивно понимаемый, заключается в том, что в потоке времени, в котором свершаются судьбы человеческой истории, одно поколение сменяет другое, человечество восходит на какую-то неведомую и чуждую мне вершину, идет вперед, идет вверх, к высшему состоянию, по отношению к которому все предшествующие поколения являются лишь звеньями, лишь средством, орудием, а не самоцелью. Прогресс превращает каждое человеческое поколение, каждое лицо человеческое, каждую эпоху истории в средство и орудие для окончательной цели— совершенства, могущества и блаженства грядущего человечества, в котором никто из нас не будет иметь удела. Внутренне неприемлема, религиозно и морально недопустима позитивная идея прогресса, потому что природа этой идеи такова, что она делает невозможным разрешение муки жизни, разрешение трагических противоречий и конфликтов для всего человеческого рода, для всех человеческих поколений, для всех времен, для всех когда-либо живших людей с их страдальческой судьбой. Это учение заведомо и сознательно утверждает, что для огромной массы, бесконечной массы человеческих поколений и для бесконечного ряда времен и эпох существует только смерть и могила. Они жили в несовершенном, страдальческом, полном противоречий состоянии, и только где-то на вершине исторической жизни появляется, наконец, на истлевших костях всех предшествующих поколений такое поколение счастливцев, которое взберется на вершину и для которого возможна будет высшая полнота жизни, высшее блаженство и совершенство. Все поколения являются лишь средством для осуществления этой блаженной жизни, этого счастливого поколения избранников, которое должно явиться в каком-то неведомом и чуждом для нас грядущем. Религия прогресса рассматривает все человеческие поколения, все человеческие эпохи как не имеющие ценности и цели в себе, не имеющие значения сами по себе, а лишь как орудия и средства для грядущего. Это — основное религиозное и моральное противоречие учения о прогрессе, которое делает его внутренне неприемлемым и недопустимым. Религия прогресса есть религия смерти, а не воскрешения, не восстановления всего живого для вечной жизни. Нет никаких внутренних оснований предпочитать судьбу того поколения, которое явится когда-то на вершине и для которого будет уготовано блаженство и счастье всем тем поколениям, которым в удел достались лишь страдания, муки и несовершенство. Никакое грядущее совершенство не может искупить всех мучений предшествующих поколений. Такое подчинение всех судеб человеческих какому-то мессианскому пиру того поколения, которому удастся взобраться на вершину прогресса, возмущает религиозно-нравственную совесть человечества. Религия прогресса, которая основана на такого рода обоготворении грядущего поколения счастливцев,— беспощадна к настоящему и прошлому, она соединяет безграничный оптимизм в отношении к будущему с безграничным пессимизмом в отношении к прошлому. Она глубоко противоположна христианскому упованию на всеобщее воскресение всех поколений, всех умерших, всех отцов и предков. Христианская идея основана на уповании, что окончится история исходом из исторических трагедий, из всех ее противоречий и в этом исходе примут участие все человеческие поколения, что все когда-либо жившие будут воскрешены для вечной жизни. Идея прогресса XIX века допускает на этот мессианский пир лишь неведомое поколение счастливцев, которое является вампиром по отношению ко всем предшествующим поколениям. Тот пир, который эти грядущие счастливцы устроят на могилах предков, забыв об их трагической судьбе, вряд ли может вызвать с нашей стороны энтузиазм к религии прогресса — энтузиазм этот был бы низменным.
Неразрешенность проблемы времени является основным пороком теории прогресса, потому что, если возможно разрешение судьбы всемирной истории, ее основных противоречий, то оно возможно лишь в победе над временем, т. е. преодолении разрыва между прошлым, настоящим и будущим, дробления времени на взаимно враждующие и взаимно пожирающие элементы. Эта порочная природа времени должна быть окончательно побеждена для того, чтобы поистине могла быть разрешена судьба всемирной истории. Но никакие учения о прогрессе не заключают в себе подобного рода упования, не ставят себе такого рода задачи и не имеют такого рода смысла. Теория прогресса не обращена к разрешению судьбы человеческой истории во вневременном, в вечности, во всеединстве, за пределами самой истории, а допускает разрешимость этой проблемы внутри временного потока истории, в каком-то из мгновений будущего времени, которое по отношению ко всем остальным мгновениям является пожирающим вампиром, потому что будущее является пожирателем прошлого, убийцей этого прошлого. На смерти зиждет идея прогресса свое упование. Прогресс оказывается не вечной жизнью, не воскресением, а вечной смертью, вечным истреблением прошлого будущим, предшествующего поколения последующим. Всеразрешающее блаженство наступает в какое-то мгновение времени в будущем, а всякое мгновение времени в будущем есть разорванное, дробное, есть пожираемое и пожирающее— пожирающее прошлое и пожираемое будущим. Это противоречие времени делает порочным и негодным все учение о прогрессе. Учение о прогрессе есть временное учение XIX века, отражающее состояние сознания европейского человечества в XIX веке со всей ограниченностью, со всеми пределами, поставленными этому времени. Оно соответствует известной эпохе, и в нем нет непреходящей, вечной истины, если не считать той истины, которая бессознательно заключена в нем, как в извращении религиозного упования на разрешение судеб человеческой истории.
Тесно связана с учением о прогрессе и с упованиями прогресса утопия земного рая, земного блаженства. Эта утопия земного рая, которая есть также извращение и искажение религиозной идеи о наступлении Царства Божия на земле, в конце истории, т.е. бессознательный хилиазм,—эта утопия земного рая получает удар за ударом; она разрушена работою мысли и сокрушена практически и жизненно. Утопия земного рая заключает в себе те же основные противоречия, которые заключены и в учении о прогрессе, потому что она также предполагает наступление какого-то совершенного состояния во времени, в пределах исторического процесса. Она предполагает возможность разрешения исторической судьбы человечества в пределах того замкнутого круга исторических сил, в котором свершается самая история народов и история человечества. Она считает возможным имманентное разрешение трагедии всемирной истории и наступление совершенного состояния. Она так же, как и всякая идея прогресса, покоится на ложном отношении к времени, в ней есть ложное учение, что в будущем, в грядущем разрешима трагедия времени. Утопия земного рая, который должен осуществиться в будущем, по мнению одних, очень скоро, по мнению других, очень нескоро, в данном случае это не имеет принципиального значения, мыслит совершенное и блаженное состояние в будущем, не принявшем в себя полноту прошедшего. Утопия земного рая утверждает, что весь исторический процесс был лишь подготовкой, лишь средством к ее осуществлению. Земное блаженство и совершенство тех счастливцев, которые где-то в конце исторического процесса явятся, искупает страдания и муки всех предшествующих человеческих поколений. Утопия земного рая предполагает, что возможно наступление абсолютного состояния человеческой жизни в относительных условиях земной и временной исторической жизни. Но земная действительность, по существу, не может вмещать в себе жизни абсолютной. Жизнь абсолютная не вмещается в эту, со всех сторон сдавленную и ограниченную действительность. Но утопия земного рая есть вера, что если этого не могло быть до сих пор, то наступит момент, когда что-то абсолютное, наконец, окончательно в исторической, относительной действительности осуществится. Она утверждает не переход за грани и за пределы относительной исторической действительности, в какой-то иной план бытия, в какое-то четвертое измерение из ограниченных трех измерений— она хочет, чтобы в это трехмерное пространство было целиком вмещено четвертое измерение абсолютной жизни. В этом ее основное метафизическое противоречие, которое делает ее внутренне несостоятельной, потому что вместо того, чтобы искать достижения абсолютной жизни через переход земной истории в небесную историю, утопия земного рая предполагает, что человеческая судьба окончательно решается в этой относительной земной действительности, окончательно вмещается в три измерения со всей их ограниченностью; в нее она хочет вместить абсолютное совершенство и блаженство, которое может быть достигнуто лишь в иной небесной действительности, может вместиться лишь в четвертое измерение. Этой утопии земного рая, которая свойственна разным социальным учениям и разным философиям истории, наносит удары, от которых она не оправится, философская мысль и религиозное сознание. Начинает все более и более выясняться глубоко трагический и двойственный характер всего исторического процесса. В истории нет по прямой линии совершающегося прогресса добра, прогресса совершенства, в силу которого грядущее поколение стоит выше поколения предшествующего; в истории нет и прогресса счастья человеческого— есть лишь трагическое, все большее и большее раскрытие внутренних начал бытия, раскрытие самых противоположных начал, как светлых, как темных, как божественных, так и дьявольских, как начал добра, так и начал зла. В раскрытии этих противоречий и в выявлении их и заключается величайший внутренний смысл исторической судьбы человечества. Если можно утверждать какой-нибудь прогресс в истории человеческого сознания, так это обострение сознания, которое является результатом внутреннего раскрытия этого трагического противоречия человеческого бытия. Но ни в коем случае нельзя утверждать постоянное нарастание положительного на счет отрицательного, как это утверждает теория прогресса. В историческом процессе происходит усложнение начал, он несет в себе начала самые противоположные. Если верить, что прогресс есть приближение к абсолютной Божественной жизни, то было бы неправильно отсюда делать вывод, что те поколения, которые явятся на вершине истории, будут находиться в особенной близости к Абсолютному, все же остальные поколения или очень далеки от этого источника Божественной жизни или не имеют с ним никакой связи и приобщаются к Божественной жизни, служа лишь средством для какого-то последнего поколения истории. Правильнее было бы думать, как думает Л. Ранке, что все человеческие поколения на протяжении всего исторического процесса имеют сами по себе отношение к Абсолютному, все они приближаются к Божеству, — в этом есть Божественная справедливость и Божественная правда. Какое было бы нарушение справедливости, если бы только те поколения, которые находятся на вершине прогресса, были допущены к тайнам Божественной жизни! Именно такого рода учение о прогрессе может заставить усумниться в самом существовании Божественного Промысла, потому что Божество, которое лишило бы своей близости все человеческие поколения и которое допустило бы к своей близости лишь поколение, стоящее на вершине истории, было бы Божеством вампирическим, в нем была бы неправда и насилие по отношению к большей части человечества. На этом основании Иван Карамазов возвращает свой билет Богу. В действительности ничего подобного нет; в действительности каждое поколение имеет цель в самом себе, несет оправдание и смысл в своей собственной жизни, в творимых им ценностях и собственных духовных подъемах, приближающих его к Божественной жизни, а не в том, что оно является средством и орудием для поколений последующих. И разве люди XIX века не дальше от Бога, чем люди прежних веков?
Есть еще одно возражение совершенно научно-позитивного характера, возражение против обычного учения о прогрессе, которое колеблет это учение в его первоосновах. Если взять судьбы народов, судьбы обществ, судьбы культур человеческих в истории, то мы видим, что все культуры, все эти общества и все народы переживают в судьбе своей разные периоды - период зарождения, детства, возмужалости, высшего расцвета и, наконец, период старости, дряхлости, отцветания и смерти. Все великие национальные культуры и все общества подвергались этому процессу одряхления и умирания. Ценности культуры — бессмертны, в культуре есть неумирающее начало, но сами народы, как живые организмы, изживающие свою судьбу в истории, смертны,— после периода высшего своего цветения они начинают спускаться вниз и дряхлеть. Все великие культуры переживали период дряхлости. Самым наглядным возражением против теории прогресса является открытие такой великой культуры, существовавшей за 3000 лет до Р.Х., как культура Вавилона, которая достигла высокого совершенства, предвосхищавшая и в некотором отношении превосходившая культуру XIX века. Она умерла и исчезла почти бесследно. Долгое время перестали даже подозревать о ее существовании, и только археологические раскопки и более усовершенствованные методы познания древних культур открыли существование этой культуры и породили увлечение панвавилонизмом. Это побуждает такого крупного историка, как Э. Мейер, решительно отрицать существование прогресса человечества по прямой восходящей линии. Развиваются лишь отдельные типы культур, причем последующие культуры не всегда даже поднимаются на ту высоту, на которой стояли культуры предшествующие. Эти соображения вряд ли должны приводить к особо пессимистическим выводам, потому что совершенно неосновательно черпать свой оптимизм, свою бодрость и определять свое творчество в отношении к жизни, исходя из исключительной переоценки значения грядущих поколений. Убеждение, что они являются более реальными, чем все поколения предшествующие, ни на чем не основано. Если более глубоко подойти к этому вопросу, то нет никаких оснований считать каждого из нас, принадлежащих поколению, живущему в настоящем (хотя этот термин очень шаток и двусмыслен, потому что "настоящее" каждое мгновение исчезает) , или грядущее поколение, которое народится через 50 или 100 лет, для нашего сознания более реальным и более ценным, чем те отошедшие поколения, которые существовали 50,100 или 5000 лет тому назад. Дробя время на настоящее, прошлое и будущее, мы не имеем основания утверждать, что будущее более реально, чем прошедшее. Будущее, с точки зрения настоящего, не более реально, чем прошлое, и творческая работа наша должна совершаться не во имя будущего, а во имя того вечного настоящего, в котором будущее и прошлое— едины. Прошлого уже нет, и оно для нас не существует иначе, как в нашей памяти, будущего еще нет, и неизвестно, будет ли оно. В известном смысле можно даже сказать, что прошлое более реально, чем будущее, и люди отошедшие от нас более реальны, чем люди еще не рожденные. Предполагают, что будет будущее и в будущем будут жить поколения человеческие, для которых мы должны уготовлять высшую жизнь. Это и должно нам дать смысл жизни, радость жизни и бодрость жизни. Вот это и есть один из самых печальных предрассудков религии прогресса, которая исповедовалась в XIX в. В действительности мы должны окончательно порвать с упованиями, надеждами и верованиями, связанными с таким отношением к будущему. Мы должны, в нашей вере и в нашей надежде, возвышающих нас над мгновением настоящего и делающих нас не только людьми оторванного настоящего, но и людьми великой исторической судьбы, окончательно преодолеть это разорванное и порочное время— время настоящего, прошлого и будущего и войти в истинное время— в вечность. Все наши верования и упования должны быть связаны с разрешимостью человеческих судеб в вечности, и мы должны строить свою перспективу жизни не на перспективе оторванного будущего, а на перспективе целостной вечности. Каков будет плод наших творческих деяний в раздробленном времени, т.е. в будущем, не нам судить и не нам предрешать. Это могут решать лишь другие поколения. Но наше дело в каждый период, в каждое мгновение нашей исторической судьбы определять свое отношение к жизни и к историческим задачам перед лицом вечности и перед судом вечности. Когда мы поставим судьбу человеческую и историческую судьбу в перспективу вечности, то будущее окажется не более реальным, чем прошлое, настоящее не более реальным, чем прошлое и будущее, потому что всякое раздробленное время перед судом вечности внутренне греховно и порочно. Но религия прогресса хотела эту греховность и порочность осветить и узаконить.
Греховные противоречия учения о прогрессе обличают внутреннюю несостоятельность и ложь гуманистических предпосылок прогресса. Те основания, на которых покоился гуманизм нового времени, были таковы, что они не обращали человека к вечности, они повергали человека в земной поток времени со всем его дроблением. Поэтому они не могли, истинным образом, разрешить судьбу человеческой жизни, судьбу человеческой истории. Эти гуманистические предпосылки заключали в себе внутреннее противоречие и внутреннюю порочность, которые, рано или поздно, должны были вскрыться. Это вскрытие я и называю кризисом гуманизма и концом Ренессанса. В гуманистический прогресс больше верить нельзя. Идея прогресса была великой идеей гуманистического периода истории, весь XIX век проникся иллюзией прогресса. Учение о прогрессе в его безрелигиозной форме, оторванной от религиозно-истинного зерна, и есть не что иное, как возведение в систему, в цельную теорию основного гуманистического предположения о том, что человек может довлеть самому себе, может разрешать свою судьбу имманентными человеческими силами и не нуждается в божественных силах и в божественных целях жизни. Если в учении о прогрессе раскрывается ложь гуманистической предпосылки и ее иллюзии, то, с другой стороны, нельзя было бы сказать, что гуманизм не имел никаких положительных результатов. Я думаю, что в гуманизме заключается и положительное начало, которое будет иметь огромное значение для будущей судьбы человека и его истории. Человек должен был пройти через гуманистическое самоутверждение и через гуманистическое самоудовлетворение. Он должен был на свободе раскрыть свои силы и проверить на опыте, что означает и к чему ведет такого рода гуманизм. В гуманизме раскрылись человеческие потенции, которые не могут сами по себе привести к положительным результатам, но раскрытие это будет иметь очень большое значение для дальнейшей судьбы человечества, когда история из гуманистического периода перейдет в какой-то другой, неведомый еще период, накануне которого мы стоим. В духовных подъемах гуманистической культуры была потенция нового религиозного откровения. В гениальности этого периода была своя духоносность.
История есть, поистине,— и в этом ее религиозное содержание— путь к иному миру. Но внутри истории невозможно наступление какого-либо абсолютного совершенного состояния, задача истории разрешима лишь за ее пределами. Это и есть основной и главный вывод, к которому приходит метафизика истории, это и есть секрет, который лежит внутри исторического процесса. Переходом от одной эпохи к другой бьется человечество над разрешением своей судьбы внутри истории. Когда оно приходит не к тому, чего ждало, и начинает ощущать безвыходность круга истории, тогда человечество начинает сознавать невозможность разрешить свою задачу внутри самого процесса истории, начинает сознавать, что лишь трансцендентный выход делает историю разрешимой. Для того чтобы разрешить задачу истории, неразрывно связанную с природой времени, нужно всю перспективу истории обратить внутрь и от попытки разрешить ее, вытянув во временном историческом свершении, перейги к разрешению ее через выход за пределы истории, через прорыв истории в сверх-историю, через допущение в замкнутый круг истории сил надисториче-ских, т. е. нового ноуменального небесного события в земном и феноменальном— грядущего явления Христа. Основная идея, к которой приходит метафизика истории и которая вместе с тем является и предпосылкой метафизики истории, есть идея неизбежности конца истории.
Если смотреть на исторический процесс с точки зрения имманентного разрешения задач, которые в нем ставятся, разрешения их внутри потока времени, то нельзя не прийти к самым пессимистическим, безнадежным результатам, потому что, с этой точки зрения, все попытки разрешения всех исторических задач во все периоды должны быть признаны сплошной неудачей. В исторической судьбе человека, в сущности, все не удалось, и есть основание думать, что никогда и не будет удаваться. Не удался ни один замысел, поставленный внутри исторического процесса. Никогда не осуществлялось то, что ставилось задачей и целью какой-либо исторической эпохи, что преподносилось как идея, которая должна быть, так или иначе, осуществлена. Если взять исторический процесс в целом, то коренной неудачей, которая этот процесс поражает, нужно признать, что в нем не удается Царство Божие, что если Царство Божие было задано в историческом процессе как разрешение судьбы человеческой, то оно никогда в этом историческом процессе не осуществлялось и никогда приближения к осуществлению Царства Божия не происходило. Если взять отдельные периоды в истории с теми задачами, которые в них ставились, то они также были поражены внутренней болезнью и внутренней неосуществимостью этих задач. Если мы возьмем всю новую гуманистическую историю, то она поражает сплошной неудачей, потому что не удался Ренессанс и то, что Ренессансом сотворено, не соответствует подлинным его заданиям и планам. Обнаружена невозможность Ренессанса внутри христианского мира — христианский мир болен такой болезнью раздвоения, которая делает недостижимой целость Ренессансного замысла, содержание христианского мира не может быть оформлено в античном смысле. Такие же неудачи постигли и реформацию, поставившую себе великую цель утверждения религиозной свободы и приведшую к крушению религии; и французскую революцию, создавшую вместо братства, равенства и свободы — буржуазное общество XIX века. Революция обнаружила такие противоречия, которые на протяжении всего XIX века раскрывались и окончательно изобличали лживость всей идеологии французской революции. Вместо равенства, братства и свободы раскрылись новые формы неравенства и ненависти людей друг к другу. Точно так же можно заранее с уверенностью сказать, что не удадутся и те основные идеи и задачи, которыми живет наша эпоха, не удастся никогда социализм, который попробуют осуществить и который, вероятно, будет играть большую роль в том периоде истории, в который ныне мы вступаем. Социализм в опыте осуществления своего будет совсем не тем, к чему социалисты стремятся. Он вскроет новые внутренние противоречия человеческой жизни, которые сделают невозможным осуществление тех задач, которые выставило социалистическое движение. Он никогда не осуществит ни того освобождения человеческого труда, которого Маркс хотел достигнуть связыванием труда, никогда не приведет человека к богатству, не осуществит равенства, а создаст лишь новую вражду между людьми, новую разобщенность и новые неслыханные формы гнета. Не удастся и анархизм, который конкурирует с социализмом. Никогда не осуществит он той предельной свободы, не знающей границ и удержу, к которой призывает; наоборот, он раскроет еще большее рабство. Никогда, в сущности, не удавалась в пределах истории ни одна из революций, потому что если революции и были важным моментом в судьбе народов, моментом внутренне неизбежным, к которому вела вся предшествующая судьба и порождала дальнейшее ее свершение, то они никогда не разрешили тех задач, которые были ими заданы,— никогда этого не было и никогда не будет. В конце концов, плодотворным бывал лишь великий опыт исторических неудач, ибо в нем приоткрывалось что-то новое для человечества. Обыкновенно достигалось совсем не то, что люди предполагали и к чему стремились. Обыкновенно революции кончались реакцией, в которой и раскрывалось что-то новое, в которой происходило осмысливание пережитого опыта, хотя бы реакции и сопровождались целым рядом отрицательных проявлений и частично отбрасывали назад человеческие общества. Так, духовная реакция начала XIX века была одним из самых положительных результатов революции. В ней начался процесс духовного возрождения. Начало XIX в. имело огромное значение, но оно не соответствовало тем социальным целям, которые ставила себе революция. Можно сказать больше— можно сказать о величайшем событии всемирной истории, которое составляет его сердцевину и которое есть ключ к разгадке смысла истории,— о христианстве, которое открыло новую эру и определило всю историческую судьбу, можно сказать, что история христианства также есть сплошная великая неудача. Многие враги христианства говорят это с злорадством, говорят, как самое большое возражение против христианства,— они возражают против христианства потому, что христианство не удалось и удаться на земле не может. Но это же самое можно сказать и с совсем другой духовной настроенностью, вкладывая другой смысл. Действительно, христианство в истории так же не удалось, как не удалось все в истории. Те задания, которые поставлены христианской верой, христианским сознанием, никогда на протяжении 2000 лет не были осуществлены и никогда в пределах этого нашего времени и в пределах этой истории не будут осуществлены, потому что осуществлены они могут быть лишь в победе над временем, в переходе в вечность и в преодолении истории через переход в сверх-исторический процесс. Но самая неудача христианства менее всего может быть превращена в аргумент против высшей его правды, так же как и самая неудача истории менее всего означает бессмысленность истории, внутреннюю ее ненужность и пустоту. Неудача истории вовсе не означает того, что история не имеет смысла и что совершается она в пустоте, так же как неудача христианства не означает того, что христианство не есть вьюшая истина и что это может быть использовано как аргумент против него, потому что попытка сделать удачу и историческую реализацию, имманентное осуществление, критерием истинности и осмысленности сама по себе несостоятельна. История и все историческое по природе своей таково, что никакие совершенные осуществления в временном их потоке— невозможны. Но тот великий опыт, который раскрывается в исторической судьбе, имеет глубочайший смысл и вне осуществления и реализации; он раскрывается за пределами истории. Посюсторонняя неудача, которая болезненно бросается нам в глаза и нас поражает в пределах исторического времени, в пределах временной земной действительности, не означает какой-то предельной потусторонней неудачи, а указывает лишь на то, что человек и человечество в своих судьбах призваны к высшей реализации своих потенций, бесконечно превышающей все те реализации, к которым человек стремится в исторической своей жизни. Все неудачи реформации и революции и всего "исторического" обозначают лишь разорванность человека, который должен целостно изжить свою судьбу в более высокой и более абсолютной действительности, чем та, в которой это все совершилось. Если христианство, само по себе, претерпевает неудачи в пределах истории, то это обозначает не неудачу самого христианства, потому что это есть лишь очень несовершенное словосочетание, очень искаженная передача, изобличающая несовершенство нашего языка,— в действительности же это есть неудача не христианства, не христианской абсолютной истины, которая пребудет вовеки и которую не одолеют врата адовы, но означает неизбежную неудачу всякого относительного мира, всякого относительного разорванного времени, неудачу ограниченной земной действительности. Это не неудача Божья, как думают те, которые направляют этот аргумент против христианства, а неудача человеческая. Неудача же человеческая обозначает лишь то, что человек в своей судьбе призван к тому, чтобы подняться еще выше, чтобы реализовать свои потенции в вечном времени, в более высокой действительности, чем та, в которой он пытался их реализовать. Аргумент против христианства, основанный на неудаче христианства, вдвойне безобразен, вот почему: христианское человечество в своей истории сначала изменило христианской истине, а потом, совершив эту измену, оно начало клеймить христианство, нападать на него, утверждая, что христианство не удалось. Но христианство не удалось именно потому, что те, которые возражают против него, от него отступили. Таким образом получается двойная ложь в этой аргументации.
Лишь при перенесении центра тяжести человеческой жизни в иной мир можно творить красоту в этом мире. Величайшая красота, которая достигалась в этом мире, была связана не с тем, что человечество ставило себе чисто земные цели в этой действительности, а с тем, что оно ставило себе цели за пределами этого мира. Тот порыв, который влек человечество в мир иной, в этом мире воплощался в единственно возможной, высшей для нас красоте, которая всегда имеет природу символическую, а не реалистическую. Если окончательное реалистическое осуществление возможно лишь в какой-то высшей действительности, за пределами времени, за пределами истории, то символическое осуществление возможно здесь, в этой земной действительности, как знак высшей действительности. Это более всего ясно на природе искусства, потому что искусство, как вершина человеческого творчества, в высочайших своих проявлениях имеет символический характер, и это символическое достижение искусства говорит о призвании человека к какой-то иной, более высокой действительности.
Когда я говорил о небесной истории как о прологе земной истории и затем перешел к земной истории, я строил всю завязывавшуюся трагедию всей судьбы человеческой на том, что существует двоякого рода откровение — откровение Бога человеку и ответное откровение человека Богу. Вся трагедия бытия есть трагедия внутреннего свободного отношения между человеком и Богом- рождения Бога в человеке и человека в Боге, откровения Бога человеку и ответного откровения человека Богу. Историческая судьба человека вся пронизана этим ответным откровением человека Богу; в человеческом творчестве, в исторической судьбе своей человек отвечает на слова, сказанные ему Богом. Но глубочайший внутренний смысл ответного откровения человека скрыт в его свободе. Только свободное откровение человека, свободное его творчество желанно для Бога и задано Богом, только оно отвечает на Божью тоску по человеку. Бог ждет от человека свободного дерзновения творчества. Но в исторической судьбе человечества, в конкретной человеческой истории, постоянно происходят срывы с пути свободы на пути принуждения и необходимости. Вся человеческая история наполнена такими соблазнами, от соблазнов принудительной католической или византийской теократии до соблазнов принудительного социализма. Труден и трагичен путь свободы, потому что, поистине, нет ничего ответственнее и ничего более героического и страдальческого, чем путь свободы. Всякий путь необходимости и принуждения- путь более легкий, менее трагический и менее героический. Вот почему человечество, в своих исторических путях, постоянно сбивается на соблазн подмены путей свободы путями принуждения. Это происходит как в религиозной жизни, так и в жизни не религиозной. Соблазн этот гениально раскрыт Достоевским в "Легенде о Великом Инквизиторе". Великий Инквизитор хочет снять с людей бремя свободы во имя счастья всех. Соблазн этот в прошлом породил историческую инквизицию, а в настоящем—религию социализма, которая есть не что иное, как религия Великого Инквизитора, основанная на подмене путей свободы путями принуждения, на снятии с человека бремени трагической свободы. На этом разыгрывается драма истории с ее постоянной борьбой начала свободы и начала принуждения и постоянным переходом от одного начала к другому.
Но если отрицать учение о прогрессе, если отвергать обоготворение грядущих поколений, если не видеть в грядущем постоянного нарастания положительного добра, положительного света, положительного совершенства и блаженства, то в чем же тогда заключается внутренний смысл грядущей исторической судьбы и существует ли этот смысл? Для христианской философии ответ на этот вопрос не так труден, потому что христианская философия истории, по существу, не может быть не апокалипической, потому что в малом евангельском Апокалипсисе и в большом Апокалипсисе— откровении Св. Иоанна даны символы сокровенных судеб истории. Апокалиптические пророчества обращены к завершению истории, и Апокалипсис есть прикровенное откровение о все разрешающем конце истории. В апокалипическом свете метафизика истории раскрывает двойственность грядущего, раскрывает нарастание в нем как положительных христианских сил, которое должно завершиться явлением Христа Грядущего, так и отрицательных антихристианских сил, которое должно завершиться явлением антихриста. Антихрист есть проблема метафизики истории. Антихрист есть явление не того старого зла, которое унаследовано от первоначальных стадий человеческой истории, а нового зла, зла грядущего века, которое будет более страшным, чем зло прошлого. В грядущем предстоит небывалая борьба добра и зла, Бога и дьявола, света и тьмы. Смысл истории заключается в раскрытии этих противоположных начал, в их противоборстве и в окончательном трагическом столкновении одного и другого начала. Антихристово начало будет задерживать человечество в этом дурном времени и закрепощать, порабощать его "миру сему", этому ограниченному плану бытия. Но Апокалипсис-должно истолковывать символически и имманентно. Таким образом, для христианской философии истории совершенно не страшно и совершенно не ведет к отрицанию внутреннего смысла истории то, что в грядущем будет нарастать не только добро, но и зло, не только начала христианские, но и начала антихристианские, потому что христианские пророчества именно об этом и говорят. Это лишь подтверждает подлинность христианских пророчеств о завершении истории. Внешний Апокалипсис есть лишь символически условное выражение внутреннего Апокалипсиса человеческого духа, и в нем говорится лишь о судьбе нашего мирового зона, а не о судьбе последней глубины бытия.
Я хотел бы кончить тем, с чего начал. Начал я с небесного пролога истории для того, чтобы перейти к земной истории, и от этой земной истории должен опять перейти к истории небесной. История только в том случае имеет положительный смысл, если она кончится. Вся метафизика истории, которую я пытался раскрыть в своей книге, ведет к сознанию неизбежности конца истории. Если бы история была бесконечным процессом, плохой бесконечностью, то история не имела бы смысла. Трагедия времени была бы неразрешимой и задача истории неосуществимой, потому что внутри исторического времени она и не может быть осуществлена. Судьба человека, которая лежит в основе истории, предполагает сверхисторическую цель, сверхисторический процесс, сверхисторическое разрешение судьбы истории в ином, вечном времени. Земная история должна вновь войти в небесную историю, должны исчезнуть грани, отделяющие мир посюсторонний от мира и потустороннего, подобно тому как не было этих граней в глубине прошлого, на заре мировой жизни. Мифы говорят нам о первичной смешанности небесного и земного. Так и в конце истории не будет уже замкнутости "мира сего", нашей земной действительности. Зон нашего мира стареет, как на перезревшем плоде лопнут оболочки, отделявшие его от миров иных. Об этом прикровенно-символически говорит Апокалипсис. Разрывается связь времен, замкнутый круг мировой действительности перестает существовать; в него сливаются энергии иных ступеней действительности, история нашего мирового времени кончается и потому только и приобретает смысл. День нашей индивидуальной жизни сам по себе бессмыслен, наша жизнь приобретает смысл лишь в связи всех дней нашей жизни.
История не могла разрешить проблемы индивидуальной судьбы человека, судьбы, которая составляет тему гениальных откровений творчества Достоевского, с которой связана вся метафизика истории. Эта проблема индивидуальной судьбы неразрешима в пределах истории, в пределах истории неразрешим трагический конфликт судьбы индивидуальной с судьбой мировой, с судьбой всего человечества. И поэтому история должна кончиться. Мир должен вступить в такую высокую действительность, в такое целостное время, в которых разрешится проблема индивидуальной судьбы человеческой и трагический конфликт этой индивидуальной судьбы человеческой с судьбой мировой найдет свой исход. История есть прежде всего судьба и должна быть осмыслена как судьба, как трагическая судьба. Трагическая судьба, как и всякая трагедия, должна иметь последний, всеразрешающий акт. В трагедии неизбежен катарсис. История не имеет бесконечного развития в нашем времени, не имеет закономерности природных явлений именно потому, что история есть судьба. Таков последний вывод и последний результат метафизики истории. Судьба человеческая, которую мы должны проследить через все периоды истории, неразрешима в пределах истории. Метафизика истории научает нас тому, что неразрешимое в пределах истории разрешается за пределами истории. И это и есть самый большой аргумент в пользу того, что история не бессмысленна, что она имеет высший смысл. Если бы она имела только имманентный земной смысл, то именно в этом случае она была бы бессмысленной, потому что тогда все основные трудности, связанные с природой времени, были бы неразрешимы или все разрешения были бы фиктивными, кажущимися и неистинными. Такая относительно пессимистическая метафизика истории разрывает с иллюзиями, связанными с обоготворением будущего, низвергает идею прогресса, но укрепляет надежду и упование на разрешение всей муки истории в перспективе вечности, в перспективе вечной действительности. И эта пессимистическая метафизика истории более оптимистична, в последнем и глубоком смысле слова, чем безотрадное и смертоносное для всего живого оптимистическое учение о прогрессе. Должен совершиться какой-то внутренний сдвиг, после которого всемирная история предстанет не в перспективе истребляющего потока времени, как бы выброшенная из глубины духа вовне, а в перспективе вечности, в перспективе истории небесной. Она вернется в глубину, как момент извечной мистерии Духа.
ПРИЛОЖЕНИЕ. Воля к жизни и воля к культуре.
1.
В нашу эпоху нет более острой темы и для познания и для жизни, чем тема о культуре и цивилизации, о их различии и взаимоотношении. Это — тема об ожидающей нас судьбе. А ничто не волнует так человека, как судьба его. Исключительный успех книги Шпенглера о закате Европы объясняется тем, что он так остро поставил перед сознанием Культурного человечества вопрос о его судьбе. На исторических перевалах, в эпохи кризисов и катастроф приходится серьезно задуматься над движением исторической судьбы народов и культур. Стрелка часов мировой истории показывает час роковой, час наступающих сумерек, когда пора зажигать огни и готовиться к ночи. Шпенглер признал цивилизацию роком всякой культуры. Цивилизация же кончается смертью. Тема эта не новая; она давно нам знакома. Тема эта особенно близка русской мысли, русской философии истории. Наиболее значительные русские мыслители давно уже познали различие между типом культуры и типом цивилизации и связали эту тему с взаимоотношением России и Европы. Все наше славянофильское сознание было проникнуто враждой не к европейской культуре, а к европейской цивилизации. Тезис, что “Запад гниет”, и означал, что умирает великая европейская культура и торжествует европейская цивилизация, бездушная и безбожная. Хомяков, Достоевский и К. Леонтьев относились с настоящим энтузиазмом к великому прошлому Европы, к этой “стране святых чудес”, к священным ее памятникам, к ее старым камням. Но старая Европа изменила своему прошлому, отреклась от него. Безрелигиозная мещанская цивилизация победила в ней старую священную культуру. Борьба России и Европы, Востока и Запада представлялась борьбой духа с бездушием, религиозной культуры с безрелигиозной цивилизацией. Хотели верить, что Россия не пойдет путем цивилизации, что у нее будет свой путь, своя судьба, что в России только и возможна еще культура на религиозной основе, подлинная духовная культура. В русском сознании очень остро ставилась эта тема.
Но чужда ли она сознанию западному, не возвышалась ли и сама европейская мысль до ее постановки; один ли Шпенглер подошел к ней? Явление Ницше связано с острым сознанием этой роковой для западной культуры темы. Тоска Ницше по трагической, дионисической культуре — есть тоска, возникающая в эпоху торжествующей цивилизации. Лучшие люди Запада ощущали эту смертельную тоску от торжества мамонизма в старой Европе, от смерти духовной культуры — священной и символической — в бездушной технической цивилизации. Все романтики Запада были людьми ранеными, почти смертельно, торжествующей цивилизацией, столь чуждой их духу. Карлейль, с пророческой силой, восставал против угашающей дух цивилизации. Пламенное восстание Леона Блуа против “буржуа” в его гениальных исследованиях “буржуазной” мудрости — было восстанием против цивилизации. Все французские католики — символисты и романтики бежали в средневековье, на далекую духовную родину, чтобы спастись от смертельной тоски торжествующей цивилизации. Устремленность людей Запада к былым культурным эпохам или экзотическим культурам Востока означает восстание духа против окончательного перехода культуры в цивилизацию, но восстание слишком утонченного, упадочного, ослабленного духа. От надвигающегося небытия цивилизации Люди поздней, закатной культуры бессильны перейти к подлинному бытию, бытию вечному, они спасаются бегством в мир далекого прошлого, которого нельзя уже вернуть к жизни, или чуждого им бытия застывших культурных миров Востока.
Так подрываются основы банальной теории прогресса, в силу которой верилось, что будущее всегда совершеннее прошедшего, что человечество восходит по прямой линии к высшим формам жизни. Культура не развиваются бесконечно. “Она несет в себе семя смерти. В ней заключены начала, которые неотвратимо влекут ее к цивилизации. Цивилизация же есть смерть духа культуры, есть явление совсем иного бытия или небытия. Но нужно осмыслить этот феномен, столь типичный для философии истории, для осмысления истории. Шпенглер ничего не дает для проникновения в смысл этого первофеномена истории.
2.
Во всякой культуре, после расцвета, усложнения и утончения, начинается иссякание творческих сил, удаление и угашение духа, убыль духа. Меняется все направление культуры. Она направляется к практическому осуществлению могущества, к практической организации жизни в сторону все большего ее расширения по поверхности земли. Цветение “наук и искусств”, углубленность и утонченность мысли, высшие подъемы художественного творчества, созерцание святых и гениев — все это перестает ощущаться как подлинная, реальная “жизнь”, все это уже не вдохновляет. Рождается напряженная воля к самой “жизни”, к практике “жизни”, к могуществу “жизни”, к наслаждению “жизнью”, к господству над “жизнью”. И эта, слишком напряженная воля к “жизни” губит культуру, несет за собой смерть культуры... Слишком хотят “жить”, строить “жизнь”, организовать “жизнь” в эпоху культурного заката. Эпоха культурного расцвета предполагает ограничение воли к “жизни”, жертвенное преодоление жадности к жизни. Когда в массах человеческих слишком распространяется жадность к “жизни”, тогда цель перестает полагаться в высшей духовной культуре, которая всегда аристократична, всегда в качествах, а не в количествах. Цель начинают полагать в самой “жизни”, в ее практике, в ее силе и счастье. Культура перестает быть самоценной, и потому умирает воля к культуре. Нет более воли к гениальности, не рождаются более гении. Не хотят уже незаинтересованного созерцания, познания и творчества. Культура не может оставаться на высоте, она неизбежно должна спускаться вниз, должна падать. Она бессильна удержать свою высшую качественность. Начало количественное должно ее одолеть. Происходит социальная энтропия, рассеяние творческой энергии культуры. Культура срывается и падает, она не может вечно развиваться потому, что не осуществляет целей и задач, зародившихся в духе творцов ее.
Культура не есть осуществление новой жизни, нового бытия, у она есть осуществление, новых ценностей. Все достижения культуры символичны, а не реалистичны. Культура не есть осуществление, реализация истины жизни, добра жизни, красоты жизни, могущества жизни, божественности жизни. Она осуществляет лишь истину в познании, в философских и научных книгах; добро — в нравах, бытии и общественных установлениях; красоту — в книгах стихов и картинах, в статуях и архитектурных памятниках, в концертах и театральных представлениях; божественное — лишь в культе и религиозной символике. Творческий акт притягивается в культуре вниз и отяжелевает. Новая жизнь, высшее бытие дается лишь в подобиях, образах, символах. Творческий акт познания создает научную книгу; творческий художественный акт создает нравы и общественные учреждения; творческий религиозный акт создает культ, догматы и символический церковный строй, в котором дано лишь подобие небесной иерархии. Где же самая “жизнь”? Реальное преображение как будто бы не достигается в культуре. И динамическое движение внутри культуры с ее кристаллизованными формами неотвратимо влечет к выходу за пределы культуры, к “жизни”, к практике, к силе. На этих путях совершается переход культуры к цивилизации.
Высший подъем и высшее цветение культуры мы видим в Германии конца XVIII и начала XIX века, когда Германия стала прославленной страной “поэтов и философов”. Трудно встретить эпоху, в которой была бы осуществлена такая воля к гениальности. На протяжении нескольких десятилетий мир увидел Лессинга и Гердера, Гёте и Шиллера, Канта и Фихте, Гегеля и Шел-линга, Шлейермахера и Шопенгауэра, Новалиса и всех романтиков. Последующие эпохи с завистью будут вспоминать об этой великой эпохе. Виндельбанд, философ эпохи культурного заката, вспоминает об этом времени духовной цельности и духовной гениальности, как об утерянном рае. Но была ли подлинная высшая “жизнь” в эпоху Гёте и Канта, Гегеля и Новалиса? Все люди той замечательной эпохи свидетельствуют, что тогда в Германии “жизнь” была бедной, мещанской, сдавленной. Германское государство .было слабым, жалким, раздробленным на мелкие части, ни в чем и нигде не было осуществлено могущество “жизни”, культурное цветение было лишь на самых вершинах германского народа, который пребывал в довольно низком состоянии.
А эпоха Ренессанса, эпоха небывалого творческого подъема,— была ли в ней действительно высшая, подлинная “жизнь”? Пусть романтик Ницше, окруженный ненавистной ему цивилизацией, влюбленно влечется к эпохе Ренессанса, как к подлинной, могущественной “жизни” — этой “жизни” там не было; “жизнь” там была ужасной, злой жизнью, в ней никогда не была осуществлена красота в земном ее совершенстве. Жизнь Леонардо и Микеланджело была сплошной трагедией и мукой. И так всегда, всегда бывало. Культура всегда бывала великой неудачей жизни. Существует как бы противоположность между культурой и “жизнью”. Цивилизация пытается осуществлять “жизнь”. Она создает могущественное германское государство, могущественный капитализм и связанный с ним социализм; она осуществляет волю к мировому могуществу и мировой организации. Но в этой могущественной Германии, империалистической и социалистической, не будет уже Гёте, не будет великих германских идеалистов, не будет великих романтиков, не будет великой философии и великого искусства — все станет в ней техническим, технической будет и философская мысль (в гносеологических течениях). Метод завоевания во всем возобладает над интуитивно-целостным проникновением в бытие. Невозможен уже Шекспир и Байрон в могущественной цивилизации Британской империи. В Италии, где создан раздавивший Рим памятник Виктора Эммануила, в Италии социалистического движения, невозможен уже Данте и Микеланджело. В этом — трагедия культуры и трагедия цивилизации.
3.
Во всякой культуре, на известной ступени ее развития, начинают обнаруживаться начала, которые подрывают духовные основы культуры. Культура связана с культом, она из религиозного культа развивается, она есть результат дифференциации культа, разворачивания его содержания в разные стороны. Философская мысль, научное познание, архитектура, живопись, скульптура, музыка, поэзия, мораль—все заключено органически целостно в церковном культе, в форме еще не развернутой и не дифференцированной. Древнейшая из культур — культура Египта, началась в храме, и первыми ее творцами были жрецы. Культура связана с культом предков, с преданием и традицией. Она полна священной символики, в ней даны знаки и подобия иной, духовной действительности. Всякая культура (даже материальная культура) есть культура духа; всякая культура имеет духовную основу— она есть продукт творческой работы духа над природными стихиями. Но в самой культуре обнаруживается тенденция к разложению своих религиозных и духовных основ, к низвержению своей символики. И культура античная и культура западноевропейская переходит чрез процесс “просвещения”, которое порывает с религиозными истинами культуры и разлагает символику культуры. В этом обнаруживается роковая диалектика культуры.
Культуре свойственно, на известной стадии своего пути, как бы сомневаться в своих основах и разлагать эти основы. Она сама готовит себе гибель, отделяясь от своих жизненных истоков. Культура духовно истощает себя, рассеивает свою энергию. Из стадии “органической” она переходит в стадию “критическую”.
Чтобы понять судьбу культуры, нужно рассматривать ее динамически и проникнуть в ее роковую диалектику. Культура есть живой процесс, живая судьба народов. И вот обнаруживается, что культура не может удержаться на той серединной высоте, которой она достигнет в период своего цветения, ее устойчивость не вечна. Во всяком сложившемся историческом типе культуры обнаруживается срыв, спуск, неотвратимый переход в такое состояние, которое не может уже быть наименовано “культурой”. Внутри культуры обнаруживается слишком большая воля к новой “жизни”, к власти и мощи, к практике, к счастью и наслаждению. Воля к могуществу, во что бы то ни стало, есть цивилизаторская тенденция в культуре. Культура бескорыстна в своих высших достижениях, цивилизация же всегда заинтересована. Когда “просвещенный” разум сметает духовные препятствия для использования “жизни” и наслаждения “жизнью”, когда воля к могуществу и организованному овладению жизнью достигает высшего напряжения, тогда кончается культура и начинается цивилизация. Цивилизация есть переход от культуры, от созерцания, от творчества ценностей к самой “жизни”, искание “жизни”, отдание себя ее стремительному потоку, организация “жизни”, упоение силой жизни. В культуре обнаруживается практически утилитарный, “реалистический”, т. е. цивилизаторский, уклон. Большая философия и большое искусство, как и религиозная символика, не нужны более, не представляются “жизнью”. Происходит изобличение того, что представлялось высшим в культуре, верховным ее достижением. Разнообразными путями вскрывают не священный и не символический характер культуры. Перед судом реальнейшей “жизни” в эпоху цивилизации духовная культура признается иллюзией, самообманом еще неосвобожденного, зависимого сознания, призрачным плодом социальной неорганизованности. Организованная техника жизни должна окончательно освободить человечество от иллюзии и обманов культуры; она должна создать вполне “реальную” цивилизацию. Духовные иллюзии культуры поражены были неорганизованностью жизни, слабостью ее техники. Эти духовные иллюзии исчезают, преодолеваются, когда цивилизация овладевает техникой и организует жизнь. Экономический материализм — очень характерная и типичная философия эпохи цивилизации. Это учение выдает тайну цивилизации, обнаруживает внутренний ее пафос. Не экономический материализм выдумал господство экономизма, не учение это виновно в принижении духовной жизни. В самой действительности обнаружилось господство экономизма, в ней вся духовная культура превратилась в “надстройку”, и разложились все духовные реальности раньше, чем экономический материализм отразил это в своем учении. Сама идеология экономического материализма имеет лишь рефлекторный характер по отношению к действительности. Это — характерная идеология эпохи цивилизации, наиболее радикальная идеология этой цивилизации. В цивилизации неизбежно господствует экономизм; цивилизация по природе своей технична, в цивилизации всякая идеология, всякая духовная культура есть лишь надстройка, иллюзия, не реальность. Призрачный характер всякой идеологии и всякой духовности изобличен. Цивилизация переходит к “жизни”, к организации могущества, к технике, как подлинному осуществлению этой “жизни”. Цивилизация, в противоположность культуре, не религиозна уже по своей основе, в ней побеждает разум “просвещения”, но разум этот уже не отвлеченный, а прагматический разум. Цивилизация, в противоположность культуре, не символична, не иерархична, не органична. Она — реалистична, демократична, механична. Она хочет не символических, а “реалистических” достижений жизни, хочет самой реальной жизни, а не подобий и знаков, не символов иных миров. В цивилизации, и в капитализме, как и в социализме, коллективный труд вытесняет индивидуальное творчество. Цивилизация обезличивает. Освобождение личности, которое как будто бы цивилизация должна нести с собой, смертельно для личной оригинальности. Личное начало раскрывалось лишь в культуре. Воля к мощи “жизни” уничтожает личность. Таков парадокс истории.
4.
Переход культуры в цивилизацию связан с радикальным изменением отношения человека к природе. Все социальные перемены в судьбе человечества связаны ведь с новым отношением человека к природе. Экономический материализм подметил эту истину в форме доступной сознанию цивилизации. Эра цивилизации началась с победного вхождения машин в человеческую жизнь. Жизнь перестает быть органической, теряет связь с ритмом природы. Между человеком и природой становится искусственная среда орудий, которыми он пытается подчинять себе природу. В этом обнаруживается воля к власти, к реальному использованию жизни в противоположность аскетическому сознанию средневековья. От резиньяции и созерцания человек переходит к овладению природой, к организации жизни, к повышению силы жизни. Это не приближает человека к природе, к внутренней ее жизни, к ее душе. Человек окончательно удаляется от природы в процессе технического овладения природой и организованного властвования над ее силами. Организованность убивает органичность. Жизнь делается все более и более технической. Машина налагает печать своего образа на дух человека, на все стороны его деятельности. Цивилизация имеет не природную и не духовную основу, а машинную основу. Она прежде всего технична, в ней торжествует техника над духом, над Организмом. В цивилизации само мышление становится техническим, всякое творчество и всякое искусство приобретает все более и более технический характер. футуристическое искусство так же характерно для цивилизации, как символическое искусство — для культуры. Господство гносеологизма, методологизма или прагматизма также характерно для цивилизации. Самая идея “научной” философии порождена цивилизаторской волей к могуществу, желанием приобрести метод, дающий силу. В цивилизации побеждает начало специализации, в ней нет духовной цельности культуры. Все делается специалистами, от всех требуется специальность.
Машина и техника порождены еще умственным движением культуры, великими ее открытиями. Но эти плоды культуры подрывают ее органические основы, умерщвляют ее дух. Культура обездушивается и переходит в цивилизацию. Дух идет на убыль. Качества заменяются количеством. Человечест ворцами и усадьбами, переходит в музеи, наполняемые лишь трупами красоты. Цивилизация— музейна, в этом единственная связь ее с прошлым. Начинается культ жизни вне ее смысла. Ничто уже не представляется самоценным. Ни одно мгновение жизни, ни одно переживание жизни не имеет глубины, не приобщено к вечности. Всякое мгновение, всякое переживание есть лишь средство для ускоряющихся жизненных процессов, устремленных к дурной бесконечности, обращено к всепожирающему вампиру грядущего, грядущей мощи и грядущего счастья. В быстром, все ускоряющемся темпе цивилизации нет прошлого и нет настоящего, нет выхода к вечности, есть лишь будущее. Цивилизация — футуристична. Культура же пыталась созерцать вечность. Это ускорение, эта исключительная устремленность к будущему созданы машиной и техникой. Жизнь организма более медлительна, темп не столь стремительный. В цивилизации жизнь выбрасывается изнутри вовне, переходит на поверхность. Цивилизация эксцентрична. Цивилизация есть подмена целей жизни средствами жизни, орудиями жизни. Цели жизни меркнут, закрываются. Сознание людей цивилизации направлено исключительно на средства жизни, на технику жизни. Цели жизни представляются иллюзорными, средства признаются реальными. Техника, организация, производственный процесс — реальны. Духовная культура не реальна. Культура есть лишь средство для техники жизни. Соотношение между целями и средствами жизни перемешивается и извращается. Все для “жизни”, для ее нарастающей мощи, для ее .организации, для наслаждения жизнью. Но для чего сама “жизнь”? имеет ли она цель и смысл? На этих путях умирает душа культуры, гаснет смысл ее. Машина получила магическую власть над человеком, она окутала его магическими токами. Но бессильно романтическое отрицание машины, простое отвержение цивилизации, как момент человеческой судьбы, как опыт, умудряющий дух. Невозможна простая реставрация культуры. Культура в эпоху цивилизации всегда романтична, всегда обращена к былым религиозно-органическим эпохам. Это — закон. Классический стиль культуры невозможен среди цивилизации. И все лучшие люди культуры в XIX веке были романтиками. Но реальный путь преодоления культуры лишь один—путь религиозного преображения.
Цивилизация — “буржуазна” по своей природе в глубочайшем, духовном смысле слова. “Буржуазность” и есть цивилизованное царство мира сего, цивилизаторская воля к организованному могуществу и наслаждению жизнью. Дух цивилизации — мещанский дух, он внедряется, прикрепляется к тленным и переходящим вещам; он не любит вечности. “Буржуазность” и есть рабство у тлена, ненависть к вечному. Цивилизация Европы и Америки, самая совершенная цивилизация в мире, создала индустриально-капиталистическую систему. Эта индустриально-капиталистическая система не была только могущественным экономическим развитием, она была и явлением духовным, явлением истребления духовности. Индустриальный капитализм цивилизации был истребителем духа вечности, истребителем святынь. Капиталистическая цивилизация новейших времен убивала Бога, она была самой безбожной цивилизацией. Ответственность за преступление богоубийства лежит на ней, а не на революционном социализме, который лишь усвоил себе дух “буржуазной” цивилизации и принял отрицательное ее наследие. Правда, индустриально-капиталистическая цивилизация не совсем отвергла религию: она готова была признать прагматическую полезность и нужность религии. В культуре религия была символической, в цивилизации религия стала прагматической. И религия может оказаться полезной и действенной для организации жизни, для нарастания мощи жизни. Цивилизация вообще ведь прагматична. Не случайно прагматизм так популярен в классической стране цивилизации — в Америке. Социализм отверг этот прагматизм религии; он прагматически защищает атеизм как более полезный для развития жизненного могущества и жизненного наслаждения больших масс человечества. Но прагматически-утилитарное отношение к религии в мире капиталистическом было уже настоящим источником безбожия и духовной опустошенности. Бог, полезный и действенно-нужный для успехов цивилизации, для индустриально- капиталистического развития не может быть истинным Богом. Его легко разоблачить. Социализм отрицательно прав. Бог религиозных откровений. Бог символической культуры давно уже ушел из капиталистической цивилизации, и она ушла от него. Индустриально-капиталистическая цивилизация далеко ушла от всего онтологического, она антионтологична, она механична, она создает лишь царство фикций. Механичность, техничность и машинность этой цивилизации противоположна органичности, космичности и духовности всякого бытия. Не хозяйство, не экономика механичны и фиктивны, хозяйство имеет подлинно бытийственные, божественные основы, и есть у человека долг хозяйствования, императив экономического развития. Но отрыв хозяйства от духа, возведение экономики в верховный принцип жизни, придание всей жизни вместо органического характер технический превращает хозяйство и экономику в фиктивное, механическое царство. Похоть, лежащая в основе капиталистической цивилизации, создает механически фиктивное царство. Индустриально-капиталистическая система цивилизации разрушает духовные основы хозяйства и этим готовит себе гибель. Труд перестает быть духовно осмысленным и духовно оправданными восстает против всей системы. Капиталистическая цивилизация находит себе заслуженную кару в социализме. Но социализм также продолжает дело цивилизации, он есть другой образ той же “буржуазной” цивилизации, он пытается дальше развивать цивилизацию, не внося в нее нового духа. Индустриализм цивилизации, порождающей фикции и призраки, неизбежно подрывает духовную дисциплину и духовную мотивизацию труда и этим готовит себе крах.
Цивилизация бессильна осуществить свою мечту о бесконечно возрастающем мировом могуществе. Вавилонская башня не будет достроена. В мировой, войне мы видим уже падение европейской цивилизации, крушение индустриальной системы, изобличение фикций, которыми жил “буржуазный” мир. Такова трагическая диалектика исторической судьбы. Ее имеет культура, ее имеет и цивилизация. Ничего нельзя понять статически, все должно быть понято динамически. И лишь тогда обнаруживается, как все в исторической судьбе имеет тенденцию переходить в свою, противоположность, как все чревато внутренними противоречиями и несет в себе семя гибели. Империализм — техническое порождение цивилизации. Империализм не есть культура. Он есть оголенная воля к мировому могуществу, к мировой организации жизни. Он связан с индустриально-капиталистической системой, он техничен по своей природе. Таков “буржуазный” империализм XIX и XX века, империализм английский и германский. Но его нужно отличать от священного империализма былых времен, от священной Римской империи, от священной Византийской империи, которые символичны и принадлежат культуре, а не цивилизации. В империализме видна непреодолимая диалектика исторической судьбы. В империалистической воле к мировому могуществу разлагаются и распыляются исторические тела национальных государств, принадлежащих эпохе, культуры. Британская империя есть конец Англии как национального государства. Но в пожирающей империалистической воле есть семя смерти. Империализм в безудержном своем развитии подрывает свои основы и готовит себе переход в социализм, который также одержим волей к мировому могуществу и мировой организации жизни, который означает лишь дальнейшую ступень цивилизации, явление нового ее образа. Но и империализм и социализм, столь родственные по духу, означают глубокий кризис культуры. В индустриально-капиталистическую эпоху саморазлагающегося империализма и возникающего социализма торжествует цивилизация, но культура склоняется к закату. Это не значит, что культура умирает. В более глубоком смысле — культура вечна. Античная культура пала и как бы умерла. Но она продолжает жить в нас как глубокое наслоение нашего существа. В эпоху цивилизации культура продолжает жить в качествах, а не количествах, она уходит в глубину. В цивилизации начинают обнаруживаться процессы варваризации, огрубения, утраты совершенных форм, выработанных культурой. Эта варваризация может принимать разные формы. После эллинской культуры, после римской мировой цивилизации началась эпоха варварского раннего средневековья. Это было варварство, связанное с природными стихиями, варварство от прилива новых человеческих масс с свежей кровью, принесших с собой запах северных лесов. Не таково варварство, которое может возникнуть на вершине европейской и мировой цивилизации. Это будет варварство от самой цивилизации, варварство с запахом машин, а не лесов, варварство, заложенное в самой технике цивилизации. Такова диалектика самой цивилизации. В цивилизации иссякает духовная энергия, угашается дух — источник культуры. Тогда начинается господство над человеческими душами не природных сил, сил варварских в благородном смысле этого слова, а магического царства машинности и механичности, подменяющей подлинное бытие. Цивилизация родилась из воли человека к реальной “жизни”, к реальному могуществу, к реальному счастью в противоположность символическому и созерцательному характеру культуры. Таков один из путей, ведущих от культуры к “жизни”, к преображению жизни, путь технического преображения жизни. Человек должен был пойти этим путем и раскрыть до конца все технические силы. Но на пути этом не достигнется подлинное бытие, на пути этом погибает образ человека.
5.
Внутри культуры может возгореться и иная воля к “жизни”, к преображению “жизни”. Цивилизация не есть единственный путь перехода от культуры, с ее трагической противоположностью “жизни”, к преображению самой “жизни”. 'Есть еще путь религиозного преображения жизни, путь достижения подлинного бытия. .В исторической судьбе человечества можно установить четыре эпохи, четыре состояния: варварство, культура, цивилизация и религиозное преображение. Эти четыре состояния нельзя брать исключительно во временной последовательности; они могут сосуществовать, это — разные направленности человеческого духа. Но одно из этих состояний, в ту или иную эпоху, преобладает. В эллинистическую эпоху, в эпоху господства римской мировой цивилизации, должна была родиться из глубины воля к религиозному преображению. И тогда в мир явилось христианство. Оно явилось в мир прежде всего как преображение жизни, оно окружено было чудом и совершало чудеса. Воля к чуду всегда связана с волей к реальному преображению жизни. Но, в исторической судьбе своей, христианство прошло через варварство, через культуру и через цивилизацию. Не во все периоды своей исторической судьбы христианство было религиозным преображением. В культуре христианство было по преимуществу символично, оно давало лишь подобия, знаки и образы преображения жизни; в цивилизации оно стало по преимуществу прагматичным, превратилось в средство для возрастания процессов жизни, в технику духовной дисциплины. Но воля к чуду ослабела и начала совсем угасать на вершине цивилизации. Христиане эпохи цивилизации продолжают еще исповедовать тепло-прохладную веру в былые чудеса, но чудес более не ждут, не имеют верующей воли к чуду преображения жизни. Но эта верующая воля в чудо преображения жизни, не механико-технического преображения, а органически-духовного, должна явиться и определить иной путь от угасающей культуры к самой “жизни”, чем тот, который испробован цивилизацией. Религия не может быть частью жизни, загнанной в далекий угол. Она должна достигать того онтологически-реального преображения жизни, которое, лишь символически, достигает культура и лишь технически достигает цивилизация. Но нам предстоит еще, быть может, пройти через период воздушной цивилизации.
Россия была страной загадочной, непонятой еще в судьбе своей, страной, в которой таилась страстная мечта о религиозном преображении жизни. Воля к культуре всегда у нас захлестывалась волей к “жизни”, и эта воля имела две направленности, которые нередко смешивались,— направленность к социальному преображению жизни в цивилизации и направленность к религиозному преображению жизни, к явлению чуда в судьбе человеческого общества, в судьбе народа. Мы начали переживать кризис культуры, не изведав до конца самой культуры. У русских всегда было недовольство культурой, нежелание создавать серединную культуру, удерживаться на серединной культуре. Пушкин и александровская эпоха — вот где вершина русской культуры. Уже великая русская литература и русская мысль XIX века не были культурой; они устремлены к “жизни”, к религиозному преображению. Таков Гоголь, Толстой, Достоевский, таков В. Соловьев, К. Леонтьев, Н. Федоров, таковы новейшие религиозно-философские течения. Предания культуры у нас всегда были слишком слабы. Цивилизацию мы создаем безобразную. Варварская стихия всегда была слишком сильна. Воля же наша к религиозному преображению была поражена какой-то болезненной мечтательностью. Но русскому сознанию дано понять кризис культуры и трагедию исторической судьбы более остро и углубленно, чем более благополучным людям Запада. В душе русского народа, быть может, сохранилась большая способность обнаруживать волю к чуду религиозного преображения жизни. Мы нуждаемся в культуре, как и все народы мира, и нам придется пройти путь цивилизации. Но мы никогда не будем так скованы символикой культуры и прагматизмом цивилизации, как народы Запада. Воля русского народа нуждается в очищении и укреплении, и народ наш должен пройти через великое покаяние. Только тогда воля его к преображению жизни даст ему право определить свое призвание в мире.
notes
Примечания
1
"Большие пирамиды есть древнейшее и наиболее внушительное из дошедших до нас свидетельств окончательного возникновения организованного общества" (Брэстед).