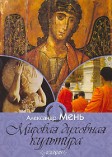Мировая духовная культура
ИСТОКИ МИРОВОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Несколько лет назад мне пришлось путешествовать по Средней Азии и перебираться на пароме через Амударью. Паром шел медленно. Голые, поросшие редким кустарником плоские берега, зеленая темная вода. Пока двигался паром, я думал о том, что подобным этой реке был древний Евфрат и вообще все древние реки, где начинались цивилизации. И тогда же я вспомнил, что недалеко от этого места, от Амударьи, немного дальше к востоку, произошло интересное событие, связанное с духовными истоками человеческого рода.
Еще до войны, когда многие из вас еще не родились, а я был ребенком, там, в Средней Азии, по ущельям двигалась небольшая экспедиция, которой руководил известный археолог Алексей Окладников. Он направлялся в труднодоступное ущелье, расположенное между двумя великими реками. Уже давно ходили слухи, что в этом ущелье люди находили удивительные кости, там встречались странные камни, будто бы оббитые чьей–то рукой. И Окладников, обладавший чутьем бывалого полевого археолога, организовал туда летом 1938 г. небольшую экспедицию. Археологи лезли по скалам там, где могли пробираться только горные козлы, и в конце концов добрались до пещеры. Это место называлось Тешик–Таш, по–русски просто «пещера». И когда Окладников со своими помощниками туда добрался, он нашел на почти ровном полу останки человека. Он сразу понял, что это ребенок, в крайнем случае, подросток. Особенно заинтересовало археолога, что сохранился почти весь череп. Окладников собрал и склеил в единое целое сто пятьдесят кусков окаменелого черепа: череп сохранился почти целиком.
Это был череп мальчика совершенно иной расы, нежели человек разумный, homo sapiens. И когда очередь дошла до челюсти и надбровных дуг, Окладников определил его как неандертальца, homo neanderthalensis, или hоmо primigenius, как иногда его называют. В системе биологической номенклатуры он считался homo только по своему роду; его считали предшественником, а некоторые — предком человека. Вопрос о том, в какой степени родства мы находимся по отношению к неандертальцам, до сих пор бурно дебатируется. Эти люди, или человекообразные существа, жили на огромном пространстве от Северной Европы до восточных берегов Китая, от Африки до Средней Азии. Примерно 40 тысяч лет назад они повсеместно исчезают, их кости больше не встречаются; на смену им приходим мы, род homo sapiens, человек разумный. И когда Окладников разбирал, а потом собирал этот скелет, он увидел, что ребенок был похоронен, а не просто брошен; мало того, этот ребенок восьми–девяти лет в своей импровизированной могилке был огражден рогами дикого горного козла. А, между прочим, в Средней Азии, в тех местах и до наших дней, до ХХ в., сохранился культ горного козла. Окладников сопоставил эту находку с другими, имевшими место в Западной Европе. Несколько раз обнаруживали черепа примитивных людей типа неандертальцев, окруженные камнями одинаковой формы и размера: голова лежала, как солнце, окруженное лучами. Эти скудные, но, на самом деле, впечатляющие признаки указывают на то, что еще до того как человек стал полноценным, стал человеком в полном смысле этого слова, тем единственным видом, который живет сейчас на земле, в нем уже теплились какие–то религиозные представления.
Ученые спорят о том, в какой степени можно относить неандертальца к человеческим существам, но едва ли кто–нибудь из них может доказать свою точку зрения и обосновать ее, потому что мы не можем проникнуть в сознание этого человека, или человеческого существа, или недочеловеческого существа. Все–таки это, скорее всего, другой вид, несомненно низший. В его культуре мы уже находим примитивные каменные орудия, огонь, который поддерживался довольно долго, но не находим искусства, которое является важнейшим спутником всей человеческой истории. А искусство древних людей всегда было связано с духовным, религиозным началом.
Очень многое в современном человеческом обществе теснейшим образом связано с началами человеческого бытия в истории. Проблемы социальные, семейные, сексуальные, культурные, художественные, традиционные, проблемы, связанные с владением территорией, с ксенофобией, — все это уходит своими корнями в жизнь древнего человека, обитавшего на земле за несколько десятков тысяч лет до нас. В нашем подсознании до сих пор живут какие–то мотивы, какие–то звуки, какое–то эхо, отзывающееся из тех времен. Но человек XIX века, гордый, я бы сказал, упоенный своей цивилизацией, считал, что мир развивался только прямолинейно, что первобытный человек был человеком низшим во всех отношениях, был человеком диким.
Подобную мысль мы впервые встречаем у римского поэта Лукреция Кара, который рассматривал историю человечества как восхождение вверх: от темноты, варварства, невежества и дикости к цивилизации. Правда, Лукреций Кар считал, что потом все развалится и деградирует, но это уже другой вопрос. В XIX в. думали, что никакой деградации не будет. Позаимствовав из христианства идею Царства Божия как цели человеческого бытия, как цели истории, многие мыслители XIX в., и вообще образованные слои общества почему–то уверовали в то, что мир летит ввысь, подобно ракете, и ничто не может остановить его прогрессивного движения. Слово «прогресс» стало чем–то вроде «священного» термина. Когда говорили «прогрессивный», это автоматически означало «хороший». И казалось, что каждое завоевание человека, каждый шаг его на пути усложнения техники или новых открытий в сфере науки содействуют прогрессу, а позади только мрак, мрак темного средневековья. Конечно, был небольшой просвет — в античности, а потом мрак Востока и, наконец, долгий мрак первобытной жизни.
Эту мысль надо было, конечно, чем–то подтвердить, и подтверждения стали искать со времен великих географических открытий, когда европейцы впервые двинулись через океан, когда они открыли Америку, когда они впервые по–настоящему познакомились с чернокожими обитателями Африки, жителями Китая и вообще неведомых дотоле стран. Но тогда же, столкнувшись с людьми, стоящими на низшей стадии материальной цивилизации, многие решили, что это и есть тот самый дикий, древний первобытный человек, и были уверены, что эти новооткрытые люди — существа мало чем отличающиеся от животных. В конце XIX в. последователь Дарвина эволюционист Эрнст Геккель говорил, что у дикарей больше общего с высокоразвитыми животными, такими как обезьяны и собаки, чем с развитым европейским человеком. Когда Дарвин в молодости попал на Огненную Землю, он так описывал огнеземельцев: дикие люди, глаза вылезают из орбит, на лице тупое выражение, на губах пена, — нет ничего человеческого. И это мнение очень быстро укоренилось и в науке вообще, и, в частности, в зарождавшейся тогда антропологии. Возникла мысль, что у человека все светлое только впереди и чем скорее он освободится от того, что было в прошлом, тем для него лучше. А поскольку все хорошо знали, что у первобытных людей есть какая–то религия, вера, то эту веру торопились принизить, изобразить как просто грубое суеверие, как некое варварство; в общем, хотели показать, что начала религии коренятся во тьме невежества, в страхе человека перед силами природы, в бессилии, ограниченности, иными словами — в чем–то таком, что прогресс может и должен преодолеть.
Такова была идеология XVIII и XIX в. Но постепенно этот миф о низших диких людях стал рассеиваться. Наверное, многие из вас слышали имена знаменитых в свое время (около 100 лет назад) ученых, таких, как Эдуард Тейлор (он был одним из крупнейших специалистов по мифологии и первобытным религиям) и Джеймс Джордж Фрэзер, книги которого, например, «Золотая ветвь», недавно у нас переизданы. Не общаясь с людьми первобытного уровня, с так называемыми дикарями, получая материалы из третьих рук, они создавали свои конструкции о дикости, темноте, наивности и примитивности человека, стоящего на низком материальном уровне развития цивилизации. Но потом многие из них вынуждены были отказаться от такого взгляда. Миклухо–Маклай был одним из первых, кто, пусть и ненадолго, вошел в мир этих людей. И что ему открылось? Что это такие же люди, с такими же переживаниями, страстями, грехами, ошибками, с умением думать логически, ясно. Миклухо–Маклай писал: «Вих верования, в их задушевную жизнь я старался не проникать». Он был человеком очень тактичным; и вообще он считал, что столь малого времени, какое он прожил на гвинейском побережье, недостаточно, чтобы понять душу первобытного человека. Но за Миклухо–Маклаем и другими пионерами–исследователями шли целые армии новых исследователей таинственных обитателей лесов, саванн и прерий. Что же им открылось? Оказалось, что в дебрях Амазонки или в полупустынях Австралии живут люди высокой древней культуры. Она иная, непохожая на нашу. Австралийцы, например, обладают сложной системой взаимоотношений, обрядов; у них огромное количество легенд, сказаний, мифов. Австралийцы определенным образом представляют себе человека, природу и высшее начало и на основании этих представлений строят общественные отношения, культуру. Стало выясняться, что примитивный человек примитивен только в одном — в технике, цивилизации, а душевно он отнюдь не примитивен.
Один из исследователей говорил: если вы видите так называемого дикаря, который сидит под деревом, неподвижно уставившись в одну точку, не торопитесь думать, что он сидит просто без цели, — этим людям свойственна глубокая внутренняя жизнь. Один из путешественников, долго живший в самом сердце Африки, в дремучих лесах Конго, где до сих пор сохранились древнейшие животные, которые во всем мире уже вымерли, встретившись с пигмеями, отметил, что эти люди обладают душевностью, остроумием, умом, и у них есть целый ряд высочайших религиозных представлений. Нравственный уровень этих дикарей оказался не только не ниже европейского, а намного выше. Это не значит, что примитивный человек непременно добродетелен, тут нет прямой связи. Но низкая цивилизация, первобытный образ жизни не мешают развитию очень тонкой душевной структуры.
В конце концов многие ученые стали приходить к выводу о важности духовного элемента, лежащего в основе этих культур, которые донесли до нас абрис, хотя и неточный, того, как жили наши предки многие тысячелетия тому назад. И если этот абрис хотя бы частично верен, мы должны признать: да, высшее, духовное, священное, религиозное, нравственное было основополагающим в их жизни.
Здесь мы подходим к очень важной вещи. Возьмем, к примеру, причудливый индийский храм, индуистский или буддийский, ступу или мусульманскую мечеть с ее строгими формами, собор cв. Петра, храмы Христа Спасителя, Покрова на Нерли, египетские пирамиды, проект Дворца Советов, словом, любое произведение архитектуры или живописи, церковное или светское: каждое из этих сооружений есть внутреннее воплощение того ви€дения, которое есть у людей, того, как они интуитивно осознают сущность бытия, воплощение их веры в широком смысле слова. И если египтянин ощущал жизнь духа как вечность, то и произведения египетского искусства были воплощением вечности. Если древний грек чувствовал, что здесь, рядом с ним, в его небольшом укромном мирке обитают какие–то живые силы мироздания, он изображал их так по–человечески, так близко, что нимфы, сатиры и боги выглядели его братьями и сестрами.
Когда мы говорим об основах любой культуры, мы должны прежде всего задать себе вопрос не о том, какие материальные формы ее куют, а о том, какой дух лежит в ее основе. И пробегая мысленным взором историю цивилизации, мы всегда можем точно определить, какой дух стоит за культурой. Более того, мы знаем, что когда в духовной сфере у человека начинается дестабилизация, разброд, кризис, то дестабилизация охватывает всю культуру. Вот поэтому мы с вами сегодня хотим заглянуть в историю духовности, в прошлое цивилизации нашей страны и всего мира не из праздного любопытства («а как это было раньше?»), а для того, чтобы понять глубинную и нерасторжимую связь культуры и веры, ту связь, которая была забыта, отброшена, которая сознательно отрицалась. Жизнь, практика подтвердили старую истину: когда подрываются корни, засыхает и дерево, и для оживления корней необходимо понять: в чем они нуждаются? Они нуждаются в живительной влаге и почве. Почва — это жизнь, земное бытие; живительная влага — это дух, который ее питает. Вот почему так важно для нас сегодня задуматься над тем, откуда и к чему идет человек. Разумеется, в учебниках, которые вам приходилось читать, вы часто встречали мысль, что первобытный человек был атеистом или, как нас учили, стихийным материалистом. Довольно трудно принять эту точку зрения уже хотя бы потому, что если от язычника может остаться идол, от фетишиста — фетиш, от христианина — крест или еще какой–нибудь священный знак, то какой материальный знак может оставить после себя стихийный материализм первобытного человека? Это что–то вроде того беспроволочного телеграфа, который, как рассказывается в одной истории, был у древних людей: беспроволочный, потому что в земле не нашли проволоки.
Многочисленные факты полностью опровергают эту точку зрения. Я начал с того, что уже предшественник человека, неандерталец, имел какое–то смутное (не будем пытаться его точно определить) ощущение, что есть какое–то иное бытие. А как только человек становится человеком, он сразу же обретает связь с вечным, то есть у него появляется религия. Фактически искусство, религия и человек — ровесники. Правда, в некоторых учебниках я встречал такое утверждение, что человек много миллионов лет существовал без религии. У нас был один историк, который даже написал на эту тему несколько книг, одна из которых так и называлась — «Дорелигиозная эпоха». Но он рассматривал в основном австралопитеков и питекантропов, которых вообще нельзя считать людьми в настоящем смысле слова. Биологически они, может быть, и принадлежали к роду homo, но этого недостаточно, чтобы быть человеком.
Какое же движение мы можем здесь увидеть? Человек всегда стоял на какой–то духовной платформе. А есть ли развитие? Нет. И вот доказательство. В пещерах Испании найдены рисунки красками: первобытный художник эпохи палеолита нарисовал на стенах стоящих и бегущих бизонов, мамонтов, носорогов. Смелые линии, замечательные краски, дух зверя. Не всякий современный мастер сумеет передать образ животного так лаконично, так вдохновенно, так прекрасно.
Тогда спрашивается: развивалось ли искусство? Нет. Прекрасное в истории человеческой культуры всегда было прекрасным. Да, оно имело историю, то есть были различные фазы, различные типы искусства, духовности, но развития в том смысле, что искусство сначала было примитивным, а потом поднималось все выше и выше, не было. Если вы вспомните классические скульптуры Древней Греции (они воспроизведены в любом школьном учебнике), — не надо думать, что вот они достигли какой–то высоты, а предшествующее искусство было низким. Любой современный художник или искусствовед скажет вам, что в архаическом греческом искусстве была своя особенная красота.
В конце ХIХ в. писатель и историк искусства Петр Гнедич в своей огромной трехтомной «Истории искусств с древнейших времен» посвятил древнерусской иконописи две страницы, заметив, что древние просто не умели рисовать и поэтому они так писали свои иконы, а потом узнали анатомию и стали писать правильно. Сегодня мы знаем, что это наивный взгляд. Переход к реалистическому искусству вовсе не был прогрессом; это лишь одна из фаз истории. История — это судьба человеческого творчества. В духовном мире, безусловно, есть восхождение, но оно совершается по совсем иным законам, и об этом мы с вами будем говорить в процессе анализа духовной жизни человечества.
Но к этому надо добавить следующее: мы привыкли рассматривать материальные явления и процессы как подлинную реальность, дескать, это и есть реализм. Но откуда мы узнаем о материальной реальности? Из опыта своих чувств. Но ведь те же чувства, которые есть у нас, есть и у шимпанзе, и у собаки. Однако у человека иное восприятие; есть нечто, что поднимает нас над животным миром. Человек — существо духовное, существо, способное иметь иной опыт, нежели опыт чувственный. Этот духовный дар, полученный человеком, является самым драгоценным и самым священным. Это дар бессмертный. И он требует к себе особенного отношения, потому что он в человека посеян, подобно семени, и из этого семени что–то должно вырасти.
Я говорил о примитивных формах предчеловеческих существ. Дело в том, что мы ведь родственники не только им, мы кровные родственники любому живому существу на земле, мы связаны со всеми существами. Как устроена клетка человека? Так же, как клетка любого растения, любого животного. Поэтому мы неотделимы от окружающего нас мира, нас нельзя выкинуть из этого мира — нас всех связывают воздух, пища, вода, гравитация. Я недавно был в Звездном городке, беседовал с космонавтами, и они показывали мне скафандр, в котором выходят в космос. Это совершенно автономное образование, как и космический корабль. Но почему? Потому что человек всеми своими узами привязан к окружающему миру. Человек есть земля. Библия говорит о нем: ты, человек, есть земля и в землю отыдешь. Плоть человека создана по Слову Божию из праха земного, то есть из пыли, из самой материи, из вещества, и мы несем этот прах в себе и возвращаемся в него.
Но человек не только прах. Он родствен и другому измерению бытия, которое нельзя увидеть, и это очень важный момент.
Давайте начнем с простого. Те, кто хотят ограничить мир видимым, оказываются в странном положении наблюдателя, который, заманив в рентгеновский кабинет, скажем, великого художника или великого мыслителя, говорит: да ничего в нем такого нет, посмотрите — позвоночник виден, череп виден, сердце бьется. Где же его гениальность, где его мысль, где его чувства? — Да, все видно насквозь, но не видно главного, и не может быть увидено в принципе. Дело не в том, что это какое–то физическое поле (у нас любят злоупотреблять этим термином), которое якобы не улавливают наши приборы. Нет. Надо просто признать, что так устроена реальность: у нее два аспекта — видимый и невидимый. Поэтому в первом же члене нашего христианского «Символа веры» сказано о Творце всего видимого и невидимого, то есть двух аспектов бытия. На этом все стоит. Эти два аспекта связаны между собой очень своеобразно, парадоксально; между ними существует обратная связь. То есть, скажем, тяжелое состояние организма может подавлять психику, а она влияет на состояние духа; и, напротив, дух может совершать необычайные вещи. Наверное, многие из вас слышали о хождении по огню, о произвольном управлении своими органами, которого достигают йоги. Я думаю, что умножать примеры здесь не надо. Когда видишь вещи, связанные с гипнозом (а ведь гипноз тоже загадка, потому что слово само по себе ничего не объясняет, и на самом деле это остается загадкой и для пациента, и для гипнотизера), то понимаешь, на что способна эта невидимая часть человека — его дух, какие в нем заложены огромные силы и возможности.
Человек — образ и подобие природы. Клетки цветка, как я уже говорил, такие же, как наши: у них такая же структура, там есть ядро, протоплазма. Но чьим образом и подобием является духовное измерение человека?
Для нас, христиан, как и для всех верующих людей на земле, которых всегда было и остается большинство, человек в своем духовном измерении является образом и подобием Творца. И в этом трагичность, парадоксальность, величие и счастье человека. Известный биолог и медик нашего времени Алексис Карель так и назвал свою книгу «Человек — это неизвестность». В самом деле, еще Альфред Расселл Уоллес, одновременно с Дарвином создавший теорию естественного отбора, задавался вопросом: ну хорошо, человеку нужны определенные свойства для того, чтобы он выжил, скажем, чтобы у него была более благоприятная семейная ситуация, где побеждает сильнейший. А для чего ему нужна потребность в отвлеченном мышлении, для чего ему нужен поиск смысла жизни, бескорыстный поиск истины, почему в человеке главное оказывается сверхприродным? И Уоллес отвечал: причина здесь может быть только одна — эти свойства коренятся в ином, сверхприродном начале, эти свойства особенные. Забвение этого факта, пренебрежение им очень тяжело сказывается на человеческом роде. Периоды скептицизма и бездуховности всегда были опасны.
Я хочу закончить важнейшей для нас проблемой истоков духовности, проблемой, которая сегодня вопиет, — я имею в виду проблему нравственности. Вы, наверное, читали книгу Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей», но я напомню: разговаривают главный герой и молодая следовательница. Когда он спрашивает: почему у вас такие методы, почему вы так относитесь к людям? — она ему отвечает: да чему вас там учили на факультете? Законность, право, гуманность — это все факультет ненужных вещей. Эта молодая, уверенная в себе женщина повторяла чужие слова, повторяла слова, которые были свойственны целому поколению: ненужные все это вещи. А потом оказывается, что они — самые–самые нужные, потому что без них человек гибнет. Недавно я прочел, что Генрих Ягода перед смертью сказал: «Я стольких людей уничтожил и мучил, теперь и на меня нашлась управа. Значит, Бог есть».
Очень жаль, что мы приходим к этим мыслям лишь в критических ситуациях, но лучше поздно, чем никогда. Вопрос заключается в следующем: существует ли нравственный миропорядок, является ли добро чем–то объективным или это нечто выдуманное людьми, некая условная категория? Если это условная категория, то тогда её очень легко отбросить и каждому установить свои собственные критерии, исходить из модели эгоцентрика: добро есть то, что нравится мне; зло есть то, что мне не нравится. Как в известной истории про миссионера, который пытался втолковать язычнику, что такое добро и зло, а потом спросил его: «Вот если у тебя украли корову, это зло? — Да, это зло. — Ну, а если ты украл корову? — То это добро». Мы все стоим на этой позиции, потому что эгоцентризм свойственен человеку. Вы скажете: откуда же он? Почему человек эгоцентричен? Во–первых, мы все родом из детства. Человек в детстве все время получает, все время потребляет: его кормят, поят, баюкают, одевают, и потом он думает, что так должно быть всегда. Это одна из причин. Есть вторая причина, эту причину мы называем первородным грехом человечества. Когда–то Жан Жак Руссо говорил, что Бог создал человека прекрасным, но его испортила цивилизация, его испортили внешние условия. И мы всегда склонны немножко этому поверить. Лев Толстой носил на груди вместо креста портрет Жан Жака Руссо. Он до конца своих дней верил в то, что человек от природы добр.
Но, положа руку на сердце, так ли это? Евгений Евтушенко, человек во многом благородный, который в трудные годы выступал смело, в одном из стихотворений написал: «Я верю в человека». И там же он разносит всех тиранов, диктаторов, Салазара, Берию. Но ведь они тоже были людьми. В кого же надо верить? Почему мы должны верить в хорошее, а не в плохое?
Я могу понять угрызения совести у Ивана Грозного. Он был человеком, воспитанным в христианских понятиях, и знал, что проливать кровь невинного — грех; он ее проливал, потом каялся, опять проливал, но у него были некие терзания. А какие терзания могли быть, скажем, у Сталина? Он считал, что люди — это просто быдло, так сказать, кратковременные существа, которых убить ничего не стоит; греха нет, зла как такового нет. Для него, как для того дикаря, злом было только то, что мешало ему устанавливать свою абсолютную власть над людьми, а все остальное было глупостью, никаких преград не существовало.
Добро и зло — категории объективные, и следовать принципам добра есть воля и заповедь Творца. И именно потому что это заповедь, мы чувствуем, что это не так легко дается. Нам же не дана заповедь, скажем, ходить на двух ногах — для нас это естественно. А когда Евангелие говорит о том, что мы должны прощать, — это уже заповедь, это значит, что надо бороться, преодолевать себя, потому что для человека это не так естественно.
Но если заповеди даются свыше, то почему же человек их нарушает? Человек нарушил заповедь изначально. Я думаю, вы все помните историю первых людей, которая описана в Библии. Над этой историей достаточно посмеялись, достаточно поглумились, достаточно порисовали карикатур, но забыли главное — о чем в свое время прекрасно говорил протопоп Аввакум: «То, что было тогда, делается и теперь». Он рассказывал в одной из своих проповедей об Адаме и Еве и потом перенес эту драму на современные ему события.
Библия образно, иконописно говорит нам о вечном. Человек стоит перед Богом, и ему открывается все, перед ним распахнуты огромные горизонты, ему дана природа, чтобы он мог (как говорится в Библии) «возделывать и хранить ее». Это означает труд и понимание природы как какого–то братского начала: ведь человек создан из той же земли, что и зверь, звери его братья и сестры, он их господин, но не тиран, он дает им имена. И есть только одно древо в центре рая, в центре Эдема, которое запретно для человека, — это древо познания добра и зла. Бог сказал человеку: «Ты умрешь, если вкусишь от него». Конечно, нас может удивить, почему же человек не должен знать добра и зла, ведь как раз в этом и заключается нравственность. Но дело в том, что такое прочтение поверхностно. Библию надо читать очень внимательно, сравнивая различные места. Добро и зло в этом контексте не означают нравственных понятий, это полюса жизни: худое и доброе, полезное и вредное, как у китайцев инь и ян; это все на свете, это идиоматическое выражение тов ве–ра (ивр.) — добро и зло, обозначающее все.
А познание? Ветхий Завет (впрочем, как и Новый) не знает идеи познания в том отвлеченном смысле, в котором его понимает античная мысль. Для античной мысли «познать» значит сделать прозрачным для интеллекта; для библейского мышления «познать» значит овладеть, слиться, ощутить всеми фибрами души. «И познал Адам Еву, жену свою» — этот глагол употребляется для обозначения интимного соединения мужчины и женщины.
Потому древо познания добра и зла — это всемирный символ природы, бытия, над которым человек не должен был захватывать власть — власть недуховную, насильническую, при которой торжествовало бы его самоутверждение. Поэтому здесь и наложено табу.
И разыгрывается вечная драма. Подходит Ева к этому древу, и змей, олицетворяющий все низменное и коварное, спрашивает ее: «Что же, Бог вам запретил вкушать от всех деревьев? (Это такая провокация). — Она отвечает: нет, все наше, кроме вот этого дерева. — А почему вам запрещено есть от этого дерева? — Потому что Бог сказал, что мы умрем, если мы от него вкусим. — Не умрете, говорит змей, не умрете, но будете как боги, знающие добро и зло, владеющие добром и злом» (то есть вы станете соперниками Бога, будете как боги, а вовсе не умрете). И этого было достаточно, чтобы наша праматерь Ева взяла этот плод, посмотрела на него, и он показался ей вожделенным, и она вкусила, а затем — Адам. «Будете как боги, ведающие добро и зло».
Эта попытка человека самоутвердиться, противопоставить свою волю космической, Божественной воле, создать свои нормы, в том числе и нравственные, приписать себе право распоряжаться и природой, и нравственностью лежит в глубине всеобщего грехопадения человечества. Вот почему был неправ Руссо, говоривший, что человек по природе добр. В человеке противоборствуют добро и зло, и, как говорил Федор Достоевский, дьявол с Богом борется в сердцах людей. Если не сбрасывать со счетов эти важные моменты, мы поймем всю сложность и величие человеческой истории. Мы идем по пути преодоления, мы вовсе не наивные дикари, которых испортила цивилизация. Человек враждует и с самим собой, человек должен подняться над собой. История человечества — путь не развития, а борьбы, с победами и поражениями, — во имя того божественного, что в нас посеяно. Чем ближе мы к своему первообразу, тем ближе к осуществлению нашей задачи. Подумайте о том, что в нас это живет. Не Бог, конечно, живет в нас; было бы дерзновенно и метафизически бессмысленно это утверждать. Мы — ограниченные, «условные» существа, но мы отображаем в себе вечность, «безусловность». И это надо почувствовать, внутренне пережить, ибо здесь — источник духовного роста, который влияет на наше отношение к людям, братьям и сестрам, влияет на процесс нашего труда, на то, что мы творим в жизни. Ведь человек — единственное из всех земных созданий, кто творит, он единственный творец. Мы творим, подражая Богу.
Таким образом, корень духовного становления человека — устремленность в небо, устремленность к вечному, и это касается не только великих творцов, не только эпохи великих творческих взлетов, но и повседневной жизни каждого из нас. Бессмертное не далеко, оно в нас. Оно нам присуще гораздо больше, чем многое другое. И наше счастье, наша внутренняя гармония заключается в том, чтобы раскрыть его в себе. Человек потерял Бога в тот момент, когда он захотел противопоставить Его воле свою. Это было в истории человечества не раз, это продолжается и сегодня. «Вы будете как боги, владеющие добром и злом…» — слова эти повторялись в веках. Но что произошло с Адамом, когда он посягнул на запретный плод? Он увидел, что он наг — вот и вся его божественность. И в таком же положении сегодня мы, люди ХХ века. ХIХ век был полон надежд на то, что ХХ век действительно станет эрой богов. «Люди как боги», — назвал Уэллс одну из своих утопических книг. Человек–победитель овладевает громом и молнией, он поднимается в космос и спускается на дно океана, погружается в глубины материи, он будет познавать добро и зло — «будете как боги», — и в конце концов, на исходе столетия мы видим, что мы наги, что все это нам не помогло. Наука — вещь прекрасная сама по себе, но она не способна сделать человечество счастливым, потому что наука — только одна из сторон нашего бытия, а человеческое ядро — это то, что связано с вечным. И первобытный человек, который чувствовал биение космического пульса, тайну бытия, и человек Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, и средневековый человек — во все времена — был тем более прекрасен, чем больше он приближался к этому.
В центре человеческих исканий, как на перекрестке всего бытия, стоит Крест. Почему? Что должно было произойти?
Вечность нам недоступна. Я часто вспоминаю книгу пророка Исайи. Бог через пророка говорит страшные слова: «Как небо далеко от земли, так Мои мысли далеки от ваших мыслей. Я Бог, а не человек (по–еврейски Ани Элохим, ве–ло адам)». Бог, Творец — это не человек. Он безмерно превосходит все то, что человек может помыслить. И только самомнение и ограниченность мысли могут позволить нам вообразить, что «Тот, Кто создал мирозданье самовластьем всемогущим и с небес жизнь даровал всем тварям сущим, мир живой нам, людям, отдал многообразно цветущим» (как говорил Шота Руставели), — это человек. Нет, Ему нет названия. Кроме того, что Он открывает о Себе, человек ничего постичь не может. И поэтому чтобы вступить с нами, несущими в себе искорку Божества — отражение Его — в контакт, Он должен был умалиться. «Но Себя умалил, приняв образ служителя, раба», — вот как сказано о Боге, Который явился нам во Христе.
Явление Христа — это не явление новой морали или новой доктрины, или новой философии, а это есть откровение вечности в той полноте, которая только нам доступна. Поэтому история мировоззрений, которую мы с вами проследим на протяжении наших дальнейших встреч, есть путь от Адама, то есть от того пункта, где человек расходится с Богом, — ко Христу. А от Христа два пути: или за Ним, или от Него. Вот в этом и заключается главная сущность мировой истории. Церковь, созданная Иисусом Христом, повторяет нам Его слова: «Следуйте за Мной, следуйте за Мной». Она повторяет Его слова: «Кто хочет за Мной идти, отвергнись себя (то есть своей самости), возьми свой крест (то есть свое служение) и тогда за Мной иди». А можно идти против Него, возвращаясь назад. Это движение есть возврат, вечное повторение греха Адама, который хотел быть как Бог, а оказался только нагим и бессильным.
ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ АЗИИ
В прошлый раз мы останавливались на проблеме зарождения религиозного сознания и его первоначальных форм. Эта тема очень важная, она непосредственно связана с самыми корнями всей мировой культуры. Мы отметили особенности первобытного религиозного сознания, которое было ориентировано в какой–то степени на статическую модель мира, согласно которой мир как целое подчиняется определенным законам, связан взаимоотношением различных сил, существ, одухотворенных стихий и управляется некими установленными правилами, соединяющими эти силы между собой, а в человеческом обществе подчиняется законам магии. Таким образом, магическое миросозерцание явилось как бы прототипом научных представлений о взаимосвязи вещей и о возможности для человека влиять на ход событий. Тем самым между магией и религией возникла дистанция, которая постепенно увеличивалась, но в то же время никогда не становилась достаточно большой.
Магия всегда паразитировала на религиозном сознании. То высшее благоговение, которое испытывал человек перед вечностью, как бы он ее ни осознавал, то, что было и остается главным импульсом религиозности человека, оплеталось магией, подобно тому, как деревья иногда оплетаются растениями–паразитами. По своей интенции магия противоположна религии и духовно, и мистически, и психологически, потому что маг утверждал свою волю. Он стремился к тому, чтобы человеческая воля в конце концов подчинила, покорила себе все стихийные и божественные начала, чтобы все — и духи,и демоны,и божества — служили человеку.
Но вот мы вступаем в иную эпоху. Пантеистическое чувство, магическое упорство человека в достижении своих целей, грубые суеверия, а также ощущения и представления о запредельном высшем Начале, — весь этот конгломерат составлял многоликую, разнообразную, многоцветную картину первобытного миросозерцания. И на этом фундаменте возникли древнейшие цивилизации, которым мы обязаны письменностью, элементами техники, астрономии, математики, зодчества — всего того, что было создано в Плодородном Полумесяце древнего Ближнего Востока — между Тигром, Евфратом и Нилом, в восточном Средиземноморье. Все это и сегодня является корнем нашей цивилизации.
Но мы находим в этом культурном и духовном регионе несколько направлений и течений. Одно направление стремится в конце концов найти некую монистическую модель. Имеются явные доказательства, уже письменные (письменность родилась именно в этих древних цивилизациях), того, что монотеизм, единобожие, начинает здесь брезжить, как некие первые предрассветные лучи, но никогда не достигает своей окончательной и полной формы.
Одной из самых ярких страниц в духовной истории движения к монотеизму является попытка реформы фараона Аменхотепа IV, который называл себя Эхнатоном, в XIV в. до Р. Х. (Вы все, вероятно, хорошо знаете это имя, или, по крайней мере, имя его жены Нефертити, образ которой, изваянный скульптором Тутмесом, является общепризнанным шедевром мирового искусства.) Этот фараон провозгласил веру в единое божественное Солнце. Конечно, не надо думать, что древние египтяне были чужды астрономическим понятиям. Они первые на Древнем Востоке вместе с вавилонянами установили основные принципы наблюдения за светилами. Для Эхнатона, насколько мы можем судить по достаточно скудным письменным памятникам, вечный глаз Солнца, который поднимался над горизонтом и потом скрывался где–то в темноте, обозначал высшее единое Божество. Волей фараона начинают истребляться человекоподобные и звероподобные фигуры богов, ликвидируется древняя система, в которой каждая область Египта и каждый ном имели свою систему божеств. Над всем царствует единый Атон (или Итон, как его транскрибирует известный египтолог Ю. Перепелкин). На одной гробнице начертан гимн в честь Атона. Этот гимн поразительно перекликается с некоторыми библейскими псалмами. Это картина природы, которая животворится единой благой волей Божества, изображаемого не с человеческим или звериным лицом, а в виде солнечного диска с лучами, которые завершаются благословляющими руками.
Попытка этого рода была религиозной реформацией, религиозной революцией сверху. Народ не мог принять этой достаточно отвлеченной доктрины. Местные культы и местная магия, необычайно сильные в Египте, оказали мощное сопротивление Эхнатону, так что в конце своего семнадцатилетнего царствования Эхнатон вынужден был применять суровые меры против жрецов древних богов. Едва он умер, началась бурная реакция и все вернулось на круги своя. Новая столица фараона Ахетатон (небосклон Атона) была заброшена. Вся знать во главе с юным преемником Эхнатона переехала обратно в Фивы. Все стало как прежде.
Впрочем, как установили историки, эта революция не прошла даром, и впоследствии в кругах египетского жречества мы видим упорную тенденцию к постижению Единого Бога. Эта тенденция, конечно, глубоко не затронула народ, но она отражена в многочисленных памятниках литературы.
Наряду с такими попытками идет волна глубокого кризиса, неприятие этого статического миросозерцания. Кризис нашел отражение в знаменитом вавилонском диалоге между рабом и господином. Господин отдает рабу приказание, и тот с готовностью его выполняет; потом господин полностью меняет свое решение, и тот его тоже выполняет; в конце концов господин спрашивает: что же тогда хорошо на свете, если всякое движение в конечном итоге, как мы говорим теперь, амбивалентно. Раб отвечает: «Сломать твою и мою шею и бросить в реку, потому что нет ни добра, ни зла». Есть немало памятников того времени, показывающих, насколько человеку было трудно примириться с тем, что мир — это некая машина, где царствуют неведомые существа, причем неизвестно, благие они или злые. Для Вавилона, который не имел представления о бессмертии души в нашем, христианском, смысле слова, и для которого смерть означала переход души в область мрака, в царство преисподней, — все казалось безысходным и мрачным. Все знакомы, хотя бы по школьным или институтским учебникам, со знаменитым эпосом о Гильгамеше. Человек этот идет искать бессмертия, ищет его и не находит, и, в конце концов, после своих многочисленных приключений возвращается домой, смотрит на стены города и пытается успокоить себя невеселым утешением: вот люди строили, и это стоит, после нас останется память. Но совсем не этого он искал и не для этого отправился на край света. Известный русский философ Вл. Соловьев говорил, что два желания, как два крыла, поднимают человеческую душу и историю: это желание правды и желание бессмертия. И то, и другое мы уже находим в тенденциях древневавилонской и египетской религии. Правда как некий высший закон была предметом размышления жрецов. Но настоящего развития эти религиозные понятия не получили.
И только позже, примерно с VIII в. до Р. Х. в мире происходит некое таинственное превращение, преобразование, вхождение нового. Известный современный философ и историк Карл Ясперс (умер в 1965 г.) называл этот период «осевым временем», потому что ось культуры до сих пор именно в этой эпохе: тогда были созданы крупнейшие религиозные и философские учения, на которых сегодня стоит многомиллионный мир буддизма, индуизма. Современные философские доктрины опираются на античную традицию. Тогда же появляется иранский дуализм, который оказал огромное воздействие на всю средневековую мысль, в частности через манихейство. Тогда же возникли классические китайские доктрины — конфуцианство, даосизм и другие. Тогда проповедовали библейские пророки. То есть почти весь цивилизованный мир оказался захваченным каким–то особым движением; я бы назвал его движением к Абсолюту.
В этом движении пробудилось исключительное свойство человека, тайна его существа. Человек здесь искал вовсе не того, что было необходимо для его обычной земной жизни. Это звучал голос духа, глубочайшая потребность в высшей истине, в конечной ориентации — потребность найти связь между временным, условным и абсолютным, безусловным.
Мы знаем, что в истории человеческого общества многие движения и силы были направлены на приспособление обществ, групп, этносов, империй к существованию, к отстаиванию своей идентичности, независимости, к защите от врагов, к борьбе с окружающей природой. Но для этого не нужен был взгляд человека в небо, для этого не нужны были ни Будда, ни Сократ, ни Лао–цзы. Однако они появились. Они появились, так сказать, не сговариваясь, ибо только сейчас существует такая связь между народами и культурами, которая позволяет в течение нескольких мгновений передать информацию на другой материк. Тогда информация проходила долгими и сложными путями. Тем более загадочным остается до сих пор феномен «осевого времени». Я думаю, что каждый человек, религиозен он или нет, должен иметь хотя бы самое общее представление об этом времени и о силах, идеалах и основах духовности и культуры, созданных тогда. Я очень кратко остановлюсь на том, что дал в этом отношении Восток, преимущественно Дальний Восток, то есть индийско–китайский регион.
В VI–V вв. до Р. Х. жил странствующий мудрец Кун–цзы (латинизированная форма — Конфуций). Китай разделен на княжества, в стране междоусобицы, гражданские войны, старая система порядка разрушена. Конфуций ищет того, что всегда искали люди на земле: как устроить человеческую жизнь, чтобы она была естественной и нормальной. И ему кажется, что в глубине прошлого, в традициях лежит то счастливое время, когда человек жил по велениям тянь, Неба. Именно тогда человек проявлял свою жэнь — человечность, гуманность — и реализовывал ее в виде определенных, устойчивых ли. Это слово переводят обычно как «церемонии», но это нечто более глубокое, это структура человеческих взаимоотношений. Конфуций смотрит назад, во время, которое он, естественно, мифологизирует. В любую эпоху мы находим подобные попытки считать прошлое идеальным временем. Но чем интересен Конфуций? Он ищет корни не в небе, а именно в рациональном, чисто человеческом, в том, что может быть выражено через ритуал, через порядок, через строй. Он называл свое учение «возвращением имен». Он говорил, что если кто–то называется сыном или правителем, то он должен быть сыном или правителем и отсюда вытекают определенные обязанности. Надо вернуть все на свои места, и тогда будет структурно законченное общество. Он считал это осуществимым, все время пытался найти среди князей и правителей какого–нибудь мецената, который позволил бы ему довести до конца его эксперимент. Но это не удалось. У него были ученики, были последователи даже среди власть имущих, но в целом они не хотели слушать своего советчика, и он остался странствующим учителем.
Вольтер и многие другие просветители и рационалисты XVII–XVIII вв. всегда восхищались Конфуцием. Им казалось, что такое рациональное обоснование общественной жизни прекрасно. Но как оно не удалось Конфуцию, так не удалось и последующим поколениям. Оказалось, что человеку недостаточно просто оформить обычаи и традиции, ввести все в разумную усредненную рационализированную норму, чтобы наступило счастье. Конфуций ориентировался на традиционный социальный идеал.
Его современник Лао–цзы — легендарный человек, и некоторые авторы даже сомневаются, был ли он историческим лицом. Лао–цзы ориентируется на природу как целое. Его главное понятие — дао. Это очень сложное, многоплановое понятие. Дао — это целое, это путь бытия. Человек не должен действовать так, как учил Конфуций, не должен вырабатывать какие–то условности, какие–то порядки. Надо отказаться от искусственного. Идеалом философа было у–вэй («недеяние»). Живите просто и ясно, как природа, отбросьте предрассудки, обычаи, загляните внутрь себя, и вы найдете то естественное и высшее дао, которому нет названия. Он говорил: «Дао, которое имеет имя, уже не есть вечное дао».
Но ориентация на природу была недостаточно глубока, потому что в природе как раз не было главного — не было нравственного начала. Человек не может из природы почерпнуть импульс для этики. И поэтому, несмотря на великолепные достижения (особенно в писаниях философа Чжуан–цзы, которого многие считают настоящим основателем этого учения), даосизм, развивавшийся в элитарном кругу и повлиявший на китайское искусство, на понимание природы, постепенно стал вырождаться в систему магических заклятий, в странный аскетизм. Согласно легендам, даосские мудрецы сидели неподвижно целыми часами, а то и днями, так что на них даже вырастала трава; они уподоблялись части природы, как камни. Вероятно, такой образ освобожденного человека был для многих привлекателен, но это освобождение совершалось за счет утраты самого главного, человеческого: личность растворялась, терялась.
Китай, создавший по–своему замечательную философию даосизма, легко воспринял концепцию буддизма и разработал новые формы буддистского миросозерцания. Удивительно, что в совершенно разных регионах — в Китае и в Индии — мы встречаем общее. Когда Индия всматривается в бытие, она находит там вечное божественное начало. Это Брахман, то, что тоже, как и дао, не может быть определено и названо. В Упанишадах, в частности в Брихадараньяка–упанишаде говорится, что Брахман — не то и не то, и о нем не может быть сказано никакого человеческого слова. Брахман как бы выдыхает из себя вселенную; подобно пауку, который из себя рождает паутину, он, вечный Абсолют, рождает мир. А что же такое мир? Это что–то призрачное, что–то неустойчивое, даже что–то ненужное и недолжное, потому что, падая вниз из вечного бытия в обычное бытие, мир становится множественным и несовершенным.
Духовные существа, то есть люди, но и боги тоже, — все подчинены неким законам превращения. Умирая, человек попадает в иное тело, потом — снова в иное тело. Неизменный круговорот возвращает все вновь в безмолвную бездну Абсолютного. Индийские брахманы думали, что для того, чтобы раньше вырваться из этого круга, не ожидая, пока пройдет томительная вереница перевоплощений, необходимо подавить в себе все плотское. Отсюда — безудержный эксцентрический аскетизм брахманистской традиции. Он достигал иногда гротескных форм.
Итак, мир не имеет ценности. Жизнь не имеет ценности. Материя не имеет ценности. Все это полупризрак, полувидение. Мир — это тяжелый сон, почти кошмар, который снится вечному сознанию. И счастье, когда оно пробудится и все это исчезнет как дым.
Усилия брахманизма прийти к познанию единого Начала через полное отрешение, через полный отрыв от материального завершились значительно позднее в различных формах йоги. Йога выработала на протяжении многих столетий определенные методы концентрации, сосредоточенности, медитации, целью которых было только одно: освободить человека от бремени материального. Я имею в виду не ту модифицированную современную йогу, в которую уже вошли элементы европейского, даже христианского обучения, не ту интегральную Веданту, которую проповедует Ауробиндо Гхош, а ту, которая была задолго до Рождества Христова; ее принципы во II в. до Р. Х. сформулировал Патанджали. Патанджали уже не помнит о высшем Начале; боги для него лишь участники этой драмы; для него важно не приобщение к высшему, а освобождение, только освобождение как самоцель. Понятие мокши, то есть спасения, становится понятием чисто негативным. Дух освобождается сначала от этического несовершенства, потом от зависимости от физических сил. Он все дальше и дальше уходит от человечности, пока практически уже в этой жизни не развоплощается, не становится чистым. Он витает в одиноком своем освобождении, познав самого себя и одновременно потеряв самого себя. Личности нет, все растворено в молчании. Каждый из вас, если задумается, легко поймет, какой глубокий соблазн кроется в этом пути, потому что он в нашей жизни, исполненной драм и трагедий, обещает забвение, покой, тишину. Обещает то, чего человек так хочет. И действительно, всевозможными способами и средствами индийские традиции этого достигали, разумеется, в узком социальном поле. Но какой ценой?
Параллельно с йогой развивается иная традиция, которая потом покинула пределы Индии и пошла завоевывать другие страны, включая и часть нашего отечества. Я имею в виду буддизм.
Будда был современником Конфуция, он происходил из семьи раджи и, согласно легенде (неизвестно, насколько она достоверна), в юности, потрясенный зрелищем человеческих болезней, страданий и смерти, решил уйти в лес, чтобы путем самоистязаний победить в себе плоть и стать полностью свободным от бесконечной череды перевоплощений. Многие годы пытается он превзойти прославленных аскетов и в конце концов приходит к неожиданному внутреннему озарению: он отметает все крайности аскезы и ищет просветления на пути полного угашения трепета жизни в человеке. И когда он этого достиг, то провозгласил, что есть спасение, что оно найдено. Поэтому он стал называть себя Татхагатой, Совершенным.
Будда не собирался основывать новую религию, тем более мировую. Он лишь основал небольшую монашескую общину. Он явился к отшельникам и сказал: «Монахи, путь спасения найден». Мир находится в страдании, это первое; второе, мир страдает потому, что он жаждет жить. Жажда жизни — тришна — это и есть причина страдания. Значит, причина найдена. И, наконец, найдено средство избавления: надо погасить в себе жажду и волю к жизни. Будда не требовал, чтобы человек предпринимал для этого какие–то сверхъестественные усилия, истязал себя. Необходимо только освобождение от всего, что может его связывать: от уз родства, от семьи и брака, от любви, от всевозможных почестей, богатства.
Образуется община нищих монахов, они живут подаянием, проводят жизнь в лесах, на дорогах, ночуют под открытым небом. В одном из древних буддийских гимнов говорится: когда дождь барабанит по крыше, кричат слоны, а монах сидит в пещере и размышляет — что может быть прекраснее? Действительно, они достигали высшего наслаждения в этом отъединении и называли состояние полного отрешения от всего нирваной. Нирвана — это угасание в человеке жажды жизни. Будда верил и утверждал, что это угасание остановит роковой поток перевоплощений, который казался страшным, тягостным, бесконечным.
Многие ученые, особенно исследователи ХIХ в., полагали, что буддийская доктрина преимущественно нравственно–аскетическая, но исследования особой части буддийского наследия, Абхидхарма–питаки, показали, что там была и своя метафизика. Мы не знаем сегодня, насколько она восходит к самому Гаутаме Будде, но она достаточно древняя. (У нас нет ни одной биографии Будды, которая была бы написана его современниками. Все, что у нас есть, — это легенды, созданные через столетия после его смерти.) Так вот, мировоззрение Будды строилось на предположении о том, что извечно в мире бушуют и волнуются некоторые первоэлементы, изначальные дхармы. Бесконечный покой Абсолюта, который Будда называл нирваной, нарушается вибрацией дхарм, и они создают весь временный преходящий мир, те иллюзорные единицы, которые мы называем личностями. На самом деле это нечто созданное из элементов, призрачное, составное — и все распадается. Стремление погасить в себе жажду жизни и есть прямой путь к тому состоянию бытия, когда не было волнения дхарм. Будда никогда не объясняет, почему оно возникло и возникло ли оно изначально или в какой–нибудь определенный момент мировой истории.
Для того чтобы прийти к этой освобожденности, буддизм проповедует высокую, достойную мораль: миролюбие, нестяжание, сочувствие людям. Ведь все люди — товарищи по несчастью, все люди попали в этот ужасный мир как заключенные, из него надо выбраться, а выбраться можно только, так сказать, перестав быть людьми, перестав вообще быть живыми существами, отдалившись от всего, что создано вибрациями дхарм, и погрузившись в это состояние. И Будда, как он утверждает, согласно некоторым древним текстам, это состояние пережил. Согласно тем же текстам, дух зла, Мара, пытался увести его в нирвану и говорил: «Войди в нирвану, о Совершенный». Но Будда не согласился: он хотел из сострадания к людям открыть им секрет свободы.
Повторяю, все это очень привлекательно и соблазнительно, особенно для усталых душ, особенно в кризисные эпохи, особенно, когда мы ощущаем тяжесть своих страстей, своей плотскости, своей телесности, своей обусловленности. Да, покой, нирвана. Но, разумеется, в народные массы учение буддизма вошло в ином облике. Главное, что привлекало, — это разрушение кастовых перегородок, высокое этическое учение. Будда проповедовал долго, умер глубоким старцем, его последние слова, согласно Маха–париниббана–сутте, были: «Монахи, все составное распадается, пекитесь об освобождении, о своем спасении».
Таковы были в самых общих чертах взгляды, выработанные в индийско–китайском регионе. В них была огромная ценность, потому что человек впервые отчетливо осознал, что последняя реальность должна быть найдена (вернее, она должна быть искома) не в осязаемой природе, не в материальном мире, а в мире, который родствен глубинам его духа. Мистическая интроверсия, самоуглубление стало каналом, руслом, по которому шло познание реальности. Поэтому индийский опыт был опытом глубоко духовным. Здесь дух противопоставил себя природе. В противоположность натурализму и магизму, он заявил о себе как о бесконечно ценной реальности.
Но в противостоянии натуралистического магизма и этого сверх–спиритуализма проблема для человечества не разрешалась. Как бы ни был чудесен и привлекателен этот духовный опыт, он все–таки угрожал человеку как таковому, он все–таки отвергал жизнь, а человечество никогда не может пойти на это. На это могут идти отдельные люди или группы людей. Для буддизма идеалом было монашество, безбрачие. И если бы все люди приняли буддизм, человечество прекратило бы свое существование. Кроме того, для рядового человека, который не мог сидеть сутками в лесу, в пещере, проблема должна была решаться как–то иначе. Для него философское понятие об Абсолюте, о высшем Начале было холодным, далеким, безличным. (Кстати, оно таковым и было.) А человек ведь личностное существо, он даже мир воспринимает как некое личностное начало. И этот холодный Абсолют был ему далек и чужд. Примечательно, что в Индии среди множества храмов только два посвящены Брахману. Абсолют даже и почитания не вызывает.
И вот тогда, за несколько веков до Рождества Христова, рождается кришнаизм. Точной даты жизни Кришны–Васудевы мы не знаем. Легенды, которые созданы вокруг него, даже не дают нам возможности выяснить, существовал ли реально этот проповедник или это только миф, ведь Кришна — имя древнего доарийского бога южных народов Индии. Чем же привлекал кришнаизм? Он привлекал тем, что открыл в вечном, бесконечном, божественном личностное измерение и провозгласил, что самое важное для человека — относиться с благоговением к высшему, бхакти. Он провозгласил также, что безличный Абсолют становится личным, приближаясь к человеку и стремясь ему помочь.
Апофеозом кришнаизма в древности, лучшим и величайшим его священным памятником является Бхагавад–гита. Время ее создания точно не известно. Бхагавад–гита — это часть гигантского эпоса Махабхараты, в котором повествуется о борьбе между двумя древнеиндийскими кланами. В Бхагавад–гите сходятся в сражении две армии. Царевич Арджуна видит, что против него идут врагами его родственники и братья, и он в глубочайшем смятении готов вложить меч в ножны. Но рядом с ним его друг, помощник и возница, это не кто иной как Кришна, который стал здесь, рядом с ним, в виде человека. Арджуна спрашивает у него, что ему делать. Кришна отвечает: иди и сражайся. Кришна раскрывает Арджуне тайны мира, жизни и Бога. Он говорит о том, что неважно, какие формы принимает религия — это всегда обращение к высшему. Какому бы образу ни поклонялись, поклоняются ему, Кришне. Весь сюжет Бхагавад–гиты и есть беседа между Арджуной и Кришной, который учит царевича, что единое высшее Начало помогает человеку, приходит в мир в виде аватары, или воплощения. Но Арджуна говорит: покажись мне, покажи свое лицо, яви мне себя! И в это мгновение возница меняется, он превращается в огромного, сторукого, сверкающего гиганта. Между зубами этого чудовища Арджуна видит трупы. Кришна предстает как всепожирающее время, как огромный дракон, сверкающий ярче тысячи солнц. Этот образ пришел на ум Оппенгеймеру, когда он впервые увидел на испытаниях взрыв атомной бомбы. Ярче тысячи солнц сверкал этот чудовищный и пугающий образ. А потом Кришна снова принял человеческий облик.
Здесь сокрыта глубокая мысль: что божественное тождественно природе, что природа — нечто огромное, пожирающее, внеэтичное — она–то и есть божество, которое сострадает человеку, она неотделима от духовного. В конце концов, все перемешано, все судьбы не имеют значения, все исчезнет в едином духовном, все обнимает Абсолют: убиваешь — убивай, не убиваешь — тоже неважно. Все в конце концов разрешается на сверхчеловеческом уровне. Поэтому, несмотря на прекрасные этические заповеди Бхагавад–гиты, они оказываются лишенными настоящего внутреннего корня, потому что действия человека в этом полупризрачном мире теряют свое значение и направленность.
Вот почему эти высоты духа и философии, выраженные в гениальных великолепных поэмах, в метафизических трактатах и афоризмах, не стали для человечества единой светлой истиной. И не потому, что они ложны. Вл. Соловьев когда–то ввел понятие «отвлеченных начал». Он говорил о том, что различные принципы могут действовать ложно лишь по одной причине: они берут действительность только фрагментарно, они берут какую–то одну ее сторону и поэтому становятся отвлеченными началами. Путь к истине должен быть путем к целокупной истине. Поэтому, с христианской точки зрения, достижения мистики Востока реальны и ценны, но в то же время из–за односторонности этой истины, из–за того, что она обходит и оставляет в стороне жизнь, личность человека, материю, плоть, историю (а история здесь полностью отсутствует, потому что никакого движения нет, все вращается по кругу), — в восточных учениях огромные пробелы, остающиеся и поныне. Тем не менее ступень эта была важной, и в иерархии ценностей мировой культуры она занимает свое место. Надо не презирать эти взгляды, не унижать их с позиций европейских, современных, с позиций христианских, а понять, что здесь человеческое мышление, человеческий дух, мистическое погружение в реальность достигли определенного уровня, который впоследствии должен быть превзойден тем, что новые измерения войдут в человеческое мышление.
Подобный взгляд дает нам возможность рассматривать историю человеческого духа не как историю сплошных заблуждений или истин, а как историю поисков, нахождения, движения дальше с помощью разума, мистического проникновения, коллективных усилий всего человеческого духа. Дальнейшей ступенью мы можем назвать античную мысль, на которой я сегодня останавливаться не буду, потому что это должно быть предметом отдельного разговора.
КОНФУЦИАНЦЫ И ДАОСЫ
Хотя мы уже неоднократно забирались в далекое прошлое, я каждый раз старался вам напомнить, что речь идет совсем не о каких–то отживших, умерших, архаичных идеях. Пусть формы иногда не совпадают с привычными для нас, пусть иногда они носят несколько экзотический характер. Однако вечные вопросы всюду остаются вечными. За два с лишним столетия до нашей эры китайский император Цинь Шихуанди приказал сжечь все книги, кроме руководств по сельскому хозяйству, и закопать живьем в землю всех учителей конфуцианства. С одной стороны, эта мера нам кажется чудовищной, злодейской, а с другой, мы чувствуем в этом что–то родное, что–то до боли знакомое, и не только по известным вам аналогиям, а даже по современной истории Китая. Совсем недавно Конфуций был объявлен маоистским правительством врагом номер один или номер два; он обзывался в прессе самыми оскорбительными словами, газета «Жэньминь Жибао» называла его старикашкой.
Между тем Конфуций всегда был не только гордостью Китая, но и как бы олицетворял собой дух этой великой мировой культуры, влияние которой распространялось на значительную часть Дальнего Востока. Появление Конфуция — это был VI в. до Р. Х. — совпало с тем движением, которое я условно называю эрой великих учителей. Знаменитый современный философ и историк Карл Ясперс называл эту эпоху «осевым временем» — временем переворота, временем духовного рождения современного человека. Это явление, по меньшей мере, изумительное, если не сказать, чудесное. Почему?
Сколько лет существует человечество как духовная и культурная величина? Сколько лет ноосфере? Еще недавно мы считали, что около пятидесяти тысяч лет. Сегодня эта цифра удвоена, если не утроена. Находки в Восточной Африке показали, что человек в нашем, полном смысле слова (а не какой–то предок, родственник, прачеловек) появился на Черном материке за сто, сто тридцать, а может быть и более тысяч лет до этого. Теперь представьте себе этот огромный период времени. Мы уже говорили о том, что там существовала сложная магическая культура, высокое искусство, сложная и по–своему совершенная социальная структура; но она отличалась стабильностью, переходящей в стагнацию, то есть в застой. И вдруг происходит перелом. Можно было понять, что этот перелом связан с какими–то конкретными историческими процессами. В нашей литературе еще совсем недавно его связывали то с кризисом рабовладельческого строя, то с изменением хозяйственных механизмов. Но это все ненаучная фантастика. Никаких радикальных перемен в сфере экономики не произошло. Что касается рабовладельческой формации, то она была придумана так же, как Сталин придумал пресловутую революцию рабов, которая якобы с громом опрокинула Рим. Люди моего поколения помнят, как мы наизусть учили эту фразу. Не было революции рабов, и никакого разрушения Рима с помощью этой революции не было. Сталин истории не знал, а знал некую схему, под которую он подгонял события. Рабовладение только в поздний греко–римский период приняло массовый характер, в том смысле, что рабы начали принимать активное участие в экономической жизни страны. А в те времена, о которых мы с вами начинаем теперь говорить, труд рабов не определял хозяйственную жизнь. Все основные формы труда, которые кормили человека и которые создавали материальные ценности, включая, как я вам уже говорил, и знаменитые пирамиды, осуществлялись преимущественно свободным населением. Это лишь древние греки (Геродот — автор этого исторического мифа) говорили, будто тысячи рабов воздвигали пирамиды. Нет, их строили подданные, которых хорошо кормили и содержали. Это было делом всей нации. Рабы использовались преимущественно как челядь, для домашних услуг, для форм труда, не влияющих на основной профиль экономики. Мало того, рабовладение в период, о котором я сейчас буду говорить, то есть в первое тысячелетие до Христа, было довольно мягким. Те из вас, кто читал Библию, помнят, что Авраам, не имевший детей, по закону должен был оставить свое имущество своему рабу Елиезеру; то есть раб фактически считался членом семьи, а вовсе не говорящей вещью, как это потом случилось на совершенно определенном отрезке исторического времени в античном мире. Я не говорю о том, что впоследствии рабовладение в очень тяжкой форме возникало не раз в разных системах, в том числе в XIX в. в США. И там чернокожие рабы действительно участвовали в экономической жизни страны. Так что та последовательность, которую наше поколение изучало в школе: сначала было тяжкое рабство, потом более легкая феодальная система, потом еще легче — капиталистическая эксплуатация и, наконец, уже совсем хорошо стало, — неверна. Рабочий в Лондоне той эпохи, когда Маркс там писал «Капитал», жил хуже и эксплуатировался хуже, чем средневековый крестьянин или общинник Древнего Египта. История движется гораздо более сложно и зигзагообразно, нежели в тех учебниках, которые нам прежде преподносили как точное отражение исторической действительности.
Я сделал это краткое отступление для того, чтобы показать, что событие, о котором мы будем говорить, не было отражением экономических факторов, ибо оно прокатилось, как некий тунгусский метеорит или как некое вторжение иных миров, от Тихого океана до запада Средиземного моря, от Индийского океана до границ Азербайджана и Афганистана. При слабости тогдашних средств передвижения это было действительно необъяснимым явлением. Сегодня, когда любое явление, любая идея, любое событие с помощью различных средств массовой информации мгновенно могут переходить из одной страны в другую, когда мы тут же узнаем о них, мы забываем о том, насколько изолирован был человек за пятьсот или восемьсот лет до Рождества Христова, как долги были караванные пути, как утлы были суденышки, которые двигались по неведомым морям, как опасны были дороги во всех отношениях. Купцы и путешественники тех времен были подлинными героями культуры, или, как называли их немцы, культуртрегерами — носителями культуры, потому что именно они заносили семена идей, научных открытий, философских проблем с одного конца света на другой. Но это происходило крайне медленно. Между тем, «осевое время» было временем настоящей вспышки. Часто говорят о том, не повлияли ли на него солнечная активность или вспышка сверхновой звезды. Все возможно. Но астрономы не знают никакого важного космического события такого рода, которое могло бы настолько изменить лицо мира. И именно тогда родились мы с вами — наш тип мышления, наша сегодняшняя культура. Это не парадокс, это факт, который вам подробно разъяснит любой историк. Пожалуй, большинство этических концепций сегодняшнего дня, такие явления, как мистицизм, материализм, демократия, партийная борьба — все это родилось тогда, все было создано в то время. Философское осмысление бессмертия души, цели человеческой жизни, историософия, то есть философия истории, — все родилось тогда. Я уже не говорю о том, что на этой почве «осевого времени» был воздвигнут крест Христов. Основанием христианства было «осевое время». События «осевого времени» имели характер синхронный, то есть они охватывали период между примерно 800 и, скажем, 300–200 гг. до Р. Х. Можно раздвигать эти даты, этот отрезок времени или, наоборот, его сужать — на огромном пространстве многотысячелетней истории это лишь миг. Но зато какой миг!
Война Мао Цзэ–дуна против Конфуция была косвенным доказательством того, что идеи, родившиеся в тот период, продолжают оставаться злободневными и актуальными. Когда–то, много лет назад, когда я был еще подростком, мне попалась книжка о Конфуции, составленная одним из учеников и приверженцев Льва Толстого Павлом Буланже, с переводом изречений Конфуция. И тот, кто заглядывал в антологию, составленную Львом Николаевичем и называемую «Круг чтения», найдет там немало изречений из Конфуция. Значит, Лев Толстой считал, что мысли этого философа отнюдь не принадлежат только прошлому. В XVII и ХVIII вв. европейские рационалисты и просветители с огромным интересом обращались к китайской мысли этого времени.
Что известно о Конфуции? Его звали Кун, он был бедным неудачливым человеком. Ученики называли его Кун–цзы, иногда Кун–фу–цзы,что значит учитель Кун. Отсюда латинизированная форма Конфуциус, которая у нас превратилась в Конфуций. Ученики записывали его изречения, составившие книгу «Лунь–юй»; она потом неоднократно переводилась, частями или полностью, на русский язык.
Среди мистиков, ученых, философов «осевого времени» Конфуций занимает совершенно особое место. Для него существовал единый и высший Абсолют, Конфуций называл его традиционным китайским термином тянь — Небо. Но Небо для него было чем–то далеким. И когда его спрашивали о Небе, он отвечал: как можем мы знать о Небе, когда мы еще не разобрались с тем, что существует на земле. Он считал своей главной задачей создать устойчивую и благородную модель человеческих взаимоотношений здесь, в этом мире. Он придавал огромное значение обрядам. Говорят, что он настолько любил скрупулезно исполнять все традиционные правила, которые он нашел в китайских преданиях и в литературе, что его близкие не выдержали и жена из–за этого его бросила. (Быть может, это было и не так, быть может, Конфуций несколько юродствовал, стараясь подчеркнуть необходимость соблюдения всех ритуалов.) Но тогда мы спросим: а чем же этот человек отличался от носителей первобытной магии, древнего мистического мировоззрения, которое придавало столь большое значение ритуалу? А тем, что Конфуций впервые подошел к нему не как к магии, а как к структуре бытия. Будучи убежден в том, что Небо создало мир на основании определенных законов, и эти законы непреложны, и их необходимо соблюдать, Конфуций утверждал, что подобные законы должны существовать и в обществе. Он видел их в традициях древней китайской культуры, в легендах о древних ванах, царях из старинных преданий. Он показал, что настоящее развитие любой культуры не может висеть в воздухе; оно должно уходить корнями в опыт народа, в опыт истории, в традиции минувшего. Правда, к этим традициям он умел относиться по–своему критически. Вспомним его идею имен и названий. Он говорил: нельзя называть человека мудрецом, если он не мудр, отцом, если он не выполняет функции отца, и царем, если он не выполняет царских обязанностей. Все должны служить, от мала до велика. Вся Тянься, то есть Поднебесная, как назывался Китай, должна быть единым человеческим строем, где каждый должен найти свое место.
«Лунь–юй» — книга бесед Конфуция — наполнена вопросами учеников, которые интересовались различными сторонами жизни. Конфуций всегда говорил, что человек должен жить по заветам предков. Но этого ему было мало. Он хотел это реально воплотить, опираясь на существующую власть. И половина его жизни была занята поисками покровителя среди князей. Эпоха, в которую жил Конфуций, была тяжкой для Китая. Единая империя была уже мифом, княжества распались, шли феодальные усобицы между различными властителями. Конфуций с группой учеников странствовал с одного места на другое, пытаясь найти человека, который бы осуществил его идеал. Иногда, когда мы читаем его рекомендации, они нам кажутся тривиальными, унылыми. Нам представляется, что общество, живущее по–конфуциански, было бы обществом однообразных, подчиненных бесчисленным церемониям людей. Если бы это было только так, конфуцианство, вероятно, навсегда осталось бы осколком прошлого.
Но у Конфуция была великая идея — жэнь, идея человечности, идея доброжелательности. Он утверждал, что человек только тогда может жить по законам Неба, если он будет культивировать в себе это начало, жэнь. Человечность создает все. Она начинается с мелочей. И каждый из вас может понять Конфуция, говорившего, что не надо слишком высоко взлетать. Помните, Достоевский говорил, что очень легко любить все человечество, а вот соседа любить трудно. То же самое говорил Конфуций. Не надо размышлять о великих вещах, а попытайтесь относиться по–человечески прежде всего к родителям. Говорят, он с детства любил устраивать церемонии в соответствии со старыми традициями, которые освящают память ушедших и умерших. Один человек сказал: «Культура общества измеряется тем, как оно относится к своим умершим». Может быть, слишком сильно сказано, но подумайте как следует, вспомните о своем опыте, и вы поймете, что в этом заключена глубокая истина. Вероятно, наши ритуальные действия нужны не умершим — они уходят из этого мира. Но заупокойный ритуал — любой формы — подчеркивает связь поколений, единство культуры, единство душ. Я помню, когда я впервые попал на кладбище в небольшом литовском городке, меня поразило бережное отношение к каждой могиле, и я подумал, что это образец для всех нас.
Взаимосвязь детей и родителей, человечность, уважение, почитание предков — все эти некогда магические вещи Конфуций трансформировал в этические и социальные понятия. Он превратил магический культ предков, уходящий в далекое прошлое истории Китая, в инструмент связи с минувшими поколениями. Он учил своих современников жить в истории. Правда, следует сказать, что историю, как мы ее понимаем со времен библейских и христианских, то есть как некий целостный целенаправленный процесс, мы напрасно стали бы искать в конфуцианстве. Но бережность к прошлому есть залог сохранности настоящего. И здесь Конфуций был глубоко прав. Усилия его часто разбивались о непонимание; к тому же жизнь оказывалась более жестокой и горькой, чем ему бы хотелось. Был момент, когда он оказался у власти, и ему даже пришлось, как рассказывает легенда, казнить одного человека, хотя он был противником смертной казни, противником исполнения законов из страха.
Впоследствии в системе конфуцианства, в системе Мен–цзы, развивавшего идеи Конфуция, мы находим мысль о всеобщей, общечеловеческой любви. Такая трудная задача. Но тем не менее, если человек не будет на нее ориентироваться, то рано или поздно темные силы вырвутся на свободу и завладеют им. Один из первых китайских историков, Сыма Цянь, живший в I в. до Р. Х., рассказывает, что однажды Конфуций встретил странного мудреца, про которого рассказывали множество всяких басен и легенд. Говорили, что он родился стариком, с момента рождения изрекал мудрые истины и является защитником увэй, недеяния. Конфуций, который был сторонником деяний, активного созидания культуры, пришел поговорить с ним. В Конфуции не было страсти древнегреческих трагиков, философской глубины Платона, боговдохновенности библейских пророков, пафоса Заратустры, величия Будды — все они были современниками; Конфуций, быть может, среди них наиболее прозаичен. Ледж и другие специалисты по конфуцианству не без основания утверждают, что это была не столько религия, не столько даже философия, сколько некий принцип жизни, но принцип, имеющий глубокий смысл — рациональное устройство общества.
А что же предлагал тот странный старик, с которым беседовал Конфуций? Согласно легенде, его звали Лао–цзы. Иные из историков вообще считают его вымышленной личностью. Некоторые утверждают, что он служил архивариусом и однажды покинул Китай, уехав в неведомую страну. На старинных китайских изображениях мы видим этого старика верхом на быке, который уезжает, скрываясь в тумане. Лао–цзы — китайский антипод Конфуция, величайший из метафизиков желтой расы, как определил его Владимир Соловьев. От него осталась небольшая книга «Дао дэ цзин», книга о дао. Есть мнение, что эти же идеи развивали ученики Лао–цзы (среди них самый крупный — Чжуан–цзы) и что, может быть, они и были создателями учения. Но это проблема чисто историческая. Нам важно сейчас другое — то, что в рамках Китая возникли две жизненные позиции, две модели существования: одна — кропотливое, терпеливое преображение всех существующих народных, национальных и религиозных традиций в некую структуру, которая помогла бы людям быть человечными, трудолюбивыми, исполняющими свой долг, а вторая хотела вернуть человека куда–то назад, в дочеловеческое бытие, в дао, в «Путь Тайны». Китайское слово дао непереводимо, обычно его переводят как «путь». Оно так же многопланово, как греческий термин логос. Дао — это Бытие, Тайна, Абсолют.
Один из марксистских интерпретаторов «Дао дэ цзина», Ян Хиншун, пытался изобразить Лао–цзы философом–материалистом. Я думаю, что это по меньшей мере спорная концепция. На самом деле перед нами один из вариантов свободного мистицизма. Дао — это и Бог, и природа, это нечто, чему нет названия. Человек в своих усилиях создать цивилизацию суетится напрасно. Простота, естественность — вот его идеал. Вот почему Лев Толстой гораздо больше любил Лао–цзы, чем остальных китайских мыслителей, к которым он был так близок. Идея «Дао дэ цзина», увэй (пассивность, непротивление, течение по таинственному пути жизни), была необычайно привлекательна для Льва Николаевича именно родственностью его собственной концепции.
Но если мы обратимся хотя бы к некоторым изречениям «Дао дэ цзина», мы увидим, что здесь особый род мистицизма. Я хотел бы, чтобы вы услышали несколько изречений Лао–цзы (мы будем условно так называть автора; повторяю, не имеет большого значения, был ли он легендарной личностью или нет). Я читаю Лао–цзы в переводе Ян Хиншуна. Есть и другие переводы, в частности, дореволюционный перевод, который редактировал Л.Н.Толстой, написавший к нему предисловие. Было немало переводов и с иностранных языков. Д.С.Мережковский переводил «Дао дэ цзин», кажется, с французского. Текст, переведенный Ян Хиншуном, опубликован в первом томе антологии «Древнекитайская философия».
«Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало неба и земли». О чем это говорит? О том самом высшем, апофатическом богословии, которое свойственно и византийским, и древнерусским исихастам в христианстве, и брахманизму, как мы увидим позже, и мистику XVII в. Якову Бёме, и Шеллингу, и Владимиру Соловьеву, и многим–многим другим. То есть высочайшее Начало, создавшее мир, никогда не может быть определено адекватно с помощью человеческих понятий. Если дао может быть как–то названо, оно уже не есть то самое вечное дао.
Кто же может созерцать это безымянное таинственное дао? Тот, кто свободен от страстей и видит его чудесную тайну. Далее. Для созерцающего даоса все человеческие категории вторичны. «Когда все люди узнают, что красивое красиво, появляется и безобразное. Когда узнают, что доброе добро, возникает и зло». То есть полярность возникает лишь потом, а в глубочайшей тайне всё слито. Это очень древнее представление китайской философии о бытии. Я думаю, что многим из вас знаком даже художественный зримый символ этих двух начал — инь и ян. Это шар, который разделяется волнистой линией на две половинки — светлое и темное, соединенные воедино. Впоследствии, через много столетий, христианский мистик Яков Бёме (а мы, я думаю, до него еще дойдем; это был великий человек, повлиявший на Гегеля, Шеллинга, Бердяева) говорил о том, что в самой Божественной тайне скрыты все потенции — и света, и тьмы, хотя евангельское христианство этот тезис не приемлет: «В Боге нет никакой тьмы», — говорит нам евангелист Иоанн.
Что же предлагает созерцательный мистицизм «Дао дэ цзина»? «Мудрый человек предпочитает недеяние и осуществляет учение безмолвно…». Конфуций много трудился, ездил, писал, так сказать, хлопотал о внедрении своего учения. Лао–цзы ищет покоя. «Осуществление недеяния всегда приносит спокойствие…» «Дао — пусто, но действуя оно кажется неисчерпаемым. О Глубочайшее! Оно кажется праотцом всех вещей». Дао молчит, как молчит Абсолютное Начало, но из него рождается все. И не надо ли человеку в своем безмолвии уподобиться этому вечному, неподвижному и в то же время вращающемуся кругу бытия?
Подобно тому как Толстой впоследствии отрицал цивилизацию, для Лао–цзы она тоже представляется излишней суетой. «Когда, — читаем мы в 19–м пункте «Дао дэ цзина», — будут отброшены ум и мудрость, народ будет счастливей во сто крат. Когда будут отброшены жэнь (то есть гуманность) и справедливость, народ вернется к сыновней почтительности и родительской любви». Парадокс? Но он хотел сказать: не надо доктрин, не надо учений — внимайте себе. Лао–цзы говорит: мудрец познает истину не выходя из дома, ему не надо странствовать и путешествовать. Мудрец, — говорит он, — ничему не противоборствует, поэтому он непобедим в мире.
Он не доказывает существование дао. Это непонятное начало, но тем более оно реально. Он восклицает, глядя внутренним оком на дао: «Дао — вещь неясная и туманная, в нем заключены вещи. О Бездонное! О Туманное! В нем заключены семена». С древнейших времен до наших дней оно не исчезает, оно существует для обозначения всех вещей. «О Спокойное, о Пустотное, одиноко стоит оно и не изменяется». Разумеется, это уже поэзия, но поэзия, исполненная глубокого философского смысла.
Вероятно, такие люди, как Конфуций, возражали: если мы будем лишь созерцать, если мы будем находиться в состоянии такого слияния с единством божественной природы, то мы ничего не достигнем, нас раздавит бег жизни. А на это отвечает Лао–цзы: «Мягкое преодолевает твердое, слабые побеждают сильных». И что–то в этом есть, когда думаешь о корешках растений, которые пробивают себе дорогу через камни. И вся природа — это единое дыхание единого Божества, оно постоянно осуществляет увэй, то есть недеяние, и в то же время таинственным образом действует. В нем нет жажды, стремления. Лао–цзы казалось, что распространение такого созерцательного мистицизма автоматически является орудием для просветления людей, для их счастья.
Любопытно, что даосизм, как называют учение Лао–цзы, не дал мощного религиозного движения. И одна из причин заключается в том, что по–своему более совершенно и более последовательно эти идеи стал развивать буддизм, глубоко укоренившийся во всем индийско–китайском регионе. Однако в Китае остались и даосы. Это были монахи–пустынники, о которых складывались удивительные и порой даже, с нашей точки зрения, странные, вызывающие улыбку легенды. Эти монахи подолгу сидели так неподвижно, что на их теле вырастала трава, их волосы врастали в землю; они сливались с природой, ибо она есть легкое дыхание бытия и человек в ней может раствориться.
Таким образом, перед нами два пути. Это путь активного социального строительства с помощью прочной народной традиции, с помощью сохранения всей системы национально–культурных, художественных ценностей, без особой ориентации на тайну Неба, которая вечно существует над человеком, но как бы за скобками. И совершенно противоположный путь: отстранение от деятельности и свобода — свобода человека фактически от всего земного. Лао–цзы говорит: «Я подобен ребенку, который не явился в мир. О! Я несусь! Кажется, нет места, где мог бы остановиться». Оба идеала, обе модели безусловно обладают своим очарованием, своей привлекательностью.
Безусловно, какая–то часть населения Китая стремилась осуществить конфуцианский идеал. Но почему же тогда приземленный псевдомарксизм Мао так ополчился на Конфуция? Почему его вновь стали уничтожать, как некогда уничтожали его солдаты Цинь Шихуанди? Потому что для Конфуция система была цельной, она была связана с корнями всей истории народа. Между тем маоизм, как и аналогичные ему доктрины, пытался эти корни вырвать, чтобы в пустом пространстве построить — уже даже не на песке, а на воздухе — какую–то новую цивилизацию. Вот почему даже посюсторонний и трезвый Конфуций оказался не ко двору у Мао Цзэ–дуна.
Когда маоизм кончился, когда «красное солнце закатилось», китайцы вновь вернулись к почитанию Конфуция. Есть его могила, храм над могилой, наконец, его потомки. В этом есть что–то замечательное: прошло две с половиной тысячи лет, если я не ошибаюсь, семьдесят с чем–то поколений, живут еще пра–пра–правнуки и так далее, совершенно реальные люди, предком которых был учитель Кун, Конфуций. Я видел фотографии одного из последних потомков Конфуция: человек с прекрасным, мягким, спокойным лицом, он сидит рядом с портретом своего далекого предка, как бы овеществляя всем своим существом эту идею земного града, земной цивилизации.
Мы не можем считать, что идея Конфуция была чистым заблуждением, ошибкой в истории человеческого духа. Нет, культура есть организм, она тесно связана во всех своих частях, и заслугой Конфуция является некоторая демифологизация старых традиций и превращение их в инструмент человечности, уважения, доброты, справедливости, миролюбия. Ведь Китай — в целом миролюбивая страна, несмотря на события нашего столетия.
Можем ли мы сказать то же самое об антиподе Конфуция Лао–цзы и его последователях, Чжуан–цзы и других китайских философах этого направления? У них тоже была своя правда. Они научили свой народ любить природу. Любой из вас, кто видел когда–нибудь китайские миниатюры, изображающие бабочек, птиц, рыбаков, отдыхающих на берегу ручья, деревья, распускающиеся цветы, помнит, что этой необыкновенной, неповторимой тонкостью китайское искусство в значительной степени обязано духу даосизма. И действительно, многие из этих художников были даосами или так или иначе испытали на себе влияние сочинений Лао–цзы и Чжуан–цзы.
Уметь видеть в природе вечное, не поддаваться потоку суеты, строить, как писал Антуан де Сент–Экзюпери, цитадель внутри своего существа — это, друзья мои, тоже немаловажная вещь. Я бы даже сказал: в наш суетный век, в котором моды меняются с необычайной быстротой, в котором жизнь проносится лавиной, в которой мы теряем себя каждодневно, чувство тишины, вечности, красоты природы, открытости ко всему, что нас окружает, — это не праздная мечтательность, это не только поэзия, это один из важнейших компонентов нашей сегодняшней современной жизни. Мы проходим по ней, не замечая красоты и не получая того целительного запаса, который содержит в себе тишина. Эту тишину — божественную, неизреченную, непостижимую, но необыкновенно реальную — Лао–цзы называл дао. И поэтому его мысль, его чувства, его заветы — это не просто глава из истории древнего Китая, это ступень в общечеловеческом духовном развитии. А в нем всегда есть вещи, которые поднимаются над временем, которые и сегодня, как сокровища сердца, приносят нам свои непреходящие ценности.
БРАХМАНИЗМ. БУДДИЗМ. КРИШНАИЗМ
Сегодня, дорогие друзья, мы с вами будем находиться на переломе духовной истории человечества, на исключительно важном отрезке духовного бытия. Это имеет отношение к сегодняшнему дню, потому что, как я уже в прошлый раз вам говорил, духовный переворот, начавшийся в первом тысячелетии до нашей эры, прокатился от берегов Хуанхэ до самой Атлантики, то есть фактически прочертил линию по всему Старому свету. Сегодня мы остановимся на наследии Древней Индии, которое и теперь играет роль в жизни многих народов нашей планеты. Разумеется, было бы несколько легкомысленно утверждать, что это колоссальное и глубокое наследие можно хотя бы вкратце обрисовать в ходе недолгой встречи. Однако я все–таки на этот риск иду, потому что собираюсь показать только самое главное, самое существенное. Для тех из вас, кто хотел бы познакомиться с этим вопросом более детально, я могу указать литературу.
Индийская цивилизация — ровесница цивилизаций Ближнего Востока, Вавилона, Египта, Ассирии, хотя, может быть, не самая древняя из них. Она сложилась из двух главных компонентов. Первый компонент — это массив традиционной культуры индийского субконтинента. Мы будем называть его дравидийским компонентом. Дравиды — коренные жители Индии (но, разумеется, там было множество других народов, с разными самоназваниями, например, живущие там по сей день тамилы). Дравиды ближе всего стоят, как ни странно, к австралийскому культурному региону. Представьте себе на мгновенье карту, и вы увидите, что между Индией и Австралией существует мост из островов, архипелагов, и, по–видимому, именно с индийского субконтинента люди перекочевали в Австралию. Те австралийские аборигены, которые вам известны сегодня, не автохтонное население Австралии, они пришли из Азии, с полуострова Индостан. Впоследствии геологические изменения и, возможно, геологические катастрофы отрезали этот регион. Вероятно, это происходило не сразу, скорее всего, люди перебирались на лодках, на плотах. О том, что процесс отделения Австралии от Евразии начался очень давно, свидетельствует специфическая, поразительная австралийская фауна, аналога которой практически нет нигде в мире. Значит, отделение произошло еще в третичный период.
Жители густых лесов Индии обладали очень своеобразными языческими традициями, с представлением о переселении душ, уникальным в истории человеческой культуры, с их сонмом местных богов, обоготворением растений, животных, со взлетом цивилизации. Самое поразительное, что мы даже не знаем названий тех великих культурных центров, которые эта древняя индийская цивилизация создала. Мы называем их Мохенджо–Даро, Хараппа, но это названия позднейших курганов и руин, которые были раскопаны через тысячелетия европейскими и индийскими археологами. Мы находим там города с прекрасной канализацией, ваннами, находим росписи, монеты, указывающие на наличие торговли. Там уже существовала письменность, искусство. Осталось от этого очень мало. Но то, что найдено в Мохенджо–Даро, свидетельствует, что исчезнувшее древнее государство активно торговало с Месопотамией, с Ближним Востоком. Какие изображения сохранились? Таинственная фигура с рогами, сидящая в позе лотоса, фигура полуобнаженной танцовщицы, священный бык, несколько фигурок, изображающих богиню–мать, печать — и это все. Однако город был действительно огромен. Аэрофотосъемка показывает, что это была высокая цивилизация, не уступавшая вавилонской.
Около 2000 г. до Р. Х., когда множество народов и племен пришло в движение, когда семитические племена вторглись в Месопотамию, когда в Египте пришел в упадок «древний мир», или Древнее царство, на границе Индостана появились племена ариев. Слово «арий», вероятно, вам всем знакомо от вульгаризированного представления об арийцах, которое распространяли немецкие нацисты. В их политической мифологии арийцы — высокие люди со светлыми волосами и голубыми глазами. Начать с того, что сам Гитлер был человек достаточно приземистый, черноволосый и не отвечал этому стандарту. И если вы вспомните по фильмам или по фотографиям его сподвижников, включая Геббельса, Геринга, то они еще меньше похожи на этих мифологических персонажей. Это была выдумка. Они взяли за основу тип северной расы. А рас очень много, и арии, древние арийцы принадлежали к индосредиземноморской расе — той же самой, к которой принадлежали арабы, греки, евреи, сирийцы, ассирийцы, армяне, грузины. Индосредиземноморская раса характеризовалась определенными чертами лица и особенностями культуры. Эти люди двигались на Восток. Часть их осела в современном Иране — отсюда название страны: страна ариев, Арьяварда, Ариана, Иран. Остальные продолжали двигаться на Восток и вторглись в Индию. Продвигаясь по этой стране, они оседали у предгорий, на границе тропического леса, вступали в бои с местными жителями.
Но Индия — одна из самых удивительных стран; она всегда засасывала всех завоевателей. Приходили греки — она их принимала и переваривала, создавался новый греко–индийский стиль в искусстве, в живописи, особенно в скульптуре. Приходили мусульмане — она их тоже усваивала. Наверное, вы все помните изображение Тадж–Махала, знаменитого мавзолея, построенного в ХVII в. в Индии. Есть известная картина русского художника Верещагина, изображающая это чудесное здание: белый купол, белые минареты на фоне голубого неба — это индо–мусульманская архитектура.
Что бы туда ни приходило, Индия, как почва, это принимала и переваривала — и создавалось нечто совершенно особенное. Так, из двух элементов была создана индо–арийская культура, в которой соединились, сплавились туземные, дравидийские и арийские элементы. У пришельцев–ариев (скотоводов, конников; они уже освоили к тому времени лошадь) не было представления о перевоплощении. Для них смерть человека означала последний путь, а дальше — царство света или тьмы. У них не было обычая сжигать своих умерших, они их хоронили; обычай сожжения был взят у туземного населения.
Культура Индии, перед которой мы останавливаемся с восхищением, с изумлением, сохранила невредимыми многие свои черты до сих пор; люди хранили её необычайно долго — столетиями и тысячелетиями, тогда как мы в Европе наломали столько дров, что только по старым камням иной раз узнаем, чем мы были раньше. Конечно, не нужно думать, что индо–арийская цивилизация оставила очень много древних памятников. Когда Елена Петровна Блаватская, основательница «Теософического общества», была в Индии в конце прошлого века, она написала свои мемуары «Из пещер и дебрей Индостана», где с трепетом и восторгом описывала храмы, якобы построенные за пять тысяч лет до Р. Х. Это фантазии. Просто она не знала, что эти храмы построены в ХVIII в., в крайнем случае в XVI–XVII вв. Это поздние храмы, но достаточно величественные, они производят впечатление. Я в Индии не был, но видел их на фотографиях, в кинокадрах — они, действительно, кажутся очень древними.
* * *
В начале первого тысячелетия до Р. Х. в Индии кипит жизнь, возникает государство Магадха — довольно большое царство, охватывающее многочисленные племена. Там идут войны, появляются торговые связи, правда, еще не развивается искусство. Удивительно, но настоящее искусство в Индии появилось только после Будды. Буддизм создал искусство Индии, ее пластику, ее живопись. То государство, о котором я упоминал прежде, Мохенджо–Даро, исчезло с лица земли, так что ни имен этих городов мы не можем установить, ни письменности до сих пор не можем расшифровать*.
Чем же примечательна эта древнейшая цивилизация? Представим себе город: глинобитные стены, вокруг пальмы, люди в странных одеждах — моды древних индийцев были довольно непривычны для нас, например, мужчины красили бороды в зеленый и иногда в синий или красный цвет. Они любили пышные зрелища. Они рано одомашнили слона, но он все–таки остался полудиким животным, как, скажем, наша кошка. Слоны с трудом размножаются в неволе, и их приходилось отлавливать в молодом возрасте. Это специальная профессия у индийцев вплоть до нашего времени, в охоте принимали участие и домашние слоны, так сказать, предатели своего племени. Слоны, увешанные красивыми попонами, пышные процессии, странные люди — раскрашенные, одетые в разноцветные одежды.
В древних сказаниях, например, в Рамаяне, мы находим отзвук борьбы между темнокожими дравидами, отступавшими в леса, и индо–ариями. С сюжетом Рамаяны почти все знакомы: темнокожий демон похищает царевну, и ее ищет вместе со своими друзьями принц Рама. Кто же этот демон? Это царь Шри–Ланки — туда, на Цейлон, в Шри–Ланку, отступали многие владетельные князья темнокожих дравидов–туземцев. Но любопытно, что в Рамаяне принцу Раме помогает князь обезьян. Быть может, это тоже легендарное отражение той помощи, которую индо–ариям оказывали другие местные племена. Известно и сказание о межплеменной борьбе индо–ариев. Особенно популярным в Индии было сказание о великой битве Бхарат — Махабхарата. Эпос могли рассказывать неделю и более, это был особый праздник. Кстати, он существует до сих пор: собирается большая толпа народа и сказители часами наизусть читают эту гениальную поэму — день, второй, третий… Махабхарата частично переведена на русский язык. Основные тексты переведены в серии «Памятники Востока» и, наконец, семь томов перевел покойный академик Б. Л. Смирнов и издал их в Ашхабаде; это был подвиг одного человека. Махабхарата отражает целый пласт истории, и мы не можем сказать, когда она возникла: она создавалась веками. К ней я еще вернусь в связи с замечательным, великим произведением, очень важным в древнеиндийской мистике и философии, — Бхагавад–Гитой.
В какой–то момент индийской истории происходит странное явление. Массы молодых людей покидают свои жилища, поселки, города и уходят в леса, где начинают вести жизнь отшельников. Их называют по–разному: муни — пустынник, архат; саньясин — святой (оттенки для нас сейчас не важны). Откуда это массовое бегство людей от мира — история его до сих пор не знала? Что произошло? Почему начался повальный уход в монашество, выражаясь на нашем, европейском языке? Дело в том, что индийская мысль подошла к великому открытию. Раньше человек искал, и не без основания, божественное в природе, в окружающем видимом мире; созерцатели, аскеты Индии открыли его внутри себя, внутри своего духа. Молчание, концентрация духа, особые духовные упражнения, которым учились, передавая этот опыт из поколения в поколения, привели человека к тому, что он открыл великое внутреннее измерение бытия. Можно сказать, что за сто тысяч лет существования человека это была самая великая революция. Если раньше такие явления были, то они носили локальный характер, они были как бы исключением из общего правила. Цивилизации древнего Востока в большинстве своем всегда были сенситивными, чувственными. Чувственные явления имели первостепенную ценность. Если египтянин, иудей, ассириец благословлял человека, он всегда желал ему благополучия, множества детей, доброго урожая и т. д. — того, чего хочет человек и теперь. Но древний индиец вдруг понял, что есть иной мир ценностей, мир, который может дать наслаждение и радость неизмеримую, неразрушимую, гораздо менее уязвимую и хрупкую, чем чувственные блага. Это был взрыв, и пример оказался необычайно захватывающим.
Древние тексты рассказывают нам о том, как из леса появлялись эти муни или архаты — с длинными волосами, полуобнаженные (впрочем, для теплой Индии это довольно естественно), с отрешенным горящим взглядом. И все видели, что эти люди — счастливые. Мы ищем материальных успехов, славы, чувственных удовольствий. Индийцы были большие мастера играть в кости, азартные игры страшно захватывали их (древние тексты без конца рассказывают об игре в кости, о состязаниях). И вдруг оказывается, что есть мир бессмертный, неразрушимый, упоительный, как ничто из чувственного и материального. Это перелом в истории духа. О нем свидетельствует великая литература Индии, которая называется Упанишады. Слово упанишады означает «сидеть возле, где–то рядом». Оно происходит от обычая ученика сидеть у ног учителя. Уходя в лес, наставники (гуру) передавали свой опыт ученикам. Это были долгие беседы, которые ученики запоминали наизусть. Сначала это была не метафизика, а практика, она охватывала различные стороны жизни: контроль над дыханием, контроль над пищей, разумеется, отказ от мясной пищи, отказ от сексуальной жизни и от многого–многого того, что было нормальным и естественным в жизни человека. Что получали они взамен? Приближение к царству Абсолютного.
Упанишады — высокопоэтическое, хотя и сложное, загадочное произведение. Они писались на протяжении всего первого тысячелетия до Р. Х. В русском переводе отдельно вышла Брихадараньяка–упанишада, до революции выходила отдельным изданием Катха–упанишада, кроме того вы можете найти отрывки из Упанишад в книге «Антология мировой философии» и в сборнике «Древне–индийская философия» в серии «Философское наследие». Когда читаешь Упанишады, сначала не понимаешь: где тут логика? Авторы их перескакивают с темы на тему, одним и тем же термином обозначают разные вещи. Но потом понимаешь, что это лишь запись сокровенного учения, которое учитель передавал ученику, и это сокровенное учение здесь дано только намеками. Упанишады пришли в Европу в XVIII в. В XIX в. их, так сказать, рекламировал А. Шопенгауэр. Но настоящее их изучение началось во 2–й половине XIX в., когда их стал изучать Пауль Дойссе и другие ученые–индологи.
Какой опыт открылся авторам Упанишад? Мы о них ничего не знаем. Знаем, что это были риши — мудрецы, поэты. Знаем, что у них были имена — Яджнавалкья и другие. Но биографии их нам совершенно не известны.
Им открывается мир Вечного, который назывался миром Брахмана. Брахман — это настоящая реальность, а все, что мы видим вокруг, лишь всплески Брахмана. С этим вечным сверхбытием совершается нечто странное. Оно ниспадает в нашу жизнь и превращается в растение, в животное, в человека. Единое высшее божественное существо пьет воду и ест пищу — в лице человека; оно встречается с женщинами, оно ведет войну — это все оно. А после этой игры на земле оно возвращается обратно в себя. Как паук вытягивает из себя паутину, — говорят Упанишады, — так вечное Бытие, Брахман, или его начало, Атман, выпускает из себя мироздание. Через огромные промежутки времени все это снова возвращается в недра молчаливого неопределимого Абсолюта. Как о нем можно сказать? Что оно собой представляет? Авторы Упанишад говорят нам, что оно есть нети–нети, то есть не то и не то: божественное нельзя определить ни одним человеческим словом, можно сказать, чем не является божественное. С другой стороны, все, что есть в мире: и обезьяна, прыгающая на ветке, и прекрасный лебедь, плывущий по реке, и паук — все это проявления единого Брахмана. Но в человеке Брахман проявляется особым образом, потому что человек может познать, кто он есть. Самая главная беда у человека — это «обезьяна», т. е. неведение. Это жизнь в состоянии непонимания, когда человек думает, что он есть существо конечное. Нет, он бесконечен! Потому что в нем живет и играет вечный Атман, то есть дух вечного Брахмана. И не ради человека дорог человек, говорят Упанишады, а ради вечного Атмана. Говорят, что для брахманизма, как мы называем учение Упанишад, фактически ничего нет, кроме Бога. На самом деле, вся природа: и низвергающиеся водопады, и неподвижные вершины гор, и пестрый мир живых существ, и тигр, крадущийся по джунглям, и стая взлетающих птиц, и идущий человек — это все сон, сновидение Единого Бытия. Брахман из себя это выпустил, а потом вновь в себя вберет. (Любопытно, что некоторые современные астрономы, касаясь проблемы космологии, считают, что Вселенная, которая сейчас расширяется — вы все знаете об этом, — когда–нибудь снова сойдется в одну точку, и все будет вращаться по кругу, снова и снова.) Упанишады отвергают кровавые жертвы, но не отвергают традиционных обрядов. Важно почитать Высшее в себе и в людях, чтобы в конце концов вернуться к нему.
Какой к этому путь? Прежде всего — познание. Знать, что внутри тебя содержится некая божественная тайна. Вот притча из одной Упанишады. «Где найти единое?» — спрашивает ученик. И учитель говорит: «Дай мне плод смоковницы». — «Вот он». — «Разломи его». Тот разламывает. — «Что ты в нем видишь?» — «Зерна, господин». — «Разломи одно. Что ты видишь?» — «Ничего, господин». — «Вот это «ничего», невидимое, и есть основание бытия. Его облик невозможно увидеть, никто не видел его глазами. Его восприемлют сердцем, умом, мыслью. Тот, кто знает это, становится бессмертным». Если прекращаются пять знаний — пять чувств — вместе с мыслью, если бездействует рассудок, — это, говорят, и есть высшее состояние. Человек должен быть свободен. Все наши страдания могут быть побеждены, и мы можем найти спасение — мокшу. Мокша — означает освобождение. Но от древних дравидов авторы Упанишад усвоили идею перевоплощения. Оказывается, из этого мира нельзя сбежать, потому что само божество — сам Атман и Брахман — запуталось в сетях мирового закона кармы, ибо все связано закономерностями. И если человек несет в себе злое начало, то, умирая, он вовсе не возвращается обратно в лоно Брахмана, а снова воплощается на земле. И эта жизнь продолжается без конца, и все вращается, подчиняясь железному закону кармы. Это называется сансара, или перевоплощение.
Единственный выход — освободить себя от оков материи. Многие строки Упанишад часто дышат глубочайшим отвращением к плоти. И поэтому многие аскеты и отшельники придумывали изощреннейшие формы самоистязания. Живя в лесах, они часами стояли под палящим солнцем, часто вниз головой, принимали самые неудобные позы. Они действительно себя умерщвляли, потому что зачем тело, когда все это лишь кошмар Единого Духа, который должен в конце концов проснуться и сбросить, стряхнуть с себя этот ужас и марево. Но надо сказать, что нашедшая чудесные философские формы мысль о непостижимом Единстве — действительно, Бог никак не может быть определен, — мысль, которую впоследствии восприняли и христианство, и ислам, и все важнейшие мировые религии, эта мысль парализовалась мироотрицанием. В конце концов и труд, и жизнь теряли всякую ценность. Они становились недоразумением, бедой, я бы даже сказал, они становились неким грехопадением Бога, который попал в ловушку материи. Кроме того, божественный покой, божественное молчание, божественный мрак — все это рядовому человеку мало что говорило. Философ мог сказать, что Атман — высший, что он превосходит все представления. А человек религиозный, человек, который стремится сердцем к Богу? Где же настоящий лик Бога?
На этот вопрос пыталась ответить замечательная книга, рожденная в той же традиции, правда, значительно позднее, в конце первого тысячелетия до Р. Х. (точной даты мы не знаем), которая называется «Божественная песнь», или «Бхагавад–Гита». Сюжет ее таков: на поле Куру сходятся два войска. Близкие родственники, члены одной огромной семьи идут воевать друг против друга. Главный герой — царевич Арджуна, он на боевой колеснице. Выстроены кони, слоны трубят, звучит сигнал, и два войска бросаются друг на друга. Но принц Арджуна вдруг захвачен печалью: ведь он идет убивать своих родственников, своих братьев. Что делать? А рядом с ним возница, Кришна. На самом деле это не кто иной, как сам Бог, принявший образ человека. Царевич спрашивает его: Как быть? Что мне делать? В чем же смысл жизни? Эта битва на поле Куру становится в Бхагавад–Гите символом всей нашей жизни, где действительно люди идут брат на брата, где царят несправедливость и страдание. Кто их остановит? Как быть? Кришна отвечает своему собеседнику. Их разговор и составляет основное содержание этой книги. Бхагавад–Гита переведена Б.Л.Смирновым достаточно точно.
Существовал ли Кришна как реальное лицо? Это вопрос открытый. Кришна был древний чернокожий бог доарийских народов Южной Индии. Его иногда изображали в виде пастуха в окружении пастушек. Он был богом–покровителем стад, но, согласно гипотезе, подчеркиваю, гипотезе некоторых современных ученых, в первом тысячелетии до Р. Х. действительно существовал некий учитель Кришна–Васудева, которого потом объявили воплощением бога Вишну и от которого идет традиция бхагаватизма.
Бхакти — это то, что мы по–русски называем благочестием, любовью к Богу. Ведь Абсолютное Начало любить нельзя — можно перед ним преклоняться, можно восхищаться, можно благоговеть. Бхакти — это любовь. Учение Кришны–Васудевы заключалось в том, что можно любить Высшее Начало, что оно к нам обращено каким–то своим ликом. Поэтому мы, христиане, считаем кришнаизм пророческим предвосхищением христианства. То, что совершилось в евангельские времена — в Вифлееме, Назарете, на Голгофе, — эти реальные события имели свои прообразы в древнем мифе о чернокожем боге Кришне. Я приведу вам некоторые строки. Кришна излагает царевичу основы брахманистской веры. «Абсолютное непостижимо. Познать его можно только растворившись в нем». Есть одна легенда, которая даст вам ясное представление о том, в чем тут дело. Жила на свете кукла, сделанная из соли, и она очень хотела узнать, что такое океан. И ей сказали: ты узнаешь океан только тогда, когда в нем растворишься. Она пошла на берег, окунулась в океан, почувствовала себя родной океану и растворилась в нем.
Каждый человек, — учит нас брахманизм и кришнаизм, — единосущен Богу, тождественен Ему. Просто человек этого не знает. А следовательно, ни жизнь, ни смерть в конце концов не имеют значения. Кришна говорит Арджуне: «Иди сражайся. Это не имеет значения».
Познавшие не скорбят ни о живых, ни об ушедших,
Ибо Я всегда был, так же как и ты, и эти владыки народов,
И впредь мы все пребудем вовеки,
Как в этом теле смертном дается детство и юность,
Зрелость и старость,
Так воплощенный сменяет тела, мудрец да не смущается этим.
Фактически тут исчезают даже нравственные критерии, хотя Бхагавад–Гита — высоконравственное произведение. Более того, Кришна объясняет своему совопроснику Арджуне, что он пребывает во всех верованиях.
Все, что мощно, правдиво,
Крепко, прекрасно,
Из частицы Моего могущества возникло.
Но к чему тебе это множество знаний, Арджуна?
Утвердив весь этот мир, преходящей частицей Себя Я пребываю.
Царевичу хочется увидеть, каков же Бог на самом деле. Он просит: «Яви мне Себя». Этот момент в истории литературы и философии называют «преображением Кришны». Кришна, юный прекрасный возница замечательных коней, уступает царевичу. Он мгновенно преображается: это гигантский исполин, с кровавым ртом, с огромными клыками, которыми он терзает тела. Это сама природа, это ужас хаоса. И Арджуна слышит ужасные слова:
Я Время, продвигаясь, миры разрушаю,
Для их погибели здесь возрастая,
И без тебя погибнут все воины, стоящие друг против друга,
В обеих ратях…
Рази не колеблясь!
Кришна предстает здесь как равнодушная природа, как неописуемая, нечеловеческая, по ту сторону добра и зла стоящая сила.
Это учение поразительно противоречиво. С одной стороны, к божеству приближаются люди чистые, добрые, смелые; с другой стороны, исчезает критерий всех оценок. В конце концов, остается только один Атман, одно единое начало, которое появляется и исчезает вновь. Вспомните море: когда мы смотрим на волны, нам кажется, что вот одна волна взошла и тут же исчезла; вспомните костер, на который люди так любят смотреть: вот взметнулось пламя и тут же исчезло среди других языков пламени.
Познание человека — это осознание Бога в себе и освобождение от всего, что нас ограничивает. Если в Бхагавад–Гите мы находим политические и религиозные толкования этой темы, то в середине первого тысячелетия до Р. Х. в Индии появляются десятки даршан, философских направлений. Мы их называем философскими системами. Даршаны были очень разные, они пытаются интерпретировать Упанишады и Веды. Но к чему они идут? Они приходят постепенно либо к отрицанию божественного начала, то есть, в конце концов, к материализму, либо к утверждению того, что дух царит над материей, но не вмешивается в нее. И начинаются споры, начинается эпоха метафизики, когда религиозный и философский мир Индии приходит в брожение и с недоумением стоит перед неразрешенным вопросом.
Тогда и появился человек, который разрубил гордиев узел, отбросил все: секты, касты, традиции священных книг, Вед, часть Упанишад — и повернул индийскую мысль по–другому. Его родовое имя было Гаутама, личное — Сиддхартха; близкие называли его Совершенным, Татхагатой, или Просветленным, Буддой. Он был основателем мировой религии, которую мы называем буддизмом. Гаутама, прозванный Буддой, родился в то самое время, когда мир переживал великие потрясения, когда жили китайские философы–даосисты, когда появились первые греческие философы, Гераклит создавал свою систему, библейские пророки проповедовали свое ветхозаветное учение, весь культурный мир жил в напряженных исканиях истины.
Биография Будды не сохранилась. Существуют два его жизнеописания. Одно принадлежит поэту Асвагоше, оно есть в русском переводе Константина Бальмонта, изданном незадолго до революции в издательстве Сабашниковых; оно так и называется — «Жизнь Будды». Кроме того, существует сборник «Гирлянда Джатак». Джатаки — это притчи, сказания, которые Будда якобы рассказывал своим ученикам. Они тоже есть в русском переводе. Изречения Будды и краткие эпизоды из его жизни записаны в трех сборниках — питаках, или корзинах: Сутта–питака, Виная–питака и Абидхарма–питака. Виная–питака содержит уставы общины Будды, Сутта–питака содержит его изречения, и Абидхарма–питака — метафизику буддизма. Раньше считали, что Абидхарма — это поздний текст, но после работ Антона Розенберга, одного из удивительных знатоков буддизма (он утонул в Петрограде в 1919 г.), мы знаем, что все три части были довольно древними. Кроме того, есть жизнеописание Будды, которое изложено в стихах писателем Эдвином Арнольдом, — «Свет Азии», — но это только переложение; «Свет Азии» трижды переводился и издавался в России. В издании «Светоч» в 1909 г. он вышел в поэтическом переводе с фотографиями буддийских памятников. Но несмотря на то, что биография Будды написана почти через пятьсот лет после его смерти, основные контуры его учения мы хорошо знаем. Один из самых замечательных его сборников — это «Дхаммапада» (тоже существует в русском переводе). Дхарма (или дхамма) — очень сложное понятие. Это путь, закон, правило жизни, учение.
О Будде рассказывает следующая легенда. Он родился в предгорьях Непала, неподалеку от города Капилавасту. Отец его, местный раджа, очень любил сына и хотел уберечь от всевозможных тяжелых впечатлений. Он построил ему несколько дворцов. Будда в одном из своих изречений пишет, что у него был летний дворец, был зимний, был парк с лотосами. А легенда добавляет: царь скрыл от него, что люди умирают, что люди болеют, старятся. И вот однажды юный царевич Сиддхартха Гаутама отправился со своим слугой Чанной на прогулку без ведома отца. В то время у него уже была жена Яшодхара, родился ребенок. И вдруг ему навстречу попался старик, потом больной человек (кажется, прокаженный) и, наконец, носилки с покойником. И он спросил у Чанны: скажи мне, что произошло с этими людьми? А тот ответил: все мы можем заболеть, состаримся обязательно, а умирает каждый. И эта мысль поразила Гаутаму как громом — потому что он не был подготовлен к восприятию этой трагичности человеческой жизни. Если иных учителей поражали греховность человека, его злобность, нравственные изъяны, — его поразила трагичность нашей жизни, то, что мы смертны. Он сказал себе: «Значит, все не имеет смысла; если я погибаю, то зачем жить». Но Чанна ответил: «Как нас учат учителя, ты умрешь, но ты возродишься в другом теле. Если ты будешь добрым, то возродишься в добром теле — животного или человека». И это еще более повергло Гаутаму в отчаяние. Он спросил: нельзя ли выбраться из этого круга? Когда все это должно кончиться? Никто не мог найти ответа. И вот ночью царевич Сиддхартха решает уйти в лес к отшельникам, к архатам. Он последний раз прощается с женой, с сыном. Они спят, он подходит к ним, смотрит на них. Больше нет цепей, он порвал все узы. Вместе с Чанной они покидают дом. По дороге он меняется с одним охотником одеждой, накидывает на себя желтый плащ и скрывается в лесу. (Впоследствии желтый плащ станет одеждой буддийских монахов.) Он обрил голову, бороду и поселился в Урувельской чаще, недалеко от реки.
Долгое время он проделывал над собой самые жестокие эксперименты: морил себя голодом, довел свое дыхание до нескольких вздохов в сутки. Он стал похож на призрак. Когда приходили крестьяне из соседних деревень, они думали, что это скелет или призрак какого–то умершего человека. И он все ждал, что ему откроется тайна жизни, тайна мира. Но она не открывалась. Слух об удивительном молодом шакийском отшельнике (он принадлежал к племени шакьев и касте воинов) прошел далеко по округе. И вот пришло несколько молодых отшельников, которые нетерпеливо стали дожидаться, когда же произойдет откровение тайны. Это была замечательная сцена. Гаутама, молодой человек (ему тогда было около 25 лет), сидит и ждет, и лицо его похоже на маску смерти; а отшельники расположились вокруг и ловят его слова… В конце концов, он едва не умер.
И вдруг он понимает, что этими путями он ничего не достигнет, и говорит пустынникам, что больше он так поступать не будет. Этот перелом произошел благодаря одной сердобольной женщине, которая, видя, что молодой архат уже умирает, принесла ему пищи и почти насильно накормила. Он ожил и сказал: не нужны человеку такие издевательства над собой, аскеза не самоубийство. Те, кто ждали от него немедленного откровения, были очень разочарованы. Они покинули его, считая предателем их дела. А он предавался аскезе уже более умеренно и ждал, когда наступит момент просветления. И он наступил: под деревом бодхи, «деревом просветления», как его называют, однажды, как молния, его озарила мысль, что найден наконец выход из трагедии мира. Он сформулировал знаменитую «четвертую истину». Он шел из Урувельского леса просветленный, уверенный, что открыл тайну. Легенда рассказывает о том, как его окружали демоны, которые пытались его соблазнить, заставив совсем уйти от людей, но он шел вперед. Навстречу ему попался джайнистский подвижник (они ходили голышом), он спросил: «Почему ты так сияешь?» Гаутама ответил: «Я открыл тайну мира, я теперь Просветленный, Будда». Тот не очень серьезно отнесся к его словам.
Основатель джайнизма Махавира жил в то же время, что и Будда. У джайнистов была титаническая идея: нет божественного начала, которое могло бы помочь человеку, есть лишь единственный дух, тот, который спрятан в нашем теле, и он должен победить тело. Поэтому джайнистские статуи изображают невероятных людей: гигантские обнаженные фигуры, увитые плющом, потому что они потеряли всякую чувствительность. Джинна значит победитель. Победа над плотью, победа над миром — пусть торжествует дух! Но в конце концов дух убивает все вокруг.
Учение Будды было сформулировано им без таких крайностей. Первая истина звучит так: в мире существует страдание, страдание имеет свою причину, и для того, чтобы эту причину устранить, существует средство. (Это напоминает тетрафармакон* Эпикура. Как ни странно, Эпикур, греческий философ, с именем которого мы связываем эпикурейство — готовность жить только в свое удовольствие, — создал почти такое же учение, как Будда.) Когда Будда осознал свое открытие, он захотел встретиться с теми молодыми монахами, которые его бросили. Они пошли к нему очень недовольные, но, как гласит предание, едва приблизившись к нему, были поражены светом, который исходил от его лица. Они сели вокруг Будды, и он сказал: «Вот, о бхикшу (бхикшу — нищий странствующий монах), вот, о монахи, благородная истина о страдании: рождение — страдание, старость — страдание, болезнь — страдание, то есть вся жизнь есть страдание. Вот вторая истина — о происхождении страдания: оно происходит от жажды жизни. Тришна, жажда жизни, тащит человека через все перевоплощения; именно потому, что в человеке не погасла жажда жизни, он, умирая, возрождается вновь. Отсюда дальнейший вывод. Вот, о монахи, благородная истина об уничтожении страдания: полное освобождение от этой тришны, конечная победа над страстями, изгнание, отвержение и оставление их. И вот, о монахи, четвертая благородная истина — о пути, ведущем к угашению скорби, о священном пути освобождения: не радоваться, но и не печалиться, подняться над всем, что есть. И тогда постепенно человек приобретает необыкновенный покой духа, полную свободу. Так надо жить и действовать».
И они пошли. Все надели желтые плащи, обрили головы. Общество их называлось сангха. Европейские ученые переводят это слово как церковь, буддийская церковь. Но это не церковь, это пока еще монашеский орден. Это еще не стало широким мировым учением.
Монахи слагали гимны. Один из них звучит так:
Когда в небе гремят барабаны грома,
И потоки дождя заполняют пути,
По которым следуют птицы,
А бхикшу, укрывшись в пещере, размышляет,
Есть ли в мире большее наслаждение?
Свобода и покой…
Правда, мы должны сказать, что Будда утверждал необходимость нравственного совершенствования. Вырваться из тисков перевоплощения, из этого рокового колеса бытия можно только освобождая себя и от страстей, и от гнева, ярости. Да, Будда не учил любви. Но он учил состраданию, человечности. Потом к нему примкнули и светские люди, то есть не монахи. Он дал им Панча шила, пять заповедей. Ахимса (неубиение), неупотребление спиртных напитков, воздержание от блуда, от воровства, от лжи — вот эти простейшие заповеди. Люди, которые не порывали с миром, но исповедовали буддизм, назывались учениками.
Я не буду подробно рассказывать о долгой жизни Будды, который прожил около 80 лет. Он странствовал по Индии; у него были столкновения с некоторыми местными князьями; были и трагические моменты, когда он попал к себе на родину и отец, в ужасе от того, что его сын, сын раджи, стал нищим монахом, пытался как–то его уговорить, но кончилось тем, что Будда увел за собой и своего сына. Как гласит легенда (впрочем, едва ли достоверная), он был свидетелем того, как враги напали на его отечество. Он пришел ночью на родину и бродил среди трупов, искалеченных после побоища, молча смотрел на них и только повторял: так совершилась их судьба. Его двоюродного брата Девадатту часто неправильно называют Иудой. Он был не Иудой, а соперником, он пытался захватить власть в ордене.
В Дхаммападе есть замечательные изречения, которые волнуют человека и сегодня. Там много чудесного и мудрого. Вот несколько изречений оттуда: «Никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью». «Хорошо сказанное слово человека, который ему не следует, столь же бесплодно, как и прекрасный цветок с приятной окраской, но лишенный аромата». Или еще: «Пусть мудрец усилием, серьезностью, самоограничением и воздержанием сотворит остров, который нельзя сокрушить потоком». «Как крепкая скала не может быть сдвинута ветром, так и мудрецы непоколебимы среди хулений и похвал». «Один день в жизни человека, видевшего бессмертную стезю, лучше столетнего существования человека, не видевшего высшей жизни». Будда говорил: «Как неизмеримый океан имеет один вкус — вкус соли, так и мое учение имеет один вкус — вкус спасения». Спасение от этой жизни. Надо сказать, что тот, кто получал отрешение через созерцание и практику буддизма, действительно спасался от горя этого мира. Можно достичь огромного самообладания. Однажды в Индокитае некоторые буддийские монахи пытались протестовать против разных злоупотреблений, и один из них сжег себя публично. Я видел это на фотографиях, последовательно: вот монах сидит в позе лотоса, его обливают бензином, потом поджигают, а он остается неподвижным; у него горит лицо, и он сидит неподвижно, пока уже сгоревший не падает на землю. Буддизм, хотя и отвергал предшествующую традицию Упанишад, впитал в себя и практику йоги, и многие другие элементы брахманизма.
Какова же цель буддийского самоотречения? Эту цель Будда называл нирваной. Он никогда не разрешал себе давать ей определение. Нирвана — это полное угасание страстей и даже самосознания, угасание бытия. Но не подумайте, что здесь возникает «ничто», подобное смерти. Это просто иное, совершенно иное бытие. Откуда взялось это бытие? Будда предпочитал на этот вопрос не отвечать. У него был список тем, которые он отказывался обсуждать. Но все–таки в третьей части буддийского священного канона мы можем найти набросок его метафизики. Изначально возникло колебание элементов мироздания, дхарм. Это колебание создает мир, создает перевоплощение, природу, человека. И все это — зло. Жизнь — зло, бытие — зло. Все это ненужно, это отрицательное явление, это страдание от начала и до конца. Подобно тому как Лев Толстой, пережив трудности в своей личной жизни, написал «Крейцерову сонату» — о трагедии любви и брака, — где в конце концов привел к тому, что выбросил за борт и любовь, и брак, так и Будда решает вопрос о трагичности жизни таким образом, что подписывает жизни смертный приговор. Жизнь не нужна, это, как бы лучше выразиться, — ошибка природы. Настоящее реальное бытие — это молчание нирваны. Когда оно было нарушено? Будда не отвечает. Скорее всего эта болезнь очень древняя, изначальная. Но она не бесконечна. Человек имеет возможность на своем индивидуальном пути отказаться от жажды жизни, преодолеть все перевоплощения, развоплотиться и уйти в небытие. И, выражаясь уже нашим языком, чем скорее человечество в конце концов от всего этого откажется, полностью освободится от стремления к бытию, тем лучше для мироздания, ибо для него существование есть мука, есть страдание. Великим вкладом буддизма в историю человеческой цивилизации явилось то, что он показал: при отсутствии веры в личного Бога смысл жизни исчезает. Как бы ни было прекрасно учение об абсолюте, о нирване, если нет Того, Кто откликнулся бы на наш голос, мы приходим к крайнему пессимизму (в философском смысле слова), приходим к мироотрицанию, к выводу, что мир надо уничтожить.
На этом фоне слабеют прекрасные нравственные заповеди буддизма. Мы преклоняемся перед его этическими нормами. Мы преклоняемся перед буддийским искусством (которое возникло вопреки воле Гаутамы Будды, потому что о каком искусстве может идти речь, зачем оно, когда нужно вообще преодолеть жизнь). Но человек не мог ограничиться этим отрешенным сознанием. Дух, который утвердил себя, как бы попирая материю, оказался в таком же трудном положении, как и материя, которая попирает дух. Найти средний путь между духом и материей попытались люди, жившие несколько западнее, чем Индия, в Греции в то время, когда буддизм стал активно распространяться по всей Индии, уже после смерти Будды, который произнес умирая: «Монахи, все существующее преходяще. Пекитесь о своем спасении!» Разумеется, те, кто принимал буддизм, не обязательно принимали его мрачную метафизику. Они принимали его высокую этику и прекрасную убежденность в том, что материальное — это не все, что есть в мире ценного; есть еще другие, духовные ценности. И эту мысль они облекали и в прекрасную поэзию, и в великолепное искусство, которое запечатлелось в Индии в храмах Аджанты и других…
Но потом в Индии буддизм был вытеснен. Иные религиозные взгляды, более живые и более похожие на взгляды кришнаитов, оказались более приемлемы для народа. Буддизм в Индии практически исчез, но он распространился в сильно измененной форме среди миллионов жителей Дальнего Востока: китайцев, корейцев, тибетцев, жителей Шри–Ланки, Индонезии. В нашей стране буддизм был распространен в Бурятии и среди калмыков в Элисте. До революции было около 50 буддийских центров, а в 80–х гг. их осталось только два. Буддизм у нас был почти разгромлен. Но сейчас, я думаю, буддийские традиции возродятся.
Итак, в диалектике человеческого познания истины торжество духа и отрицание материи имело свою очень важную ценность. Но вслед за этим отрицанием нужно было найти синтез духовного и телесного. Это попытались сделать греческие философы, к которым мы с вами перейдем в следующей беседе.
ДОСОКРАТОВСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Обратимся к тому миру, который, казалось бы, всем нам знаком, — к миру древней Эллады, или, как ее называли в старину, беломраморной Эллады. Тысячами нитей связана она с нашей цивилизацией, с нашим искусством, наукой, философией, политической жизнью. И слово «демократия» пришло оттуда, и само понятие демократии пришло оттуда, и те общепринятые, к сожалению, ставшие уже банальными типы архитектуры, на основе которых создаются бесчисленные жилые дома, клубы, здания, вокзалы, — все это так или иначе восходит к античным образцам. И хотя у нас в школах история преподается очень плохо и скудно, для античности делается исключение. Сегодняшние школьники и студенты в большинстве своем очень смутно представляют себе великие духовные культуры Востока, Ближнего Востока и Индии, Библию, Рамаяну, Махабхарату, но античные мифы, по крайней мере, в довольно удачных переложениях знают почти все. Кроме того, чудесные переводы античных поэтов, осуществленные Жуковским, Гнедичем, Вересаевым, Мережковским, Аптом и многими другими, прочно и давно вошли в русскую культуру.
Тем не менее, все это далеко не так просто. Новая европейская культура последние четыреста лет находилась под своего рода гипнозом ренессансного мифа об античности. Этот миф заключался в следующем: жизнь, творчество, мышление, характер древних греков отражали какой–то наивный, почти райский период человечества, это было жизнерадостное, оптимистическое, посюстороннее миросозерцание и мироощущение.
Огромные скалы, рощи, ручьи и белокаменные колонны на берегу заливов. Конечно, все это было, но, в действительности, мы забываем, что Греция — родина трагедии. Едва ли плотский, жизнерадостный народ мог создать этот великий жанр — трагедию, эти мрачные, титанические, скорбные образы, этот жуткий мир, в котором вращаются обреченные герои? Пройдитесь по Музею изобразительных искусств, вглядитесь в застывшие и как бы отрешенные лица греческих статуй. Это лишь маски. А настоящая суть греческого духа нередко передается подлинными масками — масками трагических актеров, — жуткими, устрашающими, навевающими ужас. Таким образом мы можем сказать, что была другая Эллада, в чем–то близкая сегодняшнему трагическому времени, — которая разрывалась в поисках истины, искала лучшего социального устройства, которая пережила и кризис деспотизма, и кризис демократии. И когда мы читаем политические трактаты греков, мы как будто бы читаем сегодняшние эссе в «Новом мире» или в «Новом времени». В этом отношении Греция очень близка нам.
Что определяло ее дух изначально? Преклонение перед природой, обоготворение природы и обоготворение человека как особого существа в природе. Но древний грек, как я уже говорил вам в одной из наших встреч, создав первоначально образы олимпийцев, сам по–своему охладел к этим образам — потому что он чувствовал, что эти существа, как они изображены потом у Гомера, Гесиода и других поэтов, не боги, но лишь гипертрофированные люди, облеченные какими–то сверхъестественными свойствами. И поэтому к VII–VI вв. до Р. Х. у греков воцарилась весьма формальная гражданская религия. Она была частью народной традиции, частью политического строя. Почитать богиню Афину значило почитать свой полис, свой город–государство Афины. Но это не давало удовлетворения духовным, глубинным запросам. Гражданская религия как прочная социально–политическая традиция может существовать долго. Но она не может заменить собой религию мистическую, религию истинно внутреннюю и личную.
В поисках восполнения гражданской религии греки пошли двумя путями. Один путь — это преклонение перед Матерью–Землей, Деметрой. О ней слагались мифы и сказания. Недалеко от Афин, в городке Элевсин, стали совершаться таинства, или мистерии, посвященные Земле. Тем, кто участвовал в этих таинствах, было обещано, что они обретут бессмертие. Бессмертие подлинное, а не то жалкое бессмертие, о котором мы читаем в «Одиссее» Гомера, где духи умерших носятся во мраке, как летучие мыши, жалобно стеная.
Почему его должна даровать Земля? Потому что человек всегда, из века в век видел, как земля все порождает, как из нее появляются первые побеги, поднимаются травы и деревья; она кормит людей, она есть Матерь–богиня. И когда грек смотрел на холмы своей родины, похожие на холмы нашего Крыма или Кавказа, он воспринимал это как образ многогрудой матери, питающей своих детей. Когда наступали осень и зима (хоть и не наши, а средиземноморские), растения умирали, а потом возрождались вновь. И вот слагались легенды, поэмы, мифы о том, как Мать Деметра, утратив свою дочь, извлекала ее из тьмы смерти, из преисподней.
Что происходило на этих мистериях, которые совершались около тысячи лет, вплоть до первых веков нашей эры? Мисты, участники таинственных обрядов, давали клятву сохранять их тайну, они не имели права никому рассказывать, что там происходило. Тем не менее в течение такого длительного времени что–то все–таки просачивалось. Мы знаем, что особый жрец, мистагог, водил посвящаемого по темным коридорам; тот переживал ужас смерти и потом выходил на свет, и ему давали созерцать сноп пшеницы. В этом пребывании во тьме, быть может, вырабатывалось особенное зрение, которое может выработать каждый из нас: способность видеть и чувствовать силу жизни, которая теплится в семени, в зернышке, в плоде, в каждом растении, в каждом живом существе. Тайна жизни, тайна природы… Но что бы там ни происходило, это было только переживание на фоне обряда, без какой бы то ни было доктрины, без осмысления. Обряд — вещь великая, в том смысле, что человек постигает любую истину, приобщается к ней не только умом, не только сознанием, но всем своим существом, сердцем, эмоциями, телом даже. В Элевсине не было книг, там не создавались священные писания; в конце концов все свелось только к обряду.
Но как бы ни был велик обряд, у него всегда есть особое свойство: в нем кроется опасность стать самодовлеющим, вытеснить все другое, сохраниться в виде формы, лишенной или постепенно утрачивающей свое содержание. Кроме того, обряды приобщения к природе в Элевсинских мистериях не обещали приобщения к тайне бессмертия «здесь и теперь», а только после окончания жизненного пути. А «здесь и теперь» человеку обещало другое направление греческого духа и культуры, связанное со священным именем бога Диониса и возникшее примерно в VII–VI столетиях до Р. Х., в тот период, когда греческие полисы стали рассылать повсюду своих вестников, когда людям стало тесно в этой крошечной стране на юге Балканского полуострова и греческие колонизаторы двинулись на восток и запад, несмотря на трудности пути, основывая города, фактории, прибрежные поселки. Тогда они основали и нашу Одессу, и Марсель, и многие другие известные города, пережившие Древнюю Грецию.
Жизнь в греческих полисах, городах–государствах того времени была достаточно сложной, устойчивой и определенной. И этот относительно ровный ход истории нарушился двумя событиями. Самое грозное событие — на Грецию стала надвигаться опасность иноземного завоевания. В ту эпоху самым крупным мировым государством был Иран (Персия). Иран сейчас сравнительно небольшое государство, но тогда, за 600 лет до Р. Х. он постепенно разрастался и достиг огромных размеров. Это государство включало в себя Египет, Палестину, Сирию, часть Малой Азии, саму Персию, часть Индии, часть Средней Азии, Азербайджана, то есть это было огромное многонациональное государство. И, как свойственно таким империям, ее распирало, она все время расширялась, хотя, конечно, жизнь граждан от этого не становилась легче. Как правило, расширение империи ведет к ужесточению режима внутри государства. Персы двигались по Малой Азии, а в то время эта страна была заселена греками из племени ионийцев, одним из самых талантливых греческих племен. Они занимались торговлей, промышленностью, создали довольно высокую цивилизацию в союзе с местными племенами древних культур, которые были в свою очередь связаны с племенами и народами Кавказа. Продвижение персов встревожило греков. Иран управлялся тиранически, монархом, а у греков складывалась республиканская форма правления. Во многих греческих городах уже возникли зачатки демократии. Только те города, где правили диктаторы, приветствовали приход персов.
В V в. до Р. Х. начались бурные греко–персидские войны. Это испытание, в котором Греция победила, послужило толчком для необыкновенного, неповторимого взлета античной греческой цивилизации и демократии. А накануне греко–персидских войн как бы зловещим их предвестием стала странная религия Диониса. Дионис не был богом, почитаемым иными народами. Культ его развился в рамках античной греческой религии, по–видимому, на севере Балканского полуострова. С какого–то времени (точно мы его датировать не можем) стали совершаться странные действия, получившие названия оргий. Впоследствии у нас это слово стало обозначать разнузданную вакханалию. Вакханалия происходит от имени Вакха, это другое имя Диониса. Толпы женщин, очень странно одетых, вернее, полуобнаженных, закутанных в шкуры диких зверей, потрясающих тирсами — палками, увитыми плющом, с дикими криками носились по рощам и священным холмам. Почтенные матери бросали свои очаги, молодые девушки убегали туда, и никто этому не противился. Считалось, что это священный праздник Диониса. А греческая женщина, лишенная не только всех прав, но обычно неграмотная и в высшей степени скованная в своих действиях, вдруг нашла выход своим подавленным страстям. Греческие поэты, драматурги, историки рассказывали, что эти вакханалии, празднества, ночные бегания с факелами и с криками иногда кончались сценами полного безумия (чем–то это напоминает мне события нашего времени: некоторые танцы, некоторые формы рока, когда это переходит всякие границы, уже не контролируемые человеческим духом). Дело порой кончалось тем, что толпа этих женщин, пробегая мимо стад, могла ворваться в стадо и растерзать всех животных, и тут же на месте пожрать их. Бывали случаи убийств. Один поэт рассказывает, что когда вакханки встречали мирных людей, те в ужасе разбегались, потому что они могли даже убить ребенка. Но дело тут не в крайних эксцессах. Это была волна колоссального исступления. Почему греки с уважением относились к таким странным вещам? Потому что считалось, что природный экстаз, когда человек выпускает из себя все силы души и тела, подавленные и спрятанные, — этот экстаз приобщает его, здесь и теперь, к космическому бытию, к природе. Человек возвращается к природе через экстаз. Он забывает, что он разумное существо, что он духовное существо. Он, как оборотень, превращается в волка, в бегущую лань, в поток воды, в шум дерева, сливается в этой безумной пляске с самим мирозданием.
Но все это потерпело крушение — по одной важной причине. Человек не может вернуться обратно к природе. Он вызван из мира природы, и его отношение к ней теперь должно быть совершенно иным. А когда он пытается, пятясь назад, вернуться в звериное обличье, он выпускает уже не зверя, а демона. Ибо зверю такие безумства не свойственны, и в нормальном состоянии звери не бегают и не терзают кого попало и как попало. Я думаю, многие из вас видели, хотя бы в кино или по телевидению, как ведут себя хищники в присутствии своей добычи. Когда лев сыт, он лежит спокойно, и антилопы, как бы ощущая это, проходят всего в нескольких шагах около него. Животное не кровожадно, животному на самом деле не свойственно буйство агрессии. И поэтому, когда мы говорим о звере в человеке в том смысле, что он совершает зверства, это не совсем точно. Ведь буйства оргий, дионисический разгул подсознательного мира, который черным фонтаном вырывался из человека, — это совсем не зверство, животный мир этого не знает. Это попытка убежать — убежать в бессознательное состояние, попытка повернуть вспять ход человеческого развития.
Появились реформаторы, которые привели все это в некую норму. Праздники Диониса стали более спокойными, он был объявлен богом вина и веселья. Но пьянства греки не любили, очень сурово его осуждали: вино пили всегда смешанное с водой (а ведь у них виноградарские края!), и только отдельные поэты любили ради красного словца поговорить о том, как они топят свою печаль в вине. Но в общем, в тот классический период своей истории греки, окруженные виноградниками и, естественно, пившие вино, как у нас на Кавказе, каждый день, никогда не пьянствовали. И праздники были утихомирены и введены в соответствующее русло.
Таким образом, две попытки вернуться к природе — либо через обряд земледельческий, хтонический, связанный с почвой, либо через экстаз растворения в природе в бешеном танце, не дали нужного результата. Впрочем, в дионисийстве зародилось новое учение, правда, не получившее настоящей богословской и философской осмысленности. Это учение связано с древним героем, легендарным Орфеем. То, что мы знаем об Орфее, связано с легендами о погибающем и воскресающем боге растительности. Существовал такой герой или нет, не имеет значения. А важно, что орфизм учил, во–первых, о том, что дух человека бессмертен и к этому бессмертию можно прикоснуться уже теперь; и во–вторых, через причудливые сказания и мифы орфизм приходил к идее некоего высшего духовного единства, создавшего вселенную, Протогеноса, Первородного. В этой стихии начала складываться греческая философия.
Философия — любовь к мудрости, не надо путать ее, как иногда делают, с засушенным, отвлеченным, рационализированным способом познания, с чем–то оторванным от жизни, с чем–то входящим в узкий круг проблем познания и его методов. В начале нашего столетия и в конце прошлого научной философией считалась только та, которая скрупулезно анализировала наши способы познания. Но она напоминала в этом отношении бессилие биологической науки, которая никогда не могла постигнуть жизнь иначе, как убив ее, расчленив организм, который больше уже не может ожить. Так и аналитическая философия. Она разрезала человеческое познание, она расчленяла дух, и в конце концов получался труп мысли, но не сама мысль, но не само живое органическое постижение.
Одним из первых, кто пытался сочетать чувство природы, интуитивное восприятие высшего начала с рациональными принципами, был Пифагор, живший в VI в. до Р. Х. Естественно, у всех это имя связано со знаменитой теоремой, и поэтому нам Пифагор представляется одним из родоначальников математики. В какой–то степени это так, но это совсем не главное. Пифагор был современником библейских пророков, современником Будды, Конфуция и Заратустры. Он был основателем оккультного, духовного, теософского общества. К сожалению, у нас нет ни его произведений, ни свидетельств, записанных современниками. Все, что о нем известно, пришло к нам через предания, легенды, поэзию. Тем не менее, передаваемые из уст в уста краткие изречения учителя позволяют нам судить о том, что представляло собой пифагорейство. Пифагор первым указал на духовную подоплеку природного бытия. Он говорил, что мир создан числом, а число есть нематериальная, неощутимая реальность. Он учил человека развивать в себе способность воспринимать гармонию небесных сфер. Все мироздание представлялось ему неким живым целостным организмом, подчиненным сложнейшим и тончайшим математическим закономерностям. К этому он прибавлял еще развитие в человеке особых форм постижения. Члены его ордена вели аскетический образ жизни; у них были запреты на определенные виды пищи; во многом пифагорейцы напоминают индийских брахманов. Немецкий историк Леопольд Шредер даже предполагал, что Пифагор учился в Индии. Документальных свидетельств этому нет; однако есть один момент, который нас наводит на размышление: Пифагор говорил о том, что души странствуют из тела в тело, а это учение исключительно и специфически индийское. Однако пифагоров взгляд на метемпсихоз — переселение душ — имел немного иной оттенок, нежели у индийцев с их кармой, с их понятием воздаяния. Для Пифагора это странствование означало вечный круговорот, ибо времени нет, ибо в пространстве бытия единое целое, каким является вселенная, возникает и вновь исчезает, и все повторяется до бесконечности. Вновь звучит гармония сфер, вновь появляются те же самые люди, вновь странствуют души по миру, а потом все снова возвращается в некую тайну.
Но что это за тайна? Об этом думали мыслители и ученые Ионии — греческих городов–полисов в Малой Азии. Особенно известен был среди этих мыслителей Фалес Милетский, живший в портовом городе Милете. От него дошло изречение, что «мир происходит из воды», что архэ, Первоначало всего, есть вода. И наши учебники сразу поторопились ввести его в пантеон предтеч диалектического материализма — потому что он якобы считал, что материальное начало есть основа бытия. В действительности Фалес совершенно иначе смотрел на вселенную. Он говорил: все полно богов. Космические воды для него были образом того таинственного Первородящего Океана, который мы находим в мифах Вавилона, Китая, Египта. Это некая божественная материя, некая богиня, которая все порождает из себя. Подобно Пифагору, Фалес мыслил Вселенную как некое законченное единство. Мы можем назвать его пантеистом, потому что он не находил ясного личностного начала в божественном архэ. А другие ионийские мыслители видели в основе бытия иную стихию — не воду, а огонь, — или неопределенное Беспредельное, Апейрон.
Так или иначе, здесь зачинаются и философия, и наука. Но пока они еще теснейшим образом связаны с богословскими размышлениями. Должны ли они противостоять друг другу? Вот вам простой пример, который приводит великий русский мыслитель Владимир Соловьев. Как происходит развитие организма? Возьмем зерно. Если мы его разрежем, мы найдем в нем зачатки и корней, и листьев, и стебля. Потом, когда зерно прорастает, происходит дифференциация: корень, ствол и листья получают особое место. Потом, когда растение приносит плод, все опять синтезируется. Таким образом, без разделения, без временной дифференциации процесс нормально идти не может. Точно так же философия, естествознание, богословие, религиозная, художественная жизнь в первоначальном мире были как бы в зерне — все было смешано воедино. Потом должно было наступить время, когда каждое находило себе свое место, свои законы, свои принципы. Это естественно и нормально. И только на более высоких ступенях развития духа и мысли начинают сходиться воедино искусство и наука — вы знаете такое выражение ученых: красивая гипотеза, красивая формула, наука и философия — когда естествознание подходит к понятиям предельным, наука и вера — когда они оказываются перед лицом непостижимого рассудком, но постижимого интуицией. Когда все силы человеческого познающего я — и интуиция, и отвлеченное мышление, и эмпирическое познание — равномерно включаются, чтобы познать сложное бытие, вот тогда и происходит синтез.
На каждом витке истории синтез имеет свои особенности. Но у древних греков пока еще было только зерно. Самая главная мысль древнегреческих философов — Парменида, Гераклита, Ксенофана — мысль об архэ, о Боге в конечном счете. Хотя они были в большинстве своем ученые, для них главным было найти то или того, на чем основывается все и что дает смысл миру. Парменид воспринимал его логически, Гераклит интуитивно, а Ксенофан выступил поистине в духе своих современников, израильских пророков. Он был поэтом и странствовал с лирой по городам. Тогда все философы много путешествовали, ведь книг было мало, и информацию о мире можно было получить, главным образом, путешествуя. Все они побывали на Востоке, особенно они любили Египет — как мать наиболее древней цивилизации. Ксенофан первым открыто выступил против политеизма, против язычества, против форм многобожия, которые описаны в различных мифах и сказаниях. К тому времени Гомер и Гесиод были уже как бы канонизированы, и их поэмы, если и не занимали место Священного Писания, то, во всяком случае, считались чем–то в этом роде, то есть книгами о богах. Вы знаете, как выглядели многие из этих сказаний о богах. Кстати, Ксенофан одной из своих поэм вдохновил Пушкина, который написал ее переложение. Вот несколько строк, сохранившихся из поэзии Ксенофана:
Что среди смертных позором слывет и клеймится хулою,
То на богов возвести наш Гомер с Гесиодом дерзнули:
Красть и прелюбы творить, и друг друга обманывать хитро.
Дальше он делится своим опытом встреч в чужих странах со звероподобными идолами и делает такой вывод:
Если б руками владели быки, или львы, или кони,
Если б писать, точно люди, умели они что угодно, —
Кони коням бы богов уподобили, образ бычачий
Дали б бессмертным быки; их наружностью каждый сравнил бы
С тою породой, какой он и сам на земле сопричислен.
Черными пишут богов и курносыми все эфиопы,
Голубоокими их же и русыми пишут фракийцы.
Таким образом получается, что человек сам создает богов. Но впервые в Греции возникает, хотя и недостаточно оформленная, идея монотеизма. Ксенофан мыслит божественное Начало как некую всеобъемлющую силу, которая пронизывает все мироздание. Человек глубоко связан с этим Началом и может и должен чтить его, но не теми варварскими, вульгарными способами, какими он чтил Зевса и других богов, а совершенно иначе.
Спервоначально должны славословить разумные мужи
Бога в напевах святых, благоречивых словах.
А возлиявши вина, сотворивши молитву, чтоб силу
Дал Он нам правду творить — это ведь лучший удел,
Пить человеку не грех, лишь бы мог он домой возвратиться.
Таким образом, добрый праздник — хороший праздник, а самое лучшее — совершать добро и справедливость.
Пытаясь осмыслить эту идею единого Божества как неотделимого от природы, Парменид старается придать этому логическую форму. У него выходит почти гегельянство: мысль и реальность — это одно и то же. Все — неподвижно, все есть Бог, Он есть Единое, и поэтому мы все в этом Единственном заключены.
Казалось бы, антиподом Парменида был Гераклит, человек, которого называют «плачущим философом». Он тоже жил в Малой Азии, в Эфесе, в городе, где почиталась богиня Артемида. Писал он странно, туманными афоризмами, его называли Скотейнос — Темный (то есть темный философ). Сократ говорил о нем: «То, что я понял из книги Гераклита, прекрасно, но, наверное, самое лучшее — это то, чего я у него не понял». До нас книга Гераклита дошла только во фрагментах. Кстати, сейчас вышел томик древнейших греческих философов, и там помещены эти фрагменты. Они у нас неоднократно переводились В.Нилендером, Маккавейским и другими.
Гераклит презирал толпу. Он говорил, что для него миллионы людей меньше значат, чем один мудрец. Сам он, когда его сограждане занимались бурной политической деятельностью, уходил в портик храма и играл с ребятишками. И когда его спрашивали: «Почему ты не идешь на собрание?» — он говорил: «Для меня вот эта игра гораздо важнее, чем ваши бирюльки». Зная, как он относился к греческим порядкам, персидский царь пригласил его к себе на службу, но Гераклит отказался, он предпочел быть свободным. Странный, капризный, парадоксальный человек, но он уловил многое, что действительно присуще мирозданию, в частности, то, что мир есть процесс. Панта рей (все бежит, все течет). Всем известно его знаменитое изречение, что нельзя дважды вступить в одну реку, потому что река эта уже через секунду не та река, вода проносится мимо. Все рождается из огня, говорил он, и в огонь уходит, все разменивается на огонь. Наши материалистические толкователи говорили: конечно, Гераклит — диалектик и материалист, потому что для него огонь — это материя. Но на самом деле для Гераклита огонь — это разумное начало, оно управляется Силой, которую Гераклит назвал Логосом.
Вот когда это слово названо, произнесено. С того времени на двадцать пять столетий оно прочно входит в философию Востока и Запада. И когда евангелист Иоанн захочет поведать нам о тайне Христа, Божественного Слова, он напишет в первых строках своего Евангелия: Эн архэ€ эн о ло€гос — «В начале было Слово». Слово — это многозначный символ; для Гераклита — это разумный закон, который управляет всей вселенной. Но несмотря на то, что Гераклит казался антиподом Парменида, считавшего, что все неподвижно, они стояли на почве одной традиции, ибо ни для того, ни для другого истории мира не было. Мир рождался из огня и обратно уходил в него. Был ли он неподвижен или вращался в круговороте, на самом деле мир оставался неизменным, все возвращалось на круги своя. Именно об этом писал позднее библейский Екклесиаст, но писал вопреки библейской традиции. Все возвращается на круги своя. Потом Эмпедокл говорил, что пройдет время, и мы так же будем сидеть и так же будем беседовать, потому что мироздание огромно и все в нем повторяется.
Такие же мысли рождались и у Демокрита Абдерского, одного из крупнейших ученых Греции V в. Демокрит занимался многими отраслями знания — и математикой, и естествознанием; он первый выдвинул гениальную интуитивную догадку, не подтвержденную тогда экспериментально — о прерывности материи. Он предположил, что материя состоит из элементарных частиц разной формы, которые, сцепляясь между собой, создают все формы жизни и материи. Он назвал их «неделимыми», атомами. Его считали ученым–атеистом. На самом деле, он, как и Гераклит, признавал, что мир не создан никем из богов (у Гераклита есть такая формула: «Мир не создан никем из богов»). Но для Гераклита и боги созданы божественным Огнем — и боги, и люди, и все существа. Кстати, даже для языческого сознания греков, мироздание создали не конкретные боги, а древнее Первоначало, Матерь всех богов. Демокрит считал, что и боги состоят из атомов — из атомов другого типа. Боги почти не участвуют в жизни людей, но могут на них влиять. Есть боги враждебные человеку, есть полезные. И Демокрит молился и даже совершал магические обряды, чтобы ему сталкиваться чаще с благотворными богами. Его механическая вселенная была столь же бесперспективной, как вселенная Гераклита или Парменида.
Великие открытия — того, что мир является огромным целым, что он пронизан духовным, что начало его лежит в духовном, — ослаблялись этим отсутствием идеи о цели становления, идеи творческого акта. Если для древнего индуса рождение мира и человека из недр молчащего Брахмана, Сверхбожества, было игрой мироздания, игрой Божественного Я, то для греков это был как бы непостижимый процесс: для чего–то разумный Огонь, или Вечность, или Апейрон из себя выпускает мир и для чего–то вбирает в себя опять.
Но, подводя итоги развития досократовской философии, отметим очень важную фигуру — Анаксагора, одного из первых мучеников науки (хотя он не был казнен). Этот человек приехал в Афины в период расцвета афинской демократии и искусства, в середине V в. Блестящий Перикл стоит во главе полиса, Фидий создает статую Афины, возводится Парфенон, бессмертное творение греческого гения. Власть принадлежит народу — естественно, только свободным мужчинам. В этом сравнительно небольшом городе они все собираются на площадь и голосованием — они писали на глиняных черепках свою волю — решают основные проблемы. С чем связан подъем афинской демократии? Внешне, политически — с победой над персами. Когда иранский царь Ксеркс нанес Греции свой первый удар, он не смог пройти через знаменитое Фермопильское ущелье, где его встретил спартанский царь Леонид. У Леонида было всего триста воинов, ущелье было очень узкое, и они все там погибли, но персы пройти не смогли. Но что такое была персидская армия? Это был пестрый сброд всех покоренных народов. Сзади шли люди с плетями, которые гнали солдат на битву, ибо они вовсе не хотели идти воевать. По этому поводу Владимир Соловьев написал стихотворение «Ex oriente lux» — «С Востока свет», — которое начиналось такими словами:
«С Востока свет, с Востока силы!»
И, к вседержительству готов,
Ирана царь под Фермопилы
Нагнал стада своих рабов.
Но не напрасно Прометея
Небесный дар Элладе дан.
Толпы рабов бегут, бледнея
Пред горстью доблестных граждан.
Так и получилось. Происходит великая Марафонская битва, огромная армия персов вынуждена отступить; потом — морская битва при острове Саламине — опять поражение; в конце концов, персы вынуждены уйти. Афины возрождаются.
И вот тогда–то расцветает этот демократический город, этот маленький островок демократии. И туда приезжает Анаксагор, который восхищен разумом человека. Он видит великие творения Фидия, он видит то, что создал человек в социальной области и кое–что уже даже в научной, и он преклоняется перед творчеством и перед мирозданием. Он первый сказал, что солнце — это не колесница Фаэтона, а расплавленный огненный шар, что планеты — это каменные глыбы в пространстве. У него было много научных предвидений, он предсказал в какой–то степени теорию эволюции. И от разумного мира он пришел к идее Мирового Разума. Это был очень важный итог досократовской философии. Он называл этот Разум нус, что по–гречески и означает «разум». И хотя прошло с тех пор двадцать пять столетий, мысль Анаксагора остается актуальной. За это время человек бесконечно глубоко проник в природу вещей. И чем больше мы познаем вселенную, тем больше она свидетельствует о себе как об огромном Творении, как об огромном художественном произведении, как о колоссальном организме, который имеет своим источником Разум.
СОКРАТ. ПЛАТОН. АРИСТОТЕЛЬ
В прошлый раз мы остановились, очень коротко, конечно, на тех мыслителях Древней Греции, которые пытались найти в природе, в целом Космосе последнюю великую тайну — архэ, Высшее Начало, Бога. Они по–своему преуспели в своих исканиях, и, скажем, Анаксагор был среди них тем, кто увидел ясный путь от рационально устроенной природы к Мировому Разуму.
Но что такое космический Разум? Что такое Бог как могущественная и почти безликая сила? Это не Некто, а Нечто — Нечто великое, перед чем можно благоговеть, что может быть предметом созерцания мудреца. Но это Нечто скрыто в единстве природы.
Поворот, даже, я бы сказал, революция и переворот в античном мышлении наметился с появлением афинянина Сократа, сына Софрониска. Недаром греческая философия делится на периоды до Сократа и после.
Итак, перед нами появляется Сократ. Эразм Роттердамский, великий христианский гуманист XVI в., в одном из своих произведений пишет: «Поразительно, что таким мог быть и такое мог познавать человек, который жил до Христа и не знал Его. Когда я читаю о нем, мне хочется сказать: святой Сократ, моли Бога о нас», то есть обратиться к нему с той же традиционной молитвой, с которой христиане обращаются к святым. Что же это был за человек? Я думаю, многие из вас о нем знают достаточно, однако еще раз напомнить не вредно. Один из крупных философов XIX в., Джон Стюарт Милль, говорил, что человечеству полезно время от времени вспоминать, что жил на земле вот такой человек по имени Сократ. Конечно, он не был святым в нашем понимании, но это была поразительная личность. О юности его мы знаем мало. Он был из семьи мастеров–каменотесов. Молодые годы его совпали с блестящим расцветом афинской демократии и афинского искусства, с веком создания Парфенона, с веком Перикла, Фидия, Аспазии, и поэтому Сократ как бы затерялся в этой блестящей эпохе. Служил он и в войске в качестве гоплита, легковооруженного пехотинца.
Он становится известным в Афинах уже на склоне лет, зрелым человеком, а по тогдашним понятиям — будучи уже старым человеком. Один из его учеников, Алкивиад, говорил, что Сократ напоминает ему шкатулку, в которой держат драгоценности или дорогие вина — на этих шкатулках нередко изображался смешной леший, Пан или сатир, — потому что внешне Сократ выглядел несколько комично. Небольшого роста, коренастый, лысый, с курносым носом картошкой, с глазами навыкат, с отвислым животом. А греки так ценили прекрасное и так преклонялись перед красотой человеческого лица, тела и осанки. Но этот странный, чудной человек обладал огромным обаянием. И когда он начал действовать, он оказался духовно более могущественным, чем политические лидеры страны, чем многие завоеватели. Когда мы говорим об этой эпохе, мы говорим: эпоха Сократа.
Сократ поставил во главу угла философии — а его философия была не отвлеченной, а жизненной — знаменитое изречение, которое было начертано на фронтоне Дельфийского святилища: «Познай самого себя». Но там, в Дельфах, это означало: люди, познайте, кто вы есть, — смертные, эфемерные, слабые, временные. Познай, человек, что ты за существо. Сократ перевернул все это. Он как бы молчаливо обратился к ученым, натурфилософам — к тем, кто раньше пытался постичь Бога через природу, — он хотел сказать им, что нечто важное, нечто тайное и глубинное, что находится в Боге, из природы не познаешь. Мы бы теперь сказали: из природы можно познать мощь Бога, Его мудрость, может быть, какую–то божественную эстетику. А Сократ искал другого. И это стало поворотным моментом.
Был ли Сократ официальным учителем? Нет, нисколько. Это был человек независимый, ходил в потрепанном плаще, босиком (впрочем, страна южная, это вполне подходило). Как только открывались ворота города, — он уже в толпе, начинал вести дискуссии, разговоры, споры. Сократ никогда не выступал как оратор. Пророки говорили от имени Божия; греческие трагики через драму говорили о трагичности существования человека перед лицом неумолимой судьбы; а Сократ был добродушный собеседник, открытый, немножко лукавый. Он говорил: «Я никого не учу. Я просто вместе с вами тоже ищу истину». Это было и так и не так. Он, конечно, учил, но метод его был «акушерский», он так себя и называл: «Я — акушер. Истина уже сидит внутри вас, только надо ее родить, я вам помогаю ее родить».
В то время подобный образ жизни не казался странным. В Афинах люди любили публичные диспуты, обсуждение всевозможных проблем. Конечно, самыми горячими там были политические диспуты. Афины переживали тяжелый момент: демократия пришла в упадок, на ее место приходили другие формы правления. Сократ все это видел. То тирания, то власть клики, то опять демократия. Потом начинаются национальные конфликты (все, как в наше время), на сей раз между южной и северной Грецией, между Спартой с ее тоталитарным режимом и демократией Афин, — бесконечная Пелопоннесская война. Время кризиса и разочарования. Время, когда философию представляли софисты, учителя риторики, в сущности, глубокие скептики, превратившие философию, то есть любовь к мудрости, в любовь к красному словцу, потому что (я обобщаю) они считали истину непознаваемой и, следовательно, поиск ее — игрой.
Сократ совершенно иначе относился к вопросу об истине. При всей его шутливости и некотором даже юродстве, он относился к серьезным вещам абсолютно серьезно, что и доказал во время суда и казни. Итак, он приходил под тенистый портик — под каменными сводами приятно было сидеть в жару — и начинал беседу на какую–нибудь тему. Сначала это был как бы незатейливый спор, а потом вдруг собеседник попадал в железный капкан сократовской логики. Здесь Сократ был непревзойденным.
Его образ дошел до нас не только по античным портретам, но и по описаниям двух его учеников. Один был Ксенофонт, человек, который в основном увлекался лошадьми, торговлей, человек военный, хозяйственный. Для него Сократ был просто наставником житейской мудрости. Другой был Платон, молодой аристократ, поэт, уже написавший трагедию, увлекавшийся искусством, один из величайших творческих гениев человечества. Платон увидел в этом балагуре вождя и учителя, который тянет перед ним нить Ариадны. Он внимательно следил за ходом его мысли и видел, что здесь логика приводит к самой глубокой тайне человека. Сократ не оставил нам ни одной строчки, подобно многим великим мудрецам и Самому Иисусу Христу. Но его образ отражен в диалогах Платона и в воспоминаниях Ксенофонта.
Что обсуждал Сократ со своими собеседниками? Принципы и методы мышления. Он обратил взор человека на его внутренний, духовный мир. И прежде всего он хотел показать людям, что путь к высшей реальности лежит через самопознание, познание своего духовного Я. Что же касается естественных наук и рационального познания мира, то здесь Сократ был очень сдержан. Однажды дельфийский оракул объявил, что самый мудрый человек в Афинах — это Сократ. «Почему, Сократ, тебя назвали так?» — спрашивали его. Он отвечал: «Наверное потому, что я сознаюсь в том, что я ничего не знаю, а другие люди воображают, что они знают и не сознают своего невежества».
Человек искал Бога в природе, потом полностью отрицал природу. Сократ пытался найти некую среднюю линию, как–то связать две реальности, но пытался делать это строго логическим, рациональным путем. По существу, начало рациональной логики, к которой мы привыкли, идет от Сократа. Поэтому Ницше проклинал его как человека, загубившего дух Греции. Поэтому русский философ Лев Шестов, иррационалист, считал появление Сократа грехопадением античной мысли. Но ясная мысль и логика — это отнюдь не враги человека, это инструмент, великий и прекрасный, только надо знать, где и когда им уместно пользоваться. Сократ отнюдь не делал его универсальным инструментом. Он часто говорил: «Я ощущаю в себе с юных лет не только голос рассудка, но и голос какого–то существа». Он называл это даймонион, демон. Но не думайте, что речь идет о сатанинском начале. Это был некий дух, говоривший в нем. «Никогда этот даймонион не подсказывал мне, что я должен делать, — говорил Сократ, — но он меня предупреждал, чего я не должен делать». И у этого рационалиста, человека, который искал истину путем рассудка, были моменты удивительного созерцания. Однажды он, находясь в военном лагере, много часов стоял неподвижно. Все думали, что он сошел с ума. Он стоял и стоял, устремив взгляд в одну точку…
Сейчас у нас уже есть несколько хороших переводов «Диалогов» Платона. Прочитав их, вы сможете почувствовать и представить себе облик этого человека. Непритязательный, спокойный, уравновешенный, ироничный, но при этом благоговейный; простой и ясный, но сокровенно мудрый — таким предстает перед нами Сократ, «акушер истины». Полная независимость. Вот его назначают, выражаясь по–нашему, судебным приставом. Чтобы проверить лояльность Сократа, его вместе с четырьмя другими должностными лицами направляют для ареста, в сущности, невинного человека, которого осудили на смерть едва ли справедливо. Сократ рассказывает сам о себе: «Когда кончилось заседание, они поплыли забирать этих людей, а я пошел домой». Его нельзя было заставить сделать то, что было противно его совести. Это был пример великого гражданского мужества, совершенно свободного от пафоса, но тем не менее несокрушимого. У него был ученик Критий, который на некоторое время стал диктатором Афин. Но очень скоро Сократ оказался в оппозиции, потому что не личность была ему важна, а справедливое управление обществом. Он первым стал думать о том, что управление обществом должно быть профессией, и не менее, а, пожалуй, и более серьезной профессией, чем любая другая. Эту мысль он передал Платону, который развил ее, а как — поговорим позднее.
После ряда перипетий в Афинах была установлена олигархия, а потом наступил период демократии. Это был конец пятого века, последние его годы. Как перед тираном Сократ «не ломал шапку», так и перед тиранией толпы. А демократия очень часто превращалась, как выражался Платон, в охлократию (охлос, по–гречески, — толпа, то есть безумное, капризное стадо людей). Перед охлократией он также не сдавался. И кончилось тем, что его начали травить. Сначала травили в литературе (это хорошо известно и у нас). К сожалению, этой травлей запятнал себя знаменитый афинский комедиограф Аристофан. В своей комедии «Облака» он изобразил Сократа заводилой шайки проходимцев, которую он назвал «мыслильней». В этой «мыслильне» люди зарабатывают тем, что сбивают с толку молодых юношей, обучая их ложным воззрениям, в частности, отрицанию богов, отрицанию устоев общества и т. п. Это была чистая клевета. Сократ никогда не говорил ничего подобного. Он был человек как раз противоположных воззрений: не в природе, а в духе, в разуме искал он опоры для познания. Сам Сократ иронически относился к этой комедии. Но она ему дорого обошлась.
Кончилось тем, что в 399 г. на него подали в суд. Анит, молодой неудавшийся литератор и общественный деятель, обвинял его в том, что он совращает молодежь инакомыслием, проповедует каких–то новых богов («новых демонов», так буквально сказано, — это был намек на его даймониона), и вообще, он опасный человек.
Начался суд. Сократ явился вместе со своими друзьями. В те времена в Греции адвокатов не было, а речь в защиту произносил либо сам обвиняемый, либо его друзья. Друзья предложили Сократу выступить сначала самому, и он начал свою апологию. Он жестоко высмеял обвинителей. Он рассуждал спокойно, как будто речь шла не о его жизни и смерти, а о какой–то академической проблеме. Он показал тупость и нетерпимость толпы как главную причину обвинений. «Я просвещаю молодых людей, — говорил он, — а не развращаю их». Судьи потребовали высшей меры наказания — смертной казни. Началось голосование, и когда голоса подсчитали, оказалось, что Сократ приговорен с очень небольшим перевесом голосов в пользу смертной казни. Он выступил и с удивлением сказал: «Я думал, что будет больше за мою смертную казнь. Но вот мое последнее слово. Что, афиняне, назначил бы я себе сам? То, чего я заслуживаю. Я всю жизнь жил в этом городе. Я отдал ему все, я отдал его молодежи все. Я думаю, что я заслужил общественного питания, чтоб меня кормили за государственный счет». Это был вызов толпе, толпа не любит таких вещей. Снова началось голосование. На сей раз число тех, кто голосовал за смертную казнь, сразу удвоилось. Друзья стали умолять Сократа, чтобы он обратился к судьям с апелляцией. По закону можно было просить другую меру наказания и, в частности, штраф. Сократ спокойно обратился к публике и сказал: «Вот, мои друзья говорят, штраф, но у меня есть только это». И предложил им весьма скромную сумму. Друзья сказали, что они внесут за него деньги. А Сократ произнес свои вечные слова: «Я повинуюсь Богу, голосу Бога внутри. Я вас, сограждане мои, люблю и уважаю, но повинуюсь больше голосу Бога».
Это золотыми буквами начертанный манифест свободы совести, который был потом повторен апостолом Петром, первым учеником Христовым. На этом все стоит. Да, мы уважаем законы, мы любим людей, но повинуемся больше воле Божией. Сократ не отрицал таинственных сил, которым поклонялись язычники, совершал обряды, которые были приняты в Афинах, но для него высшим Богом был Тот, кого можно было назвать Агатон, — по–гречески, Благо; то есть Бог добр, Бог есть Благо. Это было своего рода внутреннее открытие. Не сила, не мощь, даже не красота, даже не творчество, хотя все это есть, а Благо. Поскольку Сократ ничего не писал, мы не можем сейчас сказать, видел ли он в Благе личное начало или нет. Но знаем одно: Сократ предпочел умереть, но остаться верным внутреннему голосу, который звал его стоять за истину, остаться верным этому высшему принципу.
Месяц он просидел в тюрьме, ожидая своего дня. К нему приходили друзья; все его оплакивали, а он смеялся и говорил: «Друзья мои, разве вы не знаете, что я уже приговорен, с детства. Я приговорен к смерти тем, что я родился, а раз я родился, значит, должен умереть». Когда пришла Ксантиппа, его жена (о ее скверном характере ходили легенды), она закричала: «Увы, Сократ! Вот друзья твои пришли к тебе в последний раз с тобой побеседовать». Он ответил: «Уйди, Ксантиппа, и не порти нам последнего нашего вечера». А для него ничего не было дороже, чем чаша с вином, разбавленным водой, горсть маслин и за полночь дружеская беседа где–нибудь под портиком или под деревом. Он любил иногда бывать на природе, за городом, но был горожанином до мозга костей — дитя античного полиса, этого маленького мира в себе, маленьких тогда, но великих Афин.
Платон описывает его последние минуты: вот пришел палач, принес чашу с быстродействующим ядом цикуты. «Платон не присутствовал, он был болен», — так пишет о себе сам Платон. Я думаю, что это была не болезнь; он был не в состоянии видеть хладнокровное убийство. Остальные были там и плакали: Критий, Калифонт, все, кто были ему так дороги и близки. Когда вошел палач с чашей, Сократ взял ее и спросил: «Что мне надо делать?» Палач любезно, как у Набокова в «Приглашении на казнь», ответил: «Ничего особенного. Ты выпей, а потом начинай ходить. Когда ноги отяжелеют, спокойно ложись». И Сократ так же спокойно все это проделал, и когда ложился, то сказал рыдающим друзьям: «Не забудьте отдать богу выздоровления Асклепию петуха». По греческому обычаю, когда человек выздоравливал, в жертву Асклепию приносили петуха. Сократ хотел намекнуть на то, что, уходя из жизни, он (уже пожилой, около семидесяти лет) выздоравливал от безумного мира, от некоего мира призраков, уходя в иную, духовную сферу.
Платон, который все это описал, был настолько сильно ранен душевно, что не смог оставаться в Афинах и покинул город. А Сократ никогда никуда не ездил, если только не было необходимости; он сидел на месте и всегда говорил, что он познает мир вот здесь. Платон начинает ездить по Востоку. То он в Египте, то он отправляется на юг в Сиракузы, и нигде не находит покоя, пока в нем не совершается внутренний переворот и — «либо–либо»: если прав Сократ, значит, есть истинный мир; если правы отравители, его убийцы, то мир не стоит того, чтобы существовать. И у Платона крепнет видение двух миров. Кто–то из вас знаком, а кто–то скоро будет знакомиться с книгой о.Павла Флоренского «Столп и утверждение истины». Флоренский был глубоко преданным Платону философом, христианским платоником. В этой книге есть глава «Два мира». Основой философии Платона было понимание двух измерений бытия, двух миров: мира духовного, мира невидимого, и мира видимого, материального. По существу, в истории мысли Платон был первым на Западе, кто говорил о невидимой основе видимого бытия. Он говорил почти тем же языком, что и авторы Упанишад и буддистских трактатов. Здесь сомкнулись Восток и Запад. Но пока до этого еще далеко. Платон еще мечется, но все более и более вызревает в нем это, я бы сказал, откровение: да, прав Сократ, прав, и недаром он так весело шел на смерть! Потому что эта жизнь — только поверхность бытия, а в глубине ее клокочет то самое сокровенное, что является его высшей основой.
Вдохновленный этой идеей, Платон возвращается в Афины. На его портретах, сохранившихся с того времени, мы видим человека с простоватым, немного грубоватым, сосредоточенным лицом. Он не демократ в обращении, каким был Сократ, который легко общался со всеми; Платон всегда сохраняет дистанцию. Он забросил свои политические упражнения, но навсегда остался философом–поэтом. В истории мировой литературы и культуры едва ли найдется философ, который сочетал бы в себе столь блестящее литературное дарование с глубочайшим философским мышлением.
Я не в состоянии здесь, в этом кратком обзоре, показать, какое огромное влияние оказал Платон на всю историю восточной и западной мысли. Английский философ Уайтхед недаром назвал всю историю западной философии лишь комментарием к Платону. На платоновской философии строили свое богословие значительное большинство Отцов Церкви. Платон органично вошел и в классическую немецкую философию, и в русскую философию конца XIX — начала ХХ вв., начиная с Соловьева. Платон первым сумел развить аргументацию, показывающую подлинную реальность духовного и, в частности, он первый дал развернутое доказательство бессмертия души, исходя из того факта, что разлагаться может только нечто составное, состоящее из каких–то элементов вещества. Он показал, что не может разлететься в прах то, что нематериально. Мир, который человек видит, это внешняя оболочка сокровенного. Как можно познать сокровенное, невидимое, духовное, подлинную реальность? Для Платона это путь разума; не мистики, — хотя она и присутствует в его мировоззрении, — но разума.
Наверное, все слышали о его притчах. Иногда он чувствовал, что его отвлеченная диалектика, его логика не в состоянии передать многих оттенков его постижения, и тогда он обращался к литературным мифам. Один из его первых мифов — это миф о пещере. Люди, говорил он, похожи на обитателей пещеры, которые сидят прикованные и повернутые к стене и видят лишь отражение того, что происходит снаружи, а не саму реальность, не сам свет и не те фигуры, которые там, а только тени. Вот откуда знаменитые слова Владимира Соловьева:
Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами -
Только отблеск, только тени
От незримого очами.
В сущности, любовь — незримая вещь; порыв творчества — незримая вещь; молитва — незримая вещь; буря мысли — незримая вещь. Как дойти до этого измерения?
Когда Платону было около сорока лет, он был уже прославленным писателем и мудрецом. Поклонники купили ему небольшой участок, где стояла статуя героя Академа, и община его учеников стала называться Академией. Вот откуда наше слово «академия». В саду Академии проходили занятия по математике, по астрономии, по всем основам наук. Главным было познание истины.
В своем письменном наследии Платон говорил через Сократа. Он писал пьесы, философские диалоги, в которых участвовал Сократ и его ученики, бывшие сотоварищи, а порой и друзья самого Платона. И эти острые диалоги вводят нас в удивительную атмосферу. Представьте: вечер, трещат цикады, кругом кипарисы, и сидят эти смуглые молодые люди с горящими глазами у ног Сократа. Они беседуют. О чем? О том, как проникнуть в тайну. Вот лист — у него есть определенная форма, вот треугольник на песке — тоже форма. Что это такое? За этим стоит некое понятие — «треугольник». Существует масса похожих вещей, но все они отличаются друг от друга. И мы говорим: это лошадь, это человек, хотя все люди и все лошади разные. Глазами мы видим конкретную лошадь, конкретного человека, конкретный предмет. А есть другие глаза — глаза умозрительные, которые видят иное измерение, глаза обобщения.
Обобщение — это не фантазм, обобщение есть прорыв человеческого интеллекта со всей его мощью в другое измерение бытия, которое Платон называет царством эйдосов, царством прообразов. По–русски слово эйдос переводится как идея. Я здесь это слово не употребляю, потому что для нас оно носит немного иной оттенок. Эйдосы — это прототипы всего того, что существует в мире. И все они вращаются вокруг вечного космического Мышления, которое и создает этот видимый мир. Высшее Благо, Высший Агатон есть Бог, который человеку не открывается, а которого человек открывает. Здесь огромная принципиальная разница между Платоном и библейским Откровением: Платон пытается проникнуть в мир Бога с помощью рассудочного инструмента, а иногда и путем интуиции.
Если для индийской мысли открытие мира духовного означало перечеркивание мира телесного, то для Платона, философия которого стала вершиной, квинтэссенцией греческого мышления, проблема соотношения видимого и невидимого была решена по–своему. Два мира имеют каждый свои законы и связаны между собой. Духовный мир, мир эйдосов проецируется на наш мир. Ведь существуют идеи всего на свете, это как бы мысли Божества, которое создает все, мысли Вечного Архитектора.
Но Платон не индус, он человек Запада, выросший в полисе, в демократическом, полном политических страстей, Афинском полисе. И он задается вопросом: как быть с государственным строем, общественным порядком? Он убежден, что в мире эйдосов тоже есть вечные идеи лучшего государства. И вот в этой попытке проецировать идеи в реальность Платон терпит одно из величайших крушений в истории мысли. Мне очень жаль, что я не могу об этом рассказать подробно. Владимир Соловьев называл это жизненной драмой Платона. Коротко говоря, Платон опирается на свой точный, блестящий, я бы сказал, бессмертный анализ смены политических систем. Он показывает кризис монархической системы, кризис олигархической системы (когда правит клика, группировка, партия) и кризис демократической системы правления: когда начинает управлять толпа, не готовая к этому, не созревшая, — говорит Платон, — очень легко находятся те, кто ее покупает посулами, изображая из себя народолюбцев. Кстати, недаром в то время шли комические спектакли, где демос, народ изображался в виде дурачка, которого все стараются соблазнить, перетянуть на свою сторону. В конце концов тот, кто изображает самого большого народолюбца, постепенно захватывает власть над умами и легко манипулирует человеческим стадом. И толпа вдруг видит, что совершенно неожиданно для себя она породила чудовище. Но уже поздно. Анализ очень актуальный и вполне понятный.
Нашел ли Платон ответ на вопрос, как быть? Его первый ответ: правящим нужна квалификация. Сегодня мы бы назвали Платона технократом. Он рассуждал так: нельзя доверить корабль человеку, который не имеет опыта вождения кораблей. Как можно доверить ему товары и жизнь людей? Естественно, должен быть опытный кормчий. Тем более мы не можем отдать государство в руки человека, у которого нет достаточной подготовки. Для Платона людьми, которым можно доверить государство, являются философы, — но не в нашем смысле слова, а в античном: то есть люди, обладающие высочайшей эрудицией и высочайшей способностью мыслить. Это логически правильная мысль. Насмотревшись на буйства охлократии, то есть разнузданной псевдодемократии, Платон проникся к ней отвращением.
Но известное изречение гласит: «Любая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно». Согласно этому изречению, никто, даже философ, не выдержал бы испытания властью. А у Платона властвующие философы становятся бесконтрольными хозяевами. Так что этот вопрос остался не решенным. Но Платон попытался провести свою концепцию в жизнь. Он вошел в контакт с сиракузским тираном, пытаясь внушать ему свои идеи. Заигрывание с политическим вождем кончилось тем, что тот продал его в рабство. Рассказ об истории их взаимоотношений интересен и драматичен, но привести его здесь нет возможности. Плутарх очень ярко описывает всю историю в одной из своих биографий. Друзья Платона выкупили его. (Кстати, потом эти деньги им вернули, на них они и приобрели земельный участок — Академию.) Были у Платона еще попытки реализации своих планов. У сиракузского тирана был наследник Дион, который тоже хотел создать какую–то новую республику мудрецов. Но все это лопнуло — к счастью для греков, ибо если бы модель Платона, которую он разработал на старости лет, была осуществлена, мы уже тогда имели бы тоталитарную модель государства.
В последней своей книге «Законы» Платон полностью изменяет своему учителю Сократу. Увлекшись идеей умозрительного построения общества, он действительно приходит к тоталитаризму, к власти, которая вмешивается во все, которая разводит и размножает людей, которая контролирует каждый их шаг. Из этого идеального государства изгоняются поэты, инакомыслящие, философы. Если бы Сократ жил в этом государстве, его должны были бы во второй раз если не отравить, то изгнать. Любопытно, что в книге «Законы» Сократ уже вообще не появляется. Платон от него отрекся.
В попытках навязать миру свою идею Платон потерпел крушение. Вскоре он умер.
Платон остается для нас высочайшей вершиной философской мысли, прорвавшейся к невидимому, а в сфере социальной — величайшим предостережением человеческому роду.
По совсем иному пути пошел его ученик Аристотель. Это был не мечтатель, не поэт, это был гигантский ум. Возьмите любой учебник по любой науке. Предисловие всегда начинается так: «Еще Аристотель говорил то–то и то–то». Что ни возьмешь — зоологию, математику, астрономию, физиологию, психологию, искусство, законы театра, эстетику — всюду «еще Аристотель». К сожалению, значительную часть его произведений составляют конспективные записи его учеников. Это действительно конспекты, не всегда внятные. Они у нас изданы. За последние годы у нас, наконец, вышел почти полный Платон в прекрасных переводах и Аристотель — четырехтомник в серии «Философское наследие».
Аристотель был страстным естествоиспытателем. Он занимался науками, создал первую классификацию живых существ; он изучал человеческие эмоции и законы театра; вместо созерцания вечности он строил науку как единую систему. И здесь нужно отметить очень важный момент. Нам все время твердят о некоем научном мировоззрении; к этому мы привыкли с детства. Но это вымысел, научного мировоззрения не существует. Существуют мировоззрения людей, которые используют (или не используют) данные науки для того, чтобы свое мировоззрение усваивать, развивать или отстаивать. Но, скажем, одни системы более открыты к научным концепциям и более тесно с ними связаны, другие — менее. Аристотель, конечно, с ними завязан необычайно тесно. Он идет снизу вверх. Он начинает с жизни минералов, со стихий и приходит к Богу. Но это уже не религиозная философия, это действительно некое чисто рациональное построение. Бог Аристотеля — первичная форма бытия («форма» в аристотелевской терминологии означает «жизненное начало»). Он даже не знает о том, что мы все: люди, звери, живые существа, растения и вообще мир — им созданы. Он как бы порождает все это непроизвольно. Великий космический Интеллект, он абсолютно одинок, а мы часть его, так сказать, непроизвольного дыхания. Это тоже чем–то напоминает индийское мировоззрение.
Когда Аристотель пытался найти путь к созданию новой модели общества, он, в отличие от Платона, шел не от каких–то созерцаний; он сУобрал все конституции того времени, все их описал, сравнил, попытался вычленить наиболее рациональное, но, как и Платон, выхода не нашел. Единственное, в чем Аристотель сохранил наследие Сократа, это уважение к праву, к великому священному праву, и к закону. Насколько он важен для обществоведения, говорить сейчас не приходится, вы это знаете сами. Но Аристотель, хотя и был учеником Платона, жил уже в другое время. Наступает четвертый век до Р. Х. Ученик Аристотеля, сын Филиппа Македонского, мальчик, который завоевал полмира, рвется из маленькой Греции на просторы Вселенной. Здесь уже не до демократии. Мир, пережив поиски социального идеала, совершив полный виток, вновь приходит к идее монархии, священного царя–бога и к централизованной структуре. Почему это случилось, как это повлияло на духовную жизнь и что это значило для Востока и Запада, которые соединились под эгидой Александра, — об этом в следующей беседе.
НА ПОРОГЕ НОВОГО ЗАВЕТА
Итак, сегодня мы подходим к рубежу христианской эры, к эпохе перед Рождеством Христовым. Конечно, как вы понимаете, у нас с вами не было возможности погрузиться в детали, увидеть бесконечно интересные и многообразные оттенки мысли духовной поэзии древности. Меня спрашивали о греческих трагиках. О них ничего не было сказано. Потому что говорить о них надо отдельно, это целая глава в истории духа. Трагики не просто принадлежат истории литературы и являются наследием культуры, они не просто сегодняшнее наше богатство — они ставят вечные вопросы, вопросы, которые не устарели и сегодня. Поэтому и «Антигона», и «Электра», и «Медея», и другие драмы сегодня продолжают идти и интерпретироваться на сценах театров и на киноэкранах. Таким образом, духовное, как я всегда хотел вам показать, — это не только прошлое, но и сегодняшнее, и именно в этом измерении, в сфере искусства, соединяются минувшее и настоящее, вечность входит в быстротечный бег времени.
Итак, мы подошли к эпохе, особенно близкой нам, которая была зачата волей Александра Македонского. История этого молодого человека, который за тринадцать с небольшим лет изменил политическую и культурную карту значительной части Старого света, кажется неправдоподобной. Перед нами какой–то таинственный феномен — человек, рожденный для того, чтобы распахнуть двери мира. Да, конечно, он был завоевателем, он вел войска на чужие земли. Но одновременно он был создателем идеи человечества. Он был одним из первых (хотя и не первым, конечно), кто, присоединяя к своей державе другую страну, с уважением относился к ее культуре, с благоговением (пусть, возможно, и показным) относился к ее верованиям. Он неизмеримо расширил воздействие греческой цивилизации; маленькое государство на юге Балканского полуострова он распространил до размеров гигантской империи, граничившей с Индией, простиравшейся и на Среднюю Азию (где было построено немало городов, носящих его имя: ведь Александрия была не только в Египте; в Средней Азии также было несколько Александрий). Иран, Азербайджан, Афганистан — всюду было его влияние, всюду проходили его войска. А был он совсем юным. Он проявил свой полководческий гений, когда ему не было еще двадцати лет.
Что двигало им? Никто никогда этого не узнает. Импульсы, которые воздействуют на историю, — тайна. Наука может искать здесь загадочный феномен; Лев Гумилев называет это пассионарностью, то есть явлением внутри цивилизации таких людей, которые стремятся создавать нечто новое, стремятся до искреннего самоотвержения. Вы спросите: какое же самоотвержение было у Александра Македонского? Конечно, это было настоящее самоотвержение. Эти чудовищно утомительные походы через пустыни, в отдаленные фантастические жаркие страны, эти предприятия, которые сегодняшнему полководцу показались бы необыкновенно трудными, — были им осуществлены, и, в конце концов, он пал их жертвой, потому что в этих странах он подхватил лихорадку и умер тридцати трех лет в Вавилоне, древней столице среднеазиатской цивилизации. Перед этим он устроил в Вавилоне грандиозное празднество: свадьбы между греческими солдатами и вавилонскими девушками.
Исподволь начинает распространяться греческое искусство, конечно, не в виде лучших образцов, но в виде ширпотреба, в виде моды, в виде, говоря сегодняшним языком, дизайна, в виде товара, который приходит с купцами. Купец идет вслед за завоевателем, и он уже является, с точки зрения культуры, священной фигурой: он несет с собой мирные контакты между людьми — обмен товарами, обмен идеями, обмен знаниями. Недаром учителем Александра был Аристотель. Александр был человеком всепоглощающей страсти к познанию мира. И если бы не бунт солдат в Индии, в Пенджабе, куда он привел их, — он, пожалуй, продолжил бы свой поход на юго–восток и далее.
Вероятно, вы знаете знаменитые индийские статуи, которые репродуцируются во многих книгах. Изображение Будды с мягким просветленным лицом, с волнистыми волосами, с этаким шиньоном наверху — это произведение гандхарской культуры, которая является синтезом индийского и греческого искусства. Собственно, с этого момента и начинается интенсивное развитие индийской пластики. Огромные здания, которые строились в Сирии, например, Баальбекский храм, — это продукт синтеза Запада и Востока. Многочисленные сооружения в пустынях, в горах — все это памятники грандиозной культуры эллинизма. Эллинизм есть синтез Запада и Востока; с одной стороны, — вестернизация Востока, с другой — ориентализация Запада.
После смерти Александра его держава распалась, вернее, была поделена между его преемниками — диадохами. Один из них, Селевк, получил Сирию и часть Ирана; Птолемеи получили Египет. Империю как бы разделили по регионам. Но уже нельзя было разделить этот дух, несколько нивелирующий цивилизации. Нам сейчас это очень понятно, потому что, приезжая в любой город Европы или Америки, мы узнаем там в культуре многое, что нам привычно: скажем, мужской костюм, который теперь повсюду почти одинаков; многие правила общежития всюду одинаковы; несколько международных языков, например, английский, на котором говорят миллионы; развитие ремесленничества, то есть массового производства, — не того, что было в древности, когда предметы искусства были уникальными, — а создание бесконечных копий на продажу, на потребности уже новых людей, которые хотят обставить свои дома. Все это уже присутствовало в эллинистическую эпоху. На греческом языке говорят от Инда до Гибралтара; это особый греческий диалект, который получил название общенародного языка — койне. Начинают прививаться греческие одежды, постепенно вытесняя иранские. Иранцы носили брюки (уникальный случай в древности), а греки любили просторные туники и хитоны. Брюки вытесняются, хотя потом они добились своего реванша, победили туники и твердо вступили на все континенты и уже, по–видимому, надолго. А вначале это было экзотическое, совершенно уникальное явление моды.
Преемником этих эллинистических держав станет впоследствии Рим, постепенно набирающий силу. Сначала это небольшой поселок, созданный полуразбойничьей вольницей, потом маленькая республика дисциплинированных, воинственных, аскетичных, суровых людей, которые ничем не выделялись в области искусства и творчества, но у которых была глубокая преданность своему городу (civitas) и обычаям предков. Их город был как военный лагерь. Он постепенно начинает набирать силу и ко второму столетию до Р. Х. одно за другим подчиняет себе эллинистические государства. В 30 г. до Р. Х. Рим становится почти полным преемником империи Александра, но он простирается не на Восток, а на Запад. На Востоке у него оказывается мощный соперник в лице иранской державы парфян. А на запад Римская империя простирается до Испании. Это произошло уже тогда, когда Рим перестал быть республикой: когда во главе его формально еще стоял принцепс (президент, сказали бы мы), но на самом деле это уже была настоящая монархия с тоталитарным уклоном.
Создателем ее был Юлий Цезарь, который погиб в 44 г. до Р. Х. от руки убийцы, погиб лишь потому, что не до конца был тираном и сумел простить своих политических противников. Ведь если встать на путь деспотии, надо всех противников уничтожать, а он не уничтожил и пал от их руки. Наследником его стал приемный сын Октавиан Август, который постепенно (нам это в ХХ веке очень хорошо знакомо) убирал с дороги своих соправителей, бывших друзей, и к 30 г. стал единовластным господином всего Средиземноморья. В 30 г. он нанес последнее поражение своему сопернику Антонию, который контролировал Египет, очень важную страну, богатую хлебом. Наверное, вы помните, у нас шел фильм «Антоний и Клеопатра»; конечно, в нем много фантастического, но все–таки он дает представление о том, что тогда происходило. Все было полностью подчинено Риму.
Вот такова была, в двух словах, картина — с того момента, когда юный Александр Македонский разбил огромную, но неповоротливую армию персов и заставил царя Дария бежать (это было в 333 г. до Р.Х.), — до 30 г. до Р. Х., когда Август один царствует и поэты приветствуют его царствование, величая это царствование тысячелетним. (Нам известен этот термин. Как вы знаете, «тысячелетней империей» называлась держава Гитлера.) Люди прославляли императора за то, что он установил мир, кончил войны — и внутренние, и внешние. Более того, император понимал, что необходимо создать какую–то объединяющую всех религию, а поскольку в империю входило множество народов, множество людей разных вероисповеданий, то он решил всех сцементировать единой государственной религией, а именно поклонением гению самого императора. Вскоре после победы над Антонием на востоке появляются первые храмы в честь Августа. Его прославляют как живого бога, как вечного властителя. Он все это пусть осторожно, но неуклонно проводит в жизнь, и в момент явления Христа то, что мы теперь стыдливо называем культом личности, расцветает пышным цветом.
Но что же происходило в это время в сфере человеческого духа? Как это здесь проявлялось и отражалось? Как политические и культурные события были связаны с духовным развитием? Пожалуй, единственный способ показать, что там происходило, — пройтись по карте, начиная с Востока и двигаясь на Запад.
В Китае по–прежнему развиваются две основных традиции: конфуцианская и даосская. Это как бы две души Китая: с одной стороны, порядок, обряд, закон, добродетель, гуманность, позитивизм, а с другой — созерцание, красота природы, единение с природой, духовное исчезновение различия между добром и злом, слияние с космосом. Кроме того, там развивается концепция фацзя–законников, которые пытаются создать жесткую, тоталитарную систему управления. Конфуцианство сопротивляется этому, потому что все–таки в основе учения Конфуция лежала идея гуманности, и ее невозможно было соединить с казенным, жестким, казарменным духом, который был у законников. Но как раз в период Александра Македонского там происходит военный переворот, который мы могли бы сравнить с культурной революцией времен Мао. Китайскую империю объединяет Цинь Шихуанди. Он действует в духе фацзя–законников и очень жестоко расправляется с учеными, мудрецами конфуцианцами: зарывает их в землю, уничтожает всю конфуцианскую литературу, кроме учебников по сельскому хозяйству, вводит исключительно жесткий режим. Это был губительный момент для истории китайской цивилизации — но все–таки она не погибла, как не погибла и во времена Мао Цзэ–дуна. Сейчас в Китае происходит возрождение конфуцианских ценностей. То же происходило в Китае после жестокой тирании Цинь Шихуанди.
Индия также объединяется в довольно мощное государство. Там происходит всплеск и угасание буддизма. Почему же это произошло? Меня часто спрашивают: если Иисус Христос явился в Израиле, почему не все израильтяне стали христианами? Так же и Будда: он явился в Индии, но буддизм из Индии исчез. Это не единственный случай в истории. Вначале буддизм явил мощный всплеск. В эллинистическую эпоху буддизм был принят великим царем Индии Ашокой. Ашока — святое имя в анналах человечества. В истории всех народов это был один из немногих правителей (их можно на пальцах перечесть), кто сделал свое правление настоящим служением человеческому роду. Приняв буддизм, он прекратил агрессивные войны. Он необыкновенно много сделал для людей, даже старался облегчить участь животных (это вообще свойственно Индии). Ашока строил приюты, больницы, старался, чтобы дхарма, буддийский закон сострадания, милосердия, чистоты, входил в жизнь людей. Конечно, Ашока мало вникал в тонкости буддийской философии, и, конечно, его мысль была далека от мироотрицающей философии Гаутамы Будды. Ашока говорил, что его цель — сделать благословенной жизнь людей в этом мире. И оказалось, что буддизм содержит в себе мощный этический потенциал, который помог Ашоке, пользуясь буддийскими идеями, создать прекрасное правление, может быть, одно из лучший правлений, которые когда–либо знал древний мир. Но постепенно, уже после смерти Ашоки, буддизм начинает переживать большие трудности.
При Ашоке был созван один из первых буддийских соборов. Монахи решали, какие книги должны считаться каноническими; формируются трипитака, или «три корзины» — три основных священных части буддийского канона. Буддизм создает архитектуру, живопись, пластику Индии. Основная часть известных нам произведений зодчества, ваяния, живописи в Индии этого времени — буддийские ступы, то есть храмы. Эти храмы великолепны, они включают в себя уже такие далекие от буддизма мотивы как прославление природы, красоты мира. Храм Аджанта содержит в себе фрески, которые могут быть названы гимнами посюсторонней жизни, то есть духовный опыт буддизма не сохраняет мироотрицающего, устремленного в запредельность нирваны духа. А потом, уже в начале средних веков, складывается иное миросозерцание, которое включает в себя все духовные соки старинных сект, школ, направлений, которое собирает под одной крышей утонченную пантеистическую философию, популярные народные суеверия, верования разноязычных племен, населяющих индийский субконтинент, — и все это образует огромный конгломерат, который мы сегодня называем индуизмом. В отличие от буддизма индуизм не стал мировой религией. Буддизм пошел проповедовать миру: в Индокитай, Шри–Ланку и далее — в III в. мы находим буддийских миссионеров в Александрии. А в самой Индии разрастается эта местная, «туземная» религия. Индуистом нельзя стать. Стать можно христианином, буддистом, мусульманином, а индуистом можно только родиться. И когда появляются доморощенные индуисты в Москве или в Лондоне, они должны понимать, что все это несерьезно. На самом деле, строгая система индуизма допускает только людей, родившихся в данной конкретной касте.
Об этом, кстати, очень интересный для нашего времени роман Рабиндраната Тагора — об индийском патриоте, националисте, молодом деятеле по имени Гора (роман так и называется «Гора».) Он действует в конце прошлого века и старается развивать национальные начала, он радеет за возрождение культуры Матери–Индии. И все это было прекрасно до того времени, когда он, интеллигент, решил принести жертву на алтарь, как делали его предки. И тогда его мать и отец со смущением говорят ему, что он не имеет права это делать, ибо на самом деле он ирландец: что во время мятежа его родители погибли, а они его приютили. И этот патриот Индии понял, что он в ней чужой. Роман, правда, кончается оптимистически, потому что Гора становится защитником и радетелем Индии, но уже на каком–то новом уровне, его миросозерцание расширилось. Он индус, пусть не по крови, но по духу. Но все–таки индуизм — я говорю не просто о культуре, а о религии — замыкается в рамках (пусть и довольно обширных) тех народов, что населяют эту большую страну.
Чем же характерен индуизм? Он характерен отказом от отказа. Во всяком постижении необходим элемент отказа (это относится и к науке). Должно быть что–то такое, над чем человеку необходимо подняться. Полная всеядность и полное всеприятие мешают продвижению. Индуизм же пошел по пути безграничного впитывания всего. Все традиции, какие только были, оказались соединенными в его храмах. И древние обряды, связанные с сексом, плодородием, и утонченные философские концепции, которые развивал в раннем средневековье Шанкара — все это каким–то образом объединяется индуизмом. Индуисты гордятся тем, что принимают в себя все. Но, как вы сами знаете, иногда все — это почти ничего. И мы лучше понимаем Будду, который отвергал касты, библейских пророков, которые отвергали идолопоклонство, мусульман, которые также стоят за единство Бога, чем индуизм. Это не терпимость, а всеприятие, приводящее к аморфности, утрате всяких границ. Кстати, отсюда сохранение в индуизме довольно мрачных аспектов древних религий. Мрачный аспект почитания черной Богини–Матери — Кали, которая требует чуть ли не человеческих кровавых жертв, мрачный аспект в образе Шивы, бога разрушения. Шиваизм иногда выглядит (конечно, с нашей, европейской точки зрения) почти демонопочитанием. Почему? Потому что здесь воздается почитание богу, который наделяется атрибутами бури, тьмы, зла и разрушения.
Но в это же время в Индии развивается система, о которой вы все много слышали. Это йога. Слово йога очень старинное, даже происхождение его неясно. Чаще всего его производят от «йудж», что значит «прилагать усилие, упражняться». У нас есть все основания полагать, что еще в доарийской Индии, то есть в III тысячелетии до Р. Х. йогическая практика уже существовала у туземных дравидийских племен. По крайней мере, в Мохенджо Даро можно найти печати с изображением фигур в позе лотоса. Йога практиковалась почти во всех индийских школах: и в школе джайнистов, и у буддистов. С йогической практикой, конечно, были тесно связаны брахманизм и кришнаизм. Великий кришнаистско–индуистский памятник «Махабхарата» содержит множество йогических текстов. Но есть классический текст йоги, довольно краткий в отличие от гигантской по объему Махабхараты. Этот текст называется «Йога–сутра», то есть йогические изречения.
Согласно преданию, «Йога–сутра» была создана в эпоху эллинизма, во II в. неким мудрецом, по некоторым сведениям — филологом и философом, Патанджали. Это очень скупые, краткие афоризмы. Они существуют в русском переводе: они были приложены к книге Свами Вивеканды «Раджа–йога», которая вышла у нас до революции, в 1902 г., с его комментарием, и потом, уже в советское время, эти сутры несколько раз переводились и издавались. Для несведущего они кажутся малопонятными, и поэтому давно уже стали предметом комментирования. Но в кратких изречениях Патанджали закодировал целую сумму практических приемов, для того чтобы человек познал свое внутреннее я. Патанджали исходит из системы Санкхья, которая рассматривает божественное начало как отделенное от человеческого. Вот в этом и вся загвоздка. Это не пантеизм, который мы находим в Упанишадах, а некий дуализм: человек обладает духом, и все мировое целое обладает духом, но нет той глубочайшей связи между нашим я и космическим атманом, которую мы находим в брахманизме.
В чем же цель классической йоги? Очистить человеческое я от всего наносного и преходящего. Когда человек хочет идти по этому пути, начинается движение по ступеням. Первые ступени — это очищение этическое, нравственное. Здесь много общего со всеми религиозными учениями. Человек, который не освободился от эгоцентризма, от алчности и т. д., не сможет подниматься ввысь. Постепенно освобождая себя от чувственности, от желания владеть чем–то, от гнева, от радости, от печали — от всего, — человек движется к овладению своим эмоциональным и физическим миром, то есть всем психофизическим комплексом. Этому помогает система асан. Асаны — особые положения тела, способствующие развитию тех жизненных, энергетических узлов, которые находятся внутри человеческого организма и сосредоточены, главным образом, вдоль позвоночного столба. Центром этого энергетического целого является сгусток силы, который называется в йоге кундалини. Это как сжатая пружина: если человек начинает беспокоить кундалини, эту своего рода змею, он рискует погубить себя, потому что может вырваться огромная неуправляемая энергия.
Задача занимающихся йогой — научиться контролировать (только с помощью учителя, а не по книге; тот, кто занимается по книге, никогда не сможет этому научиться) не только дыхание, положение тела, гибкость его членов, но также и главный энергетический узел своего биологического существа. Бесспорно, практика показала, что это вещь достижимая, что йоги безусловно могут духовно контролировать психофизический мир, — сейчас никто из серьезных исследователей в этом не сомневается. Контроль доходит до власти, которую дух приобретает над рядом органов, не подчиняющихся волевым устремлениям. Мы знаем, что мышцы руки подчиняются волевому приказу, а мышцы сердца — нет. У нас множество мышц, которые подчиняются только подсознанию. Йогическая практика дает возможность управлять и этим, отсюда возможность остановки сердца и включения его снова — то, что раньше казалось невероятным. Значит, доходя до этой черты, мы можем сказать: да, хотя йог отказывается от всех жизненных радостей, страстей и всего того, что привлекает обыкновенного человека, — он как бы переходит за черту обычного человеческого состояния и достигает состояния бесстрастия, — он делает это ради очень важной цели: дух его становится настоящим господином тела и психофизического целого — континуума.
Знаменитый религиовед нашего времени Мирча Элиаде (он родом из Румынии, но работал в основном в Америке) путешествовал в Гималаях и много раз беседовал с теми подвижниками, которые занимались йогой годами. Он находил таких, которые могли в течение дня сделать всего несколько вдохов и выдохов: а вдохнув, они могли очень долго не выдыхать, и наоборот; они питались, кажется, одной горсточкой риса в день. Но, конечно, такая ущербная жизнь очевидно все–таки ведется ради чего–то. И вот тут мы подходим к самой существенной стороне йогического восхождения. В чем оно заключается? Пока это физическое упражнение — это может быть полезно; пока достигается свобода духа — это даже прекрасно. Правда, это все уже почти вне жизни, потому что идеал человечества не может состоять в том, чтобы люди дышали тридцать раз в день и питались горсточкой риса, — трудно себе вообразить такое человечество. Но что же дальше? Дальше начинается восхождение йога, и это восхождение — не к Богу. Напрасно в популярной теософской литературе мы часто читаем, что вот это и есть созерцание единого, созерцание божественного. Ничего этого нет, поскольку в системе санкхьи нет Создателя, человек не тождественен Божеству. Это не созерцание в брахманизме, когда человек познает свое единство с божественным Я. Ничего подобного в классической йоге нет. В конце концов йог становится совершенно независимым — от мира, от бытия, от богов, от непостижимого Высшего Разума, который, в конце концов, не имеет к нему никакого отношения. Он парит в холодном, но счастливом блаженстве над миром, над собой, над Богом.
Что обретает человек в этих упражнениях? Он обретает не Бога, не истину, а только себя. Идет работа негативного плана. Человек очищается от власти страстей: сначала от власти греха, потом от власти плоти, потом от человеческого и, наконец, вообще от бытия. И он становится свободным, но свободным вообще от всего. Таким образом, древнее чаяние освобождения, которое было и в буддизме, и в брахманизме, здесь превращается в побег человека и от человечности, и от божественного — от всего. Происходит не только развоплощение человека, но и полная его дегуманизация. Элементы этого мы находим у греков: у них есть понятие атараксии — безмятежности, отсутствия страстей.
Когда мы движемся далее на Запад, мы сталкиваемся с целым рядом замечательных учений эллинистической эпохи. Прежде всего они не метафизические, а практические. В это время появляются Эпикур, Пиррон, Диоген. Имя Эпикура для нас связано с представлением о веселом малом, который любит жить в свое удовольствие — эпикурейце. Но это неправильно. Сам Эпикур — великая личность. Он призывал к освобождению от всего, к чему мы стремимся, так как ничто не дает нам полного удовлетворения на земле. А следовательно, высшее наслаждение — это отказ от всяческих наслаждений, спокойствие, невозмутимость духа. Это лекарство от всех страхов и тревог он называл так (был такой коротенький стишок): «Будь спокоен, над всем поднимись, от всего откажись». Это напоминает буддийское представление о том, что страдание в мире есть, источник страдания найден и можно преодолеть его, освободившись от жажды жизни.
Другой путь ищут Диоген и философы–киники. Их девиз: вернемся к природе. И киники начинают жить так, как многие молодые люди нашего времени — ходят с длинными волосами, в рваной одежде, ночуют где попало, отбрасывают все условности человеческого общества. Это от них пошел такой девиз: что естественно, то непостыдно. Поэтому они не стеснялись и публично справлять свои естественные нужды, говорили, что надо жить свободно. Сам основатель кинизма, Диоген, был большим чудаком и, как известно, жил в огромном глиняном кувшине и был очень доволен (конечно, в условиях средиземноморского климата такое возможно). Диоген любил днем разгуливать с фонарем и, когда его спрашивали, что он ищет, он отвечал: я ищу человека днем с огнем — намек на то, что не так–то легко найти человека среди людей. И, как рассказывает предание, Александр Македонский, зная об этом мудром человеке, который отбрасывал все условности, навестил его. Диоген так поразил Александра своей свободой и раскованностью, что тот сказал: «Я царь, мне подчиняются многие народы. Чего ты хочешь? Я могу выполнить любое твое желание». А старик выглянул из своей бочки и сказал: «Я тут греюсь на солнышке. Вот если б ты немножко посторонился, чтобы оно на меня падало, это было бы мое самое большое пожелание». И, видя эту неприхотливость обитателя горшка, Александр сказал: «Если бы я не был Александром, я бы хотел быть Диогеном». Ему ничего не было надо, все было его.
Вот такие пути искала греческая мысль — искала эксцентрично, искала парадоксально, но ведь это были живые люди.
Пиррон был основателем скептицизма. Он тоже жил в эллинистическую эпоху. Скептицизм утверждал, что человек ничего не может познать: за что бы человек ни взялся, все как бы сгорает, все остается для него тайной.
И, наконец, самым влиятельным учением был стоицизм. Основатель стоицизма Зенон был финикийским купцом. Зенон прибыл в Афины, мечтая там поучиться, и остался в городе. Когда у него сложилось собственное представление о жизни, о задачах человека, он стал руководителем школы, расположенной в Стоа Пойкиле — расписном портике (отсюда название стоицизм). Стоицизм удивительно напоминает буддизм или брахманизм: в основе мира лежит некая таинственная огненная субстанция; время от времени она созидает Вселенную; потом Вселенная опять погружается в этот таинственный мир. Все то, что происходит в мире, разумно и неизменно. Природа человеческого бытия также неизменна. Правда, считали стоики, его можно улучшить. Пытаясь несколько улучшить структуру человеческого общества, они опирались на Платона, на его горький опыт. Стоики создали теорию космополиса — мирового государства, где права у всех людей были бы одинаковы. Впоследствии, в эпоху Римской империи, в Риме было немало стоиков — Эпиктет, Марк Аврелий, Сенека. Стоическое учение о человеческих правах совпадало с юридическими нормами Римской империи. Если человек получил римское гражданство, то всюду — в Риме, в Британии и в Африке — он пользовался одинаковыми правами. Например, его не могли посадить без суда и следствия, — а ведь это не всегда соблюдалось даже в ХХ в.
Стоицизм пережил несколько этапов. Это очень интересное учение, не столько само по себе, сколько благодаря личности его создателя. Самое драгоценное в стоицизме — это мудрость жизни, которую разрабатывали блестящие философы–стоики. Это, например, Посидоний, от текстов которого сохранились только отрывки, Сенека, приближенный императора Нерона, живший в I в. по Р. Х., — от него сохранились трагедии и замечательные письма, и, конечно, Марк Аврелий, чья книга «Наедине с собой» — шедевр стоической мудрости (она у нас сравнительно недавно была переведена еще раз; я всем советую прочитать эту книгу, потому что в ней много жизненной мудрости, независимо от стоического мировоззрения).
Двинемся дальше. Продвигаясь по берегам Средиземного моря, мы попадаем в довольно пестрый мир. На юге, в Африке, создается мощная культура финикийцев. Когда–то, спасаясь от преследования ассирийцев, они туда переселились и создали свой «Новгород» — Карт–хадаш, по–финикийски, или Карфаген. Там развивается своеобразная африканская цивилизация, которая в конце концов во II в. до Р. Х. будет разрушена Римом.
Постепенно греческие божества начинают завоевывать все Средиземноморье. В 204 или 205 г. до Р. Х. римляне принимают пантеон греческих богов, и туда приплывает восточная богиня Кибела, Богиня–Мать. Раньше у римлян не было статуй (если и были, то этрусские); они предпочитали богов в виде фетишей — например, почитали бога войны Марса в образе копья. Это была цивилизация совсем не изобразительного типа. И вот теперь у них появляются греческие изваяния.
И когда эллинистическая цивилизация стала завоевывать берега Средиземноморья, она натолкнулась на Иерусалим. В это время римляне еще не завладели Передней Азией, и там правил Антиох Епифан, сирийский царь, большой грекофил. Сам он был по происхождению грек и считал себя воплощением Зевса. Это был странный человек, очень оригинальная эксцентрическая личность; он, по–видимому, действительно верил в некую свою божественность. Понимая, что необходимо каким–то образом унифицировать верования, как теперь говорят, вверенной ему державы, он повсюду распространял эллинистические религию и обычаи. И пока дело касалось только обычаев, среди иудеев, подчиненных сирийскому монарху, было много грекофилов, любителей всего греческого. Греческие спортивные состязания, греческий дизайн, греческое просвещение, наконец, греческая наука и литература — все это увлекало молодежь и создало целую партию, которая стремилась как–то соединить собственные народные традиции с модными западными веяниями.
Но мирное течение эллинизации было прервано около 170 г. до Р. Х. Антиох пытался укрепить свои позиции на Востоке и двинулся в Египет — через Израиль. Но в Египте его встретил римский консул со своими войсками и сказал, что здесь ему придется остановиться. Когда Антиох, необычайно раздосадованный, понял, что наткнулся на стену, и сказал, что ему нужна неделя на размышление, то римлянин, как всегда немногословный, взял меч, начертил вокруг Антиоха круг и сказал: «Думай здесь» (то есть, не выходя из этого круга). Пришлось думать. И думать было о чем: надо было сниматься и уходить обратно. Весьма раздосадованный, раздраженный и, в общем, опозоренный, Антиох, конечно, не решался вступить в конфликт с Римской державой, которая поставила на колени Карфаген. Он вернулся в Иерусалим. И тут он увидел, что нет его портретов на улицах города, нет изображений богов, которым поклоняются во всей его империи. Он стал выяснять, в чем там дело. Ему ответили, что здесь не признают портретов, даже царских, и не признают никаких богов, кроме Единого Бога, Творца и Создателя неба и земли. Антиох отреагировал на это очень резко, сказав, что он Зевс для всех своих народов и не позволит, чтобы кем–то его правила нарушались.
Я не буду входить в подробности этой религиозно–политической борьбы. Она кончилась репрессиями. Иерусалим был практически захвачен заново, в храме был сооружен алтарь Зевсу, экземпляры Библии отыскивались и немедленно уничтожались; всех, кто соблюдал обычаи древней израильской веры, библейской веры, казнили без разбора, невзирая на возраст и пол, причем, как скупо пишет летописец, матерей вешали вместе с детьми. Начались жесточайшие преследования. В истории цивилизаций это было одно из первых преследований на религиозной почве. Сначала народ был просто в страхе и значительная часть людей бежала из города, рассеявшись в пустыне. Но потом, придя в себя, под руководством священника Маттафии люди собрали отряды и начали вооруженную борьбу. Во главе этих отрядов стал сын Маттафии Иуда Маккавей. Маккавей значит «молот». Он и его братья скоро превратили свои отряды в настоящую армию, и на протяжении нескольких лет, в 60 гг. II в., они оттеснили войска Антиоха по всему Израилю, потом выкинули оставшихся из Иерусалима и в конце концов провозгласили независимость страны. Эта война, которая происходила в середине II в. до Р. Х. (она подробно описана в 1 и 2 Маккавейских книгах Библии) имеет для нас немаловажное значение. потому что в этот момент была поставлена на карту судьба религии Откровения. Тогда появились мученики (о них говорится в этих книгах). В Русской Православной Церкви есть праздник, который называется Первый спас; в этот же день вспоминаются мученики Маккавейские.
К тому времени библейское Откровение содержало уже писания пророков, которые говорили о приходе в мир Избавителя, законодательные книги, носившие имя Моисея. Теперь к ним прибавились назидательные книги Иова, Песни Песней, Экклесиаста — все это создавалось в эллинистическую эпоху или время, близкое к ней. В это время появляется великая книга пророка Даниила — манифест религиозной свободы. В сказаниях этой книги повествуется о людях, которых заставляли поклоняться идолам, но они не поклонились. Очень драматичный момент, когда царь Навуходоносор ставит гигантского идола и все народы падают перед ним, и только Даниил и его друзья отказываются; и их наказывают, бросают в огненную печь, где ангелы спасают их, посылая им воду и воздух. Потом царь приказывает, чтобы никто не молился своему богу, а молился только ему. Это, конечно, намек на Антиоха Епифана. Но Даниил продолжает молиться каждое утро Богу; его бросают в ров со львами, но он остается невредимым. И в конце книги дается апокалиптическая таинственная картина мира. В ней впервые открывается во всей полноте библейская философия истории. Мир не статичен, говорит пророк, мир движется и развивается. Он движется по направлению к полному торжеству Божественных замыслов, к тому, что древние пророки могли бы назвать Малхут Элохим, Царство Божие. Но в то же время, параллельно Царству Божию, раскрывает свою силу и его антипод, его антагонисты — царства демонические, царства мира сего. Они представлены в книге Даниила как чудовищные существа, монстры, драконы, у которых уродливо перемешаны все черты — орлов, барсов, медведей. Они появляются из моря, которое символизирует собой демоническую богоборческую стихию. В любом древнем соборе вы найдете эти четыре царства зверя — всегда на картине Страшного суда. Во Владимире, в Успенском соборе есть такие фрески работы преп. Андрея Рублева.
Но когда эти чудовища начинают царствовать и торжествовать, пророк видит, как по облакам (это символ небесных сил) идет Некто, подобный Сыну Человеческому. Он идет навстречу Царству Божию, создает это новое царство. Что значит Сын Человеческий? Это просто человек. Этим драконам и монстрам, этим, как говорил Даниил Андреев, «уицраорам», демонам великодержавной государственности противостоит человек. Он олицетворяет Царство Бога на земле. Заметьте, что эти два понятия — «Царство Божие» и «Сын Человеческий» — станут краеугольными в Евангелии. Когда Христос начнет свою проповедь, Он скажет о том, что наступило Царство Божие. И Себя Он будет называть Сыном Человеческим. Но как готовиться к этому царству? Как встретить его?
Люди ищут пути… Одни, фарисеи, стараются соблюдать все правила, которые сохранила традиция, они, как наши традиционалисты, старообрядцы, считают, что ничего из того, что дошло до нас от отцов, не должно быть изменено, все скрупулезно сохраняется.
Другие, подобно нашим протестантам, говорят: не надо нам народных преданий, обычаев, надо сохранить, главным образом, то, что написано в наиболее древних частях Писания, в законе Моисеевом; это саддукеи.
Иные говорят: приблизим Царство Божие своими силами, не будем просто созерцателями; это ревнители — зилоты. Они поднимают меч и всегда готовы поторопить историю.
И, наконец, была еще одна группа, которая называла себя ессеи, то есть, по–гречески, благочестивые. Они говорили точно так же, как многие у нас сейчас: мир все равно погибнет; Бог, когда явится на земле, уничтожит все это грешное нечестивое племя. Выход один — уйти из этого мира, спрятаться от него, проклясть его, потому что живут в нем только «сыны тьмы», а мы будем «сынами света». Мы — истинный Израиль. Евреи, язычники — все негодяи; все погибнут, когда явится Избавитель, потому что Он сокрушит голову змея, а этот змей олицетворяет весь человеческий род. Вожди движения покидают Иерусалим и другие города, где они были, и скрываются в уединенных безводных пустынях на берегах Мертвого моря. Это происходит примерно за 120–140 лет до Р. Х. Возглавляет их человек, имени которого мы не знаем и о котором мы узнали лишь недавно — в середине нашего столетия. Последователи именовали его уважительно: Учитель праведности, или Праведный учитель. Они поселяются около Мертвого моря и стараются порвать по возможности все связи с окружающей жизнью. Это замкнутый полумонашеский орден. Они говорят: мы те самые, о ком предсказывал пророк, — голос вопиющего в пустыне. А надо вам сказать, что за пять с лишним веков до Р. Х. один из библейских пророков предвидел, что Бог придет на землю, чтобы помочь человеческому роду двигаться дальше. Он писал так: «голос глашатая кричит в пустыне (или, по–церковнославянски, «глас вопиющего в пустыне»): приготовьте путь Господу, выровняйте холмы и долины поднимите».
Ессеи, жившие у берегов Мертвого моря, толковали Писание и говорили: это мы — тот голос глашатая, и мы — те избранники, мы — истинный народ Божий среди всех, который и будет спасен. С нами заключит Бог тот Новый Завет (Брит Хадаша), который Он обещал древним пророкам.
И вот перед вами сейчас панорама всего мира. Высокая наука, высокое искусство, Евклид, Архимед, инженерное искусство, философия, биология, Аристотель, военное искусство римлян, строгое римское право, буддийское стремление к спасению. На рубеже новой эры среди буддистов возникает верование, что скоро должен явиться новый Будда — Майтрейя, Победитель, он откроет нечто новое. В индуизме возникает поверие о том, что явится новое воплощение бога Вишну — Калки, который грядет на белом коне. В Иране среди приверженцев зороастрийского культа также говорят о пришествии Избавителя — Саошианта. Весь мир в напряженном ожидании. Какой избрать ему путь? Или быть холодным, не радующимся и не страдающим, отрешенным от мира, или бежавшим от мира в монастырь, как ессеи, или ушедшим в себя и очистившимся от всего, как йоги, или почитающим природу, как индуисты или киники, или погруженным в изучение природы, как Евклид, Архимед и Аристотель? Где найти путь? Что явится путеводной звездой? Я бы сказал, что эта ситуация очень напоминает наше время, потому что мир, хотя и движется вперед, повторяет прошлые этапы. Эту мысль можно развивать долго, я не буду сейчас на ней останавливаться. Когда должен был родиться Христос, многие уповали и на власть царя–бога. По повелению Августа, в его честь были устроены священные игры. Люди воспевали императора и славили вечное царство властителя, который взял на себя то, чего люди не смогли понести.
Во всем многообразии человеческих поисков мы должны уважать и любить вот эту открытость человека тайне. Пусть тут было много ошибок, зигзагов, но в каждом из этих этапов был свой важный элемент, своя цель, своя находка. Потому что та великая гора, на которой потом воздвигнется Крест, подобна любой горе: в ней есть пояса с различными формами растительности, она объединяет в себе очень многое. Потому что, когда зазвучали на галилейских холмах слова Иисуса Назарянина о покаянии и близости Царства Божия — это было ответом на все загадки, над которыми ломали головы философы, на все те тайны, к которым стремились мистики, на все те проблемы, которые мучили государственных людей, толпу и мудрецов. Это был переломный момент. Ибо до сих пор человечество только задавало вопрос. А дальше должен был прийти ответ. И этот ответ заключался в слове, в коротком арамейском слове Бесора, по–гречески Эвангелион, — Радостная Весть, которую возвестил Сын Человеческий и Сын Божий.