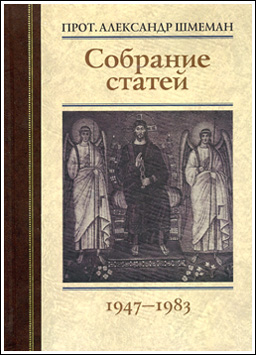Статьи
Пост и Литургия
Заметки по литургическому богословию
Перевод Наталии Безбородовой
Оригинал на сайте Schmemann.org
Литургические правила Православной Церкви предписывают совершать Божественную Литургию после Вечерни в определенные дни поста. А именно: в четверг и субботу Страстной Седмицы Великого Поста, вечером накануне Рождества, Богоявления и праздника Благовещения. Как и Литургия Преждеосвященных Даров, она всегда служится после Вечерни. Как мы помним. Типикон предписывает определять время для совершения Вечерни, ориентируясь на заход солнца, но не в определенные часы дня.
Всем уже давно известно, что это правило сегодня стало мертвой буквой, и исполняется лишь формально, таким образом, что не Литургия переносится на вечер, а наоборот, Вечерня совершается утром. Такое нарушение не должно рассматриваться как снисходительная уступка Церкви к «немощи плоти» или как желание сократить время воздержания для причастников, так как в этом случае все правила тщательно соблюдаются, и не может быть никаких исключений для попыток защиты человеческих слабостей. В этом случае мы основываемся на убеждении, глубоко укорененном в современном церковном сознании, что Божественная Литургия всегда должна совершаться утром. Совершение ее вечером большинством православных будет воспринято неслыханным новшеством, гораздо более неестественным и неправильным, чем совершение Вечерни утром или Утрени вечером. Достаточно очевидно и то, что, объединяя Литургию и Вечерню, авторы Типикона руководствовались не просто формальным объединением двух богослужений. Они говорили именно о намеренном перенесении времени совершения Литургии на вечер, о сознательном изменении обычного порядка служб. Еще становится очевидным и то, что неисполнением правила или его формальным исполнением (как перенесение Вечерни на утро) мы совершаем двойное нарушение литургических правил; мы служим вечернюю службу утром, что, по самому «названию» молитвы, является противоречием в обычном смысле, но более того, мы при этом полностью игнорируем причины, по которым Церковь предписывает совершение Литургии в определенные дни вечером, а не утром. Возможно, если мы внимательно изучим эти причины, то увидим в них нечто более значимое, чем обычные детали правила, нечто давно забытое, но очень важное для понимания нашей литургической традиции.
Самое общее объяснение мы можем найти в 8 главе Типикона в следующих строках: «в воскресенье Литургия совершается в начале третьего часа (9 часов утра), при этом пост оканчивается в начале четвертого часа; в субботу Литургия совершается в начале четвертого часа, при этом пост оканчивается в начале пятого часа; в меньшие праздники и другие дни совершается в начале пятого часа, при этом пост оканчивается в начале шестого часа». Мы видим определенную взаимосвязь между временем (kairos) совершения Евхаристии и предшествующим постом. Этот «евхаристический пост» может быть длиннее или короче в зависимости от значимости дня, в который совершается Литургия. Само собой разумеется, как обозначено в Типиконе, что Божественной Литургии предшествует строгое воздержание, поэтому общий смысл указанных выше пояснений заключается в том, что чем раньше совершается Литургия, тем короче период воздержания. Давайте при этом отметим, что наша нынешняя устоявшаяся практика в корне противоречит этому правилу: мы привыкли думать, что поздняя служба больше «подходит» значительному празднику, а ранней «достаточно» для обычного дня. Предписания Типикона, на первый взгляд, могут показаться реликтами некоторых древних монастырских правил, которые остались по необъяснимым причинам и просто переписываются из одного издания в другое. Но если мы попробуем «перевести» эти сухие предписания, то мы обнаружим богословское объяснение поста в тесной взаимосвязи с Литургией. Осознав это, можно идти дальше к пониманию того, относится ли эта взаимосвязь к обстоятельствам жизни в прошлом и объясняется ими, или является частью Традиции, связывающей нас всех вместе. Для этого нам нужно понять, что эти предписания объясняют саму суть поста, его живой опыт, происхождение которого описано в Евангелии, поста, принятого Церковью от самого начала. В этих внешне законодательных и почти тривиальных правилах сегодня принято усматривать признаки обычной приверженности обрядам и педантичности, несовместимых с нашим современным «образом жизни», но именно в них открывается глубокое понимание человеческой жизни и ее отношения со Христом и Церковью. Попытаемся это увидеть.
По Писанию, фарисеи и первосвященники обвиняли учеников Христа в том, что те не постились (в отличие от учеников Иоанна Предтечи, которые «постились много»). На это Христос ответил: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни» (Мк 2:18; Лк. 5:33; Мф. 9:14). Эти слова указывают на взаимосвязь поста и миссии Христа, что становится невозможным во время радости Его Присутствия. По общему определению, пост — это выражение надежды, состояние ожидания и подготовки. Поэтому Христос противопоставляет Себя Иоанну Крестителю: «Вот, Иоанн Креститель пришел и не ест и не пьет… И пришел Сын Человеческий. Он ест и пьет…» Иоанн Креститель в этом контексте — «тип», символ Ветхого Завета в соотношении с Новым Заветом. Ветхий Завет — это время подготовки и надежды, которое заканчивается с приближением Пасхи. Но Сын Человеческий «ест и пьет» и Его ученики также едят и пьют, и в Евангелии мы постоянно видим Господа преломляющего хлеб с мытарями и грешниками в домах фарисеев и насыщающего огромное количество людей. Во Христе и со Христом открывается и приближается Царство. И в Писании Царство часто представляется как пир, окончание поста (ср. например, Ис. 25:6). По учению Священного Писания, Церковь изначально знает христологический и мессианский контекст поста, который определяет его место и «действие». С одной стороны, Церковь сама является началом, эсхатологическим предвкушением Царства. Жених уже пришел и Его присутствие открывается в преломлении хлеба, в евхаристическом пире, который являет собой сакраментальное предвкушение всей полноты Царства, Брачного Пира. В книге Деяний святых апостолов «преломление хлебов» является основным моментом в строительстве ессlеsiа, мессианской общины (Деян. 2:42). В этом собрании, в koinonia нет постящихся: ожидание подошло к концу, Господь грядет, maranatba. Он пришел, Он идет, Он придет… Но, с другой стороны, после Вознесения Христа начался новый период ожидания: ожидание рагоusia, второго, торжествующего, пришествия Христа, в исполнении которого «Бог будет во всем». Господь победил и восторжествовал, определил историю «этого мира», которая еще не закончилась, мир ждет завершения и суда. Вся история Ветхого Завета — это ожидание прихода Мессии, а история Нового Завета — это ожидание возвращения Господа во всей Его славе и конец мира. То, что принято и определено Церковью как «таинственное» сейчас, станет очевидным в конце этого мира. Ввиду того, что Церковь все еще присутствует in statu viae (в пути) и христиане все еще живут в этом мире, они надеются, ждут parousia, молятся и бодрствуют, и никто не знает, когда придет Сын Человеческий. И эта надежда выражается в новом посте, в новом состоянии ожидания.
Это ожидание, эта тоска теперь восполняется, и ответ нашему ожиданию дается в таинстве Господнего Присутствия, в Евхаристическом пире. Живя во времени, в истории, Церковь являет собой победу вечности, предвосхищает торжество Царства, которое «грядет». И этот «пост–ожидание» находит свое завершение в Таинстве, в ознаменовании свершившегося и вечного, таким образом становится настоящим и действительным и первое пришествие Христа, и Его раrоusia. Поэтому пост и Евхаристия, так сказать, два торжествующих и необходимых полюса в жизни Церкви, провозглашение двух существенных антиномий ее природы: предвкушение и обладание, полнота и рост, эсхатология и история.
Такое понимание даст нам ключ к «техническим» правилам Типикона, наполнит их духовным значением. Они выражают основополагающее литургическое правило о несовместимости Евхаристии с постом: Евхаристия не может и не должна совершаться в день поста. Являясь таинством присутствия Христа, Евхаристия — это пир Церкви, и более того, Евхаристия — это Церковь на Пире и, следовательно, мера и значение всех пиров. Так как пир — это не просто «напоминание» о том или ином событии земной жизни Христа, но именно действительность Его присутствия в Церкви через Духа Святого. И поэтому, каким бы событием или личностью не ознаменовывался пир, это ознаменование предстает во всей полноте только в Евхаристии, в «таинстве», которое переносит памятование в действительность. Евхаристия связывает все отдельные события, всех святых, все богословские утверждения со спасительной миссией Христа. Чью бы память мы ни совершали, какое бы событие мы ни отмечали, мы всегда совершаем открытие — и это открытие происходит в Божественной Литургии — так как все, что происходит в Церкви, имеет свое начало в Иисусе Христе, и все, что в Нем, Им оканчивается, в Нем исполняется. Мы должны здесь отметить, что Православная Церковь никогда не соглашалась с утверждением непраздничной Евхаристии, подобно Римской «low Mass». В течение длительного периода Евхаристия была основной доминантой в жизни Церкви, так как она всегда Пасхальна по своей сути, утверждая смерть Христа и, вместе с тем, проповедуя и свидетельствуя о Его Воскресении.
Следующее утверждение — о длительности поста, обязательно предшествующего Евхаристии, — естественно следует из сказанного выше. Исполнению должно предшествовать предвкушение. С этой точки зрения евхаристический пост — не просто воздержание перед Причастием, он дает первоначальное предвкушение и духовную подготовку. Во время этого поста в духовном его смысле происходит ожидание таинственной парусин (Раrоusia).
В ранней Церкви совершению воскресной Евхаристии предшествовало ночное бодрствование, которое было (и теоретически остается в Восточной Церкви) именно службой приготовления и бодрствования в полном христианском смысле этого слова. И поэтому Евхаристию в воскресенье и в дни великих праздников предписывается совершать в ранние часы дня: это исполнение, конец бодрствования, поста и приготовления. Но в меньшие праздники, в которые не служится всенощная, Евхаристия совершается поздним утром, и в этом случае утренние часы поста составляют необходимый период приготовления. Такова литургическая жизнь Церкви, которая, в свою очередь, определяет жизнь каждого члена Церкви и построена на ритме предвкушения и исполнения, подготовки и «присутствия». Тогда и правила, которые управляют этим ритмом, перестают быть архаичными и непонятными, но становятся знаками пути, ведущего нас в самое сердце жизни Церкви.
Пост имеет также второе значение, которое дополняет первое, что мы только что рассмотрели. Оно было отмечено и определено в монашеской традиции. Это аскетический пост, пост как борьба против демонических сил, как способ духовной жизни. Происхождение этой точки зрения на пост мы также можем найти в Писании. Перед тем, как идти проповедовать, Христос постился сорок дней, и в конце этого периода сатана искушал Его (Мф. 4:3). В Евангелии мы находим ясное утверждение, что пост и молитва являются единственными средствами для победы над силой дьявола (Мф. 17:21). В страстях Христовых не только исполнилась история спасения, в ней также был решающий момент в борьбе против сатаны, который стал «князем мира сего».
По Библии, через пищу сатана вошел в человека и стал его властелином. Человек вкусил запретный плод и стал зависим от пищи настолько, что теперь на этом держится его существование. Поэтому пост в библейской перспективе — это не просто ограничение в еде и не вид элементарной гигиены. Истинный пост, действительное воздержание, то, что прославляет Церковь в Святых Отцах — это, по сути, вызов так называемым законам природы и через них самому сатане. Потому что ничто не вредит ему настолько, ничто так не ослабляет его силы, как преступание человеком законов, от которых он стал зависим, которые стали «естественными» и «абсолютными». Без пищи человек умирает, поэтому его жизнь полностью зависит от еды. И теперь во время поста, т. е. добровольно отказываясь от еды, человек обнаруживает, что он жив не хлебом единым. И тогда пост становится отрицанием того, что было «необходимым», действительно умерщвлением этой плоти, которая зависит полностью и исключительно от «непреодолимых законов природы». Во время поста человек обретает свободу, которую он потерял через грех, открывает в космосе царственность, которой он лишился, отвергнув предложение Бога. Пост — это свободное возвращение к выполнению той заповеди, которую нарушил Адам. Принимая это, человек опять получает пищу как Божественный дар, пища перестает быть «необходимостью» и становится так похожа на образ брачного пира, и «есть, чтобы жить» опять становится «жить в Боге». Эта идея поста укоренена в сорокадневном посте Христа, и Его состязание с сатаной является основанием аскетического поста, который отличается (но неотделим) от евхаристического поста, определяя собой состояние приготовления и ожидания.
Ничто не может лучше показать взаимоотношения этих двух аспектов, или действий, поста, чем Великий Пост и его литургические особенности. С одной стороны, суббота и воскресенье являются днями Евхаристии и «литургически» исключены из постных дней Великого Поста. У них нет никаких отличительных литургических особенностей, указывающих на «постные» дни. Евхаристический пост всегда ограничен ритмом самой Евхаристии, его ограничением является Литургия, в которой соедино приготовление и исполнение. Она совершается и завершается принятием евхаристической пищи. Евхаристический пост в этом отношении — действие самой Церкви, которое отвечает устройству Церкви. Аскетический пост, с другой стороны, это, в первую очередь, индивидуальное, личное достижение в Церкви. Правила относительно этого поста, которые различаются в различных поместных традициях, но сходны в том смысле, что они являются основными показателями хорошо укорененного пути, определенного руководства, но не абсолютного учения Церкви. Эти правила зависят от климата, образа жизни в определенном социологическом контексте, от внешних условий и т. д. Предписание есть инжир в одни дни, а бобы и фасоль — в другие, которое мы сейчас находим в Типиконе, очевидно, не может восприниматься буквально, или рассматриваться в качестве «абсолюта». Здесь очень важно понимать, что евхаристический пост — это пост Церкви, в то время как аскетический — это пост христианина в Церкви. Последнее определяется природой человека, а первое–природой Церкви. Поэтому на протяжении Великого Поста евхаристический пост находит свое завершение каждое воскресенье в эсхатологической полноте Таинства, но аскетический пост не прерывается, так как обширный светский опыт доказывает, что духовные плоды зреют медленно и требуют длительных и непрерывных усилий. Хотя в этом нет никаких противоречий. Монашеский обед в воскресный день Великого Поста будет скуднее по качеству и количеству трапезы, и, тем не менее, это воскресный обед, разговение после Евхаристии и евхаристического поста, который несет духовную радость, что составляет сущность христианского воскресенья.
Невозможно изложить здесь все богословское значение поста, которое описывается и предписывается в нашей литургической традиции. Мы можем только указать на самое важное. Церковь живет на двух уровнях, у нее два «состояния». Она ожидает, но также уже и обладает объектом ожидания. Во времени, в истории она не только «in via» на пути в Царство Небесное, но также и провозглашение Царства. И значения ее жизни в этих двух «состояниях» не отделены друг от друга, не противопоставляются друг другу в радикальном несогласии. Каждое из них основывается на другом и невозможно без него. Вечность не опустошает и не делает абсурдным или бессмысленным время или нашу жизнь во времени, но, напротив, сообщает им вес и настоящую ценность. Церковь наполняет вечная истина с реальностью, которой лишь она одна обладает, вместе с самим по себе бессмысленным течением времени. Ритм Церкви, ритм Евхаристии, которая совершается и всегда в ожидании совершения, наполняет все смыслом, расставляет все по своим местам. Христиане не могут оставаться безучастными между совершением одной Евхаристии и ожиданием совершения следующей, их «временная» жизнь не пуста, не «умалена» эсхатологией. Именно литургический «эсхатон», который определяет настоящую ценность каждому мгновению нашей жизни, в которой все взвешивается и понимается в свете Царства Божия, в окончательном завершении и значении всего сущего. Нет ничего более чуждого истинному духу Православной Литургии, чем некий суеверный «литургиологизм» или «эсхатологизм», который ограничивает всю христианскую жизнь только причастием и презирает все остальное, почитая «суетой». Такая литургическая «набожность» не понимает, что истинное значение Евхаристии в оценке, изменении, понимании бесконечной важности и значительности всей жизни. Евхаристия несет свидетельство Воплощения, и с тех пор она определяется временем, введена во время, сама является временем, и каждое мгновение времени наполнено смыслом, приобретает значительность в соединении со Христом. Действительно, все, что происходит в жизни, большое и малое, перестает быть концом и ценностью в самом себе, иначе в такой изоляции и самоограниченности оно действительно становится «абсурдом». И сейчас, в предвосхищении Царства, все может и должно стать знаком и способом его приближения, «инструментом» спасения мира во Христе.
Поэтому очень важно по другую сторону литургического «эстетизма» или жесткого «рубрицизма» открыть истинное значение литургического времени, которое описано таким простым образом в Типиконе. Здесь Церковь запечатала сокровище своей любви, своей мудрости, своего «практического» знания Бога. Литургию в Церкви нужно освободить от банального «расписания служб» и сделать ее снова тем, чем она, по сути, является: освящением времени и в нем всей жизни присутствием Христа. Только такая Литургия не будет делить жизнь христиан на две, одну — «освященную», а другую — «мирскую», но преобразует ее из одной в другую, превращая само существование во свидетельство о Христе. Христос пришел не для того, чтобы мы «символизировали» Его присутствие, но чтобы изменить и спасти мир Своим присутствием.
Мы должны понимать, что Литургия в Церкви глубоко реалистична, что Вечерня находится в действительной взаимосвязи с отдельным и конкретным вечером, и этот вечер мы как христиане должны провести «совершенно, в святости, в мире и без греха», этот вечер мы должны отдать и посвятить Богу, и этот вечер для нас всегда должен освещать свет другого Вечера, другого Конца, которого мы ждем и в то же время страшимся, и которого мы достигаем в нашем человеческом времени. В Литургии мы осознаем, как, действительно, серьезно Церковь рассматривает время, пищу, отдых, все происходящее, все детали нашей жизни. В мире, в котором Бог стал человеком, ничто не может быть отделено от Него.
Ожидание, встреча, обладание: в этот ритм погружена Церковь и этим она измеряет время. Но есть дни, когда это ожидание достигает крайней «концентрации» — это дни вечерней Евхаристии. Церковь сознательно призывает к ожиданию и приготовлению в полной мере, к посту в полном смысле. День проходит в обычных ежедневных делах, которые заполняют любой другой день. И насколько значительным, каким глубоко «важным» и ответственным становится каждое слово, которое мы произносим в свете этого ожидания, каждый поступок, который мы совершаем! Да, в эти дни мы должны осознать, какова есть, какой должна быть христианская жизнь, мы должны жить, как если были бы освещены грядущим! Навечерие Рождества, необычайная тишина Страстной Субботы, дни Великого Поста, когда мы должны готовить себя к пресвятой службе, как все это должно «строить» христианскую душу, вести ее к пониманию Тайны Спасения, к изменению жизни… И когда, наконец, наступит вечер, когда все постные приготовления и ожидания исполнятся в Евхаристии, наша жизнь действительно войдет в Евхаристию, «соединится» с радостью и полнотой Царства.
Поэтому этот «пункт» может и должен стать для нас тем, чем он был для христиан в прошлом — законом молитвы, законом жизни.
Авторитет и свобода в Церкви
«Стойте в свободе, которую
даровал нам Христос»
(Гал 5: 1)
1
Тема моя очень трудная, и я отлично сознаю ответственность, лежащую на всяком, кто дерзает касаться ее. Я хотел бы, поэтому, избежать всякого риторического заострения и преувеличения. Мы живем в раскаленной атмосфере, и в нашей церковной действительности вопрос этот — не академическая абстракция, а живая боль. Всем нам нужно помнить слова св. Иоанна Богослова: «Испытывайте духи, от Бога ли они…».
Я начну с краткого упоминания о деле двух московских священников, ибо мне кажется, что это хорошая отправная точка. Конфликт их с Патриархией, сколь бы он ни был важен сам по себе, каковы бы ни были его прямые последствия, каковы бы ни были, наконец, факторы, неведомые нам и его усложняющие, — конфликт этот превосходит свое «актуальное», злободневное значение и превосходит тем как раз, что ставит ясно, я бы сказал, — трагически ясно и просто — вопрос о самой сущности Церкви, о самой сущности Православия. Это не преувеличение, не раздувание печального, но единичного инцидента ради использования его для каких–то побочных целей. То, что происходит сейчас в России, в тамошних исключительных условиях, могло бы, увы, произойти в любой части православного мира, в любой «юрисдикции». Но так уже повелось, по–видимому, что именно Русской церкви всегда приходится принимать на себя первый напор тех вопросов и испытаний, что возникают перед всем православным сознанием.
В деле московских священников важно то, что в нем сталкиваются не просто «белое» и «черное» (как бы мы их ни распределяли), не просто правда одних и неправда других, а сталкиваются две логики, два духа, две установки, из которых одна — та, что внешне торжествует, уже давно возникла в церковной психологии, а вторая — пока еще очень слабая и которую очень легко задавить и дискредитировать всевозможными и очень вескими аргументами. Аргументы эти мы слышим всякий раз, что раздается в церкви свободный голос, и состоит во всегдашней ссылке на «пользу Церкви». Всегда против всех пророков выдвигался один и тот же безжалостный аргумент: «ради мира, ради пользы Церкви, ради сохранения того, что есть, — молчите, ибо ради Церкви надо иногда пожертвовать и самой правдой» Повторяю, аргумент этот веский и мучительный. Нам хорошо отсюда высказывать свои мнения и поучать, но что бы мы сделали, если сами были бы «там». Что важнее? Что ценнее? Голос двух одиноких людей, пусть героев, или же «правда» тех, кто призван нести на себе бремя миллионов людей? В конечном итоге именно в этом трагическом контексте ставится в наши дни проблема свободы и авторитета в Церкви. И об этом, говоря о ней, мы должны все время помнить.
2
Перейдем теперь к самой сути вопроса, а именно — попытаемся понять «диалектику» двух этих понятий: свободы и авторитета. Что мы под ними разумеем? Ибо, прежде чем говорить о том, как они сочетаются в жизни Церкви, нам нужно точно знать, о чем мы говорим, о какой свободе и о каком авторитете.
Я начну с утверждения, что диалектика свободы и авторитета, как мы ее обычно обсуждаем, не та, какой мне хотелось бы видеть ее в православном сознании. Мне кажется, что диалектика эта–западная, заострившаяся в западном сознании со времен Реформации и Контр–Реформации и с тех пор ставшая в каком–то смысле центральной духовной проблемой Запада. И нам надо прежде всего понять, в чем состоит основная порочность этой проблемы. Говорю я это не для какого–либо легкого осуждения «Запада», ибо я ни в коей мере не причисляю себя к «антизападникам». Но может быть именно в том, как ставится и решается проблема свободы и авторитета, можно лучше всего почувствовать основное различие между западным и православным пониманием самых последних вопросов религиозной жизни.
Упрощая для ясности, можно сказать, что на Западе проблема свободы и авторитета есть, прежде всего, проблема ихсочетания. Так, в католицизме ударение стоит на авторитете, и тогда ставится вопрос — сколько свободы сочетается и как с этим авторитетом. Сейчас, например, тема эта особенно занимает католическое сознание: если Церковь есть бесспорный авторитет, то, м. б., авторитет этот не исключает некоторой свободы… Что касается протестантизма, то тут ударение лежит на свободе, и речь идет, следовательно, об авторитете, с этой свободой совместимом.
Разница тут и там только в ударении, но в конечном итоге подход здесь один и тот же, и с самого начала спор между католичеством и протестантизмом касался соотношения авторитета и свободы в Церкви и точного «модуса» воплощения каждого из них… Та же проблематика свободы и авторитета продолжала развиваться на Западе и тогда, когда она «секуляризировалась», т. е. оторвалась от своих религиозных объектов. И «Запад» теперь уже не географическое понятие, а духовное, и в каком–то смысле, он обнимает собой весь мир, и «западная» проблема свободы и авторитета стоит перед всеми нами.
Но я считаю ложной саму эту формулировку проблемы, в которой «авторитет» и «свобода» суть необходимо соотносительные понятия, так что свобода есть всегда свобода по отношению к какому–то авторитету, а авторитет есть всегда граница и предел какой–то свободы. Формулировку эту я считаю ложной, ибо она, по существу, обесценивает понятие свободы. Я считаю ее также противной подлинному духу Православия, хотя на поверхности нашей церковной жизни и нашей религиозной психологии ее можно считать, увы, восторжествовавшей. И моя цель в этом докладе — указать, хотя бы в самом общем виде, как проблема эта ставится на глубине православного сознания.
3
Никогда, кажется, в мире не говорили так много о свободе, как сейчас. И есть еще очень много «умеренных» людей, которые под свободой понимают именно «ограниченную свободу», ограниченную каким–то авторитетом. Но давно уже началось и на наших глазах достигает пароксизма другое понимание или ощущение свободы — свободы, отрицающей какой бы то ни было авторитет. Это культ свободы радикальной, абсолютной. Недавно мне довелось видеть в одном американском университете студенческую манифестацию. Смотря на них и слушая их, мне стало очевидно, что их восстание было совсем не во имя того, чтобы иметьбольше свободы, и что дрожащее начальство, готовое отодвинуть еще дальше заградительную линию «авторитета», этого совсем не понимало. Это был взрыв, один из многих взрывов, желание именно «радикальной» свободы, свободы как отрицания авторитета вообще. Но важно понять, что взрыв этот — логическое последствие той диалектики авторитета и свободы, что давно уже отравила собой человеческое сознание. Пока есть хоть «немножко» авторитета, свобода остается неполной… Вы помните знаменитую речь Сен Жюста на процессе Людовика XVI и его слова: «Il faut que cet homme regne ou meure…» Человек этот должен царствовать, либо умереть… Либо «авторитет» этого человека божественен, но тогда нет и не может быть свободы, либо человек свободен, но тогда божественный авторитет должен быть уничтожен. Один шаг дальше — и мы встречаем Фридриха Ницше, другого пророка абсолютной свободы. Он говорит то же самое, что Сен Жюст, но уже не про короля, а против Бога. По Ницше, нелегко провозгласить смерть Бога, приговорить к смерти Бога. Вы, может быть, помните страшную страничку из Ницше — о том страшном одиночестве, той страшной темноте, в которой остается человек, и о том, как он бегает с потухшей лампой в руке… Но это цена свободы, ибо пока есть этот авторитет всех авторитетов, свободы нет. И не случайно так называемые «радикальные богословы» нашего времени так любят ссылаться на Ницше. Проблема «смерти Бога» есть совсем не только философская проблема, Бог умирает не потому, что люди не могут в Него больше верить по философским причинам; нет, это есть логическое завершение того понимания свободы, которое требует, из самых своих глубин, отрицания и уничтожения всякого авторитета, и, следовательно, Бога… Но вот третий шаг — это Кириллов из «Бесов» Достоевского. Как вы, конечно, помните, он кончает самоубийством, чтобы доказать свою абсолютную свободу, ибо смерть и есть для человека самый последний и ненавистный авторитет. Ее неизбежность, ее объективность, ее независимость от меня — все это и есть тот последний авторитет, преодолев и уничтожив который человек делается свободным как Бог. Тут Достоевский гениально показывает завершение этой диалектики свободы и тем самым вскрывает ее ужас и бессмыслицу. Ибо доведенная до своего логического предела свобода не может быть «умеренной»: пускай, де, папа римский будет немножко «меньше» папой, а миряне получат немножко «больше» прав, и все будут голосовать и т. д. Эту «умеренную» свободу обязательно взорвет изнутри тот персонаж из Достоевского (и неважно, придет ли он «слева» или «справа»), который на вершине этой умеренной, мелкобуржуазной, «аккуратной» свободы предложит «послать ее к черту». Пока свобода только соотносительна с авторитетом, она либо изнутри размывает авторитет, либо же извне поглощается авторитетом. И гениальность Достоевского в том, что он показывает, что радикальная свобода равнозначна смерти. Кириллов, чтобы стать абсолютно свободным, умирает. «Свобода или смерть!» — кричат свободолюбцы. Но что, если и сама свобода, в конечном итоге, оказывается смертью? Но в том то и все дело, что человека, хлебнувшего этой свободы, уже не прельстишь никакими «бельгийскими конституциями», и разрушая эту «умеренную» свободу во имя абсолютной, он, сам того не зная, понемногу разрушает сам себя…
4
Можно ли, между тем, сомневаться в том, что эту неутолимую жажду абсолютной свободы внесло в мир христианство? Ибо весь «ужас» христианства, если так можно выразиться, в том и заключается, что в нем нет ничего «умеренного», ничего направленного к «среднему человеку» с его «умеренными нуждами». Оно берет каждого и говорит: Бог или диавол, небо или ад, но не серенькая середина. И потому, в конечном итоге, именно оно ответственно за ту страшную поляризацию авторитета и свободы, которая взрывает все время «мирную жизнь» людей. Да, христианство разрушило ту «меру», которой так сильна была древняя Греция: «человек есть мера всех вещей»… Этой меры после Распятия, Воскресения и Пятидесятницы очень мало осталось в мире. Все всегда сдвигается со своего места, все всегда под вопросом, и ничего «умеренного» как–то не удается. Удается на время, а потом непременно рассыпается. Но не значит ли это, что сама эта диалектика авторитета и свободы, которую навязывают нам как единственно возможную, но которая все время оказывается невозможной, есть диалектика ложная? И нельзя ли попытаться в недрах Православия найти совсем другой подход к ней?
Надо сказать, что в течение долгого времени никакой «диалектики» авторитета и свободы в православном мире просто не было. До них православный Восток жил опытом, с одной стороны, авторитета и власти, не разбавленных никакими «конституционными» прибавками, власти всегда абсолютной и священной. С другой же стороны — опытом духовной свободы, которая, во избежание всякой коллизии с этим абсолютным и священным авторитетом, переводила себя как бы в другое измерение. Преподобный в пустыне свободен. Он просто вышел из тех рамок жизни, где авторитет и свобода сталкиваются и соотносятся. Никто уже не может поработить его, ибо для него — «жизнь Христос и смерть приобретение»… Эта свобода обретаема была т. о. ценой простого выхода из истории, из всякой диалектики — даже диалектики церковной жизни. Это был уход в ту внутреннюю, духовную свободу, которой все равно никогда и никто нас не может лишить.
Но с крушением православных «теократий» западная диалектика авторитета и свободы постепенно начала проникать и в православное сознание и определять нашу жизнь. И некоторым, и даже многим, начинает казаться, что иначе и нельзя поставить этот вопрос. На наших глазах делаются попытки «демократизировать» Церковь. С одной стороны, неприкосновенной остается в ней вся структура священной власти, с другой же — возникают советы, комиссии, комитеты, которые каким–то образом знаменуют ограничение этой власти. Но все это движение, все эти попытки пока что отличаются неясностью. Мы как будто не нашли языка, категорий мысли, формул, чтобы выразить что–то очень важное и глубокое в опыте Церкви, и потому мы очень часто пытаемся выразить этот опыт в «западных» категориях авторитета и свободы: тут авторитет, а тут — свобода… Тут «Церковь во Епископе», а тут «права» народа церковного… Но я уверен, что из неясности этой можно выйти только преодолением этой ложной «дихотомии», только прорвавшись к самой последней, подлинно христианской, интуиции свободы.
5
Эту положительную часть моего доклада уместно начать со знаменитых слов Хомякова: «Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос, ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а Истина…» Церковь, иными словами — и в этом подлинно гениальное прозрение Хомякова — не комбинация авторитета и свободы, по «образцу мира сего», не свобода, ограниченная авторитетом, и не авторитет, допускающий свободу. Что же есть Церковь? Вот апостол Павел — он называет себя в своих посланиях «рабом Иисуса Христа». Но этот раб не устает как о самом важном и драгоценном в своей проповеди возвещать о свободе: «стойте в свободе, которую даровал нам Христос». Свободный раб. Не освобожденный, т. е. переставший быть рабом, а поработивший себя до такой степени, что стал свободным! Что это значит? Какое отношение имеет эта свобода к той, что состоит в отрицании и уничтожении «авторитета» и заканчивается, хотя бы потенциально, самоуничтожением?
Нужно почувствовать, что в той — «мирской» свободе, свободе соотносительной с авторитетом, человек свободен только в ту меру, в какую он еще не «выбрал» и, что таким образом свобода эта оказывается только чистойвозможностью, пустотой, ничем еще не заполненной. Но как только он выбор сделал, свободы уже нет, ибо выбор есть по необходимости выбор «авторитета», т. е. того, что свободу ограничивает… Свобода есть выбор того, что ограничивает свободу и, в пределе, ее просто уничтожает. Но христианство учит об обратном. Словами апостола Павла оно возвещает порабощение, которое в пределе оказываетсясвободой. Свобода — в конце, как завершение и исполнение всего, как не «форма» и не «условие», а содержание жизни. Христианство начинается с утверждения, что человек потерял свободу, что то, что он называетсвободой и во имя чего борется с «авторитетом», есть не свобода, а последнее выражение его порабощенности, егонезнание свободы. Но вот: «Познаете Истину и Истина сделает вас свободными», — говорит Христос. Но что же это за знание и каким образом оно достигается?
6
Я так рад, что на этом съезде уже не раз говорили о Святом Духе. Ибо христианское учение о свободе, как и учение о Церкви, должно начинаться с учения о Святом Духе. Это то, что сейчас нам нужно более всего, ибо это то, что может быть более всего забыто в христианском сознании: рождение Церкви в Пятидесятницу, откровение Церкви как «дыхание Святого Духа». О, конечно, место Святого Духа точно определено и описано в стройных богословских системах и Ему воздается «должное». Но на деле, в жизни, я убежден, произошло какое–то странное сужение сознания и опыта Святого Духа. И сужение это, может быть, лучше всего определить как отрыв учения о Святом Духе от учения о Церкви, или, выражаясь богословским языком, пневматологии от экклезиологии. Самый древний дошедший до нас символ веры кончается кратким утверждением: «И в Духа Святого Церковь». Церковь тут как бы отождествляется с Духом Святым, как Его явление и пребывание и «дыхание»… Но в истории, во времени, это учение о Святом Духе свели постепенно к учению о «благодати», и саму эту благодать выделили в определенную и точно «оформленную» и измеренную «сферу» в церкви. Про Духа Святого сказано в Евангелии: «Не мерою дает Бог Духа». Но вот мы только и делаем, что измеряем и мерим благодать. Разве не определяем мы ее дары «количественно»: у епископа ее «больше», у диакона «меньше»…, тут она есть, тут ее нет… Но не пора ли снова почувствовать и осознать, что все христианство есть, с одной стороны, великая тоска по Святому Духу ижажда Его, а с другой, радостный опыт Его пришествия, пребывания и дыхания… В Священном писании Дух назван «ветром» (руах), про Него сказано, что «Он дышит, где хочет, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Ветер! Вот мы только что прибрали комнату и привели все в порядок на своем столе. Все ясно, просто и определенно, система, дисциплина, порядок. Прими, подчиняйся и веруй, что только так и должно, только так и может быть. Но вот мы открыли окно, и в него врывается ветер, и все взвивает своим вихрем, и все выглядит по–новому, все стало жизнью, движением… Это образ Святого Духа и Церкви. Но этот опыт забыт или, вернее, «отложен» в Церкви, потому что он несовместим с другим — «консисторским» опытом и образом Церкви, потому что на нем не построишь «консистории».
Но где–то на самой глубине нашей веры и нашего церковного сознания мы знаем и помним, что Церковь началась с обещания Христа послать Утешителя и сожидания Его… И вот был этот третий час, и были эти огненные языки, и «вси начаша глаголати странными языки, странными повелениями…», и что это было то, чего ждал мир, к чему — еще прежде падения — было предназначено все творение, чтобы пошел, наконец, этот дождь Духа и все напоил, и чтобы мы видели видения, и чтобы наступил день Господень, великий и страшный… И вот это и есть Церковь. Для этого она существует, только в этом ее жизнь, и имя этой жизни — имя Святого Духа — свобода.
7
Свобода, даруемая Святым Духом. Дух, Церковь, Свобода. Как трудно говорить об этом, у нас почти не осталось слов! Быть может, только намеком Бердяев говорил об ужасе «объективации». Объективация — это внешнее, остающееся внешним, это «вещность» мира и жизни, это непроницаемость объекта для субъекта. Это, иными словами, — мир, где все «внешне», и потому все — «авторитет», т. е. что–то, что просто ограничивает меня и заключает меня в тюрьму одиночества. Но вот, что поразительно: мир вокруг нас живет, по существу, пафосом этой «объективизации», он жаждет только «объективного». На нем построена наука, но мы хотим и «научной идеологии». «Объективная истина», «объективная норма» — тут правоверный коммунист сходится, в подходе к жизни, с консисторским законником. Идеал тут — подчинить всю жизнь, все ее «измерения» одной всеобъемлющей, ибо «объективной», истине и, вдобавок, провозгласить еще, что это и есть настоящая свобода. От Бога до последнего атома материи все построено по тому же «объективному» принципу: «дважды два — четыре», — простейшая и вечная формула «авторитета». С этим не поспоришь. Тут можно только биться головой о стены, как делает это, не находя выхода, Шестов, или убить себя, как Кириллов, или же, наконец, выбрать бесплодный «абсурд»: «дважды два четыре это хорошо, — замечает кто–то у Достоевского, — но дважды два пять — тоже премилая вещица».
Но в том–то и дело, что христианство не пришло в мир как последняя и потому самая «объективная» истина, как последний и потому самый высший «авторитет». Употребляя все те же слова, можно сказать, что христианство вошло в мир как окончательное, последнее преодоление всякой «объективации», т. е. порабощения как мертвому «авторитету», так и мертвой «свободе». Оно вошло в мир как восстановление той истинной свободы, которую потерял человек, потеря которой и есть грехопадение в последнем смысле этого слова. Ибо грех состоит не в том, что люди нарушили закон, т. е. восстали против «авторитета», а в том, что они и Бога и мир ощутили как «авторитет», «объективировали», что они сами себя заключили в эту темницу. Вот почему Христос пришел «отпустить измученных на свободу»…
Дар же этой свободы, ее и условие, и осуществление, и содержание, и радость есть Дух Святой. Он есть претворение «объективного» в «субъективное», безличного в личное. Он есть Тот, кто делает все даром, сокровищем, радостью, жизнью… И на глубинах своих православное богословие есть всегда богословие Святого Духа, ищущее знания Бога, а не знания о Боге, единения и жизни с Ним и в Нем со всем, а не «абсолютной» и «объективной» истины, божественного «дважды два четыре». Его праздник есть праздник Святой Троицы, т. е. самой божественной Жизни, в которой три не просто «абсолютно», и потому «абсолютно объективно»,знают Друг Друга, но в которой знание извечно претворено в совершенное единство, в совершенное обладание Друг Другом, вединосущие. В нашей грешной и падшей жизни единственной «естественной» аналогией действия Святого Духа является искусство. В. В. Розанов говорил, чтостиль вещи это то место, куда эту вещь поцеловал Бог. Мы все знаем, что есть вещи, которые никто и никуда не поцеловал и которые остаются, поэтому, «только вещами». Мы знаем, что фотография никогда не заменит живописи, ибо в живописи и преодолена, как раз, «объективность», с которой видит мир глаз аппарата, и дано, даровано нам навеки то, как увидел это лицо, этот осенний день, этот мир, как овладел им навеки творец… То, что совершается тут, что совершается во всяком подлинном искусстве, во всякой подлинной любви, во всяком подлинномобщении и есть преодоление «объективации», или, говоря все тем же варварским языком — чудо «интериоризации», и это есть чудо Святого Духа, Его действие, пришествие божественного «руаха» свободы… Возвращаясь к нашей теме, можно сказать, что действие Святого Духа и есть преодоление всякого авторитетакак авторитета и свободы, как рабского восстания против авторитета…
8
«И в Духа Святаго Церковь…» Церковь родилась и вошла в мир как дар Святого Духа, и это значит, как свобода сынов Божиих. Радостью о Святом Духе, о Его пришествии и пребывании сияет нам вечно ранняя Церковь. Но и сейчас все время в таинстве миропомазания дается нам все тот же «дар Святого Духа», дар стать, наконец и до конца,самими собой, свободными, Божиими, «святыми». Но вот мы говорим это и сразу же чувствуем: в какую даль от всего этого мы зашли и в какой страшной пустыне живем. Когда я читаю некоторые церковные журналы, меня поражает не политическая окраска того или иного постановления, даже не внешнее порабощение Церкви «миру сему». Меня еще больше поражает тот образ Церкви, что все больше и больше становится единственным ее образом, и в котором она до конца и восторженно переживается как именноавторитет. Было время, когда Церковь как бремя, как падение переживала торжество «казенщины» в себе, свою «казенную судьбу». Теперь она начинает любить ее, поистине «наслаждаться ею». Па наших глазах возник и воцарился в Церкви тип епископа, священника, мирянина, захлебывающегося в «административном восторге», потерявшего — благодушно и безболезненно — саму «печаль по Боге», вполне удовлетворенного какой–то космической консисторией, в которую на наших глазах превращается постепенно жизнь всей Православной церкви, и в принятии которой, во внутреннем и свободном подчинении которой даже очень хорошие люди видят «спасение Церкви» и ее «правду». Расчет, дипломатия, «международные нормы», «канонические взаимоотношения» — это извне, это на всех «Родосах», а изнутри — указы и приказы, отношения и донесения… В церкви воцарился и, повторяю, изнутри, а не только по внешнему принуждению, какой–то всеобъемлющий «референт» какого–то безличного «отдела», и мы начинаем любить эту казенщину, скуку и тоску, этот «иерархический страх», пронизывающий нашу церковь, и самое ужасное, повторяю, это то, что мы уже почти не ощущаем больше невозможности жить в этой лжи, лукаво и лицемерно покрытой всей «священностью» и «торжественностью» традиционного православного быта.
Можно ли прорваться сквозь все это? Вы помните ту минуту на всенощной под Пятидесятницу, когда в первый раз поется — после пятидесятидневного перерыва, молитва «Царю Небесный…» Точно была засуха, и вот — пошел дождь! Точно этой минуты, этого дождя мы ждали так долго, весь год, всю жизнь. И все обновляется, все становится другим, новым. Нам надо восстановить в себе этот опыт Церкви, тот, о котором говорил Хомяков, когда он писал: «Бог не есть авторитет, Церковь не есть авторитет, Истина не есть авторитет». Нам нужно в себе, прежде всего, преодолеть эту мирскую и падшую диалектику свободы и авторитета и вернуться в радость и свободу сынов Божиих…
Нам нужно внутреннеосвободиться, отделаться в самих себе от страха, от казенщины, от лукавства. Только тогда мы снова поймем и ощутим, что Церковь — это не организация и не авторитет, а тело, напоенное Духом, в котором нам дана потрясающая возможность верить друг другу в свободе. «Дети, берегите себя от идолов». Но, как ни страшно это сказать, сама церковь может стать «идолом». И она становится идолом всякий раз, когда «ради пользы Церкви» нас призывают черное назвать белым, неправду правдой, зло добром, всякий раз, что «ради Церкви» уничижается Дух Святой, «ради» Которого и Которым она только и существует. Церковь не есть «высшая ценность». Она существует для того, чтобы Святой Дух приходил и все времяосвобождал и отпускал «измученных на свободу». В каком–то смысле ничего и никогда не нужно делать «ради Церкви», а только знать, что когда мы живем и поступаем ради Христа и по Христу, тогда мы — в Церкви и Церковь… Поэтому откинем всю эту лукавую «экклезиолатрию», это возвеличение Церкви, которое даже церковные соборы и съезды подчиняет вопросам «престижа», «ранга», «славы»… Какая Церковь первая, какая вторая? Кто старше? Как не «унизить» свою Церковь, а возвеличить ее? Мир уходит от Христа, а мы все еще спорим «кто старше»… Но Церковь и есть свобода от всего этого, дар Святого Духа, Который делает нас свободными не в «демократическом» смысле этого слова, а свободными той свободой, что позволяет в каждом человеке видеть то, что видит в нем Бог, в каждом моменте времени — время спасения, в каждом отрезке пространства — растущее исподволь Царство Божие.
Слишком много лукавых слов было сказано и все еще говорится о послушании. Да, послушание есть высшая христианская добродетель, — нопослушание Богу! Церковь существует только для того, чтобы это послушание Богу, которое и есть последняя свобода, внушить и даровать нам, чтобы мы могли действительно от всего сердца сказать то, что поем мы на каждой утрени: «Ты есиедин Господь!» Он один. И никакого другого господства в мире, кроме господства Христова, нет. Он никому не «делегировал» Своей власти, но Сам — Духом Святым, Духом любви и свободы, мира и радости — «господствует» в Церкви. И потому Церковь как «институт» существует, чтобы вовремя «умаляться» и становиться прозрачной для Христа и Духа Святого.
9
Поэтому, повторяю, дело не в том, чтобы найти такой способ церковного управления, в котором было бы больше свободы и меньше авторитета или, наоборот, больше авторитета и меньше свободы, речь идет не о том, как мы применим «демократию» к Церкви или Церковь к демократии. Дело в том, чтобы в нас самих снова воцарился образ Церкви как Духа, как Царства свободы и любви, в котором преодолевается эта страшная падшая дихотомия авторитета и свободы. Неужели мы не чувствуем, как наполнена церковь страхом, тем страхом, в котором, по слову Апостола, нет любви? И тот человек, который должен был бы быть явлен миру как свободный человек, единственно по настоящему и до конца свободный, единственный, который может сказать: «все могу в укрепляющем меня Иисусе», — этот человек оборачивается каким–то напуганным рабом, который боится не только начальства, но и собственной своей тени и в панике ищет «авторитета».
Надо увидеть снова Церковь в Святом Духе и Святого Духа в Церкви. Восстановить — не схоластическое учение о благодати, которой «больше» здесь и «меньше» там, а Церковь как «причастие Святого Духа». Вот Он приходит. И все становится новым. Нет раба и нет свободного. Нет мужеского пола, ни женского. Каждому дан дар, и все им напоены. И сама иерархия церковная есть только служение этой Истине и этой свободе, ее сохранение…И когда мы этот образ Церкви полюбим снова, когда мы пойдем в Церковь не для того, чтобы от свободы и ответственности освободиться («кто–то решит»), а чтобы найти полноту своей человеческой жизни во Христе и в Боге, тогда мы почувствуем, что то, что совершается сейчас повсюду — в Москве и на Западе, в наших приходах и «юрисдикциях», есть не очередное столкновение умудренных «авторитетов» с беспокойными юношами, а проявление все той же жажды Святого Духа, без Которого все холоднее и труднее становится жить… Может быть, в Церкви возрождается, наконец, эта жажда Святого Духа, жажда Пятидесятницы… Об этой жажде возвещал Хомяков, ею жило все лучшее в Русской Церкви и в русском богословии. О ней свидетельствовал преподобный Серафим Саровский своим призывом: «Стяжайте Святого Духа…»
Богослужение в секулярный век
Julien Green
1
Сама постановка рядом — для их соотнесения — понятий «богослужение» и «секулярный век» предполагает, что мы хорошо понимаем каждое из них и ту реальность, которая за ними стоит, и поэтому будем строить наши рассуждения на твердой основе. Но так ли это? Я начинаю свой доклад с вопроса, поскольку убежден, что, несмотря на всеобщий интерес к семантике, существует большая неясность относительно точного значения понятий, которые мы собираемся обсуждать.
Не только среди христиан в целом, но даже среди православных нет единого понимания, общей системы представлений в отношении и богослужения, и секуляризма, а тем более проблемы их соотношения. Мой доклад, главным образом, является попыткой не столько решить проблему, сколько прояснить ее и сделать это, по возможности, в рамках православного учения. Мне кажется, что православные в обсуждении злободневных проблем слишком легко заимствуют их западные формулировки, как будто они не понимают, что в православной традиции существует прежде всего возможность, а значит, и необходимость переформулировки этих проблем, помещения их в контекст, отсутствие или деформация которого в западном сознании могла послужить причиной такого количества современных «тупиков». И, по–моему, эта задача нигде так не насущна, как в кругу проблем, связанных с секуляризмом, а точнее — с нашим так называемым секулярным веком.
2
Секуляризм за последние годы анализировали, описывали и определяли всевозможными способами, но, насколько мне известно, ни один из них не акцентирует момент, который я считаю принципиальным и который, как ничто другое, раскрывает истинную природу секуляризма и, следовательно, может задать нашему исследованию нужное направление.
Секуляризм, на мой взгляд, — это прежде всего отрицание поклонения. Подчеркиваю: не существования Бога, не какой–либо трансцендентной реальности и, следовательно, не той или иной религии. Если секуляризм, с точки зрения богословия, является ересью, то в основном это ересь по отношению к человеку. Это отрицание человека как существа поклоняющегося — homo adorans, того, для кого поклонение — это основной акт, который определяет его человеческую природу и осуществляет ее. Это принципиальное онтологическое и эпистемологическое отрицание слов, которые «всегда, везде и для всех» были подлинным откровением об отношении человека к Богу, к миру и к самому себе: «Достойно и праведно Тебя воспевать, Тебя благословлять, Тебя хвалить, Тебя благодарить, Тебе поклоняться на всяком месте владычества Твоего…»
Конечно, такое определение секуляризма нуждается в пояснениях, так как очевидно, что оно сегодня не может быть принято многими, кто сознательно или бессознательно сводит христианство к интеллектуальным («будущее веры») или социо–этическим («христианское служение миру») категориям и поэтому думают, что можно не только приспособить друг к другу, но даже установить глубокую гармонию между «секулярным веком», с одной стороны, и поклонением, с другой. Если сторонники того, что по существу является принятием христианством секуляризма, правы, тогда от нас требуется только найти способ сделать поклонение более приемлемым, более «значимым» для секулярного мировоззрения современного человека. И таково, действительно, направление, которого сегодня придерживаются большинство реформаторов богослужения. Они стремятся найти такие формы и содержание богослужения, которые отвечали бы нуждам и чаяниям человека с секулярным сознанием или, лучше сказать, секуляризму как таковому, потому что, еще раз подчеркну, секуляризм ни в коей мере не то же самое, что атеизм, и, как это ни парадоксально, в нем всегда можно было увидеть особое стремление к «литургическому» самовыражению. Однако если мое определение верно, то это исследование теряет всякий смысл и упирается в тупик. Тогда в самой теме — богослужение в секулярный век — обнаруживается внутреннее противоречие, которое требует пересмотра всей проблемы и ее полной переформулировки.
3
Чтобы доказать, что мое определение секуляризма (отрицание поклонения) правильно, я должен остановиться на двух моментах. Один касается поклонения: следует показать, что само понятие поклонения заключает в себе идею об определенном отношении человека не только к Богу, но и к миру. Другой связан с секуляризмом: нужно доказать, что секуляризм эксплицитно или имплицитно отрицает именно эту идею поклонения.
Сначала рассмотрим поклонение. Парадоксально, но и, как мне кажется, довольно показательно для современного состояния нашего богословия, что основное «доказательство» здесь мы находим не у богословов, а в Religionswissenschaft (науке о религии), в то время как теологи в истории и феноменологии религий практически игнорируют научное рассмотрение форм и содержания поклонения. Religionswissenschaft же, еще будучи в стадии формирования, когда у нее был сильный антихристианский уклон, знала о природе и смысле поклонения больше, чем богословы, которые сводили таинства к категориям «формы» и «вещества», «причинности» и «действительности», по существу исключая литургическую традицию из своих богословских рассуждений.
Однако совершенно очевидно, что если богослужение вообще и христианскую литургию в частности рассматривать в свете этой на сегодня методологически зрелой феноменологии религии, то мы должны будем признать, что принцип, который лежит в их основе и определяет их развитие — это сакраментальный характер мира и места человека в мире.
«Сакраментальный» здесь означает, что глубинная (the basic and primordial) интуиция, которая не только находит свое выражение в богослужении, но благодаря которой все богослужение становится «феноменом» — и актом, и процессом, свидетельствует, что мир как вселенная в целом или как жизнь в ее развитии в историческом времени является откровением о Боге, средством явления Его присутствия и силы. Иными словами, он не только утверждает (posits) идею Бога как рационально объяснимую причину своего существования, но свидетельствует о Нем и является основным средством Богопознания и Богообщения, и в этом состоит его истинная природа и единственное назначение. Но тогда богослужение — это действительно основной акт, и человек действительно является существом поклоняющимся, потому что только в богослужении человек имеет источник и возможность получения того знания, которое является причастием, и того причастия, которое исполнено совершенного знания — знания Бога и потому знания мира, причастия Богу и потому всему сущему. Итак, само понятие поклонения основано на интуиции и опыте мира как откровения о Боге, и мир в поклонении раскрывает свою истинную природу и призвание как таинство.
А надо ли напоминать об этих вещах, таких очевидных, таких «само собой разумеющихся», что они почти не упоминаются в наших высоконаучных эпистемологиях и полностью игнорируются в дискуссиях о «герменевтике», но от которых непосредственно зависит само наше существование как Церкви, как нового творения, как народа Божьего и храма Духа Святого? Нам нужны вода, и масло, хлеб и вино, чтобы быть сопричастными Богу и познавать его. В то же время — и это следует если не из современных богословских трудов, то из самого богослужения — именно это причастие Богу посредством вещества обнаруживает истинное значение вещества, то есть самого мира. Мы можем служить только во времени, но именно служение в конечном счете не только открывает смысл времени, но поистине обновляет его. Не может быть служения без участия тела, без слов и молчания, света и темноты, движения и покоя, но только в служении и благодаря ему все эти основные проявления человека в его отношении к миру получают свое конечное осмысление, обретая высший и глубинный смысл.
Таким образом, понятие «сакраментальный» значит, что для мира быть средством поклонения и благодарения — это не что–то случайное, а то, что раскрывает его смысл, восстанавливает его суть и исполняет его назначение. Именно «естественная таинственность» мира находит свое выражение в богослужении и делает его основным ergon (дело — прим. пер.) человека, основой и источником его жизни и самовыражения. Будучи откровением о Боге, поклонение тем самым является откровением о мире, будучи общением с Богом, оно есть единственно истинное общение с миром, будучи познанием Бога, оно является вершиной человеческого знания.
4
Прежде чем перейти к следующему моменту — секуляризму как отрицанию богослужения, необходимо сделать одно замечание. Я упомянул ранее Religionswissenschaft потому, что она предлагает на своем уровне понимания и согласно своим принципам такое истолкование природы и смысла не только христианского богослужения, но богослужения вообще, богослужения как изначального и универсального явления. Христианский богослов, однако, должен, по–моему, признать, что это особенно верно по отношению к христианской литургии, уникальность которой происходит от веры в воплощение, от великой и всеобъемлющей тайны «Слова, Которое стало плотью». Для нас очень важно помнить, что уникальность, новизна христианского богослужения состоит в том, что оно не имеет никакой преемственности с богослужением вообще, как пытались доказать некоторые не в меру усердные апологеты, когда Religionswissenschaft просто сводила христианство и его богослужение к языческим культовым мистериям, а в том, что во Христе эта преемственность исполняется и получает свой высший и поистине новый смысл, так что оно доводит все «естественное» поклонение до своего конца. Христос — исполнение поклонения как хвалы и молитвы, благодарения и жертвы, причастия и познания, потому что Он являет Собой высшее откровение о человеке как о существе поклоняющемся, полноту Божественного откровения и присутствия посредством этого мира. Он истинное и совершенное Таинство, потому что Он исполняет «таинственность» как первооснову мира.
Если, однако, эта преемственность христианского богослужения с человеческим поклонением вообще включает в себя не менее важный принцип прерывности, если христианское поклонение, будучи исполнением и пределом всякого поклонения, является в то же время и началом, принципиально новым поклонением, то это не из–за какой–то онтологической невозможности для мира быть таинством Христа, но из–за того, что мир отверг Христа, распяв Его, и, совершив это, отверг свое предназначение и его исполнение. Поэтому, если в основе христианского поклонения лежит вера в Воплощение, его истинное содержание всегда — Крест и Воскресение. Благодаря им новая жизнь во Христе, воплотившемся Господе, «сокрыта со Христом в Боге» и становится жизнью «не от мира сего». Мир, который отверг Христа, должен сам умереть в человеке, чтобы снова стать средством общения и участия в той жизни, которая воссияла из могилы, в Царстве «не от мира сего», которое для этого мира еще должно настать.
И тогда хлеб и вино — пища, вещество, самый символ этого мира, и потому содержание нашего «приношения» (prosphora) Богу — для того, чтобы быть претворенными в Тело и Кровь Христовы и стать причастием Его Царству, должны в анафоре быть вознесены, отделены от этого мира. И только когда Церковь в Евхаристии оставляет этот мир и восходит к Христовой трапезе в Его Царстве, она видит и возвещает, что «небо и земля полны славы Его» и что Бог все наполняет Собою. И все же еще раз отмечу, что этот разрыв, видение всего в новом свете, возможен только потому, что в его основе лежит преемственность, а не отрицание, потому что Дух Святой все обновляет, а не создает все новое. Христианское богослужение — всегда воспоминание о Христе во плоти, и именно поэтому оно становится воспоминанием, то есть ожиданием и предвосхищением Его Царства. Именно потому, что литургия Церкви космична, то есть объемлет во Христе все творение, и потому, что она всегда исторична, то есть объемлет во Христе все время, она также может быть и эсхатологична, то есть в ней мы становимся истинными наследниками будущего Царства.
Такова идея отношения человека к миру, заключенная в понятии «поклонение». Поклонение по определению и в жизни (by definition & act) — это реальность с космическим, историческим и эсхатологическим измерениями, и следовательно, оно является выражением не только чистого благочестия, но и всеохватывающего мировоззрения. И те немногие, кто взял на себя труд изучения поклонения как такового и христианского поклонения в частности, наверняка согласятся, что по крайней мере на уровне истории и феноменологии такое понимание поклонения подтверждается объективно. Поэтому если сегодня люди принимают за поклонение дела, замыслы, предприятия, которые на самом деле не имеют ничего общего с нашим пониманием поклонения, то в этом виновато глубокое смещение смыслов, характерное для нашего смутного времени.
5
Перейдем ко второму положению. Секуляризм, как я уже говорил, это прежде всего отрицание поклонения. В самом деле, если верно то, что мы сказали о поклонении, то не так же ли верно и то, что секуляризм состоит в отрицании, явном или неявном, именно той идеи о мире и человеке, передать которую и является целью поклонения? Более тог, это отрицание лежит в самой основе секуляризма, является его отличительным признаком, но, как я уже сказал, секуляризм — это ни в коем случае не то же самое, что атеизм. Современный секулярист довольно часто принимает идею Бога. В то же время он подчеркнуто отрицательно относится именно к сакраментальности человека и мира. Секулярист считает, что мир в себе самом содержит свой смысл и принципы познания и действия. Он может приписывать Богу смысл и происхождение мира и законы, которые им управляют. Он даже может спокойно признать возможность Божественного вмешательства в существование мира. Он может верить в жизнь после смерти и в бессмертие души. Он может связывать с Богом свои стремления к высшему, например, к справедливому обществу, свободе и равенству всех людей. Другими словами, он может относить свой секуляризм к Богу и делать его «религиозным» — включать его в экклезиологические программы и экуменические проекты, делать темой церковных соборов и предметом исследования в «богословии». Все это ничего не меняет в его принципиально секулярном понимании человека и мира, в мире, понимаемом, постигаемом и осуществляемом по своим имманентным законам для своей имманентной цели. Это ничего не меняет в его фундаментальном отрицании откровения, изначальной интуиции, что все в этом мире и сам мир не только имеют где–то в ином мире причину и законы своего существования, но сами являются выражением и присутствием этого иного мира, и это составляет жизнь их жизни, так что в отрыве от этого откровения все становится лишь тьмой, абсурдом и смертью.
И нигде эта суть секуляризма как отрицания поклонения не раскрыта лучше, чем в его отношении к богослужению, потому что, как это ни парадоксально, секулярист в каком–то смысле просто одержим идеей богослужения. Масонство — высшая точка религиозного секуляризма на Западе — почти целиком состоит из тщательно продуманных церемоний, насыщенных символами. Современный проповедник идеи секулярного города Гарвей Кокс считал, что за его первым бестеллером должна последовать книга о службе. Службы сегодня на самом деле в большой моде. Причины для этого на первый взгляд необычного явления очень просты. Они не только не противоречат, но, наоборот, подтверждают мою теорию, потому что, с одной стороны, это явление показывает, что человек, какова бы ни была степень его секуляризма или атеизма, остается по природе существом поклоняющимся, вечно тоскующим по ритуалам и обрядам вне зависимости от того, насколько пустой и искусственный эрзац ему предлагается. С другой стороны, показывая неспособность секуляризма создать истинное поклонение, это явление доказывает полную и трагическую несовместимость секуляризма с основами христианского мировоззрения.
Эта неспособность видна прежде всего в самом подходе секуляризма к богослужению, в его убеждении, что богослужение, как и все остальное на свете, может быть рассудочным построением, результатом планирования, обмена мнениями и дискуссий. Довольно типичный показатель этого — очень модные сейчас дискуссии о новых символах, как будто символы могут быть, образно говоря, «произведены», созданы путем коллективных обсуждений. Все дело в том, что секулярист по своей природе не способен видеть в символах что–то еще, кроме «аудио–визуальных средств» для передачи идей. Прошлой зимой группа студентов и преподавателей из одной очень известной семинарии целый семестр «разрабатывала» «литургию» на темы «Экология» и «Наводнение в Пакистане». Конечно, с самыми добрыми намерениями. Проблема в том, что они ошибочно считают, что традиционное богослужение не может иметь ничего общего с этими темами и ему нечего о них сказать и что если какая–то тема не звучит на литургии или даже не поставлена в ее центр, то она находится вне духовного воздействия литургической практики. Современный секулярист очень увлечен понятиями типа «символизм», «таинство», «преображение», «служба» — всем набором культовой терминологии. Однако он не понимает, что то, как он ими пользуется, говорит о смерти символа и распаде таинства. И не понимает он этого, потому что его отрицание таинственности мира и человека сводит его понимание символов только к иллюстрациям идей и концепций, которыми они ни в коем случае не являются. Мы не можем служить идеям или концепциям, будь то мир, правда или даже Бог. Евхаристия — это не символ братского общения, единения или любого другого состояния, как бы желательно оно ни было. Бодрствование или пост, конечно, символичны: они свидетельствуют (express, manifest, fulfill) о Церкви как об ожидании, они сами являются этим ожиданием и приуготовлением. Делать их символами политического протеста или идеологического лозунга, использовать их для того, что не является их целью, думать, что литургические символы можно использовать произвольно — значит предвещать конец богослужения, несмотря на очевидный успех и популярность этих опытов.
Каждому, кто хоть однажды пережил опыт подлинного поклонения, сразу становится ясно, что все это только эрзац. Он знает, что секуляристское поклонение здравому смыслу просто несопоставимо с истинным значением поклонения. И именно здесь, в этом полном литургическом провале, ужасные последствия которого мы только начинаем замечать, особенно видна религиозная пустота и, не побоюсь сказать, абсолютно антихристианская сущность секуляризма.
6
Значит ли это, что наша тема «богослужение в секулярный век» тем самым снимается? Значит ли это, что нам, православным, в это секулярное время не остается ничего другого, кроме как исполнять по воскресеньям наши красивые древние обряды, а с понедельника по субботу спокойно жить секуляризованной жизнью, которая не имеет ничего общего с этими обрядами? Ответом на этот вопрос будет твердое «нет». Я уверен: принять такое «мирное сосуществование»
[2], что одобряется сегодня многими христианами, казалось бы, из лучших побуждений — значит не только предать нашу веру, но и допустить, что рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, будет разрушено именно то, что мы хотим сохранить и преумножить. Больше того, я уверен, что такое разрушение уже началось, но только оно тщательно скрывается за надежными стенами наших церковных учреждений (как всегда занятых отстаиванием своих древних прав и привилегий и обвиняющих друг друга в неканоничности) и замалчивается вполне довольными жизнью священниками и фарисейским благочестием.
Нам надо прежде всего понять, что эта проблема осложняется одним моментом, который наши благонамеренные консерваторы не хотят осознать, несмотря на все их неприятие секуляризма. Речь идет об очень тесной связи между секуляризмом — его возникновением и развитием — и христианством. Секуляризм, и мы должны еще и еще раз это подчеркнуть, — это пасынок христианства, так же как и, при внимательном рассмотрении, все секулярные идеологии, которые сегодня господствуют в мире. Не законное дитя, как заявляют западные приверженцы принятия христианством секуляризма, но ересь. Ересь, однако, — это всегда искажение, преувеличение и потому повреждение в своей основе чего–то истинного, настаивание на своем выборе (airesis — по–гречески «выбор»), на одном элементе за счет других, нарушение кафоличности Истины. Но тогда ересь — это всегда и вопрос, обращенный к Церкви, который требует напряжения христианской мысли и сознания в поисках ответа. Легко обвинить в ереси. Значительно труднее определить вопрос, который в ней содержится, и удовлетворительно на него ответить. Но именно таковым было всегда отношение Церкви к ересям — они всегда пробуждали творческую активность Церкви так, что обвинение в конце концов становилось расширением и углублением христианской веры. В борьбе с арианством св. Афанасий Александрийский отстаивал понятие «единосущный», которое ранее, в другом богословском контексте, было объявлено еретическим. Это встретило яростную оппозицию не только у ариан, но и у «консерваторов», которые увидели в св. Афанасии новатора и «модерниста». В конце концов, однако, стало ясно, что это он спас православие, а слепые «консерваторы» сознательно или нет помогали арианам. Итак, если секуляризм является величайшей ересью нашего времени, в чем я убежден, то от Церкви требуется не просто анафема и, разумеется, не компромиссы, а стремление понять, и тогда его в конце концов можно будет преодолеть при помощи истины.
Уникальность секуляризма, его отличие от великих ересей эпохи отцов состоит в том, что они были вызваны расхождениями между христианством и эллинизмом, в то время как секуляризм является результатом ослабления самого христианства, его глубоких внутренних метаморфоз. Недостаток времени не дает мне возможности остановиться на этом более подробно. Поэтому я ограничусь одним символичным примером, имеющим прямое отношение к нашей теме
[3]. В конце XII в. латинский богослов Беренгарий Турский был обвинен за свое учение о Евхаристии. Он утверждал, что поскольку присутствие Христа в элементах Евхаристии мистическое или символическое, оно не реально. Латеранский собор, который осудил его, просто перевернул формулировку, и в этом, по–моему, вся проблема. Он объявил, что так как присутствие Христа на Евхаристии реально, оно не мистическое. Решающим здесь является разъединение и противопоставление двух понятий — verum и mystice, то, что обе стороны считают их взаимоисключающими. Таким образом, западное богословие объявило, что мистическое и символическое не является реальным, а то, что реально, — не символично. Это было, по существу, крушением фундаментальной христианской мистериальности, антиномичного сочетания реальности символа и символичности реальности. Это было крушением фундаментального христианского понимания творения с точки зрения его онтологической сакраментальности (таинственности). С тех пор христианская мысль, в схоластике и после, всегда противопоставляла эти понятия и явно или не явно отрицала символический реализм и реалистический символизм христианского мировоззрения. «Если бы Бога не было» — эта формула придумана не Бонхеффером или каким–то другим современным приверженцем «безрелигиозного христианства». Она уже заложена в томизме с его эпистемологическим различением causa prima и causae secundae. Здесь подлинный источник секуляризма, который в конечном счете есть не что иное, как утверждение автономии мира, его самодостаточности с точки зрения разума, знаний и деятельности. В результате «падения» христианского символизма дихотомия «естественное — сверхъестественное» стала основой христанской мысли и опыта. И соотнесены ли как–то эти понятия по analogia entis (подобие бытия — прим. пер.), как в латинском богословии, или такая аналогия полностью отрицается, как в бартианизме, в конечном счете не имеет значения. И там, и там мир больше не является «естественным» таинством Бога, и сверхъестественное таинство теряет связь с этим миром.
Но не будем заблуждаться. Эта западная теологическая формула (framework) была, по существу, принята и православным Востоком, и с конца эпохи патристики наше богословие становится гораздо более западным, чем восточным. Если секуляризм можно назвать западной ересью, непосредственным следствием главного западного «уклонения», то наше собственное схоластическое богословие также было пронизано им на протяжении веков, несмотря на резкую критику Рима и папизма. И парадоксально, но далеко не случайно, что психологически самые западные среди современных православных — именно ультраконсервативное правое крыло в православии, чье мышление, с одной стороны, законническое и формализованное, а с другой стороны, определяется этими самыми дихотомиями, введение которых в христианскую мысль было «первородным грехом» Запада. Как только эти дихотомии усвоены, уже неважно, с точки зрения богословия, принимается ли мир, как, например, в западном секулярном христианстве, или отвергается, как у крайне правых православных проповедников конца света. Оптимизм одних и пессимизм других — это, по существу, две стороны одной медали. И отрицание природной сакраментальности мира, и радикальное противопоставление естественного и сверхъестественного делают мир закрытым для благодати и в конечном итоге приводят к секуляризму. И именно в этом духовном и психологическом контексте проблема соотношения поклонения и современного секуляризма приобретает свою истинную значимость.
7
Очевидно, что находящееся под сильным западным влиянием богословие, безусловно, воздействует на богослужение или, точнее, на его теорию и практику, и на то, что я называю литургическим благочестием
[4]. И происходит это воздействие потому, что оно удовлетворяет большое желание человека иметь законническую религию, которая осуществляла бы его потребность и в священном — в божественных санкциях и гарантиях, и в профанном — то есть чтобы она защищала его обычную мирскую жизнь от по существу постоянного вызова и абсолютных требований со стороны Бога. Это был возврат к такой религии, которая гарантирует, посредством регулярных сообщений со «священным», чистую совесть и безопасность жизни, а заодно и неплохое положение в «той жизни», к религии, которую Христос опровергал каждым словом Своего учения и которая в конце концов распяла Его. Действительно, намного легче жить, когда есть четкое разграничение между священным и профанным, естественным и сверхъестественным, чистым и нечистым. Намного легче воспринимать религию, когда есть священные табу, предписания и обязанности согласно закону, обрядовая правильность и каноническая надежность. Значительно труднее понять, что такая религия не только не представляет никакой угрозы секуляризму, но, наоборот, парадоксальным образом является его союзником.
И тем не менее именно это произошло с нашим «литургическим благочестием». Не с богослужением как таковым — не с его формами и структурами, которые слишком традиционны, слишком стали частью церковной жизни, чтобы на них можно было как–то существенно повлиять, но с нашим восприятием этих форм, с тем, что мы ожидаем и, следовательно, получаем от богослужения. Если богослужение, определяемое литургической традицией, этим lex orandi Церкви, не изменилось, то его восприятие верующими стало все больше и больше определяться теми самыми категориями, которые православная литургическая традиция эксплицитно или имплицитно отвергает каждым словом, самим своим характером. И вся трагедия в том, что введение этих категорий сегодня принято до такой степени, что любая попытка оспорить их, показать их несовместимость с истинным духом и смыслом литургии вызывает обвинения в модернизме и других смертных грехах. И все же это не просто пустой спор, не одна из тех академических бурь, которые обычно обходят Церковь стороной. Это действительно вопрос жизни и смерти, потому что здесь и только здесь воинствующая ересь секуляризма может получить свой точный диагноз и быть побеждена.
Недостаток времени заставляет меня ограничиться одним примером, чтобы показать, что вышеупомянутые дихотомии, которые, безусловно, привели к глубоким изменениям в нашем литургическом благочестии, не только не связывают и не соотносят друг с другом Бога, человека и мир, объединяя их в одно целостное мировоззрение, но, наоборот, нарушают все связи и соответствия между ними. Так, например, освящение воды, делающее ее «святой водой», может иметь два совершенно разных значения. Оно может, с одной стороны, означать преобразование чего–то профанного и потому, с точки зрения религии, лишенного силы или нейтрального во что–то священное, и в таком случае основной религиозный смысл «святой воды» в том и состоит, что это уже не «просто» вода и что она даже противоположна ей, как священное профанному. Здесь сам акт освящения не открывает ничего нового в воде, а значит — в веществе или мире, но, наоборот, делает их иррелевантными по отношению к новой функции воды. Священное расценивает профанное именно как профанное, то есть с точки зрения религии, бессмысленное. С другой стороны, тот же акт освящения может означать раскрытие истинной природы и назначения воды и, следовательно, мира — он может стать проявлением и исполнением их сакраментальности. Будучи возвращена через освящение к своему подлинному назначению, святая вода являет себя как истинная, полноценная, настоящая вода, и вещество опять становится средством причастия Богу и Его познания.
Сейчас каждый, кто знаком с содержанием и текстом молитвы великого освящения воды, совершаемого при крещении и в праздник Богоявления, конечно, знает, что они принадлежат ко второму из двух упомянутых выше значений, что их объектом является не дихотомия священного и профанного, но сакраментальные потенциальные возможности творения в целом, так же как и каждого из его элементов. В то же время каждому, кто знаком с нашим литургическим благочестием — в нашем случае с пониманием большинством верующих смысла святой воды, хорошо известно, что тут преобладает первое значение, целиком вытесняя второе. Такой же анализ можно было бы проделать, и результаты были бы те же, по отношению практически к каждому аспекту богослужения: к таинствам, литургии времени, эортологии (богословию праздников — прим. пер.) и т. д. Сакраментальность везде подменена сакральностью, а откровение (epiphany) — почти магическим вмешательством «сверхъестественного» во время и вещество («естественное»).
Особенно тревожно здесь то, что такое литургическое благочестие, такое понимание и практика богослужения, не только никак не служит вызовом секуляризму, но просто является одним из его непосредственных источников. Ибо оно считает мир профанным, то есть собственно секулярным в самом глубоком смысле этого слова — совершенно неспособным к какому бы то ни было подлинному общению с Создателем, к подлинному преобразованию и преображению. Ничего не открывая о мире и веществе, о времени и природе, эта идея и такая практика богослужения не затрагивают никаких основ, не служат вопросом, не ставят новых задач, и едва ли их вообще можно к чему–либо применить. Поэтому они спокойно могут сосуществовать с любой секулярной идеологией, с любой формой секуляризма. И практически нет никакой разницы между литургическими «ригористами», то есть теми, кто отстаивает долгие службы и соответсвие правилам и Типикону, и литургическими «либералами», всегда заботящимися о том, чтобы сделать службу короче, проще и доступнее. Так как в обоих случаях отрицается, прежде всего, связь между религией и жизнью, само назначение богослужения как силы, способной преобразовывать, судить и менять. Парадоксально и трагично, но, еще раз повторю, такой подход к богослужению и этот вид литургического опыта являются прямыми источниками и поддержкой секуляризма.
8
И это в то время, когда секуляризм начинает давать трещину изнутри! Если я правильно понимаю, в чем состоит основная сложность нашего времени, то это прежде всего глубокий кризис секуляризма. И, по–моему, просто нелепо, что так много христиан стараются приспособиться к секуляризму именно тогда, когда он начинает проявлять свою полную духовную несостоятельность. Все больше свидетельств в пользу очень важного факта — знаменитый «современный человек» уже ищет путь в обход секуляризма, он снова жаждет и алчет «чего–то еще». И так часто этот голод удовлетворяется едой сомнительного качества или всевозможными искусственными заменителями. Сложность духовной ситуации достигла своей критической точки. Но не Церковь, не христиане ли тому виною, потому что они так легко предают тот уникальный дар, которым они — одни они! — могли бы поделиться с миром, алчущим духовной пищи? Не потому ли это происходит, что христиане больше, чем кто бы то ни был другой сегодня, защищают секуляризм и подстраивают под него свою веру? Не потому ли, что, имея доступ к истинной мистерии Христа, мы предпочитаем давать миру невнятные и несущественные социальные и политические советы? Мир отчаянно нуждается в Таинстве и Богоявлении, в то время как христиане занимаются пустыми и глупыми мировыми утопиями.
Мои выводы просты. Мы не нуждаемся в каком–то новом богослужении, которое было бы как–либо приспособлено к нашему новому секулярному миру. Что нам нужно — так это открытие заново истинного смысла и силы богослужения, а значит — его космической, экклезиологической и эсхатологической сущности. Это, конечно, подразумевает большую работу, большую «чистку». Это подразумевает учение и труд. Это подразумевает избавление от мертвого груза, который мы несем с собой, слишком часто принимая его за саму суть наших «традиций» и «обычаев». Но когда мы откроем истинный закон молитвы, настоящее значение и силу нашей литургии, когда это снова станет источником всеохватывающего мировоззрения и силой жить согласно ему, тогда и только тогда единственное противодействие секуляризму будет найдено. И нет ничего важнее сегодня этого открытия заново и этого возвращения — не к прошлому, но к Свету и Жизни, к Истине и Благодати, которые всегда наполняют Церковь, когда та становится в своей литургии тем, что она есть.
Перевод с английского Елизаветы Гиппиус
Исповедь и причастие
1
Возникшие в нашей Церкви cпоры и вопрошания о более частом причащении, о связи таинства причащения с таинством покаяния, о сущности и форме исповеди и т. д., суть признак не слабости и упадка, а жизни и жизненности. Среди православных людей, среди членов нашей Церкви пробуждается интерес к главному, возникает жажда духовно подлинного. За это одно уже можно благодарить Бога. И потому крайне неправильным было бы пытаться споры эти и вопрошания разрешить в одном, так сказать, административном порядке указами и инструкциями. Ибо перед нами духовный вопрос и он касается буквально всех сторон нашей церковной жизни. На этом и нужно остановиться в первую очередь.
Вряд ли можно сомневаться в том, что Церкви нашей, при всем ее относительном внешнем и материальном благополучии, грозит глубочайшая опасность изнутри: опасность обмирщения, настоящего духовного угасания. Трагические признаки такого угасания появились уже давно. Годами длящиеся споры о приходском Уставе, недавние волнения, вызванные автокефалией (она была дарована Русской церковью в 1970 г. — прим. ред.), широко распространенная установка, ставившая в центре всего идею защиты приходами каких–то своих интересов, прав и имущества от иерархии и духовенства, легкость, с которой большие и старые приходы во имя этих пресловутых прав попросту рвут с Церковью, сосредоточенность органов церковного управления почти исключительно на внешнем, материальном и юридическом — все это вскрывает такую страшную, такую глубокую расцерковленность сознания, такое обмирщение, что, действительно, страшно становится за будущее нашей Церкви, которая к тому же, по–видимому, и не сознает подлинных размеров и глубины этого кризиса.
Между тем именно это обмирщение, эта расцерковленность церковного общества приводит к тому, что многие и многие, особенно же молодежь, просто уходят от Церкви, в которой им никто не открывает, в чем состоит сущность Церкви, что означает быть членом Церкви, в которой все духовно сведено к минимуму за счет банкетов, юбилеев, финансовых кампаний, и все той же защиты каких–то прав, в которой так мало слышен призыв к углублению внутренней жизни, к одухотворению и воцерковлению.
И все это тогда, когда мы начинаем новую жизнь, когда нам дана возможность в эпоху уничтожения и пленения Православия в его древних центрах возрастать от силы в силу, быть свободными не только на словах, но и на деле, наполнить духовным содержанием церковную жизнь, осуществить все то, чего не могут осуществить наши братья. Но как часто в действительности мы убеждаемся в том, что самые с виду деятельные и активные члены Церкви оказываются одновременно и самыми расцерковленными, вождями всевозможных оппозиций и бунтов, что — и это еще страшнее — сам строй приходской жизни делает почти невозможным какое бы то ни было духовное углубление, что, наконец, само духовенство вместо того, чтобы всеми силами укоренять жизнь своих пасомых в Боге, обрекаются на мертвый формализм, казенщину и сохранение некоего status quo раз и навсегда самоочевидной нормой церковной жизни.
У нас есть живые и жгучие вопросы, возникающие в церковной жизни, в том числе и занимающий нас здесь вопрос о таинствах, об участии в них мирян и т. д., разрешающиеся простыми ссылками на прошлое, на то, что делалось и считалось нормальным в России, Польше, еще где–нибудь. Поступать так, однако, не только недостаточно, но, увы, и просто неверно. Далеко не все в этом прошлом, будь оно русское, польское, греческое или еще какое, было правильно, православно и подлинно. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать, хотя бы отзывы русского епископата в эпоху подготовки в начале этого века Всероссийского Поместного Собора. Почти все без исключения русские епископы, самые образованные в Православной Церкви и, вне всякого сомнения, настроенные традиционно и консервативно, признали положение Церкви, и духовное, и богослужебное, и организационное, глубоко неблагополучным и требующим спешных и глубоких реформ. Начиная с Хомякова, все живое в русском богословии обличало плененность этого последнего западными латинскими, юридическими и схоластическими путами. Митрополит Антоний Храповицкий подверг резкой критике русские духовные школы, а праведник о. Иоанн Кронштадтский бичевал теплохладную и формальную церковность русского общества, сведшего, например, причастие к обязанности, исполняемой единожды в год, низведшей богочеловеческую жизнь Церкви на уровень обычая и быта. Поэтому простые ссылки на прошлое, как на критерий для настоящего, недостаточны, ибо и само прошлое требует оценки в свете подлинного Предания Церкви. Единственным же критерием всегда и всюду может быть только это Предание и пастырская забота о том, как хранить и осуществлять его в наших, столь отличных от прошлого, условиях жизни.
Наши же условия (нужно ли доказывать?) определяются глубочайшим духовным кризисом: общества, культуры, человека. Суть этого кризиса секуляризм: отрыв от Бога всей жизни человека. И кризис этот не может не сказаться и внутри Церкви. Нетрудно доказать, что и сама церковная жизнь именно секуляризуется, о чем свидетельствует все то, о чем сказано выше: сосредоточенность на внешнем и материальном, на правах и имуществе, на форме, а не на содержании. Думать, что от всего этого можно отговориться простыми приказами, запретами и ссылками на прошлое, близоруко и опасно, и в первую очередь это относится к главной святыне Церкви к св. таинствам.
2
Если мой доклад о таинствах я начал с этих общих размышлений о духовном кризисе и в мире, и в Церкви, то потому, что я глубочайшим образом убежден, что сами возникшие в этой области вопросы укоренены именно в этом кризисе, имеют к нему самое прямое отношение. Я убежден, что вопрос об участии мирян в таинствах, в данном случае о более частом или, лучше сказать, более регулярном участии в таинстве Евхаристии, является ключевым вопросом всей нашей церковной жизни, вопросом, от разрешения которого буквально зависит будущее самой нашей Церкви: ее возрождение или же быстрое угасание.
Я убежден, что в приходах, где возрождение евхаристической жизни уже началось, никогда не произошло бы того, что только что произошло в одном из самых старых и известных приходов Новой Англии, невозможен был бы этот диалог глухих о том, что такое Церковь, ее единство, назначение ее на земле, место в ней иерархии и т. д. Я убежден, что там, где Евхаристия и причастие снова стали, по выражению о. Сергия Четверикова, средоточием христианской жизни, почти не возникает проблема связи прихода с Церковью и иерархией, принятия канонических норм, исполнение материальных обязательств. И это, конечно, не случайно. Ибо там, где церковная и приходская жизнь не основана, прежде всего, на Господе Иисусе Христе, и это значит, на живом общении и единстве с Ним и в Нем, в таинстве Церкви Евхаристии, там неизбежно, рано или поздно, на первый план выступает что–нибудь другое: имущество и его защита, деньги и в конечном итоге адвокаты и суд. Там уже не Христос, а что угодно другое — национализм, политика, материальный успех, коллективная гордыня и т. д. — рано или поздно начинают преобладать и одновременно разлагать церковную жизнь.
До сих пор остроты, центральности этого вопроса, этого или–или можно было не замечать. На протяжении долгого времени у наших приходов, кроме религиозной, была еще и естественная база этническая, национальная, языковая. Приходы были формой объединения иммигрантов, т. е. этнических меньшинств, сплоченных для защиты своих интересов в чуждом им по первоначалу американском мире. Но теперь этот иммигрантский период в истории нашей Церкви быстро приходит к концу. Все очевиднее, все быстрее распадается и отпадает естественная база нашей Церкви. Чем ее заменить? Если она не будет заменена самой идеей и опытом Церкви, как единства во Христе, единства веры и ее осуществления, то поневоле заменит ее уже совершенно антирелигиозная идея прихода, как владельца имущества, и объединяющим принципом станет (и уже становится!) принцип защиты этого имущества от каких–то внешних врагов: епископов, духовенства, центра и т. д. Вожди всевозможных оппозиций отлично знают, что, на деле, их имуществу давно уже ничто не угрожает. Если они все–таки так активно поддерживают этот миф, то потому, что им нужен объединяющий принцип и лозунг, а другого у них нет. Если люди не знают за что им объединяться и во имя чего, то они, неизбежно, объединяются против. И это и составляет трагическую глубину нашего теперешнего положения.
Вот почему вопрос о таинствах имеет такое ключевое значение. Ибо именно в связи с ним возможно внутреннее перерождение мирянского самосознания, давно уже оторвавшегося от самих истоков, от самого опыта Церкви. И если этот вопрос приобрел сейчас такую остроту, то потому, что все больше и больше церковных людей, сознательно, а чаще бессознательно, ищут такого перерождения и возрождения, ищут той базы, которая вернула бы приходу его религиозный и церковный смысл и остановила бы быстрое и трагическое его обмирщение.
3
В этом коротком докладе нет возможности, да и нет нужды, вопрос о причащении мирян ставить во всем его догматическом и историческом объеме. Достаточно напомнить о главном.
Общеизвестно, конечно, и не требует никаких доказательств, что в ранней Церкви причастие всех верных, всей Церкви за каждой Литургией было сомоочевидной нормой. Важно подчеркнуть, однако, что само причастие воспринималось не только как акт личного благочестия и освящения, а, прежде всего, именно как акт, вытекающий из самого членства в Церкви и это членство исполняющий и осуществляющий. Евхаристия была и называлась таинством Церкви, таинством собрания, таинством общения. «Для того Он смесил Себя с нами, — говорит св. Иоанн Златоуст, — и растворил Тело Свое в нас, чтобы мы составляли нечто единое, как тело, соединенное с главою…» Никакого другого признака и критерия принадлежности к Церкви и членства в ней, кроме причастия, раньше Церковь просто не знала. Отлучение от Церкви было отлучением от евхаристического собрания, в котором Церковь осуществляла и являла себя как Тело Христово. Причастие Таинству Церкви вытекало непосредственно из Крещения — таинства вступления в Церковь, и никаких других условий причастия в ранней Церкви не было. Член Церкви — это тот, кто причащается Церкви в Таинстве Церкви, поэтому в одной из древних литургий одновременно с оглашенными и кающимися, т. е. отлученными, призываются оставить собрание Церкви и все непричащающиеся. Это восприятие причастия как осуществления членства Церкви можно назвать экклезиологическим, и, очевидно, сколько бы оно не затемнялось и не усложнялось в дальнейшей истории Церкви, никогда не было отменено и составляет первичную и вечную норму Предания Церкви.
Поэтому вопрошать нужно не об этой норме, а о том, что случилось с ней. Почему мы так далеко отошли от нее, что само напоминание о ней кажется иным и, чаще всего духовенству, каким–то неслыханным новшеством и ниспровержением уставов? Почему, вот уже столетиями, девять из десяти литургий служатся без причастников, и это не вызывает ни удивления, ни содрогания, тогда как желание чаще причащаться, напротив, вызывает почти испуг? Как могло в недрах Церкви Тела Христова возникнуть учение о ежегодном причащении как норме, отступление от которой позволяется только в исключительных случаях? Как, иными словами, стало понимание причастия сугубо индивидуальным без всякого отношения к Церкви, перестало быть выражением того, о чем сказано в евхаристической молитве: нас же всех, от единого Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единого Духа причастие?
Причина этого, хотя и сложная в своем историческом развитии, довольно проста: это боязнь профанировать таинство. Это страх недостойного причащения, попрания святыни. Страх, конечно, духовно оправданный и правильный, ибо ядый и пияй недостойно, в суд себе яст и пиет. Он возник рано, вскоре после победы Церкви над языческой империей, победы, превратившей христианство, на протяжении сравнительно короткого времени, в массовую, государственную и народную религию. Если в эпоху гонений сама принадлежность Церкви обрекла каждого ее члена на узкий путь, полагала между ним и миром сим самоочевидную грань, то теперь с включением всего мира в Церковь грань эта была уничтожена и появилась вполне реальная опасность номинального, поверхностного, теплохладного и минималистического восприятия христианской жизни. Если прежде трудным и духовноответственным был сам доступ в Церковь, то теперь с обязательным включением в Церковь всех возникла необходимость установить внутренние границы и проверки, и такой границей постепенно стало таинство и доступ к нему.
Надо подчеркнуть, однако, что ни у Отцов Церкви, ни в самих богослужебных текстах мы не найдем и намека на поощрение неучастия в таинствах. Подчеркивая святость причастия и его страшность, призывая к достойному к нему приготовлению, св. Отцы нигде и никогда не узаконили той, теперь повсеместно разделяемой мысли, что потому, что таинство свято и страшно, к нему не следует или даже неправильно приступать часто. Для св. Отцов еще самоочевидно было восприятие Евхаристии как Таинства Церкви: ее единства, исполнения и возрастания.
«Мы не должны, — пишет преп. Иоанн Кассиан Римлянин, — устраняться от причащения Господня из–за того, что сознаем себя грешниками. Но еще более и более надобно поспешать к нему для уврачевания души и очищения духа, однако ж с таким смирением духа и верою, чтобы, считая себя недостойными принятия такой благодати, мы желали более врачевства для наших ран. А иначе и в год однажды нельзя достойно принимать причащение, как некоторые делают… достоинство, освящение и благотворность небесных Таин оценивая так, что думают, будто принимать их должны только святые, непорочные, а лучше бы думать, что эти таинства сообщением благодати делают нас чистыми и святыми. Они подлинно больше гордости высказывают, нежели смирения, как им кажется, потому что когда принимают их, то считают себя достойными принятия их. Гораздо правильнее было бы, если бы мы с тем смирением сердца, по которому веруем и исповедуем, что мы никогда не можем достойно прикасаться Св. Тайн, в каждый воскресный день принимали их для уврачевания наших недугов, нежели превозносясь суетным убеждением сердца, верить, что мы после годичного срока бываем достойны принятия их».
Что же касается той, тоже распространенной и приобретшей почти нормативный характер, теории, согласно которой в отношении к причастию есть разница между духовенством и мирянами, так что духовенство может и должно приобщаться за каждой Литургией, а миряне нет, то уместно привести слова св. Иоанна Златоуста, который более, чем кто–либо другой, ратовал за достойное к причащению приготовление. «Но есть случаи, — пишет великий пастырь и учитель, — когда священник не отличается от подначального, например, когда нужно причащаться Св. Тайн. Мы все одинаково удостаиваемся их, не так, как в Ветхом Завете, где иное вкушал священник, иное народ и где не позволено было народу приобщаться того, чего приобщался священник. Ныне не так, но всем предлагается одно тело и одна чаша…»
Повторяю, найти в Предании Церкви основу и оправдание нашей теперешней практики редкого, если не ежегодного, причащения мирян, признание его нормой, а желание частого причащения едва терпимым исключением, невозможно. И потому все те, кто серьезно и ответственно Предание изучал, все лучшие русские литургисты и богословы всегда видели в ней упадок церковной жизни, отступление от Предания и от подлинных норм церковности. И самое страшное в этом упадке то, что он оправдывается и объясняется уважением к святыне и благоговением. Ибо, если бы это было так, то непричащающиеся ощущали бы за Литургией скорбь, ущерб, печаль по Богу, желание приступить. На деле ничего этого нет. Поколения за поколениями православных присутствуют на Литургии в полном убеждении, что ничего другого от них не требуется, что причастие просто не для них. И один раз в год они исполняют свой долг и причащаются после двухминутной исповеди у переутомленного священника. Видеть в этом торжество благоговения, а не упадок и трагедию, просто духовно страшно. А иных из наших приходов здесь, в Америке, людей, старавшихся приступить к Св. Тайнам чаще, подвергали настоящему гонению, уговаривали не причащаться, чтобы не смущать людей, обвиняли в неправославии! Я мог бы процитировать приходские листки, в которых разъясняется, что, поскольку причастие для кающихся, нельзя им омрачить радость Пасхи. И самое горестное, конечно, то, что так мало чувствуется мистический ужас от всего этого, от того, что, по–видимости, сама Церковь становится препятствием на пути людей ко Христу! Когда увидите мерзость запустения, стоящую на месте святе…
Не трудно, наконец, было бы показать, что всюду и всегда подлинное возрождение церковности начиналось с возрождения евхаристического, с того, что кто–то назвал евхаристическим голодом. В ХХ веке начался великий кризис Православия. Начались неслыханное, небывалое гонение на Церковь и отход от нее миллионов людей. И вот всюду, где этот кризис был осознан, началось и возвращение к причащению как средоточию христианской жизни. Так было в Советской России, о чем имеются сотни свидетельств, так было и в других центрах Православия и в рассеянии. Движения православной молодежи в Греции, Ливане, Франции выросли все без исключения из возрождения литургической жизни. Все живое, подлинное, церковное родилось из смиренного и радостного ответа на слова Господа: ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, той во Мне прибывает и Аз в нем…
Теперь по великой милости Божией это евхаристическое возрождение, эта жажда более частого, более регулярного причащения и через него возврата к более подлинной церковной жизни, началось и в Америке. И я убежден, что ничто не может доставить большей радости пастырям, и особенно архипастырям, чем это возрождение, свидетельствующее об отходе от мертворожденных споров об имуществах и правах, от восприятия Церкви, как какого–то социально–этнического клуба с увеселениями и пикниками, от организаций молодежи, в которых религиозная жизнь отсутствует. Ибо, как я уже сказал выше, никакой другой основы для возрождения Церкви как в целом, так и в приходах, у нас нет и быть не может. Отмирает и исчезает база этническая, национальная. Исчезает все то, что только быт, только обычай, только придаток к жизни, а не сама жизнь. Люди ищут и жаждут подлинного, живого и истинного. И потому, если суждено нам жить и расти, то, конечно, только на основе самой сущности Церкви. Сущность же ее Тело Христово, то таинственное единство, в которое вступаем мы, причащаясь от единого Тела и Чаши во единого Духа причастие…
Я уверен поэтому, что наши епископы, которым поручена забота, прежде всего, о духовной сущности Церкви, найдут слова, чтобы благословить это начинающееся духовное и таинственное возрождение, чтобы напомнить Церкви о подлинном, бесконечно богатом и бесконечно радостном содержании ее Предания и учения о Св. Тайнах.
Но это, конечно, с новой остротой и глубиной ставит вопрос о достойном приуготовлении к причастию и, прежде всего, о месте в этом приготовлении таинства Покаяния.
4
C тех пор как причастие мирян за каждой Литургией, как акт, вытекающий из их участия в Литургии, перестало быть нормой и было заменено практикой редкого, обычно ежегодного, причащения, это последнее естественно стало предваряться таинством Покаяния, т. е. исповедью и воссоединением с Церковью через отпустительную молитву. Но практика эта, повторяю, естественная и самоочевидная в случае редкого, ежегодного, причастия, привела к возникновению внутри Церкви теории, согласно которой причастие мирян, в отличие от духовенства, и вообще невозможно без таинства Покаяния, так что исповедь является обязательным всегда и во всех случаях условием причащения. Я дерзаю утверждать, что теория эта (утвердившаяся преимущественно в Русской церкви) не только не имеет для себя основания в Предании Церкви, но открыто противоречит церковному учению о самой Церкви, о таинстве Причащения и о таинстве Покаяния.
Чтобы убедиться в этом, достаточно хотя бы в нескольких словах напомнить о сущности таинства Покаяния. Это таинство с первых же веков было в сознании и учении Церкви таинством Воссоединения с Церковью отлученных, что первоначальная, очень строгая дисциплина допускала только одно такое воссоединение, на что в дальнейшем развитии церковной жизни, особенно после наплыва в Церковь всей народной массы, дисциплина была отчасти смягчена. Так или иначе, в основе своей, по существу, таинство Покаяния, как таинство Воссоединения с Церковью, совершалось лишь над теми, кто был отлучен от Церкви за определенные грехи и проступки, точно перечисленные в каноническом Предании Церкви. Об этом и сейчас еще свидетельствует подлинная разрешительная молитва: примири и соедини его со святой Твоей Церковью во Христе Иисусе Господе нашем… (в отличие от второй, латинской по происхождению и неведомой Востоку: и аз, недостойный иерей, властью мне данной…).
Это совсем не значит, однако, что неотлученных, верных Церковь считала безгрешными. Во–первых, Церковь никого из людей, кроме Пресвятой Богородицы, никогда не считала безгрешными. А во–вторых, соборное, литургическое исповедание грехов и мольба об их прощении входит и в молитву Трисвятого, и в молитвы верных на литургии. И наконец, само причащение Св. Тайн Церковь всегда воспринимала как совершающееся во оставление грехов. Поэтому дело тут не в безгрешности, которую не дарует и никакое отпущение грехов, а в различии, которое всегда делала Церковь между грехами и актами, отлучающими человека от благодати жизни Церкви, и той греховности, которой неизбежно подвержен каждый человек плоть нося и в мире живя, но которая как бы растворяется в собрании Церкви и о прощении которой и молится Церковь в молитвах верных, читаемых перед преложением Св. Даров. Ведь и перед самой Св. Чашей, в самую минуту причащения просим мы о прощении прегрешений вольных и невольных, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением и верим, что в меру нашего раскаяния получаем его.
Все это означает, конечно, да этого по–настоящему никто и не оспаривает, что единственным настоящим условием причащения Св. Тайн является членство в Церкви, и обратно, что членство в Церкви осуществляется и исполняется в причащении Таинству Церкви. Причащение даруется во оставление грехов и во исцеление души и тела и потому предполагает раскаяние, осознание человеком своего совершенного недостоинства и причастия как небесного дара, который никогда не может быть заслужен никем из земнородных. И вся суть установленного Св. Церковью приуготовления к причастию (правило ко св. Причащению) состоит, конечно, не в том, чтобы человек ощутил себя достойным и заслуживающим причастия, напротив, в том как раз, чтобы раскрылась ему бездна милосердия и любви Божией: верую, яко сие сотвориши… Перед трапезой Господней единственное достоинство причастника в том, что он понял и узрел бездну своего недостоинства. В этом состоит начало спасения.
Но потому–то так и важно понять, что превращение исповеди и таинства Покаяния в обязательное условие причащения не только противоречит Преданию, но его действительно искажает. Оно искажает учение о Церкви, создавая в нем две категории членов, из коих одна — миряне — в сущности отлучаются от Евхаристии, как самого содержания и исполнения своего членства, как его духовного источника. Не удивительно тогда, что члены Церкви, которых Апостол назвал согражданами святым и своими Богу превращаются именно в мирян, т. е. секуляризуются, и их членство в Церкви начинает измеряться деньгами (членские взносы) и правами… Искажается учение о таинстве Причащения, которое начинает восприниматься как таинство для немногих достойных и чистых, а не как Таинство Церкви: грешников, безмерной любовью Божией всегда претворяемых в Тело Христово. И искажается, наконец, само христианское понимание покаяния: превращается в некое формальное условие для причастия, и на деле все очевиднее заменяет собою настоящую подготовку к причащению, то подлинное внутреннее раскаяние, которым вдохновлены все молитвы перед причащением. После трехминутной исповеди и разрешительной молитвы человек чувствует себя вправе приступить к Чаше, достойным и даже безгрешным, т. е. чувствует, по существу, обратное тому, к чему ведет подлинное приготовление к причастию.
Как же могла возникнуть такая практика и претвориться в норму, защищаемую многими как истинно православное учение? Этому способствовало три фактора. Об одном из них мы уже говорили: это та теплохладность христианского общества в вере и благочестии, что привела постепенно к редкому, а затем и лишь к ежегодному причащению. Совершенно ясно, что человек, приступающий к Св. Чаше раз в год, должен действительно быть воссоединен с Церковью через проверку его жизни и совести в таинстве Покаяния. Вторым фактором следует признать влияние на церковное общество, в целом бесспорно, конечно, благотворное, монашества. В данном случае это монашеская практика духовного руководства, открытия помыслов, постоянной духовной проверки более опытным менее опытного. Только в монастырях это духовное руководство, эта постоянная исповедь совсем не обязательно была связана с таинством Покаяния. Духовный отец, старец, могли не быть, и на деле очень часто не были даже и священниками, ибо этот тип духовного руководства связан с духовным опытом, а не с таинством священства как таковым. В византийских монашеских типиконах XII–XIII веков монаху запрещается как приступать к Чаше, так и воздерживаться от нее самовольно без разрешения духовного отца, ибо исключать себя самовольно от причастия это поступать по своей воле. В женских монастырях та же власть присваивается игумении. Таким образом, мы имеем дело с исповедью не сакраментального типа, основанной на духовном опыте и постоянном регулярном руководстве. Эта исповедь оказала, однако, сильное влияние на развитие исповеди сакраментальной. В эпоху духовного упадка (глубину которого хорошо показывают постановления, например, т. н. Трулльского Собора, который сказался в первую очередь на белом духовенстве) монастыри оказались почти единственными центрами духовного окормления и руководства и для мирян. В Греции даже и сейчас исповедовать может не каждый священник, а только особо на это уполномоченный и поставленный архиереем. Для мирян, однако, эта исповедь — руководство и наставление в духовной жизни — совершенно естественно соединилась с сакраментальной. Но следует признать, что на такое духовное руководство, предполагающее большой личный духовный опыт, способен совсем не каждый приходской священник, и это очень часто при духовной неопытности; попытки все же осуществлять его приводят к подлинным духовным катастрофам. Так или иначе, но в церковном сознании таинство Покаяния соединилось с идеей духовного руководства, разрешения духовных трудностей и проблем, что в условиях нашей приходской жизни, наших массовых, на несколько вечеров Великого поста сосредоточенных и потому минутных исповедей, вряд ли осуществимо, и это ведет к полной номинализации исповеди и очень часто приносит больше вреда, чем пользы. Духовное руководство, особенно в наш век глубочайшей духовной искалеченности, необходимо; но чтобы быть подлинным, глубоким, полезным, оно должно быть отделено от исповеди сакраментальной, хотя, конечно, эта последняя и составляет его конечную цель.
Третьим же решающим фактором оказалось, конечно, влияние западного, схоластического и юридического понимания таинства. О западном пленении православного богословия писали и говорили много, но мало кто, мне кажется, понимает всю глубину и все значение тех, без всякого преувеличения, извращений, к которым привело это западное влияние в самой жизни Церкви, и прежде всего в понимании и восприятии таинств. В том, что касается таинства Покаяния, это особенно разительно. Глубочайшее извращение тут состоит в том, что вся тяжесть, весь смысл таинства был передвинут с раскаяния и покаяния на момент разрешения, понимаемого юридически. Западное, схоластическое богословие юридизировало понимание греха и соотносительно понимание его оставления. Это последнее выводится не из реальности и подлинности раскаяния и покаяния, а из власти священника. Если в исконном православном понимании таинства Покаяния священник есть свидетель раскаяния и поэтому свидетель совершившегося примирения с Церковью во Христе Иисусе Господе нашем, то латинский юридизм все ударение ставит на власти священника прощать. Отсюда и совершенно неслыханная, с православной точки зрения, но все более и более распространяющаяся практика давать разрешительную молитву без всякой исповеди. Изначальное в Церкви различие между грехами, отлучающими от Церкви (и потому требующими сакраментального воссоединения с Церковью) и греховностью (прегрешениями) к такому отлучению не приводящей, западная схоластика рационализировала в категориях, с одной стороны, т. н. смертных грехов и, с другой стороны, грехов обычных. Первая, лишая человека благодатного состояния, требует таинства Покаяния и разрешения, вторые только внутреннего покаяния. На православном Востоке, особенно же в России (под влиянием латинствующего богословия Петра Могилы и его последователей) теория эта обернулась простым и обязательным, и именно юридическим, сцеплением исповеди и причастия. И подлинно полным печальной иронии следует признать то, что это наиболее очевидное из всех заимствований от латинства так часто выдается у нас за православную норму, а всякая попытка пересмотреть его в свете подлинно православного учения о Церкви и о таинствах изобличается как плод западного, католического влияния.
5
Мне остается из всего сказанного сделать практические выводы. Выше я уже пытался объяснить, почему вопрос о таинствах, и прежде всего вопрос об участии мирян в евхаристической жизни, представляется мне вопросом краеугольным для нашей Церкви, от которого зависит ее духовное будущее, ее подлинный а не внешний рост. Выводы эти поэтому должны сочетать верность подлинному Преданию Церкви с пастырской заботой об исполнении Предания в наших бесконечно трудных, бесконечно отличных от прошлого условиях жизни.
Вопрос, мне кажется, можно сформулировать так: как сочетать поощрение более частого и регулярного участия мирян в таинстве Евхаристии как средоточии христианской жизни, как таинстве собрания и единства, как подлинно Таинстве Церкви с заботой о достойном к этому таинству приготовлении, о том, чтобы не превратилось это участие в такой же обычай, каким было до сего времени непричащение? Ответ на этот вопрос сводится, по моему разумению, к следующим основным положениям:
1. Прежде всего, если желание и практику более частого, в пределе регулярного, причащения мирян следует всячески поощрять, то совершенно очевидно, что было бы духовно неправильно и бесконечно вредно ее каким бы то ни было образом насильственно навязывать. Не может и не должно оно стать ни духовной модой, ни плодом поверхностного увлечения, ни результатом какого бы ни было давления. Поэтому для причащающихся редко (даже раз в месяц), а таких, конечно, долго еще будет большинство в Церкви, нужно во всей силе сохранить как норму необходимость исповеди перед св. причастием.
2. Причастие чаще, чем раз в месяц, возможно только с разрешения. Разрешение это может быть дано только лицам, хорошо известным, и после всесторонней пастырской проверки в серьезности и правильности их прихода к Церкви и к христианской жизни. В этом случае вопрос об исповеди и соотношении между ее ритмом и ритмом причащения должен быть оставлен на благоусмотрение пастыря, с тем, однако, чтобы исповедь оставалась регулярной и совершалась не реже, чем раз в месяц.
3. Для более глубокого понимания как таинства Причащения, так и таинства Покаяния и для более духовно плодотворной связи между ними, одобрить практику общей исповеди. Поскольку же практика эта вызывает в настоящее время недоумения и нарекания, я и позволю кратко остановиться на ней в заключительном параграфе настоящего доклада.
6
Что такое общая исповедь и почему следует признать ее уместной и нужной в настоящих условиях нашей церковной жизни? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно признать, прежде всего, что в настоящее время огромное большинство членов Церкви не знают ни что такое исповедь, ни как приступить к ней. Она сводится (и это в лучшем случае) к чисто формальному и обобщенному перечислению обычно второстепенных недостатков, либо же к разговору о проблемах. Тут сказалось, с одной стороны, многовековое влияние западного, формального и юридического понимания исповеди, а с другой стороны, всяческий психологизм, свойственный нашей эпохе, и в котором растворяется без остатка чувство и сознание не трудностей, проблем и вопросов, а греха. Так, в одном большом приходе, где я исповедовал несколько десятков человек, каждый из них начинал с того, что представил мне свидетельство приходского казначея об уплате членского взноса и молча ждал разрешительной молитвы. В других приходах существует практика простого чтения по книжечке краткой, с латыни переведенной формулы исповедования. Наконец, почти повсеместно распространено отрицание исповедующимися каких бы то ни было грехов, поскольку под грехом разумеет он преступления, каких он, действительно, не совершал. Обратная крайность — это сосредоточение на какой–нибудь одной трудности, из рассказа о которой выходит так, что вина в обстоятельствах и условиях жизни, сам же исповедующийся является просто жертвой этих условий. Меньше всего во всех этих типах исповеди именно раскаяния, печали по Боге, горя от оторванности от Него и желании переменить жизнь, возродиться и обновиться.
Но как же в этих условиях возродить, прежде всего, саму исповедь? Как сделать ее снова актом подлинного раскаяния, покаяния и примирения с Богом? Это сделать просто невозможно при теперешней трех–или четырехминутной исповеди, с длинной очередью за спиной священника ждущих своего череда, понимающих исповедь как ежегодное отбывание некой формальной обязанности.
Поэтому общая исповедь есть, прежде всего, некая школа покаяния, раскрытие подлинной сути самой исповеди. Чтобы быть духовно полезной, она должна состоять из следующих моментов.
1. Как правило, общая исповедь совершается вечером, после вечернего богослужения. Человек, имеющий намерение причаститься Св. Тайн, должен прийти в Церковь хотя бы накануне вечером. Современная практика исповеди за несколько минут до литургии, впопыхах просто вредна и должна допускаться только в самых крайних и исключительных случаях. Между тем, это опять–таки стало почти общим правилом.
2. Общая исповедь начинается с чтения священником вслух молитв перед исповедью, которые теперь почти повсеместно опускаются, но которые составляют, однако, органическую часть таинства Покаяния.
3. После молитв священник призывает кающихся к раскаянию, к молитве о ниспослании Богом, прежде всего, самого чувства покаяния, дара зрети своя прегрешения, без которого формальный их перечень не принесет духовного плода.
4. Следует сама исповедь, т. е. перечисление священником всех тех поступков, мыслей и желаний, которыми мы оскорбляем святыню Бога, святыню ближнего и святыню собственной души. Поскольку же сам священник, как всякий человек, стоящий перед Богом, знает все эти грехи и всю эту греховность и в самом себе, постольку и перечисление это не формальное и казенное, а искреннее, и совершается духом сокрушенным и смиренным, идет от всех нас, а не просто обращено к вам, и в этом перечислении каждый узнает себя и каждый кается. И чем полнее испытывает пастырь свою совесть, тем полнее и общая исповедь и дух раскаяния и покаяния, который она рождает.
5. В заключение священник призывает кающихся обратить свой духовный взор от своего недостоинства Трапезы Господней, ожидающей нас, к Его милосердию и любви, и внутренне пожелать всем существом этого приобщения, которого мы никогда не достойны и которое все–таки даруется нам.
6. Затем священник призывает всех тех, кто испытывает нужду в дополнительном покаянии из–за какого–нибудь особенного бремени, тяготящего душу, отойти в сторону и подождать. Все же остальные по очереди подходят к нему и получают разрешительную молитву с возложением епитрахили и целованием креста.
7. Наконец, пока все, получившие разрешение, слушают молитвы перед причащением (начинать которые, мне кажется, хорошо с трехпсалмия «Господь пасет мя…»), священник по очереди вызывает имеющих восполнить исповедь и дает им разрешение.
Опыт показывает, что приступающие к такой общей исповеди начинают гораздо лучше исповедоваться и в исповеди личной. Ибо в том–то все и дело, конечно, что общая исповедь ни в коем случае не может и не должна рассматриваться как простая замена исповеди частной. Она для тех и только для тех, кто, причащаясь часто и регулярно, исповедуясь лично, знает самоочевидную нужду в проверке и очищении совести, в раскаянии, в той собранности духа и внимания, которая так трудна в современных условиях жизни. Могу засвидетельствовать, что там, где такая общая исповедь практикуется, частная исповедь не только не ослабела, а углубилась, стала исполняться подлинностью и смыслом. Вместе же с тем эта общая исповедь освобождает священнику время, необходимое для более углубленного исповедания тех, кто действительно нуждается в личной исповеди, и оказывается путем уже не личного только, но и общего возрастания в подлинный дух покаяния.
Заканчивая этот доклад и смиренно отдавая его на суд моих архипастырей, я могу исповедать еще раз, что все написанное здесь продиктовано исключительно острым осознанием нужды возродить и упорядочить евхаристическую жизнь Церкви, ибо тут и только тут источник и основа ее возрастания во Христе.
Богословие и богослужение
1
Пришло время глубокой переоценки отношений между богословием и богослужением. Задача моей статьи в том, чтобы обосновать это утверждение и показать — хотя бы в самых общих чертах — его значение для православного богословствования в целом, и сверх того — для литургической проблематики, наличие и актуальность которой в наши дни мало кем оспаривается.
Едва ли кто–нибудь станет отрицать, что Православная Церковь переживает кризис, но лишь немногие сознают, что в основе его лежит двойной кризис — богословия и богослужения.
Кризис богословия! В самом деле, разве не ясно, что нестроения и разделения, наблюдаемые сегодня буквально во всех сферах церковной жизни — канонической, административной, школьной, экуменической и пр., — связаны прежде всего с отсутствием общепризнанных точек отсчета, или критериев, которыми следовало бы пользоваться богословию? Но современное православное богословие неспособно выработать такие нормы, ибо оно само «надломлено». Ему равно свойственны и нездоровый плюрализм, и поразительная неспособность иметь дело с тем, что называется «реальной Церковью».
Я назвал этот плюрализм «нездоровым» потому, что в прошлом могло найтись — и находилось — место здоровому богословскому плюрализму, вполне совместимому с единством по принципиальным вопросам. У Отцов можно обнаружить и значительные расхождения, но они не разрушают того фундаментального единства общего опыта и видения, которое в высшей степени свойственно им и которого так недостает нам сегодня.
Для большей ясности добавим, что современные православные богословы вряд ли даже понимают друг друга — до такой степени различны ключи , в которых они пытаются решать одни и те же проблемы, и основные их предпосылки и приемы рассуждения. Отсюда и бессмысленные споры (ибо для осмысленного спора нужна минимальная согласованность главных критериев), в которых все чаще и все неразборчивее пользуются излюбленным ярлыком — «ересь» — или призывают к некоей разновидности мирного сосуществования взаимно игнорирующих друг друга богословских ориентации.
Но каковы бы ни были эти «ключи» или ориентации, православное богословие чем дальше, тем больше отчуждается от Церкви, от ее реальной жизни и нужд. И, хотя богословие это «проходят» в духовных учебных заведениях, последние воспоминания о нем, как правило, изглаживаются уже в день выдачи диплома. Оно выглядит интеллектуальной абстракцией без всякого практического приложения; интеллектуальной игрой, к которой народ Божий — и клир и миряне — вполне безразличен. В нашей сегодняшней Церкви профессиональные богословы составляют своего рода «люмпен–пролетариат» и — что еще хуже — смиряются с таким положением. Богословие перестало быть живым сознанием и сознательностью Церкви, ее осмыслением себя и своих проблем. Оно перестало быть пастырским, в смысле наделения Церкви основными и спасительными нормами; перестало оно быть и мистическим в смысле сообщения народу Божию знания о Боге, которое есть само содержание жизни вечной. Богословие, отчужденное от Церкви, и Церковь, отчужденная от богословия, — вот первый ракурс сегодняшнего кризиса.
2
Немногим лучше обстоит дело и с богослужением. Нет сомнений: оно по–прежнему остается фокусом, святая святых церковной жизни и по–прежнему главным — можно сказать, чуть ли не единственным — «делом» Церкви. Но более глубокий взгляд и здесь обнаруживает кризис, не разрешимый посредством тех поспешных и поверхностных реформ, за которые сегодня ратуют многие.
Первый аспект этого кризиса — прогрессирующий номинализм литургической жизни и практики. Современная литургическая практика, несмотря на очевидный ее консерватизм и даже архаизм, едва ли выражает подлинную lex orandi (закон молитвы) Церкви. Органически–сущностные пласты литургического предания, адекватно отраженные в богослужебных книгах, мало–помалу исчезли из практики либо удержали чисто символическое значение и трансформировались до неузнаваемости. Что бы мы ни взяли — будь то Евхаристия и другие таинства, периодизация литургического года и праздничные последования, весь чин благословения и освящения различных сторон жизни, — везде можно обнаружить все тот же шаблон: отбор одних и исключение других элементов, — отбор, основанный не на проникновении в дух lex orandi, a на совершенно посторонних соображениях. Если рядовой прихожанин чаще всего не замечал этой стремительной эрозии православного благочестия, то специалисты не могли закрыть глаза на несоответствие номинализма и минимализма литургического благочестия и практики заветам Предания.
Куда хуже то, что богослужение — наиглавнейшее действие Церкви — утратило связь со всеми прочими аспектами жизни: с призванием Церкви образовывать, формировать и направлять сознание ее членов, т. е. мировоззрение христианской общины. Можно быть горячим приверженцем «древних ярких обрядов» Византии или московской Руси, видеть в них драгоценные обломки цветущего прошлого; можно быть литургически «консервативным» и в то же время совершенно неспособным распознать во всей церковной leitourgia
[5] то всеохватывающее видение, ту силу, что призвана судить, наполнять собой и преображать все сущее; ту философию жизни, что формирует и испытует все наши идеи, отношения и действия. Сегодня, как и в ситуации с богословием, мы вправе говорить об отчуждении литургии от жизни — будь то жизнь Церкви или индивидуальная жизнь каждого христианина. Богослужение ограничили храмом, и вне этого освященного анклава она не имеет ни силы, ни влияния.
Остальные действия Церкви — на приходском, епархиальном, поместном уровнях — все чаще обосновываются чисто светскими предпосылками и аргументами, равно как и всевозможными «философиями жизни», какие находятся на вооружении у современных «христиан». Богослужение не рассматривают и не определяют как то, что имеет отношение к жизни , как — помимо всех остальных ее аспектов — икону той новой жизни, которой испытывается и изменяется «ветхая жизнь» в нас и окрест нас. Литургический пиетизм, вскормленный сентиментальными и псевдосимволическими объяснениями чинопоследования литургии, ведет к победе всепроникающего секуляризма.. Став в сознании верующих чем–то «священным» per se (сами по себе), богослужение делает реальную жизнь, начинающуюся за дверями храма, как бы еще более «профанной».
«Этот двойной кризис — богословия и богослужения — и является, как я подозреваю, истинным источником того общего кризиса, который переживает наша Церковь сегодня и который ставит нас перед вопросом «Что делать?» — если только богословие является для нас чем–то большим, чем безмятежная «академическая» деятельность, и мы принимаем его как свою особую харизму и служение в Теле Христовом. Кризис — это всегда расторжение единства; разлад между основами и жизнью, которую считали утвержденной на этих основах; жизнь, оторвавшаяся от своих основ.
Жизнь Церкви всегда была укоренена в lex сгеdendi (закон веры) — в правиле веры, в богословии (в глубочайшем значении этого слова) и lex orandi (законе молотвы) — правиле благочестия, в leitourgia, которая всегда делает Церковь тем, что она есть: Телом Христовым и Храмом Святого Духа. Сегодня, однако, зловещее отчуждение «реальной» Церкви от двух вышеназванных источников ее жизни стремительно углубляется. Такова наша ситуация, таков кризис, бросающий нам вызов — признаем мы то или нет. И потому самым первым и необходимым нашим шагом должно стать осмысление этого кризиса в его истоках. Нужно спросить: почему и как это случилось?
3
Отвкт не вызывает у меня никаких сомнений. Если сегодня как богословие, так и богослужение перестали — по крайней мере, в значительной мере — соответствовать своему назначению в Церкви (откуда и нынешний кризис), то произошло это потому, что они расторгли свой союз; потому, что lex credendi стала чужой для lex orandi. Когда это случилось? В период так называемого «западного плена» православного богословия, который является, на мои взгляд, главной трагедией исторического пути Восточной Церкви.
Этот «западный плен» выразился прежде всего в явлении, которое о. Г. Флоровский чрезвычайно метко определил как «псевдоморфозу» восточного богословского сознания — усвоение им западных форм и категорий мышления, западного понимания самой природы, структуры и метода богословия. А первым и поистине роковым следствием этой псевдоморфозы стало взаимное отчуждение lex credendi и lex orandi.
Задачей богословия является систематическое и последовательное изложение, изъяснение и ограждение веры Церкви. Эта вера есть одновременно и его источник и его «объект», поэтому структура и метод богословия зависят от того, как понимать природу его отношения к этому источнику, т. е. к вере Церкви. Именно здесь, в этом пункте, проявляется, или, лучше сказать, проявлялось, принципиальное отличие Востока от Запада, — отличие, впоследствии затемненное, если не начисто изглаженное «западным пленом». Именно на Западе — и по причинам, связанным с западным религиозным и интеллектуальным развитием, — источник богословия, т. е. веру Церкви впервые отождествили с определенным набором «данных», и преимущественно с текстами Писания, Отцов, соборных деяний, которые в качестве loci theologici (того, что относится к ведению богословия) стали рассматриваться как дополнение к богословскому созерцанию с его особым предметом и критериями. Поскольку все западное богословствование было нацелено на построение объективного , или научного , богословия, самой естественной и насущной его задачей оказалось самоутверждение на столь же объективном и строго определенном основании. Отсюда и отождествление веры — в богословских терминах — с «утверждениями», отсюда же и исключение из богословского процесса любой ссылки или опоры на опыт.
Но именно вера, как опыт, всецелый и живой опыт Церкви, является источником и постоянным контекстом восточного богословия — во всяком случае, того богословия, которым характеризуется святоотеческая эпоха. Этот опыт — скорее описание, чем «дефиниция», — есть прежде всего поиск таких слов и понятий, которые адекватно выражают живое переживание Церкви и опираются на реальность, а не на «утверждения». Богословие и само есть часть и плод этого опыта, и именно в этом смысле назвал его «мистическим» В. Лосский. Его критерии обоснованы не формальными (и потому автономными) «авторитетами», но их адекватностью и согласием с внутренней жизнью и опытом Церкви.
Такое понимание богословия вытекает из самой природы его «источника», т. е. веры Церкви. Ибо вера, которая создала Церковь и которой та живет, есть не только согласие с доктриной, но и живое отношение к определенным событиям — жизни, смерти, Воскресению и прославлению Иисуса Христа, Его восхождению на небо, сошествию Святого Духа в последний и великий день Пятидесятницы, — то отношение, которое делает ее постоянной свидетельницей и причастницей этих событий во всей их искупительной, жизнеподательной и преображающей реальности. Поистине у нее нет никакого иного опыта, кроме опыта этих событий, никакой иной жизни, кроме той, которую они несут и сообщают. И потому ее вера не только не оторвана от ее опыта, но является в буквальном смысле самим этим опытом, — опытом того, «что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши» (1 Ин. 1,1). Ибо ни об одном из этих событий нельзя «узнать» (в рационалистическом смысле) и — более того — ни в одно из них нельзя поверить вне опыта, раскрывающего их реальность и делающего нас «свидетелями всего» (Деян. 10, 39).
Но ведь богословие и не может быть ничем иным, кроме описания этого опыта, его раскрытия в человеческих словах и понятиях. Церковь — не только человеческое установление, хранящее память о богооткровенных событиях прошлого, но и сама эпифания (явление) этих событий, как таковых. И она может учить о них именно потому, что знает их, потому что несет в себе опыт их реальности. Ее вера как учение и богословие укоренены в ее вере–опыте, а ее lex credendi раскрывается в ее жизни.
4
Теперь мы вплотную подошли к главному тезису статьи, согласно которому этот опыт Церкви есть прежде всего опыт, данный и воспринятый в leitourgia Церкви — в ее lex orandi. И в том, что тезис этот требует сегодня защиты и доказательств, сказывается, без сомнения, один из самых горьких итогов вышеупомянутой «псевдоморфозы». Ибо столетия «западного плена» не только изменили богословское «сознание», но в такой же мере сузили и затемнили само понятие и опыт богослужения, его места и функции в жизни Церкви. Коротко говоря, оно перестало рассматриваться и переживаться как явление веры Церкви, как реальность ее опыта себя самой в качестве Церкви, а следовательно, и как источник ее богословия.
По–прежнему пребывая средоточием церковной жизни и церковного действия, очень мало изменив свою форму и содержание, оно, так сказать, приняло «коэффициент» и стало восприниматься и переживаться в совсем ином, чем в раннеотеческую эпоху, «ключе». Достаточно заглянуть в любое послеотеческое руководство по догматике, чтобы убедиться: его составители рассматривают таинства в главах, посвященных «средствам благодати», и более нигде — как будто они не имеют никакого отношения к вере, общему строю церковной жизни и богопознанию. Что же касается литургического предания в целом, то ему в этих руководствах и вовсе не нашлось места — на том основании, что оно–де принадлежит области культа или благочестия, а не догматико–богословской проблематике, которая мыслится совершенно отдельной от них. Именно эта редукция богослужения, или lex orandi, к «культу», это истолкование его в культовых категориях, из которого вырос новый коэффициент , и стало новым ключом и литургической практики, и литургического благочестия, а вместе с тем и серьезной помехой ее богословскому осмыслению, живому взаимообщению богослужения и богословия.
В древней Церкви, в отличие от наших дней, термин leitourgia не был всего лишь синонимом культа. Он прилагался ко всем церковным служениям и обязанностям, в которых проявляли и осуществляли себя природа и призвание Церкви, и воспринимался прежде всего в экклезиологическом, а не культовом аспекте. И тот факт, что его впоследствии отождествили преимущественно с Божественной литургией — центральным действием христианского культа, — выявляет особый характер, уникальность самого этого культа, его места и функции в Церкви. И эта уникальная функция делает Церковь тем, что она есть, т. е. свидетельницей и участницей спасительного дела Христа, новой жизни в Духе Святом, присутствием в «мире сем» грядущего Царства. Крещение водою и духом в подобие Христовой смерти и Воскресения; составление Церкви в День Господень; слушание Слова Христа; вкушение и питие за Его трапезой; отнесение — через богослужение времени — всего времени, всего Космоса (в лице его времени, его вещества и жизни) ко Христу, Который есть Полнота вся Исполняющего, — все это осмысливалось не просто как культовые действия , но прежде всего как исполнение Церковью ее собственной природы, ее космического и эсхатологического призвания.
Важно отметить, что экклезиология раннеотеческой поры носила космический и эсхатологический характер. Церковь — это Таинство новой твари, и она же — Таинство Царства. Часто отмечалось, что в творениях Отцов отсутствует экклезиология в нашем современном понимании. Но объясняется это отнюдь не недостатком интереса к Церкви как к новой жизни новой твари и как к присутствию (parousia) Царства. Отцов не занимала «институтция», ибо природа и цель этой институции — быть не «вещью в себе», но Таинством, эпифанией новой твари. В этом смысле все их богословие экклезиологично, ибо его источником и контекстом является Церковь — опыт новой жизни, причастие Духа Святого. С этой точки зрения послетридентский трактат «De ecclesia» («О Церкви»), родоначальник и образец всех современных экклезиологий — как западных, так и восточных, — знаменует собой падение святоотеческой экклезиологии, ибо его автор, занятый почти исключительно институцией , обходит вниманием космическую и эсхатологическую природу Церкви. Такое превращение «институции» в самоцель на первый взгляд возвышает, а на самом деле трагически принижает Церковь, делая ее, как мы видим сегодня, все более «безразличной» для мира и все менее — «выражением» Царства Небесного.
Здесь важно уяснить отношение между этой космической и эсхатологической природой Церкви и ее leitourgia. Ведь именно в богослужении и через богослужение, специфическую и единственную в своем роде функцию Церкви, она сообщает свое космическое и эсхатологическое призвание, приемлет силу осуществлять его и, таким образом, становится тем, что она есть — Таинством во Христе новой твари, Таинством во Христе Царства. В этом смысле богослужение и в самом деле «средство благодати», однако не в том узком и индивидуалистическом значении, какое усвоило этому термину послеотеческое богословие, но во всеобъемлющем смысле, всегда делающем Церковь тем, что она есть, — миром благодати, богообщения, нового знания и новой жизни. Богослужение Церкви космично и эсхатологично потому, что космична и эсхатологична сама Церковь. Но Церковь не была бы космична и эсхатологична, не имей она источником и основанием своей жизни и веры опыта новой твари, опыта и видения грядущего Царства. И именно leitourgia, как действие церковного культа, и есть та функция, которая делает его источником и поистине залогом богословия.
5
Богословская и литургическая трагедия послеоотеческой эпохи состояла в том, что культ Церкви утратил свою литургическую функцию, которая свелась лишь к культовым категориям. Точнее говоря, это означало, что богословское сознание, подобно благочестию, перестало видеть и переживать ее как подлинную эпифакию космического и эсхатологического «содержания» веры Церкви и самой Церкви. Но, однажды отделенное от своего сущностного и космического содержания, богослужение Церкви — ее lex orandi — не может быть верно «услышано» и осмыслено. Отсюда и неизбежная деградация богословия и благочестия, собственная их «псевдоморфоза» — и куда более опасная, ибо она затронула не литургические формы, но их субъективное восприятие и усвоение церковным народом. Как ни парадоксально, но именно «литургически–консервативно» настроенный поборник уставного благочестия и страстный любитель «древних и ярких обрядов» зачастую поразительно глух к истинному смыслу всякого чинопоследования, к «Истине и Духу», которые одуховоряют его и как свое проявление, и как свой дар.
Всех признаков и симптомов этой порчи не перечесть, но на некоторых все же следует остановиться. Возьмем, к примеру, таинство Крещения. Если большинство сегодняшних священников (не говоря уже о мирянах) не видит ни малейшей нужды в особом благословении крещальной воды и вполне довольствуется добавлением в купель небольшого количества оставшейся от водосвятного молебна, то происходит это лишь потому, что у них нет больше опыта, раскрывающего это благословение как сакраментальное новотворение мира, в котором он становится тем, чем призван быть от начала, — Божественным даром человеку, орудием человеческого богопознания и богообщения.
Но с утратой такой космической перспективы постепенно меняется и само понимание Крещения, и происходит то же, что и во всем послеотеческом богословии, равно как и в благочестии. Уходя от восстановления и новотворения, нового рождения и новой жизни, внимание богословов и церковного народа переносится в сферу первородного греха и оправдания, — сферу совершенно иного богословского и духовного содержания. Если изначальная и органическая связь Крещения с Пасхой и Евхаристией оказалась почти забытой, если Крещение перестало быть пасхальным таинством, а Пасха — крещальным торжеством, то лишь потому, что Крещение уже не воспринималось как основополагающее действие passage , т. е. перехода от «мира сего» в Царство Божие, — как действие, в котором мы, умирая здесь «в подобии смерти Христовой», обретаем нашу жизнь сокровенной со Христом в Боге. Утратив же и эту эсхатологическую перспективу, Крещение все реже связывалось — и на уровне богословского сознания, и на уровне благочестия — с Христовой смертью и Воскресением, так что богословские руководства послеотеческой эпохи едва замечали эту связь, как и связь миропомазания с началом «нового зона» в великий день Пятидесятницы.
В качестве следующего примера возьмем Евхаристию. Если она стала одним из многих «средств благодати», если цель ее — с точки зрения и богословия, и благочестия — свелась к индивидуальному назиданию и освящению — так, что всякий иной аспект фактически исключался, то и это произошло потому, что ее экклезиологическое, а значит, и космическое, и эсхатологическое измерения просто исчезали в новой, «озападненной» богословской перспективе. Надо только удивляться, до какой степени богословие таинств, выстроенное в этой перспективе, мягко говоря, пренебрегало такими существенными аспектами евхаристического ordo (чина), как синаксис, чтение Евангелия (благовестие), приношение, собственно Евхаристия, а также взаимозависимостью всех этих аспектов и их органической связью с освящением и причащением, равно как и отношением Евхаристии к времени, которое проявилось в таком чисто христианском установлении, как День Господень. Все это просто–напросто выпало из богословия. Но тем самым и Евхаристия перестала восприниматься как Таинство Церкви, самой ее природы, как passage (перехода) и вхождение в Царство Божие. Богословие исчерпало себя в чисто формальных и сугубо абстрактных дефинициях жертвы и пресуществления, а благочестие между тем мало–помалу подчинило Евхаристию узко–индивидуалистическим и пи–етистским нуждам.
С точки зрения такого рода богословия и благочестия кажется бессмысленным утверждение, что Евхаристия, а заодно и все остальные таинства, и leitourgia Церкви в целом приводят нас к началу и концу всех вещей, раскрывая истинное их значение и судьбу во Христе; что настоящая функция, или leitourgia церковного культа (с его особой структурой и ритмом, с его несказанной, небесной красотой в каждом слове и в каждом священнодействии) — быть истинной эпифанией новой, искупленной во Христе твари, присутствием и силой в «мире сем» радости и мира о Духе Святом, нового эона Царства, и, будучи всем этим, быть также источником и средоточием par exellence (по преимуществу) веры и богословия Церкви.
Ничего этого не услышат и не поймут сегодняшнее богословие и сегодняшнее литургическое благочестие.
Первое затворилось в своих собственных «данных» и утверждениях и, имея очи, не видит, имея уши, не слышит. Последнее же вовлечено во всевозможные литургические «опыты», за исключением того единственного, который выражен в самом законе молитвы. И если сегодняшняя христианская община все больше и больше отвращается от обоих, в богословии видя лишь философские спекуляции, интересные одним профессионалам, а в богослужении в лучшем случае источник индивидуального «вдохновения», а в худшем — бессмысленную «обязанность», которую надо по возможности свести к «разумному минимуму», — то всему причиной взаимное отчуждение богословия и богослужения, их капитуляция перед западными категориями и дихотомиями. И здесь мы подходим к последнему вопросу: можно ли преодолеть это отчуждение?
6
Все вышесказанное, я полагаю, дает основания для положительного ответа: да, можно. Но лишь при условии, что богословское сознание восстановит свою былую целостность , нарушенную веками западного плена, если оно вернется к старому, но верному выражению этой целостности: lex orandi lex est credendi (закон молитвы есть закон веры). В качестве же первого условия это предполагает двойную задачу: литургическую критику богословия и богословскую критику богослужения. Здесь я лишь вкратце намечу свое понимание этой двойной задачи.
Утверждение, что богослужение есть источник par exellence богословия, не означает, как думают некоторые, сведения богословия к богослужению, его трансформации в «литургическое богословие». Последнее явилось лишь результатом болезенного взаимоотчуждения богословия и богослужения и, стало быть, незаконным чадом недолжных отношений. Все богословие и в самом деле призвано быть «литургическим», но не в том смысле, что богослужение — единственный объект его внимания, а в том, что вся его «область касательства» укоренена в вере Церкви, вере, проявляемой и сообщаемой в богослужении, в том кафолическом видении и опыте, которого так недостает современному богословию, оторванному от богослужения.
Западное влияние на наше богословие выразилось и в изменении структуры богословской деятельности. Богословие фактически разбилось на множество вполне «автономных» дисциплин, каждая из которых находилась в зависимости от собственного набора «данных» и собственного метода — без сколько–нибудь ясного принципа координации и «интеграции» в какое–то общее видение и, по существу, без всякой общей задачи. Если для Римской Церкви такой принцип заложен в иерархическом magisterium (учительстве), под которым понимается авторитет богословия, как такового, а протестанты даже и не претендуют на какое–либо систематическое богословие как богословие Церкви, возвьпиающееся над множеством крайне расплывчатых исповедании , то православное богословие находится в необычном и весьма уязвимом положении.
С одной стороны, оно заимствовало — и совершенно некритически — западную научную организацию богословской работы, которая на практике вела к все большей ее атомизации в целый ряд ничем не связанных и взаимонезависимых «дисциплин». С другой стороны, ему не удалось найти и определить критерии и методы, способные интегрировать эти дисциплины не просто в стройное целое, но в адекватное и живое выражение самой веры Церкви. Усвоив еще недавно чуждые ему методы, православное богословие не дало ответа на предварительный вопрос: как должны они выражать опыт Церкви? В результате мы получили догматическое богословие, сконструированное более или менее по образцу схоластической теологии, опирающейся на «данные» (data) и «утверждения», библейское богословие, мечущееся между безоговорочным усвоением западного «критицизма» и столь же безапелляционным его отвержением (что, в свою очередь, вело либо к полному отказу от западных критических теории, либо к не менее западному фундаментализму), и, наконец, призрачный сонм «исторических и практических дисциплин, чье отношение к богословию, как таковому, остается хронически двойственным и проблематичным. Дело не только в отсутствии всякой связи между этими дисциплинами, а в том, что ни по своей структуре, ни по своему самоопределению, ни порознь, ни сообща, они не могут служить кафолическим (т. е. цельным и адекватным) выражением веры и опыта Церкви.
И если, как мы пытались показать выше, истинная функция leitourgia — в том, чтобы быть эпифанией веры Церкви, «делать Церковь тем, что она есть», то богословие должно заново отыскать путь к этому источнику и заново открыть в нем ту самую общую почву, ту первоначальную цельность и то видение, утрата которых проявляется в его нынешней предметно–методологической фрагментации. При всей очевидной пользе специализации для научно–богословского развития она не только не исключает, но прямо–таки требует — как важнейшего залога своего успеха, состоятельности и самооправдания — сближения и взаимного согласия всех богословских дисциплин по отношению к их общему источнику и общей задаче. Этот общий источник — опыт Церкви; эта общая задача — адекватное, последовательное и вероятное изложение, изъяснение, а если нужно, то и защита такого опыта. Если богословие возникло из Церкви и ее опыта, то и приводить оно должно к Церкви и ее опыту. В этом смысле оно никогда не может быть автономным и самодостаточным. Его вероятность заключается не в состоятельности, опирающейся на ratio, но в нацеленности выше себя — на тот опыт и ту реальность, которые только и дают жизнь его словам, делая их «аутентичными».
Но что же это означает в практическом плане? По отношению к leitourgia как общему источнику всех богословских дисциплин это означает, что, каков бы ни был объект богословского внимания и исследования, первым и важнейшим «данным» богословия остается его переживание, место и значение в контексте богослужения. Ограничиваясь лишь одним примером, скажем, что богослужение пасхального triduum'a (тридневия), т. е. Страстной Пятницы, Великой Субботы и Светлого Воскресения, может поведать о «доктринах» творения, грехопадения, искупления, смерти и Воскресения куда больше, чем все прочие loci theologici вместе взятые, и поведать (подчеркнем это!) не только текстами — величайшим творением византийской гимнографии, — а и самим «опытом», неизреченным и просвещающим, который преподается Церковью в эти дни, их внутренней взаимообусловленностью и, наконец, самой их природой как эпифании и откровения. В самом деле, если слово таинство еще имеет сегодня какое–то значение, как переживаемое в опыте, а не просто объясняемое, то именно здесь, в этом уникальном богослужении, открывающем и сообщающем еще до того, как начинает объяснять, делающем нас свидетелями и участниками всеобъемлющего события, из которого вышло все остальное: разумение и сила, знание и радость, созерцание и причастность.
Этот опыт высветляет и собственно богословскую деятельность — будь то экзегеза библейских или святоотеческих текстов либо разработка вопросов вероучения и поиск путей ее приложения к проблемам жизни и человека. И именно в Евхаристии, в ее ordo и движении, в ее связи со всеми другими таинствами и богослужебными циклами, можно обнаружить единственно подлинный и кафоличный источник экклезиологии — в ее космическом, равно как и эсхатологическом, в ее институтивном, равно как и сакраментальном, измерениях. И наконец, именно в «богослужении времени», в тех его циклах, что призваны освящать жизнь, впервые переживается — еще до всякого «объяснения» — подлинное содержание христианского учения о мире и подлинный смысл христианской эсхатологии. Понятно, что здесь мы можем предложить лишь самый поверхностный анализ изначальной и органической связи между богословием и литургическим самопереживанием Церкови как первым исходом и «проблеском» такого богословия. И именно литургическая критика богословия должна вооружить нас таким анализом, заново раскрыть некогда живую и действенную взаимосвязь этих двух насущнейших leitourgiai (служений) Церкви.
Если же говорить о литургии как общем предмете всех богословских дисциплин, то богословие, согласно тезису lex orandi est lex credendi, опять–таки лишь в Таинстве Церкви обретает внутреннюю полноту и как богословский синтез, и как опыт — тот опыт, который, будучи сам по себе выше богословия в собственном значении этого слова, выше его заключений и формул, делает их не только «вероятными», но подлинно сущностными и аутентичными. Богословие — это всегда приглашение вкусить и видеть , возвещение и обещание того, что исполняется в приобщении, созерцании и жизни. И библейская экзегеза, и исторический анализ, и доктринальные разработки в конечном счете подводят к богослужению, будучи подготовкой к этому акту свидетельства и соучастия в самом Таинстве — в той эпифании жизни, света и знания, без которой все слова неизбежно останутся человеческими, слишком человеческими .
Все это, однако, требует «обращения» не только самого богословия, его структуры и методов, но в первую очередь самого богослова. Он в совершенстве овладел необходимой акрибией интеллектуальной дисциплины и честности, приобрел смирение, которое всегда сопутствует подлинным достижениям разума. Теперь ему надо научиться погружению в радость Церкви — ту радость, с которой ученики возвратились в Иерусалим, чтобы быть «всегда в храме <…> благословляя Бога» (Лк. 24, 53).
Он должен заново открыть древнейший из всех языков Церкви — язык ее обрядов, ритм и ordo ее leitourgia, в которой она укрывала от очей «мира сего» самое великое свое сокровище — знание, выраженное в словах: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9). Он вновь должен стать не только исследователем веры Церкви, но прежде всего свидетелем ее.
Более того: если богословие испытывает нужду в литургической критике, то богослужение — чтобы снова стать leitourgia Церкви в полном смысле этого слова, — нуждается в критике богословской. Многовековой отрыв его от богословия затемнил эту мысль многими наслоениями псевдобогословских и псевдоблагочестивых трактовок и интерпретаций, поверхностным псевдосимволизмом, индивидуализмом и законничеством. И нелегко сегодня, когда весьма многое здесь отождествляется — столь же многими — с самой сущностью Православия, и считается чуть ли не пробным камнем «подлинного благочестия» и «консерватизма» — заново открыть и сообщить истинный ключ православного литургического предания, чтобы вновь связать его с lex credendi.
Вот область, где нужен труд богослова, где могут принести величайшую пользу интеллектуальная честность, историческая критика и акривия. Но для этого богословие должно обратиться к lex orandi, увидеть в нем не только источник, но и объект своих поисков и исследований. Парадокс в том, что всеобщая симпатия к литургическому преданию Восточной Церкви нисколько не мешает пренебрегать и его историей, и его богословским содержанием. Богословие не только оторвалось от богослужения как своего источника, но крайне мало занимается им даже как одним из своих «объектов».
Мы до сих пор не имеем всесторонней и критической истории византийского богослужения. Запад же и здесь до самого последнего времени выказывал себя единственной по–настоящему заинтересованной стороной, так что православным литургистам оставалось лишь плестись в хвосте у западной науки. Но кому же как не православным богословам, занятым исследованием нашего литургического предания, показать его место в Предании Церкви, выявить его подлинное значение для православного богословствования?
Однако, чтобы достичь этого, наука о богослужении должна, с одной стороны, преодолеть типично западную «заостренность» на определенных темах и проблемах в ущерб множеству иных, а с другой — выбраться из тупиков самодовольного «историзма». Так уж вышло, что под влиянием западного богословского выбора проблематика Евхаристии, например, свелась к двум–трем аспектам — жертвы, «действительности», общения, но при этом без всякого освещения остался контекст, в котором только и возможно было адекватное определение этих аспектов, т. е. богослужебный строй Евхаристии, заложенное в нем взаимосцепление синаксиса, богослужения Слова, жертвы, благодарения и т. д. Но самое главное упущение заключалось, пожалуй, в том, что сущностно–эсхатологическая природа leitourgia — ее отношение к главному объекту христианской веры, т. е. к Царству Божию, ее зависимость от него, ее антиномичное отношение к времени (отношение, которое в полном смысле определяет содержание Типикона и все его «рубрики»), ее самовыражение через красоту (пение, гимнографию, иконопись, обряд, торжество), показывающее, что она связана с материей не случайно , но вполне существенно, — одним словом, все, что делает ее эпифанией «неба на земле», иконой и благоуханием, красотой и ruah (дыханием) Царства Божия, оказалось «закрыто» для богословия и свелось к законническим и рационалистическим категориям западной интерпретации богослужения.
То же можно сказать и об исторической редукции более близкой к нам по времени литургики с присущей ей «исторической» заостренностью. Абсолютно необходимый, исторический аспект не только не может быть самоцелью, но, напротив, лишь в богословской перспективе раскрывается во всем своем значении и предельном объеме. Очень добросовестные и многоученые историки, будучи невеждами в богословии, обогатили науку своеобразными памятниками абсурду, с которыми могут соперничать лишь творения несведущих в истории богословов.
Вот почему именно литургист на этом поприще снова должен стать богословом, ввести свой труд в богословский контекст и придать ему богословскую глубину. И именно Церковь в целом — и духовенство и миряне, — несмотря на все псевдоморфозы , по–прежнему живущая богослужением, должна заново опознать в законе молитвы закон веры и направить свое литургическое благочестие на путь богословского знания и постижения.
Таким образом, литургическая проблема нашей современности это в итоге проблема возвращения богослужению его богословского смысла, а богословию — его литургического измерения. Если богословие, не укорененное в самом опыте Церкви, не способно восстановить свое центральное место и главную функцию в Церкви, то и богослужению не суждено преодолеть свой нынешний упадок с помощью поспешных, поверхностных и чисто внешних реформ, идущих навстречу неясным и сомнительным нуждам мифического современного человека . Ибо если этот современный человек , вся его культура и общество в чем и нуждаются, то не в той «церкви», которая «обслуживает» их, принимая их «образ», но в той, которая осуществляет свою Божественную миссию, пребывая всегда и везде как эпифания, дар и приобщение к вечной Тайне, и, будучи таковой, открывает человеку его истинную природу и судьбу. Богословию предстоит заново открыть как свое собственное «правило веры» закон молитвы Церкви, а богослужению — вновь явить себя как закон веры.
По поводу богословия соборов
Дары различны, но Дух один и тот же: и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех (1 Кор. 12, 4—6).
1
Уяснение идеи «собора», его места и функции в жизни Церкви является богословской задачей дня. С одной стороны, мы стоим перед вызовом «внешних»: тут и Рим с его собором, и экуменическое движение, все чаще воплощающееся в форме «соборов». С другой стороны, этого требует от нас и внутренняя ситуация самой Православной Церкви. Возрастающая тяга к «соборной» форме церковного управления обнаруживается на всех уровнях ее жизни. Порой кажется, будто различные автокефальные церкви впервые преодолели многовековую национальную изоляцию и самодовольство, признав необходимым идти рука об руку, как это было на недавно прошедших всеправославных конференциях. Совещания, комитеты и комиссии епархиального и приходского масштаба стали настолько привычным явлением, что нынешней православной молодежи трудно представить себе полное их отсутствие всего лишь полвека назад.
Но, несмотря на всеобщее согласие относительно того, что принцип «соборности» характеризует само существо православного понятия Церкви, практическое приложение этого общего принципа встречает немало помех. Напряженность, конфликты, споры говорят о всеобщей путанице понятий по вопросу об истинном значении и практике «соборности», о столкновении различных концепций собора, его состава, прав и функций. Проявления этой путаницы мы усматриваем в постоянных трениях между священством и приходскими советами, в нарастающей активности различных организаций мирян, молодежных движений и пр. — всех, кто добивается более широкого участия в церковном управлении и ограничения всего того, в чем они склонны видеть незаконно утвердившуюся монополию духовенства.
Эта путаница требует конструктивного переосмысления самого принципа соборности, истинно православного его определения и истолкования. Богословие соборов необходимо нам как принципиальное обоснование и оформление практики соборности. И, хотя детальное выполнение этой задачи потребует больших затрат времени и сил, отлагать его нельзя. В Церковь проникают соблазны и ереси, и молчание равносильно предательству. Считая эти заметки не более чем первым приближением к теме, начнем с попытки уяснить некоторые возможные направления конструктивной дискуссии.
2
Православная Церковь исповедует себя соборной. Это самоопределение достаточно выяснено в его негативных аспектах как заостренное против папизма и протестантского индивидуализма. Но что означает оно в позитивном смысле? Чтобы понять, сколь затруднителен ответ на этот вопрос, вспомним, во–первых, что ни одна из богословских дефиниций «собора» до сих пор не стала общепринятой
[6] и, во–вторых, что история Православной Церкви дает несколько моделей «собора», во многом существенно отличных друг от друга.
Например, нет свидетельств о каких–либо «соборах» в привычном значении этого слова на протяжении ста лет между так называемым Апостольским Собором в Иерусалиме (Деян. 15) и «собраниями верных» в Азии. упомянутыми Евсевием в связи с ересью монтанистов
[7].
Означает ли это, что, как писал русский историк ранних соборов, «соборный институт не функционировал в течение целого столетия»
[8] ? Но как же в таком случае этот институт мог стать существенным элементом церковной жизни? Все известные нам ранние соборы по своему составу были исключительно епископскими. Но они различались и по форме, и по функциям. Вселенские соборы нельзя рассматривать вне имперского контекста , в котором они действовали. Провинциальные соборы, описанные в различных сводах правил IV и V вв., были кратковременными съездами епископов всех церквей, между тем как более поздние патриаршие синоды сделались постоянным органом церковного управления. В свое время я предпринял анализ экклезиологического значения этих различий
[9], и повторять его не стоит.
Примечательно, что в России на протяжении всего «синодального периода» (1721—1917 гг.) не созывали архиерейских соборов, и русский епископат впервые собрался в полном своем составе на достопамятном Московском Соборе 1917—18 гг., который, впрочем, оказался собором не только епископов, но также младших клириков и мирян. Это было признаком совершенно новой идеи церковного управления и идеи собора, как такового, вызвавших и поныне вызывающих внутрицерковные споры. Из этого следует, что чисто внешнее изучение соборов — порядка их проведения, состава и отдельных процедур — не поможет нам в поисках отчетливого и ясного определения, какими они должны быть в наше время и в нашей ситуации. «Соборное начало», неуклонно провозглашаемое всем восточным Преданием, не поддается простому отождествлению с тем или иным историческим и эмпирическим его воплощением. Вот почему от «феноменологии» соборов следует перейти к их «онтологии», в которой раскрывается их отношение к всецелой жизни Церкви, к ее экклезиологическим основам и корням.
3
Для этого нам придется сперва преодолеть однобокое, но привычное осмысление проблемы соборов с точки зрения одного лишь церковного управления. В самом деле, в наших «озападненных» богословских системах экклезиология сводилась к вопросу «церковного устройства», т. е. к институтивному аспекту Церкви. Дело выглядит так, будто богословы тайно условились, что «институция» имеет приоритет над жизнью или, другими словами, что Церковь как новая благодатная жизнь в общении с Господом, как реальность искупления, «порождена» Церковью–институтом. В свете такого подхода Церковь изучалась как ряд «действительных» институтов, и весь экклезиологический интерес был сосредоточен на формальных условиях действительности , но не реальности самой Церкви.
Однако с православной точки зрения эти реальность Церкви как новой жизни во Христе и участия в новом зоне Царства первенствует над «институцией». Отсюда, впрочем, не следует, что институт — явный аспект Церкви вторичен, случаен и несуществен. Это означает лишь, что «институция» является не причиной Церкви, но средством ее выражения и актуализации в «мире сем», обнаружением ее тождества реальности Нового Бытия и участия в нем. Я уже предложил однажды назвать отношение между Церковью–институтом и Церковью — реальностью Тела Христова и Духа Святого сакраментальным. «Сакраментальное» в данном контексте есть прежде всего связанное с
переходом от ветхого к новому, ибо в этом переходе сущность церковной жизни
[10]. Органическая и сущностная связь между «институцией» и «реальностью» (благодатью, новой жизнью, новой тварью) не вызывает сомнений, но ее определение в категориях причины и следствия неверно, ибо экклезиология содержания заменяется в нем экклези–ологией формы, сосредоточенной почти исключительно на вопросе «действительности», а эта «действительность» есть чисто юридическое и формальное понятие, которое само по себе не может раскрыть и сообщить сколько–нибудь жизненное содержание.
Совершенно бессмысленно рассуждать, «достаточно» ли для «действительного» крещения трех капель воды, или необходимо полное погружение, ибо институтив–ная форма таинства в этом рассуждении предстает всего лишь causa effidens (действующей причиной) результата, реальное значение и «содержание» которого не раскрывается в его форме, как таковой. С формально–юридической точки зрения «действительность» может гарантироваться любой формой, которая признана «необходимой и достаточной», т. е. получившей юридическую санкцию. Для православного же мышления «действительность» института (или «формы»), определяется его онтологической адекватностью той реальности, которая и в самом деле «представляет», т. е. делает присутствующим и, следовательно, может сообщать и исполнять. Институция сакраментальна в силу самого ее назначения постоянно преодолевать свои границы как институции, исполнять и актуализировать себя как Новое Бытие; и она может быть сакраментальной потому, что в качестве институции соответствует той реальности, которая ее исполняет и является ее истинным образом.
Эти общие замечания можно распространить и на проблему соборов. До тех пор, пока они рассматривались лишь в категориях власти и управления , осмысление их было безнадежно однобоким. Первым вопросом здесь должно быть не «Какой собор действителен?», не «Кто является членом собора?» и даже не «Какую власть имеет собор?», но в первую очередь «Что есть собор и как отражается в нем соборная природа самой Церкви?». Следовательно, прежде чем говорить о месте и функции собора в Церкви, мы должны и саму Церковь увидеть как Собор. Ибо Церковь поистине Собор в глубочайшем значении этого слова, будучи изначально откровением Пресвятой Троицы, Бога и Божественной жизни как сущностно–совершенного собора. Этой тринитарной основой Церкви упорно пренебрегает современное экклези–ологическое «возрождение», поглощенное идеей организма и органического единства, с одной стороны, и институции — с другой
[11].
Но идея органического единства вне тринитарного контекста (согласно которому, единство есть единство Лиц) ведет к безликой и чуть ли не «биологической» 'концепции Церкви. Церковь тринитарна и по «форме» и по «содержанию», будучи воссозданием человека и его жизни как образа Божия, который есть Троица. Образом Троицы и даром тройческой жизни является она потому, что жизнь человека искуплена и восстановлена в ней как сущностно–соборная. Новая жизнь, данная во Христе, есть единство и согласие: «Чтобы они были едино, как и Мы»(Ин. 17, 11). Будучи Собором по своему «содержанию». Божественным даром жизни, Церковь есть Собор и по «форме» — как институция, поскольку назначение всех институтивных ее проявлений — в том, чтобы осуществлять ее как совершенный Собор, возрастать в полноту соборной жизни.
Вся жизнь Церкви (а не только «собор» в специальном значении этого понятия) соборна в силу того, что соборность есть существенное ее качество. Каждый акт созидания ею самой себя — богослужение, молитва, учительство, проповедь, слушание — имеет соборный характер и как укорененный в соборности новой жизни во Христе, и как ее. Церкви, исполнение, или актуализация. И именно соборная онтология Церкви во всецелости ее существа и жизни определяет функцию собора в церковном управлении.
4
Церковь соборна и Церковь иерархична. В настоящее время имеется тенденция противопоставлять эти ее качества или по крайней мере подчеркивать превосходство одного из них над другим, клерикальной точки зрения соборность видится как бы «изнутри» иерархического принципа, как ограниченная иерархией. Собор трактуется здесь прежде всего как собор самих иерархов, из которого в идеале исключены миряне. Многие представители «клира» рассматривают участие мирян в различных церковных соборах как прискорбный компромисс в духе нашего времени, терпимый лишь до тех пор, пока духовенство не восстановит в достаточной мере свои контроль над Церковью. Со стороны «мира» наблюдается противоположное течение; оно основано на убеждении, что иерархия должна полностью подчиниться «соборному началу» и стать исполнительницей решений тех соборов, непременными, если не ведущими участниками которых будут миряне.
Подлинный трагизм этой ситуации в том, что обе тенденции, будучи ложными, воспринимаются сегодня как единственно альтернативные. И та и другая — результат уклонения от истинно православного понимания соборности, которое исключает как «клерикальную», так и чисто демократическую интерпретации, не будучи противопоставлением иерархическому принципу, ни растворением в нем. Истина заключается в том, что иерархический принцип принадлежит самой сущности собора — в той мере, в какой эта последняя проявляется и осознается в Церкви. Совершенный Собор — Всесвятая Троица — есть иерархия, а не безликое равенство взаимозаменяемых членов.
Православное богословие всегда настаивало на этой иерархической концепции внутритроичной жизни, где само единство Бога как раз и объясняется исходя из уникального отношения между Лицами Святой Троицы. Троица есть совершенный Собор потому, что Она есть совершенная иерархия. И Церковь, — поскольку она дар и возвещение истинной жизни, т. е. жизни троичной и соборной, — иерархична вследствие того, что она соборна, между тем как иерархия является существенным признаком соборности. Противопоставление этих двух начал чревато уклонением от православного понимания и иерархии, и собора. Ибо соборность, как она проявляется в Церкви, не есть растворение личностей в безличном единстве, которое является единством лишь по причине отрицания или игнорирования различия лиц, их уникального и личного бытия. Соборность — это единство лиц, чье личное бытие осуществляется в согласном единении с другими лицами, так что многие суть одно (а не просто объединенное множество), не переставая быть многими. И эта истинная соборность, единство многих, по самому существу своему иерархична, ибо иерархия есть прежде всего полное взаимопризнание личностей в их уникальных личных свойствах, с их уникальным местом и назначением относительно других лиц, их объективным и уникальным призванием в соборной жизни.
Принцип иерархии предполагает идею послушания, но не подчинения , ибо послушание основано на личном отношении, в то время как подчинение безлично по самой своей сути. Сын во всем послушен Отцу, но не подчинен Ему. Он всесовершенно послушен, ибо всесовершенно и всецело знает Отца как Отца. Он не подчинен Ему, ибо подчинение предполагает несовершенное знание и отношение и вследствие этого необходимость принуждения. Итак, иерархия это не отношения власти и подчинения, но совершенное послушание всех всем во Христе — послушание, являющееся признанием и знанием личных даров и харизм каждого всеми. Всякий истинный собор истинно личен и потому истинно иерархичен. И Церковь иерархична просто в силу того, что она есть заново обретенная жизнь, совершенное сообщество, истинный Собор. Облечение кого–либо иерархическими функциями не означает возвышения его над другими, его противопоставления как власти тем, кто обязан ему подчинением. Оно означает признание Церковью его личного призвания внутри Ecclesia, его поставления от Бога, Который знает сердце человека и потому является источником всякого призвания и дара. Таким образом, это подлинно свободный акт, ибо в нем открывается послушание всех: послушание того, кого посвящают; послушание тех, кто его посвящает, т. е. признает за ним Божественное призвание к служению управления; послушание всей Церкви воле Божией.
Вот почему все нынешние попытки ограничить «власть» духовенства или предоставить мирянам участие в этой власти основаны на чудовищной путанице понятий. Духовенством, или «клиром», по определению, являются те, чье особое служение и послушание — в том, чтобы управлять Церковью, и те, кого она признала как призванных к этому служению. Путаницу, о которой мы говорим, можно объяснить лишь окончательной секуляризацией идеи церковного управления и идеи самой Церкви. Сторонники участия мирян в церковном управлении, по–видимому, не понимают, что «духовная .. власть», которую они признают за духовенством, — власть совершать таинства, проповедовать, принимать покаяние и т. д. — не только не отличается от власти управлять Церковью, но по сути своей есть та же самая власть. Созидающие Церковь Словом и Таинством суть те же, кто управляет ею, и наоборот: управляющие ею суть те же, чье служение — созидать ее Словом и Таинством. Вопрос о церковном управлении и — в более специальном смысле — о его соборной природе заключается не в том, допускать или не допускать мирян к участию во власти духовенства. В этой форме он ведет к абсурду, ибо предполагает смешение «клира» и «мира», чуждое всему Преданию Церкви, самим основам православной экклезиологии. Верно поставленный вопрос, соотносящий служение управления с соборной природой Церкви, имеет следующий вид: каким образом иерархический принцип исполняет Церковь как собор?
Злополучная редукция всей проблемы церковного управления к соперничеству духовенства и мирян препятствует верной постановке вопроса, адекватное понимание и разрешение которого могло бы стать одновременно решением проблемы «клира» и «мира».
5
Управление Церковью действует на трех различных уровнях: приход, епархия и разного рода сверхъепархиальные образования — такие, как митрополичий округ, автокефальная Церковь и, наконец. Церковь Вселенская. Но, прежде чем анализировать каждый из них с «соборной» точки зрения, мы должны вкратце определить очень важное отличие нашего положения от ситуации ранней Церкви.
Это отличие, очевидное для тех, кто занимался каноническим преданием, стало, однако, предметом весьма поверхностных экклезиологических штудий. В ранней Церкви каждый «приход» был фактически и «епархией», если под «приходом» понимать местную ecclesia — конкретную, видимую общину, а под «епархией» — церковь, управляемую епископом. Поэтому вначале не было никаких приходских священников и каждая местная община, как правило, возглавлялась епископом. Вот почему все определения и описания церковного управления в классических сводах правил имеют в виду епископа как обычного носителя церковной власти. Это означает, что ознакомление с основоположной структурой церковного управления нужно начать с «поместной Церкви» в ее раннем и классическом воплощении.
Некоторые исследования последних лет по раннехристианской экклезиологии подчеркивают — и вполне справедливо — центральное и уникальное положение епископа в ecclesia. И поныне существует тенденция защищать «монархический» епископат, в пользу которого, кроме старых доводов, говорит также и заново открытая евхаристическая, сакраментальная экклезиология ранней Церкви. Но, доведенная до крайности, эта тенденция может привести к искажению перспективы. В приложении к раннему епископату термин «монархический» едва ли удачен. Все доступные нам свидетельства говорят об очень важной роли пресвитериума — совета пресвитеров, или старейшин, местной церкви, первоначально выполнявшего функцию собора при епископе и главного органа церковного управления.
Клирики «второго чина» задолго до их превращения в возглавителей отдельных общин составляли необходимое коллективное дополнение власти епископа. Вот почему ранние чины посвящения указывают на «дар власти как основную харизму пресвитеров. Управление Церкви с самого начала было истинно соборным; сопряжение же единственной в своем роде функции и служения епископа с управлением пресвитеров как раз и открывает нам основной смысл того, что мы назвали выше иерархической соборностью» или «соборной иерархичностью, и этот смысл определяется органическим единством соборного и иерархического начал в Церкви.
Именно это сопряжение обнажает истинную природу церковного управления, и здесь вновь следует прибегнуть к термину «сакраментальный». С одной стороны, пресвитеры реально управляют Церковью, т. е. имеют попечение о всех неотложных нуждах общины — как материальных, так и духовных. Но, с другой стороны, функция епископа, его собственное уникальное служение, или leitourgia, состоит в том, чтобы относить все эти акты церковной жизни к последней цели Церкви, претворяя их в акты самосозидания и самоисполнения Церкви как Тела Христова. И делает он это прежде всего в силу его функции proistamenos (предстоятеля) — председателя евхаристического собрания, которое есть Таинство Церкви и где всё дары, все служения, все призвания поистине объединены и запечатлены как действия одного и того же Бога, производящего все во всех (Ср.: 1 Кор. 12, 6).
Руководство и управление предстают, таким образом, не. автономной сферой внутри Церкви, но неотъемлемой частью Церкви как Таинства Царства. Дар власти есть харизма, и потому пресвитеры не просто «советники» епископа: через посвящение они самым реальным образом восприняли ^эту харизму как свою. Их управление реально, и, однако, они ничего не могут делать без епископа, т. е. без его признания всех их действий как действий Церкви, ибо он один имеет «власть» объединять и выражать жизнь общины как «новую жизнь» Церкви Божией. Вот почему управление Церковью истинно иерархично и истинно соборно.
Пресвитеры, или «старейшины», — это ведущие члены ecclesia — те, в ком вся Церковь признала дары мудрости, рассуждения, учительства, управления. Они не противопоставлены миру, но являются подлинными его представителями, как выразители и устроители всех реальных нужд церковного народа, и именно поэтому они пресвитеры. Управление пресвитеров соборно, ибо их множество выражает всю реальность конкретной общины, многообразие ее нужд и стремлений. Но это множество претворяется и запечатлевается как единство епископом, чья особая харизма состоит в том, чтобы исполнять Церковь как Единую, Соборную и Апостольскую.
При простом «подчинении» пресвитеров епископу как делегатов его власти, исполнителей его приказов без собственной инициативы и собственной «жизни» епископу было бы нечего «претворять», нечего «выражать», нечего «исполнять». Церковь перестала бы быть Соборной, Телом, иерархией, став вместо этого «властью» и «подчинением». Не была бы она и Таинством новой жизни во Христе. Но то, что исполняет епископ, есть реальная жизнь Церкви как собора, как семьи, как единства, и исполнение это имеет место постольку, поскольку епископская харизма в том и состоит, чтобы не иметь ничего своего, но, напротив, принадлежать — поистине и всецело — всем; не иметь никакой иной жизни, никакой иной власти, никакой иной цели, кроме соединения всех во Христе.
Здесь невозможно даже вкратце проанализировать процесс превращения первичного епископального устройства местной Церкви в то, что сегодня называют «приходом». Этот процесс, вызвавший самые радикальные изменения в Церкви за всю ее историю, остался, как ни странно, почти вне поля зрения специалистов в области экклезиологии и каноники. С другой стороны, такого рода отсутствие экклезиологической реакции позволяет понять, почему кризис церковного управления больнее всего отозвался в наше время на приходском уровне. Ведь и сегодня мало кто понимает, что превращение пресвитера — члена епископского собора в главу отдельной общины изменило саму идею церковного управления и власти. С одной стороны, епископ лишился своего «собора» и власть его стала и в самом деле «монархической». С другой стороны, пресвитер стал простым подчиненным этой монархической власти, а «соборное» взаимоотношение епископа и пресвитера превратилось в отношение подчинения и «делегации власти».
За всем этим видна глубокая трансформация первоначально–соборного смысла и иерархии, и самой ecclesia. Понятие «иерархии» отождествили с «субординацией», т. е. с большей или меньшей мерой власти. Что касается прихода, то лишенный соборного управления (роль которого в «епископальной» Церкви выполнял «пресвитериум»), он за несколько веков утратил и все остаточные признаки соборной жизни, перестав быть «собором» в сколько–нибудь реальном значении этого слова. Ему насильно навязали сперва идею чисто пассивного подчинения laos'a (народа) иерархии, затем — не без влияния всякого рода прогрессивно–демократических доктрин — идею оппозиции мирян иерархии.
«Клерикализация» Церкви неминуемо рождает свою логическую противоположность — бунт. Но этот бунт нельзя объяснить одним лишь невежеством, враждебными влияниями «современного мира» и пр. Ведь с православной точки зрения и «клерикализм» является уклонением и ошибкой. Да и притязания — безусловно, слепые и неуклюжие — сегодняшних мирян на более широкое участие в церковной жизни вызваны неясным, но вполне оправданным желанием восстановить истинную соборность Церкви. «Клерикальное» подавление этих попыток ничуть не лучше безоговорочного их признания в нынешних секуляристских, юридических и демократических формах. Мы же должны стремиться к восстановлению вечной истины Церкви.
6
Прежде всего нужно признать, что непосредственным и конкретным выражением Церкви в наши дни будет не воочию зримое собрание верных вокруг епископа, а скорее
приход. Христианин знает Церковь и живет в Церкви как член своего прихода, который является для него единственной зримой ecclesia. Даже и епархия в его глазах не живая реальность, а более или менее абстрактное административное звено. Прихожане видят епископа лишь в редких, особо торжественных случаях или прибегают к нему во время приходских нестроений. И поскольку реальная ситуация такова, все попытки просто вернуться к «епископальному» опыту Церкви в формах III—IV вв. (episcopus in ecclesia et ecclesia in episcopo)
[12] останутся уделом академических мечтателей до тех пор, пока мы будем игнорировать реальное значение прихода и роль священника в нем. Мы должны понять, что важнейшие черты ранней «епископальной» общины унаследованы приходом, равно как и то, что и приходский священник воспринял многие функции епископа. Священник сегодня, как правило, и священнослужитель, и пастырь, и учитель Церкви; в ранней же Церкви все эти функции выполнял епископ.
В связи с этой трансформацией возникают два важных вопроса. Первый из них (который мы не можем проанализировать здесь во всех его аспектах) касается отношений епископа и священника. Объяснить изменение статуса священника лишь в категориях «делегированной власти», как это делают крайние приверженцы «епископального принципа», иначе говоря, низвести священника до роли «делегата епископа» просто невозможно. Священник посвящается на священство, а не на «делегатство», из чего следует, что священство Церкви принадлежит ему как его собственное служение. Нельзя быть священником, учителем и пастырем в качестве делегата», и не существует никакой «делегированной» харизмы. Сама трансформация его статуса, по–видимому, связана с тем, что пресвитеры изначально были священниками, разделявшими с епископом его богослужебные функции. Но если священник оказался в результате реальным главой прихода, если его служение в том, чтобы исполнять приход как Церковь, тогда сейчас же встает второй вопрос, затрагивающий соборные аспекты его власти.
Следует признать, что на протяжении долгого времени приход как община, т. д. как ecclesia, просто не существовал вне общего присутствия его членов за богослужением; исчезновение же соборности трансформировало само благочестие верующих в индивидуалистическое и по преимуществу литургическое благочестие, исключившее саму идею общности и единства жизни. С этой точки зрения идея приходского совета и приходского собрания не только не чужда Преданию, но, при всех возможных и действительных отклонениях, и родилась из глубокого инстинкта Церкви. Вся трагедия в том, что с обеих сторон — и с клерикальной и с мирской — это осмысление и определение соборности шло в узко юридических категориях и чисто секулярных понятиях прав и обязанностей , окончательного решения и т. п. В результате утвердилось глубоко неправославное противопоставление дел духовных делам материальным , — противопоставление, отрицающее и разрушающее сакраментальную природу Церкви, где все «материальное» претворено и одухотворено, а все духовное наделено властью осуществлять это претворение.
«Навязанный» приходу соборный принцип не следует отвергать или ограничивать за счет усиления «клерикального», но он должен быть воцерковлен. Это означает, с одной стороны, усвоение клиром истинно иерархического принципа, который не есть голая власть , но глубоко одухотворенное и по–настоящему пастырское отношение к Церкви как семье, как единству жизни и проявлению духовных дарований. Пастырю нужно не только не бояться «соборности», но поощрять и искать ее; он должен помочь каждому члену Церкви раскрыть его особый дар и призвание в жизни Тела и объединить все эти дары в единстве жизни и созидания Церкви.
С другой стороны, это предполагает длительный процесс научения мирян, в котором они преодолеют свои защитные «антиклерикальные» рефлексы и установки. И произойдет это лишь тогда, когда миряне поймут, что священник реально нуждается в них, и не в их «голосах», но в их дарованиях, в их совете и в настоящем соборе — иными словами, в их реальном участии в жизни Церкви. Истинная соборность не выражает и не осуществляет себя в чисто формальном и абстрактном «праве голоса». Нужно уразуметь, что голосовать в Церкви не о чем, ибо все спорные вопросы церковной жизни в конечном счете относятся к самой Истине, а Истина не •может быть предметом голосования. Но чтобы постичь эту Истину и применить ее к жизни, нужны усилия ума и сердца, сознания и воли, а помощниками и участниками этих усилий могут и должны быть все (равно как все могут и должны иметь и право голоса ), и в этом–то и заключается настоящая соборность.
Если власть решать, т. е. конечная ответственность, и в самом деле принадлежит священнику, то на пути к своему решению, как истинно церковному, он нуждается в помощи всего церковного народа, ибо его власть есть власть выражать разум Церкви. Разум Церкви — это «ум Христов» в нас, наш разум во Христе; это послушание свободных чад, а не рабов, — послушание, основанное на ведении, разумении, причастности, а не на слепом подчинении. Истинно же свободными и истинно послушными делает нас ведение Истины. Отсюда ясно, что приходский совет в должном его понимании — не комитет, куда избираются практически мыслящие «люди дела» для заведования материальными нуждами прихода, но собор священника, являющий себя таковым во всех аспектах церковной жизни.
И в самом деле, хорошо бы иметь особый чин поставления приходских старейшин для участия в таком совете, — чин, выражающий и подчеркивающий духовные измерения этого служения; живо ощущается и нужда в особых семинарах и курсах, готовящих наиболее деятельных мирян к уразумению тайны Церкви… Но все это останется несбыточной мечтой, пока духовенство само способствует секуляризации мирян, ограничивая их инициативу в церковной жизни финансами и приращением капитала и игнорируя православное учение о laos tou Theou — народе Божием. И пока соборное начало не восстановлено на приходском уровне, лишены смысла и силы все остальные его выражения.
7
Из всех уровней церковного управления самым «номинальным» сегодня представляется епархиальный. Он низведен до некоторого средостения между реальностью прихода и реальностью надъепархиальной власти — патриарха, Синода и т. п., и, однако, основная власть в Церкви — власть епископа — должна выражать и осуществлять себя именно на епархиальном уровне. Отсюда и двойная проблема отношений между епархией и приходом и их места в более обширной группе Церквей.
Мы уже выяснили, что приход усвоил многие характерные черты ранней «епископальной» Церкви и фактически являет собой реальную форму поместной Церкви. Но весьма примечательно, что численный рост церковных общин по мере христианизации Римской империи не сопровождался соответствующим территориальным умножением служения епископа — основного, как известно, служения поместной Церкви, которое оставалось привязанным к главным Церквам
[13]. Попытка ввести в Церкви институт так называемых
хорепископов, или сельских епископов, оказалась неудачной. Это радикальное отклонение от первоначальной структуры поместной Церкви обычно объясняют подчинением церковной жизни принципам светского управления, т. е. несомненным падением ранней экклезиологии.
Но такое объяснение нужно признать по меньшей мере односторонним. И служение епископа, и его место во всей жизни Церкви было слишком видным и слишком важным, чтобы с такой легкостью приноровиться к нецерковным формам управления. Причину следует искать в самой Церкви, в ее собственной логике, по которой она предпочла размещение Церкви по приходам умножению епископов. Выяснение этой причины позволит правильно понять взаимоотношения епархии и прихода в нашей сегодняшней ситуации.
Кажется, все до единого историки, писавшие об изменениях в церковной структуре после обращения Константина, проглядели один очень важный «социологический» фактор. Хорошо известно, что на протяжении первых трех веков Церковь оставалась почти исключительно городским феноменом, да и распространение христианства началось с крупнейших (впоследствии митрополичьих) центров греко–римского мира. Иными словами, поместная Церковь уже в самой изначальной ее форме не соответствовала ни одной ранее известной органической, т. е. натуральной общности, но была ecclesia — собранием людей разных жизненных устоев и социального положения. Это подтверждают все ранние источники, начиная с посланий апостола Павла. Так, Церковь была в Риме, но она не являлась при этом церковью Рима.
Отсюда следует также, что ранняя «поместная Церковь», не отождествлявшая себя ни с одним классом или группой, ни с одной сферой или образом жизни, обладала природной кафоличностыо — тем всеобъемлющим свойством, в силу которого она, свободная от всяких «органических связей с миром сим и одновременно открытая всем, могла быть законной представительницей всей его полноты. С этой точки зрения «обращение» Империи означало постепенное отождествление каждой поместной Церкви с натуральной общностью, с «сообществом», нашедшим в Церкви религиозное выражение и санкцию своего существования.
Но натуральная местная общность не может быть истинно кафоличной, ибо она по самой сути своей эгоцентрична и ограничена локальными интересами и нуждами. Она онтологически «самостна» (эгоистична), и это особенно верно по отношению к сельским общинам. Дело в том, что начиная с IV столетия Церковь сталкивается с угрозой «натурализации», т. е. полного слияния с естественной общностью и утраты кафоличности. Единственным противодействием этой угрозе было включение локальных общин в более обширную церковную структуру, препятствующее полному растворению их в местной жизни, с ее неизбежной ограниченностью и эгоизмом. Усвоение Церковью епархиальной структуры, где епископ остается в «митрополии», а священник превращается в главу прихода, следует считать не столько приспособлением к административной структуре, сколько реакцией церковного организма на опасность поглощения его натуральным сообществом.
Что было истинно много веков назад, остается истинным mutatis mutandis и сегодня. Изменились социальные условия и структуры, но приход по–прежнему в решающей степени определен его окружением и потому ограничен в своей кафоличности. Его жизнь, возможности и ресурсы по необходимости зависят от наличной ситуации, преодолеть которую своими силами он не может, да, вероятно, и не должен. По своему облику он может быть и приходом среднего класса , и рабочим , и миссионерским, и пригородным . И если в идеале ни одна из этих характеристик не должна всецело определять приходскую жизнь, то нельзя и пренебрегать ими. Вот почему приход именно у епархии заимствует кафоличность, т. е. постоянный стимул преодолевать себя как замкнутую и самодостаточную общину, отождествлять себя не только с собственным народом и его религиозными потребностями , но с Церковью и ее вечными «нуждами».
Кафоличность, — это тождество каждой Церкви с Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью; быть кафоличнои для каждой общины означает «пребывать в согласии с целым», т. е. жить не только вместе со всеми другими общинами, но еще и ради той конечной цели, которая превосходит все местные нужды, всякую локальную ситуативность и ограниченность, ибо цель эта — не что иное, как Царство Божие.
Носителем же, органом и служителем кафоличности является епископ. Его харизма и долг — давать Церкви направление и цель, призывать каждый приход, порознь и вместе, к исполнению себя в странническом шествии к Царству Божию, т. е. созидать Церковь. Таким образом, епархия — это приходы вкупе, соединенные в епископе, который через свое епископство — попечение, назидание, устроение — преобразует их отдельное существование в единую жизнь, истинную жизнь Церкви.
У отдельного же прихода для полной кафоличности нет ни надлежащих ресурсов, ни внутреннего импульса. Достижение ее возможно лишь вместе с другими такими же общинами, сообща преодолевшими свою естественную ограниченность. Она обретается в «кафолической структуре» епархии, претворяющей отдельность каждого прихода в общую жизнь, которая есть согласие, общение и единство цели.
Но и сама епархия нуждается опять–таки в восстановлении соборного начала. Если приход по недостатку соборности долгое время был просто «культовым» институтом, то епархия, определяемая лишь в понятиях «централизованного управления», стала восприниматься как обычная бюрократическая инстанция под руководством епископа — главы не столько Церкви, сколько разного рода административных органов. Чтобы быть живым центром для всех приходов, настоящим инструментом их единства и общей жизни, епископ должен находиться в соборных отношениях с ними, и осуществить это нужно через совет епископа, т. е. пресвитериум.
Священник являет собой органическую связь между епископом и приходом, и не только в понятиях «субординации и делегирования власти , но именно в смысле «соборного единства». Священники вкупе с епископом суть живой образ епархии как Церкви, ибо в каждом священнике весь приход поистине «представлен», т. е. явлен как наличный; единство же епископа и его священников представляет (т. е. являет как наличную) кафоличность Церкви. Итак, необходимо восстановить пресвитериум, т. д. корпоративное единение священников с епископом, дополняющее полноценные отношения епископа с каждым из них в отдельности. Вот единственно органичный епархиальный совет, — органичный ввиду его укорененности в самой природе Церкви. Здесь не только обсуждаются все дела епархии, но вырабатывается и получает утверждение само направление церковной жизни. И решения епископа здесь уже не «директивы к исполнению», но органичные решения самой Церкви. Современные средства сообщения, весь нынешний способ жизни вполне благоприятствуют регулярным заседаниям пресвитериума с епископом — не менее трех–четырех раз в год. Это сообщит епархии то измерение, которого так недостает ей сегодня. Соборность же прихода найдет свое органическое исполнение в соборности епархии.
8
И наконец, соборность Церкви на сверхьепархиальном уровне — на уровне митрополичьего округа (или области), автокефальной Церкви и Церкви Вселенской — выражается и исполняется в соборе епископов.
Церкви достигают единства и осуществляют себя как Единую Церковь в соборе и через собор епископов. Episcopatus unus est (епископ един), и высшая власть в Церкви принадлежит епископам. Эта истина не требует обоснования, ибо подтверждается всем Преданием. В свое время мы уже обсуждали структуру и значение епископской соборности
[14], и возвращаться к этой дискуссии нет нужды. Единственный вопрос, на котором следовало бы в этой связи остановиться, касается современной тенденции включать священников и мирян в «высшую власть Церкви», делая высшим органом этой «власти» не епископские соборы, а соборы епископов, священников и мирян.
Главная опасность указанной тенденции в том, что она, подрывая и затемняя иерархический принцип, подрывает тем самым и подлинную соборность Церкви. Если иерархия, как мы пытались показать, есть собственно форма и условие соборности, то именно епископам и подобает выражать всю жизнь Церкви, быть настоящими представителями ее полноты. Нынешняя же структура наших соборов оставляет впечатление, что у каждого «чина» в Церкви — свои особые интересы, поэтому интересы мирян, к примеру, существенно отличны от интересов духовенства, а то и прямо противоположны им. Клирики стали представителями клириков, миряне представителями мирян. Но в таком случае соборность Церкви просто исчезает и заменяется «балансом сил», который весьма часто оборачивается крахом и для «клира», и для «мира». Идеальная же сущность и назначение клира — в том, чтобы выражать и исполнять реальные интересы и нужды не «мирян» как антиподов клириков, но laos'a — народа Божия, Церкви Христовой.
Ни у кого в Церкви не должно быть иных интересов или нужд, кроме интересов и нужд самой Церкви, ибо жизнь Церкви — в том, чтобы соединять нас всех в благодати и Истине. Если истинная соборность, о которой мы говорим, будет восстановлена на каждом уровне Церкви, если каждый член Церкви будет в полной мере участвовать в ее жизни соответственно своему призванию, духовным дарам и месту в ней — другими словами, если Церковь во всех своих проявлениях вполне раскроется как истинный Собор, то попросту не будет нужды ни в каких иных выражениях этого Собора, кроме высшего его выражения — собора епископов, т. е. истинного образа и полноты Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви.
Это не значит, что собор епископов должен быть тайным, закрытым совещанием «администраторов». Он может и должен быть открыт участию, совету, живому интересу и истолкованию всей Церкви. «Общественное мнение», в его подлинно христианском воплощении проявляющееся как деятельная забота о Церкви, как заинтересованность в ее жизни, как свободное обсуждение ее проблем, как инициатива, — это иная и наиболее желанная форма «соборности». И стремление нашей иерархии из страха перед ним действовать по принципу faits accomplis (совершившегося факта), без всякого предварительного обсуждения церковных проблем с телом Церкви, обнаруживает весьма опасное непонимание истинной природы власти в ecclesia. Церковь иерархична, потому что она соборна. Она исполняет себя как собор в силу ее иерархичности. Эта основополагающая истина должна быть отправной точкой подлинно православного богословия соборов.
Богослужение и таинства
К вопросу о литургической практике (письмо моему епископу)
I
Ваше Блаженство! С большим вниманием и интересом я прочел инструкцию по литургической практике, которую Вы адресовали духовенству епархии Нью–Йорка и Нью–Джерси 30 ноября 1972 г.
Я вполне понимаю и разделяю Вашу обеспокоенность положением в литургической практике, которое, несомненно, чрезвычайно серьезно и требует исправления и руководства со стороны нашего епископата. Именно из–за серьезности, глубины и широты проблем, бросающих нам вызов сегодня, я осмеливаюсь почтительно предоставить Вам некоторые мои мысли, вызванные этой инструкцией. Посвятив большую часть моей жизни изучению и преподаванию литургики, я могу уверить Вас, Ваше Блаженство, что у меня нет иной цели, кроме попытки внести ясность в вопросы, которые может вызвать эта инструкция, и что я делаю это в духе полного и безусловного повиновения долгу епископа «верно преподавать слово» божественной Истины.
II
Вопросы, поднятые инструкцией, кажутся мне достаточно серьезными. Прежде всего, я должен признаться Вам, что меня настораживает то, что, по–видимому, составляет основную исходную предпосылку и на что ссылается весь документ, а именно, что самоочевидная, естественная и, по–видимому, абсолютная норма для нашей литургической жизни и практики находится исключительно в дореволюционной Российской Церкви или, ссылаясь на инструкцию, «в типовых богослужебных книгах, которые регулярно издавались Святейшим Синодом Российской Православной Церкви».
Меня также настораживает противоречие между этим утверждением и документально обоснованным фактом, что сама Российская Церковь голосом ее собственного епископата находила литургическую ситуацию в дореволюционной России чрезвычайно неудовлетворительной и требующей существенных поправок и изменений. Чтобы представить себе степень этой неудовлетворенности и поистине пастырскую озабоченность русских епископов, достаточно прочесть «Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе», составленные при подготовке к Великому Собору Российской Церкви и опубликованные в 1906 г. Российским Святейшим Синодом (т. I, с. 548; т. II, с. 562). Я хочу подчеркнуть, что эти доклады были написаны не представителями академических групп или направлений, а консервативными и занимающимися активной пастырской работой епископами, которые ясно видели растущий номинализм и неразбериху, происходящие как раз из «типовых книг» и Типикона, не пересматривавшихся с 1682 года.
«Богослужение, пишет, например, епископ Серафим Полоцкий, совершается духовенством, а народ, если он и молится в это время, то его молитва является частною, а не общественною, потому что она обыкновенно имеет очень мало связи и внутренней и внешней с тем, что делается в это время в церкви» (I, с. 176). Епископы, которые пишут о литургии, почти в один голос просят дать приходской типикон, отличающийся от монастырского, ибо очевидная невозможность следовать последнему приводит к тому, что, по словам епископа Минского Михаила, «49 000 приходов отправляют нестандартные службы» (I, 40). Они просят укоротить службы, «которые стали непонятны, а потому скучны», пересмотреть рубрики и сделать новые переводы с церковнославянского языка на русский. Они видят нужду в некоторых изменениях самой Божественной литургии. Именно апостол американского православия, будущий Патриарх Тихон, тогда архиепископ Алеутский и Северо–Американский, предложил «сократить часто повторяемые ектении» и «читать гласно некоторые тайные молитвы» (I, 537). Его поддержали архиепископ Варшавский Иероним («следует без всяких вопросов отменить ектении об оглашенных», II, 287), епископ Константин Самарский (I, 441) и другие. «Необходимо пересмотреть церковный устав, пишет епископ Георгий Астраханский*. Эта священная книга, предназначенная регулировать формы и порядок церковного богослужения, не подвергается никаким изменениям с 1682 г., и за этот продолжительный срок неподвижности успела приобрести в глазах ревнителей благочестия характер чего–то вечного, догматически неизменного; но именно вследствие этого устав перестал быть регулятором церковной жизни… Необходимо реформировать устав и приспособить его к законным запросам верующего мирянина, чтобы устав сделался понятным и удобоисполнимым и в современных условиях жизни. Тогда устав может сделаться снова жизненным руководителем церковной жизни… Реформа устава находится в полном согласии с предыдущею деятельностью Церкви в этом направлении» (I, 324). Очевидно, что русские епископы видят в номинальном, непонятном и часто несовершенном богослужении причину отчуждения народа от Церкви, растущего успеха сект и прогрессирующей дехристианизации русского общества.
Российский Собор 1917–1918 гг., при подготовке к которому были написаны эти доклады, был прерван прежде, чем смог разрешить литургические вопросы. Однако позволительно думать, что одной из причин массового отступничества русских людей от Церкви было именно состояние богослужения, и эту причину так ясно выявили задолго до революции епископы — пастыри Русской Церкви. И если сейчас среди некоторых русских, глубоко раненых революционной катастрофой, существует тенденция почти фанатически идеализировать дореволюционное состояние Российской Церкви, включая ее литургическую жизнь, для нас нет причин принимать их основанный на эмоциях отказ от исторической очевидности, их слепой консерватизм и полное невежество. К ним применимы слова, написанные еще в 1864 г. одним из первых русских литургистов архиепископом Филаретом Черниговским: «Для этих людей известные им уставы — исконный и неподвижный устав. От чего это так? От того, что им вовсе неизвестна история церковной жизни, а вместе с тем занятые собою они дорожат своим. По историческим исследованиям ясно и несомненно, что св. Церковь относительно обрядов богослужения действовала с разумною свободою: принимала новые порядки служения по их благотворному действию на людей и потом заменяла их другими, когда видела, что прежние порядки не совсем полезны и нужны другие. — Она, как и в других случаях, не дозволяла быть судьями–властителями тем, которым порядок апостольский указывал быть учениками, а не учителями: но не дозволяла и себе самой сна беспробудного, а зорко смотрела за нуждами времени и постоянными нуждами души»*.
Нам скорее следовало бы не забывать и серьезно обдумывать бурную историю Русской Церкви, на которую, при всех ее удивительных духовных достоинствах и примерах непревзойденной святости, периодически обрушивалось бедствие острых литургических проблем или, точнее, неспособности разрешить их из–за отсутствия богословских знаний и исторической перспективы. Это приводило к тому, что Русская Церковь слишком часто оказывалась неспособной увидеть разницу между подлинной традицией и всякого рода обычаями и даже отклонениями, между существенным и исторически случайным, важным и побочным. Нам следовало бы, например, помнить о св. Максиме Греке, который, будучи приглашенным в XVI в. исправлять «злоупотребления», почти всю свою жизнь провел в тюрьме, потому что он осмелился поставить вопрос об ошибках и недостатках в «типовых» текстах того времени. Есть также не менее показательный случай со св. архимандритом [Троице–Сергиевой Лавры] Дионисием, который в 1618 г. был осужден церковным Собором, бит, подвергнут пыткам и брошен в тюрьму за исправление наиболее очевидных ошибок в службе своего времени. И, наконец, был раскол, в котором удивительное невежество и едва ли не полное отсутствие критериев с обеих сторон сыграли такую воистину роковую роль.
III
Имея все это в виду, я думаю, что не только неправильно, но просто опасно разрешать наши литургические проблемы ссылкой на недавнее прошлое, будь то прошлое России, Греции, Сербии, Румынии и т. д. Эти проблемы появились не в Америке, хотя здесь они, конечно, приобрели иные размеры и иную степень остроты. Их существование было признано в России и признается сейчас фактически всеми православными церквами. Но что огорчает меня в инструкции более всего, так это полное отсутствие в ней подобного признания или представления о том, что существуют проблемы, которые нельзя решить с помощью указов или инструкций. (Они никогда не разрешали никаких реальных проблем и не похоже, что разрешат их когда–либо в будущем.) Я совершенно искренне огорчен самим тоном инструкции, который, кажется, подразумевает, что если бы не было нескольких непослушных священников, «рассматривающих свои собственные суждения как стоящие выше… традиций нашей Церкви», проблемы бы вовсе не существовало. Я особенно сожалею об этом ввиду того факта, что именно в выдающейся литургической школе России XIX и XX вв. начала формулироваться как сама литургическая проблема, так и пути и критерии ее решения, и что появление самой литургической школы было вызвано возродившимся интересом к подлинной православной традиции.
Инструкция написана так (и, по моему мнению, это важно и в то же время печально), словно мы не наследовали от Русской Церкви и русского богословия повсюду известные издания Типиков и Евхологиев А.А. Дмитриевского, фундаментальные исследования Типикона и его развития М.Н. Скабаллановича и И.Д. Мансветова; исследования литургии св. Иоанна Златоуста И.А. Карабинова, Н.Ф. Красносельцева и А.В. Петровского; литургии св. Василия Великого М.И. Орлова, литургической гимнографии архиеп. Филарета Черниговского; проскомидии С.М. Муретова; тайных молитв А.П. Голубцова и т. д. Как будто мы не знаем ныне о сложностях, а нередко и об отклонениях в нашем литургическом развитии, о достойном сожаления влиянии Запада на православное богослужение, богословие и благочестие, о дефектах богословия таинств, находящегося преимущественно под западным влиянием, об отчуждении мирян от таинств, выливающемся в чисто легалистский подход к церковной жизни в наших приходах, о катастрофических последствиях , особенно в Америке, униатства, о том, наконец, очевидном факте, что наша Церковь больна и в литургическом, и в духовном смысле и что болезнь эта никак не может быть излечена одними лишь юридическими рецептами.
IV
Ваше Блаженство, нужно ли мне доказывать тот факт, что наша Церковь сегодня находится в плачевном положении? Что ее финансовое банкротство только выявляет и отражает ее духовное состояние состояние апатии и деморализации, недоверия и мелочного соперничества, ограниченности и провинциализма, ползучего секуляризма и дикого невежества в самых основах нашей веры? Должен ли я информировать Вас или кого–либо еще из наших епископов о том, какие непреодолимые трудности духовные, литургические, пастырские встречает ежедневно каждый священник, когда он пытается быть настоящим пастырем своей паствы, чтобы угождать Богу, а не людям? Не случайно многие из них проходят через глубокий кризис доверия к иерархии, некоторые постепенно погружаются в почти циничное безразличие, других начинает привлекать духовный тупик и сомнительная эмоциональность пятидесятничества.
В этой мрачной ситуации здесь и там появляются некоторые признаки надежды, обновления и нового вдохновения. Одним из самых обнадеживающих, конечно, является возврат к литургической жизни как к средоточию приходской жизни, как к средству возвращения ей одухотворенности и жизненности. Снова в центре приходской жизни начинают стоять Евхаристия, таинства и литургические циклы. В Церкви снова начинают видеть Тело Христово. Этот процесс неизбежно поднимает новые вопросы, создает новые трудности. Ошибки, несомненно, совершаются, неверные или сомнительные шаги делаются. Но, по крайней мере, их мотивация, цели и намерения являются пастырскими, имеющими целью бесценные человеческие души и их общение с Богом. В таких приходах от установлений поместной Церкви не отклоняются, все финансовые обязательства принимаются с удовольствием, все церковные проекты национальные, епархиальные, благотворительные, образовательные, миссионерские поддерживаются с радостью и энтузиазмом, устанавливаются и поддерживаются новые отношения с епископом, отношения доверия и истинной любви. Нетрудно было бы показать, что это обновление имеет корни в подлинном интересе к настоящей православной традиции, к Священному писанию, к отцам церкви и к литургии, но более всего его корни в духовной заинтересованности, в религиозной, а не просто «этнической» или «социальной» ориентации Церкви.
Нет надобности говорить, что объектами инструкции являются только такие приходы и священники, которые по меньшей мере «пытаются что–то сделать», в то время как этот документ не только не причинит никакого беспокойства, а напротив успокоит и создаст ощущение собственной праведности в тех приходах, где занавес вовремя задергивается, все ектении должным образом поются, где вечерня и утреня не создают проблем просто потому, что их или не служат, или служат в пустых церквах, где прихожане грозятся уйти и иногда действительно уходят под другую «юрисдикцию» всякий раз, когда церковь требует от них выполнять их финансовые обязанности или принять установления, признанные всею Церковью. Мы еще ни разу не видели, как наказывают или хотя бы осуждают какое–либо действительное злоупотребление — моральное, каноническое или литургическое. Наша практика разводов и повторных браков находится в открытом противоречии с канонами; некоторые способы сбора средств в приходах более аморальны, чем в нерелигиозных группах; посягательство секуляризма, моральный релятивизм и цинизм ужасны, но здесь, увы, терпение, понимание и «икономия», кажется, действительно безграничны.
V
Говоря все это, я никоим образом не хочу сказать, что священнику достаточно иметь пастырское усердие и желание лучшего для того, чтобы он мог делать все, что пожелает: менять службы, вводить новые обычаи, восстанавливать старые и т. д. В Церкви нет места анархии, и, конечно, священный долг епископата руководить, направлять, вести и решать в этой, как и в любой другой, области церковной жизни. Но на чем я особенно настаиваю и о чем прошу — это о том, чтобы в этой, наиболее деликатной области, которая во многом определяет все другие стороны и самый дух прихода, необходимые решения принимались бы на основе серьезного подхода и оценки всех факторов и их значения. Будучи лично невиновным в каком–либо из «злоупотреблений», перечисленных в инструкции, я могу свободно утверждать, что почти за каждым из них кроется проблема, которая не может быть сведена просто к непослушанию или «злоупотреблению» в буквальном смысле слова. Не все, что было сделано за сто лет и к чему люди привыкли, обязательно правильно в свете истинной православной литургической традиции. В то же время что–то, что кажется «новым» и даже «революционным», может оказаться очень нужным возвращением к подлинной традиции. И хотя окончательное решение остается за епископатом, должно пройти определенное время, необходимое для поиска этого решения, для попытки разобраться, что хорошо и что плохо, для изучения вопроса и консультаций, для той благословенной соборности, о которой православные говорят так много и которую практикуют так мало.
Здесь я хотел бы добавить, что постоянная и популярная ссылка на единообразие как на решающий аргумент при обсуждении литургической практики как бесполезна, так и вредна. Полного литургического единообразия никогда в Церкви не существовало, даже в качестве идеала, потому что Церковь никогда не считала единообразие условием и выражением ее единства. Ее литургическое единство всегда состояло в общей структуре, или ordo, и никогда в деталях и особенностях служения. Даже сейчас Православная Церковь не имеет одного единственного Типикона, напротив, в практике православных церквей существует большое разнообразие его вариантов. Такое разнообразие было и внутри национальной церкви: так, например, в России были различия между Москвой и Киевом, между различными монастырскими традициями и т. д. Это просто опасно, духовно и пастырски, заставлять наших людей верить, что единообразие всех действий является пробным камнем и сущностью Православия; опасно, потому что они уже, кажется, и так имеют нездоровую склонность увлекаться внешней стороной в ущерб смыслу. Это опасно также из–за большого литургического разнообразия в Америке, где тем или иным образом представлены все традиции. Если Православная Церковь в Америке должна быть символом православного единства в этой стране, этого единства никогда не достигнуть путем навязывания всем одной традиции, будь она русская, греческая, сербская, румынская или любая другая. Его можно достигнуть только путем поиска, с одной стороны, того, что действительно универсально в православной традиции, с другой стороны, того, что будет воплощать эту традицию именно в нашей ситуации. Даже тогда, я уверен, останется неизбежное и здоровое разнообразие, ибо, как показывает история церкви, оно исчезает только тогда, когда Церковь начинает умирать, а ее богослужение перестает быть жизнью и источником жизни, и его постепенно охватывает rigor mortis (оцепенение смерти).
VI
Если мы сейчас кратко проанализируем сами предписания, мы не сможем не увидеть, что фактически все они не имеют отношения к «злоупотреблениям», т. е. к произвольным и анархическим нововведениям, но связаны как раз с теми сторонами службы, где существуют реальные проблемы и где сами отсылки к «типовым книгам» или существующей практике ничего не решают.
1. На Божественной Литургии:
А. Не следует опускать две малые ектении между антифонами.
Очевидно, что если эти две ектении опускаются только ради того, чтобы укоротить службу, это не может быть оправдано. Но если причина в том, чтобы позволить священнику прочесть прекрасные и глубокие общие молитвы антифонов, читаемые сейчас тайно, то это может быть шагом в правильном направлении. Ясно, что первоначальная форма была следующей: «приглашение к молитве» («Господу помолимся»), чтение молитвы и возглас. К слову сказать, было бы интересно узнать, сколько священников, произнося все ектении, совершенно опускают чтение тайных молитв, в том числе входящих в евхаристический канон. Это, я полагаю, куда большее «злоупотребление», чем попытка вернуться к истинному значению части литургии, совершаемой перед входом.
Б. Не следует опускать ектении между чтением Евангелия и Херувимской песнью, т. е. сугубую ектению, ектению об оглашаемых, а также первую и вторую ектению верных.
Пока сугубая ектения будет de facto повторением великой ектении, останется искушение опустить ее. В литургических рукописях (см. «Евхологии», опубликованные А. Дмитриевским (Киев, 1901 г.)) нет большего разнообразия, чем между сугубыми ектениями. Причина ясна: сугубая ектения, в противоположность великой, должна отражать нужды и особые прошения данной церкви или прихода. Проблема здесь в том, чтобы заново раскрыть ее настоящее значение и функцию внутри литургии.
Опускание ектении об оглашаемых предлагалось, как мы видели, несколькими русскими епископами. Греки опускают ее. Лично я предложил бы опускать ее только в определенное время — Пасха, Рождество, Богоявление — или во время великих праздников. И опять проблема здесь в том, чтобы донести ее значение до людей.
Две ектении верных ставят те же проблемы, что и малые ектении между антифонами. Пока они просто «покрывают» чтение двух молитв верных, действительно ничего не добавляют к литургии и делают всю эту ее часть непонятной, особенно в отсутствие дьякона. Если бы практика чтения вслух молитв, которые, как у Иоанна Златоуста, так и у Василия Великого, полны глубокого смысла и красоты, была введена снова, общее приготовление Церкви к принесению Жертвы приобрело бы свое полное значение.
В. Не следует опускать ектении после Великого входа и перед молитвой Господней.
Проблема здесь в повторении в пределах каких–то пятнадцати минут двух одинаковых ектений. Основываясь на древнейшей рукописи, знаменитом Кодексе Барберини, содержащем полный чин литургий св. Василия Великого и св. Иоанна Златоуста, я предложил бы опустить первую ектению, так как она отсутствует в этом тексте, в то время как вторая, после анафоры, там присутствует (см. «Собрание древних литургий», т. II, Санкт–Петербург, 1875 , с. 64 и 76 — для св. Василия; с. 124 и 129 — для св. Иоанна Златоуста). Первая ектения только затемняет органический переход литургии от жертвоприношения к анафоре. ( По Кодексу Барберини молитва жертвоприношения читается после поставления Святых Даров на престол в конце Херувимской песни. Народ: «Аминь». Священник: «Мир всем». Народ: «И духу твоему», и после целования мира дьякон: «Двери, двери». Народ: «Верую…» Дьякон: «Станем добре…» И остальная часть анафоры.) Вторая же ектения находится в неразрывной связи с просительными молитвами и ведет к молитве перед «Отче наш».
Г. Первый антифон (Пс 102: 3) должен состоять, по меньшей мере, из стихов 1, 2, 3, 9, 1, заканчиваясь словами «Благослови, душе моя, Господа».
Д. Второй антифон (Пс 145: 6) должен состоять, по меньшей мере, из стихов 1, 2, 3, 10.
Какая «типовая» книга, какой Типикон предписывает это? История происхождения и развития антифонов , да и всей части литургии до входа, чрезвычайно сложна и неоднозначна ( см., например: П.Н. Трембелас. Три литургии. Афины, 1935, с. 27 и далее (работа на греческом языке), и особенно: Ж. Матеос. Историческое развитие литургии св. Иоанна Златоуста. I. От начального благословения до Трисвятого. «Христианство Ближнего Востока», 1965, 15, с. 333–351). Но даже если взять современную российскую практику, то и она предписывает псалмы, а не стихи (см. Архимандрит Киприан. Евхаристия [Париж, 1947], с. 163–164), а также разные антифоны для воскресных дней, определенных праздников и дней недели. В инструкции эти предписания даже не упоминаются. Может быть нужно объяснять это тем фактом, что Бахметьев положил на музыку лишь несколько стихов, а не весь псалом?
Е. Тропари и кондаки нужно петь в соответствии с правилом.
Я хотел бы найти хоть один приход нашей Церкви, где тропари и кондаки поются «в соответствии с правилом». Следовательно, либо это правило нужно было бы подробно объяснить либо допустить его применение в соответствии с местными возможностями. Для этой части богослужения правила сильно меняются от одной церкви к другой и от одного периода времени к другому. Так, Студийский Устав вообще ничего не знает об этом пении. Современная греческая практика отличается от практики Русской Церкви (см.: Киприан, с. 172; Трембелас с. 39–40). Таким образом, нет причины, по которой наша Церковь не могла бы составить в этой области простое и удобное руководство.
2. На Вечерне:
А. Не следует вводить в вечернюю службу элементы утрени или любой другой службы во избежание изменения или искажения ее строя.
Б. Следует соблюдать полный чин вечерни без пропуска ектений, соответствующих стихов и прочих элементов.
За двадцать лет службы в Америке я видел такое невероятное разнообразие вечерних служб, что предписание соблюдать «полный чин» кажется мне почти шуткой, поскольку сразу возникает вопрос, что такое «полный чин» вечерни? Относится ли, например, к «прочим элементам» пение или чтение псалмов 141, 142, 130 и 117 полностью или в сокращенном виде (как это делается сейчас), т. е. нескольких стихов, следующих за «Господи, воззвах»? Как быть с кафизмами? Как быть с различными комбинациями Октоиха и Минеи, зависящими от указаний Типикона? Не ясно ли, что здесь тоже есть трудности и что наша приходская практика (в тех немногих приходах, где вообще служат вечерню) нуждается в чем–то большем, чем общие ссылки на «полный чин»?
Что имеется в виду под элементами утрени, введенными в вечерню? Это в инструкции не поясняется, и просто неизвестно, что под этим подразумевается. Если, как я это видел в нескольких приходах, после Великой вечерни, накануне некоторых больших праздников, следуют праздничные элементы утрени (за исключением специфически «утренних элементов»), то это мне кажется разумным путем для того, чтобы спасти хоть что–то из самой сути праздника, особенно ввиду отсутствия во многих приходах опытных регентов и псаломщиков, когда пение прихожан — возможно, хорошая вещь! — становится необходимостью. Это, конечно, один из возможных путей предотвратить быстрое исчезновение празднования канунов и сведение даже Великих праздников к одной божественной литургии. Таким образом, эту практику обязательно нужно обсуждать и регулировать, но ни в коем случае не отбраковывать как «искажение». Что инструкция, кажется, полностью игнорирует, так это те условия, в которых по крайней мере некоторые из наших священников борются за восстановление праздничных циклов, самой литургической реальности праздника.
3. На Утрене:
А. Следует читать полностью шесть псалмов (не три).
Мне кажется, что, напротив, если утреня должна быть сокращена по некоторым веским причинам, сокращение шестопсалмия, говоря литургически, является к тому разумным путем. Шестопсалмие явно состоит из двух триад псалмов: 3, 37, 62 и 87, 102, 142. Первая триада, или по крайней мере псалмы 3 и 62, — очень древняя и принадлежит к раннему ядру утренних церковных служб, как бы ни усложнялись они в своем развитии. Что касается второй триады, то псалмы 87, 102 и 142 «не имеют специальной связи ни с полночью, ни с утром. Кроме того, то, что священник читает утренние молитвы во время чтения этих псалмов, показывает, что они являются дополнением. Эти молитвы, или хотя бы одна из них, читаемые в этом месте, раньше должны были произноситься вслух» (см. Ж. Матеос. Некоторые проблемы византийской утрени. «Христианство Ближнего Востока, 1961, 11, с. 7 (работа на французском языке); см. также: М. Скабалланович. Толковый Типикон. Киев, 1913, Т. II, с. 199–201; Ж.М.Хансенс. Природа и происхождение утрени. Рим, 1952. (работа на французском языке)).
Б. По воскресеньям следует произносить по крайней мере один полный канон, а именно воскресный (ирмосы поются, другие тропари читаются).
Но представьте, что воскресенье оказывается внутри восьмидневного празднества большого праздника, который из–за того что он приходится на будний день был практически пропущен преобладающим большинством прихожан. Не будет ли более по–пастырски, более «литургически» пропеть «по крайней мере» канон этого праздника, чем канон воскресения? В общем, канон (который, как все знают, был сначала музыкальной композицией и «чтение» которого в настоящее время является наиболее непонятной частью утрени) должен быть предметом усиленного изучения и переосмысления, если мы хотим вообще сохранить его в нашем приходском богослужении (он практически исчез из употребления во многих других Православных Церквах). Существующие рубрики, предписывая два или три канона на каждой утрене, просто не применяются. И лучше было бы решить, какие каноны должны быть использованы (больших праздников, Триоди и т. д.) в приходской практике и какие оставить для употребления в монастырях.
В. Полный чин утрени должен соблюдаться без пропуска ектений, соответствующих стихов или других элементов.
Что касается утрени, то я бы повторил те замечания, которые я сделал относительно вечерни. Включают ли «другие элементы» кафизмы, 50–й псалом, степенные антифоны, которые так часто опускают в российской практике? Как быть со стихирами «на хвалитех» в конце утрени? С некоторыми рубриками или катавасией? Почему, например, нужно читать девятую молитву, если нет чтения Евангелия, которому она предшествует? Таким образом, инструкция, чтобы быть действительной, должна предусмотреть создание специальной комиссии, исследовательскую работу, планирование; в противном случае она только усилит путаницу, которая, по отзывам русских епископов, существовала уже десятки, если не сотни лет.
IV. Церкви, в которых нет завесы позади царских врат, должны повесить ее в течение двух недель…
V. Царские врата должны быть закрыты во время следующих трех моментов литургии:
А. Во время ектении об оглашаемых и первой и второй екении верных.
Б. После Великого входа во время просительной ектении.
В. Во время причащения клира.
Г. Завеса должна быть задернута во время Б и В.
Я думаю, что это большая и даже трагическая ошибка абсолютизировать то, что сама Церковь не абсолютизировала, утверждая, что только та или эта практика правильна, а любая другая не правильна. Так, например, ни в одном месте в тексте литургии св. Иоанна Златоуста, как он напечатан в российских «типовых» книгах (передо мной прекрасное Московское Синодальное издание 1904 г.), завеса даже не упоминается. Если бы закрывание царских врат во время (А) и (Б) было действительно органической и существенной частью евхаристической службы, они не оставались бы открытыми, когда служит епископ или, как это принято в российской практике, священник определенного ранга.
Завеса появилась в истории значительно раньше иконостаса, и, конечно, значение ее весьма отличалось от того, которое ей приписывают сегодня, т. е. что определенные действия не должны быть видны верным (см. свт. Симеон Солунский. Писания святых отцов и учителей Церкви, касающиеся объяснения православного богослужения. Санкт–Петербург, 1856, т. II, с. 186–187). Название «царские врата» до сравнительно недавнего времени (см., например, работу того же Симеона) относилось к дверям самой церкви, а не к дверям иконостаса. Как бы ни менялось со временем значение завесы, ясно, что сейчас она просто дублирует иконостас. Лично я убежден, что современная греческая практика, в которой двери совсем не закрываются в течение всей литургии, значительно более верна истинному духу Евхаристии и православного понимания Церкви, чем практика Русской Церкви, которая, кажется, постоянно подчеркивает разделение между народом Божьим и клиром.
Именно из этой позднейшей практики выросли реальные злоупотребления: пение во время причащения клира так называемых «концертов», перенос проповеди с ее первоначального места после чтения Евангелия на время после причастна («киноника»), «чтобы занять внимание верующих», как с иронией пишет русский епископ, и даже изменение самого порядка литургии (так, например, в российских «типовых» книгах молитва благодарения по получении Святых Даров была просто перенесена со своего первоначального места после ектении «Прости! Приимше… “ также на время после причащения одного только клира). То, что здесь происходит неразбериха, видно и из рубрик, которые утверждают, что дьякон, стоящий во время Возвышения Даров вне алтаря, когда «видит, что священник берет Святой Хлеб», должен сказать: «Вонмем!» Как, однако, дьякон должен увидеть это, если врата закрыты и завеса задернута, как это делается сейчас в России? Более того, в России царские врата бывают закрыты во время всей анафоры, в то время как в Америке, (благодарение Богу) мы открываем их по крайней мере на «Верую».
Надо надеяться, что, когда мы снова обретем православное понимание божественной литургии как общего моления, общего приношения, общего благодарения и общего причащения, т. е. когда мы вернемся от наших новых и сомнительных обычаев к подлинной православной традиции, открывающейся нам в наших литургических текстах и комментариях отцов, будет исправлено прискорбное положение дел, преобладающее сегодня, при котором верующие более посетители, чем участники богослужения.
Ваше Блаженство! Этими замечаниями я хочу сказать только одно, что нам крайне необходимо истинное попечение о богослужении, действительное усилие, для того чтобы сделать его снова тем, чем оно должно быть для Церкви, источником ее жизни, откровением и проводником веры, средством ее роста и освящения, центром и исполнением ее единства. Пусть это попечение, как неотложная задача, выполнения которой мы ждем от наших епископов, укореняется в словах Господа: «Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин 6: 63).
Догматический союз
Вступительная лекция в курс истории Византийской Церкви Печатается по: Православная мысль. Париж, 1948. Вып. VI.
Над Византийской Церковью издавна тяготеет обвинение в «цезаропапизме». Западная наука, как римско–католическая, так и внеконфессиональная, категорична в своем утверждении: в Византии Церковь была безоговорочно подчинена василевсу, лишена какой бы то ни было свободы, являлась просто частью государственного «аппарата»
[15]. И даже если теория, законодательство и знали так называемую симфонию, то есть некое теоретическое равноправие и независимость по отношению друг к другу Церкви и государства, на деле норма эта никогда не соблюдалась, и Церковь представляла из себя «официальное христианство, которое, вместо апологетов, мучеников и иерархов, достаточно сильных, чтобы противостоять кесарю, являло только епископов, более или менее низко склоненных к его ногам»
[16]. Да и в теории — разве не высказывались такие авторитетные византийские канонисты, как Вальсамон, Димитрий Хоматин и многие другие, в смысле и принципиального превосходства царской власти над церковной, не делали ли василевса своего рода наместником Христа на земле
[17]? И такое понимание византийской системы отношений Церкви и государства свойственно не одной западной науке, но разделяется и многими русскими учеными и даже представителями православного богословия
[18]. Известный русский византолог Безобразов прямо называет Церковь «больным местом Византийской империи», и, по его словам, «для надлежащей оценки византийской культуры исходить надо не из теории, применение которой представляется сомнительным, а из тех фактов, которыми полна византийская история. А по фактам выходит, что цари устанавливали вероучение по своему усмотрению, вмешивались во все мелочи церковной жизни, стремились распоряжаться епископскими кафедрами и превращали патриарха в покорного чиновника»
[19]. Подобных выписок можно было бы привести очень много. Все они в той или иной мере, но по существу согласно утверждают, что «цезаропапизм» есть основная черта Византии
[20].
Обвинение тяжелое, затрагивающее самый острый, самый болезненный вопрос всей истории Восточной Церкви. И усугубляется оно тем, что речь идет не об отдельных нарушениях нормы, возможных везде и всегда, а о многих веках систематического ее нарушения, узаконенного к тому же, по видимости, самим церковным сознанием. Византийская Церковь обвиняется в некоей экклезиологической ереси, тень которой, в таком случае, неизбежно падает и на все Православие. Во всяком случае, вопрос о византийском цезаропапизме гораздо шире своего узко–исторического объема, ибо в нем заключены, по нашему глубокому убеждению, причины всех противоречий в оценках византинизма, а также и предпосылки для правильного уразумения всего длинного исторического пути Восточной Церкви, вплоть до наших дней.
Ответить на этот вопрос нелегко. И скажем сразу, что мы отнюдь не претендуем — на нескольких страницах — ни дать такого исчерпывающего ответа, ни, тем более, подвергать критике построения упомянутых авторов. Да вряд ли, думается нам, и наступило время для сколько–нибудь полного синтеза византийской истории; в ней все еще, несмотря на ценность произведенной за последние десятилетия работы, остается слишком много неясного и проблематичного. Но как раз в силу этой его проблематичности и столь внушительное единогласие историков о «цезаропапизме», и этот, по внешности, «приговор истории» кажутся нам по меньшей мере преждевременными. И вся наша цель заключается в том, чтобы попытаться указать на те несколько факторов, которые, мы думаем, необходимо принять во внимание при разрешении этого сложного и далеко еще не выясненного — ни церковно, ни научно — вопроса.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Нам кажется, прежде всего, что развитие церковно–государственных отношений в ранней и поздней Византии нельзя понять в его правильной исторической перспективе, если не иметь всегда в виду того основоположного факта, с которого эти отношения начались, то есть гонений. Именно здесь, в этом трехвековом конфликте с империей, которым открывается земная история христианства, был изначала дан и определен характер последовавшего затем примирения; и вот это соотношение между двумя, казалось бы, взаимно исключающими друг друга процессами необходимо напомнить в первую очередь.
Здесь незачем вдаваться во все детали сложного и имеющего длинную историю в науке вопроса о гонениях. В данной связи значение их сводится к следующему. Мы знаем теперь, что гонения были не случайностью и не каким–то трагическим недоразумением, а явлением вполне закономерным, исторически, так сказать, «оправданным». Закономерность эта вытекала из политического, или, вернее, «идеологического», характера римской религии. Государственная религия в империи, в переводе на наш язык, была не столько религией, сколько именно «идеологией», принятие ее зависело не от личной веры или неверия, а было выражением гражданской лояльности, гражданским долгом. И такой «идеологический» характер государственной религии только подчеркивается той религиозной свободой, из которой, казалось бы, столь разительным исключением были преследования христиан. От римского подданного требовалась не вера — верить он мог во что угодно (и ведь большею частью настоящие религиозные потребности находили себе удовлетворение во всевозможных «частных» культах), а подчинение, исполнение обряда, внешнее признание установленного порядка и его с ним солидарности. И поскольку все другие религии допускали это, им не чинилось никаких препятствий и они пользовались полной свободой. Христианство же, бывшее по самой своей природе эксклюзивистичным, не только отвергало все другие религии, но и считало их злом. Оно «искало победы и потому встречало войну» (Aube). И на суде христианина спрашивали не о положительном содержании его веры и не за него осуждали. Те вопли толпы против «безбожников», о которых говорит Тертуллиан, ненависть и презрение к ним греко–римской «элиты» — все это хотя и создавало атмосферу гонения, но не было в узком смысле их причиной. Причина эта была политической, и политическим — состав преступления. Один отказ принять участие в государственном культе делал из христианина государственного преступника. Поэтому империя, оставаясь верной самой себе и своей теократической идеологии, не могла не гнать христиан, потому и гонителями их были не худшие, а лучшие из римских императоров.
С другой стороны, в гонениях открывается и изначальная «норма» отношения Церкви к государству, первичная его оценка христианским сознанием. Христиане никогда не отрицали империю, государство как таковое, не отвергали ни его режима, ни его социальных дефектов. Они, правда, были на первых порах равнодушны ко всякой мирской «активности», но отнюдь не отвергали такой активности принципиально. Когда во II веке апологеты выступили с публичной и литературной защитой своей религии, они неизменно подчеркивали лояльность христиан по отношению к империи, ссылаясь на молитвы Церкви за императора и власть, на скрупулезное исполнение законов. Единственное, на что они не могли пойти, был обязательный культ богов, хотя бы чисто внешнее обрядовое признание божественного достоинства кесаря и всей системы обожествления римской государственности. Вся трагедия заключалась в том, что лояльность империя и христиане понимали по–разному, и между двумя этими пониманиями компромисса быть не могло, ибо христианское требование свободы совести (а к этому ведь сводились, в сущности, все аргументы апологетов) наталкивалось на «тоталитаризм» римской идеологии, для которой всякое непризнание государственной религии вполне логично приравнивалось к политическому преступлению.
Все это давно известно, и мы не повторяли бы этих общих мест, если бы именно в «идеологической» природе столкновения Церкви с государством не были предопределены и сами основы их дальнейшего примирения, изначальный характер их союза.
В чем заключалась победа Церкви над империей? Ведь поскольку христианство в своей проповеди не несло и не исповедовало никакой специальной государственной теории, никакого специфического социального учения, а напротив, само все это «в готовом виде» принимало от империи, победа его почти исключительно касалась сферы вероучительной. Язычество было религиозной опорой, религиозной санкцией империи — оно перестало ими быть. Если угодно, это была победа христианской догматики над догматикой язычества, истинного богопознания — над ложным. Если рассуждать с точки зрения Римской империи — рухнула и оказалась несостоятельной языческая система представлений о Боге, и ее заменила христианская. Но не произошло никакого кризиса римской государственной традиции, никакого резкого социального перелома. Империя осталась в своем государственном самосознании такой же, какой она была, и в таком виде получила христианскую санкцию. И в том основном для истории Церкви факте, что христианство не только стало дозволенной религией, religio licita, но религией государственной, нужно видеть не увенчание христианских стремлений, а естественный, неизбежный результат принятия христианства императором. Империя имела теократическую природу и не могла остаться без религиозного основания — ей нужна была именно государственная религия как источник и обоснование самой государственности. Вот почему та свобода совести, которую требовали христианские апологеты и которая на короткий срок осуществлена была в начале IV века (Миланский эдикт), на деле оказалась столь непрочной и очень скоро была нарушена, но теперь уже в пользу христианства. Христианство получило гораздо больше, чем то, чего оно добивалось, но произошло это как бы помимо него, ибо всецело определялось природой римской государственности. Христианство совершенно естественно заняло место, оказавшееся пустым вследствие поражения язычества, а это место не могло оставаться пустым, потому что в нем–то и был настоящий фундамент империи.
Нам необходимо было начать с выяснения этого, как мы его называем, «идеологического» корня, определяющего как гонение, так и примирение, ибо из него вытекает тот основной для нас факт, что в центре всех дальнейших отношений Церкви с империей оказался момент догматический. Христианство в своей борьбе с язычеством, повторяем, ни в какой мере не было революционным. Потому–то так легко и могла произойти эта замена язычества как государственной религии христианством, что это последнее оставляло неприкосновенной всю государственную, экономическую и социальную структуру империи. Изменилась, в сущности, только вера империи. Поэтому существенным, первичным, основным признаком христианской империи как христианской стала именно правая вера, православие. В плане государственном это выразилось прежде всего в замене религиозной терпимости языческой империи нетерпимостью и преследованием не только иноверцев, но и христианских еретиков. И это было естественно. Язычество «богословски» допускало религиозный плюрализм, христианство его категорически отвергало. Государство, связанное своей государственной религией, только делало соответствующие выводы. Здесь нужно прибавить еще следующее. Победа христианства имела вряд ли не большее значение для Церкви, чем для самой империи. Империя — и языческая — была уже теократией, в Церкви же теократическое сознание, теократический пафос пробуждались впервые. Крещение Константина, признание империей христианства открывало перед этим последним совсем новые, необъятно широкие горизонты. Эсхатологизм первых христианских общин сменился видимой и ощутимой победой Церкви над миром. Но важно понять, что для церковного сознания это была прежде всего победа Истины над тьмой демонов, над языческими баснями. Водораздел между миром и Церковью проходил именно тут, а не в нравственной области, о которой мы скажем несколько слов ниже. Не за христианскую правду, а за христианскую Истину гнал мир Церковь — христианской Истине он теперь покорялся. И проводником этой победы оказывалась империя. Уже смутно намечавшаяся у апологетов мысль о провиденциальном соединении империи с христианством (Мелитон у Euseb. H. E.) теперь стала реальностью. Вот почему именно в этой верности христианскому догмату, в православии узрела Церковь религиозную функцию и оправдание империи, вот почему союз, заключенный между ними, был прежде всего союзом догматическим.
Эпоха примирения христианства с империей хронологически совпала с началом величайших богословских кризисов и волнений в жизни Церкви, с периодом трудного и напряженного богословского осмысливания Церковью своего опыта, своей веры. Церковь раздирается ересями и расколами, мучительной и длительной борьбой партий и течений. Решаются основные и глубочайшие вопросы христианского богомудрия. И вот, здесь легче всего проверить этот «догматический» характер отношений Церкви с государством. В силу своего «воцерковления» империя, естественно, не может остаться нейтральной в этих конфликтах, не принять в них, в той или иной форме, прямого или косвенного участия. Да этого, прежде всего, не допускает сама Церковь. Если религиозное назначение империи — охранять истинную веру, быть православной, то о какой же нейтральности может идти речь? Поскольку император — член Церкви, он должен быть членом истинной, а не еретической Церкви. Император–еретик — это своего рода contradictio in adjecto
[21], крушение всего смысла, всей радости совершившегося примирения. От правоверия империи зависит все внешнее дело Церкви, успех ее в мире. Для нашего современного сознания уже почти непонятны те надежды, которые возлагались тогда церковными деятелями на империю. Евсевий Кесарийский кажется нам придворным льстецом. Но мы не улавливаем той радости рождающейся теократической мечты Церкви, жажды реальной, видимой и ощутимой победы над миром, вдохновившей Евсевия и вознесшей так высоко и на все века первого христианского императора.
Но и для империи эти, как будто теоретические, вопросы богословия приобретают жизненное, практическое значение. С богословской борьбой вспыхивают и этнические страсти, догматические формулы прикрывают пробудившийся национализм разноплеменных окраин, само единство империи ставится под вопрос, и поэтому быть православной, гарантировать свое православие становится неотложной задачей империи. И вот мы видим, что все кризисы и перебои в церковно–государственных отношениях в эти века происходят именно на догматической, богословской почве. Если Церковь все время хочет иметь империю с собой в правой вере, не дать ей уклониться в ересь, то и империя, со своей стороны, стремится достичь примирения в самой Церкви, утишить бушующие религиозные страсти. Отсюда — вмешательство императоров в догматические споры, отсюда — имперски–государственный характер Вселенских Соборов, церковно–политический смысл энотикона, типоса и экфесиса
[22]. Пути Церкви и государства сходятся все больше и больше, сливаются в единый путь. И необходимо понять, что сближаются они прежде всего на этой вероучительной почве. А этот «догматический союз» и есть основная черта византинизма.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Здесь нужно открыть скобки. Может показаться, что, говоря все время об этом «догматическом», или «идеологическом», характере сближения Церкви с государством, мы упускаем из вида момент этический, стилизуем Церковь первых веков в какие–то несвойственные ей, исключительно, так сказать, «интеллектуальные» тона. Выходит так, что Церкви не было как будто никакого дела до нравственной стороны как–никак христианской империи, что все внимание ее поглощено было «правоверием» своего нового союзника. А между тем было бы странно напомнить о том моральном ригоризме, которым была проникнута первохристианская Церковь, и о том, что вся сила христианской проповеди, вся тайна ее быстрого распространения заключалась в этом несомом ею опыте новой жизни, обновлении всего человека. А богословское осмысливание этого опыта было в каком–то смысле вторичным моментом и возникло ради охранения церковной киригмы от разъедавших ее чуждых учений. И вот, не впадаем ли мы в тот, теперь уже устаревший, схематизм, согласно которому живым, и именно благодаря своему нравственному пафосу, было только первохристианство, а соглашение с империей лишило Церковь ее силы, пафос святости и героизма заменило интеллектуализмом и сложностью философских построений.
Вопрос этот в целом выходит за пределы нашей темы. Поэтому, не развивая его подробно, укажем только на те несколько моментов, которые необходимы для уразумения отношений Церкви с государством. Здесь, как ни странно это может показаться с первого взгляда, совсем особое место принадлежит монашеству и его особенному значению в церковной истории.
Было бы трудно отрицать, что с прекращением гонений, со вступлением Церкви на широкую имперскую дорогу первоначальный ригоризм ослабел, да и не мог не ослабеть. И дело тут не в одном государстве. Количество всегда так или иначе отражается на качестве, и с быстрым распространением христианства, перерождением его в религию массовую церковная дисциплина, столь суровая в первых небольших общинах, неизбежно должна была пойти по линии приспособления к новым условиям. Процесс этот начался задолго до официальной победы христианства, и с ним связаны хотя бы такие, по видимости разнородные, кризисы ранней истории Церкви, как монтанизм, раскол Каллиста и Ипполита в Риме, а в другом плане — эволюция покаянной дисциплины, постепенно совершающаяся замена покаяния публичного тайным и приватным. А в IV–V веках почти все население империи становится христианским и далеко не всегда с должным «обращением», и это, естественно, изменяет весь облик церковной жизни. И вот как раз монашество и было реакцией церковного организма на свое слишком быстрое количественное возрастание, угрожавшее качественному. Не случайно рождается оно как церковный институт почти одновременно с христианизацией империи, с окончательной, официальной победой Церкви. Но для нашей же темы особенно важно отметить то, как Церковь и мир, в свою очередь, реагируют на появление монашества. Быть может, одним из самых важных событий в истории Церкви (и здесь мы преимущественно говорим о Церкви Восточной) было именно это влияние на нее монашества. В монашестве Церковь очень скоро признает как бы свою совесть, именно монашество становится носителем нравственного идеала христианства. Монахи уходят из мира, но весь мир идет за монахами, и вот в V–VI веках монашество делается одной из главных сил в Церкви, вся церковная жизнь принимает как бы монашескую окраску. Церковь первых веков жила жаждой мученичества, мученичество было высшей нормой, истинным путем христианина в мире. В нем открывалась marturia Церкви. Теперь такой нормой становится монашество. Оно — тот «путь превосходнейший», который, если и не все могут вместить, но который являет, тем не менее, предел и высшую точку. Разумеется, дело здесь не в догматической норме, а в историческом оформлении нравственного идеала церковного сознания. А исторически нельзя отрицать, что в течение многих веков, да в каком–то смысле и доныне, почти вся церковная жизнь на Востоке, все церковное благочестие построено было по некоей монашеской парадигме и в монашестве или в посильном уподоблении ему христианское сознание усматривало, так сказать, стопроцентную христианскую жизнь. Примеров этого привести можно было бы чрезвычайно много — если бы это не грозило до бесконечности удлинить эту, по необходимости суммарную, статью. Не говоря уже о непрекращавшемся росте числа монастырей, о частых постригах целых семей (Феодор Студит), обо всех маленьких примерах монахолатрии в повседневной византийской жизни, — можно указать хотя бы на восточное богослужение (в особенности его суточный круг), почти не менявшееся с поздневизантийской эпохи. Все оно создано монахами и для монахов, и иного, не монашеского, богослужения не знает Восточная Церковь. Вся его структура, весь типикон рассчитаны для монастырской жизни, несут на себе ее отпечаток. История знает борьбу Студийского Устава с Иерусалимским, но она ничего не запомнила о борьбе какого–нибудь белого, мирского устава с черным, монашеским. Да такой борьбы никогда и не было. Церковь радостно вступила на это монашеское послушание, вложила в него все силы своего героизма, своего устремления к Горнему. Можно указать еще на один характерный пример: так, показательно, что с какого–то определенного времени епископы избираются только из монахов, высшее иерархическое служение Церкви почти бессознательно соединяется с нравственными «гарантиями», воплощенными в иноческом чине.
Но для нас дело не в монашестве как таковом, а в том понимании нравственного совершенства, с которым, как мы старались показать, связан этот расцвет, это явление монашества в церковной жизни. В церковной психологии, в самочувствии, скажем, «среднего христианина», произошел несомненный перелом. Первохристианство все было проникнуто сознанием и переживанием уже совершившегося спасения, святости, пришедшей в силе. Христианами не рождались, а становились (Тертуллиан), и в Крещении обращенный переживал новое рождение, имевшее для него не только богословскую (как сейчас) реальность, но и психологическую. В жизни нужно было не загрязнить тех белых одежд, которые были получены в Крещении, и жизнь христианина была скорее охранением уже полученного, реализацией его. Другое теперь. Если, конечно, догматически ничего не изменилось, то психологически доминантой церковной жизни становится сознание и страх греха, и вечное сокрушение, и покаяние в нем. Церковь — это море кающихся, тянущихся к святости, как к некоей запредельной черте, а черта эта — монастырь, уход, отречение от мира и «всех красных его». В некотором смысле, монашество обесценивало мир, уходило из него путем личного спасения. И тем не менее, нельзя говорить о «психологическом монофизитстве» Востока, как некогда, кажется, Харнак окрестил Православие. Да, для целой исторической эпохи личное совершенствование, личная святость казались достижимыми только в монашестве или, скажем, монашескими средствами. Но от этого христианство не уходило из мира, не делалось privatsache
[23] каждой отдельной личности. Мир как целое оставался христианским, сохранял свою религиозную цель и назначение. Каким образом?
Возьмем, для примера, восточные минологии. В них, обобщая, мы найдем четыре категории святых. Хронологически на первом месте стоят мученики и исповедники. С ним связано и само возникновение культа святых. Это относится к тому периоду, когда мученичество было высшей и предельной целью христианской жизни, высшим ее увенчанием. Затем идут отцы и учители Церкви: они соответствуют эпохе богословской борьбы, чеканки основных категорий христианского богословия. Одновременно с ними выступает многочисленный лик преподобных — подвижников и монахов, заменивших мучеников на высших ступенях христианского героизма, воплощение личной святости. Но есть еще один чин святых, и в нем–то, может быть, и приоткрывается тайна византийского цезаропапизма. Чин этот — святые цари, прославляемые Церковью христианские императоры. Что означает чин этот для историка, какой смысл приобретает он в свете всего сказанного?
Мы отлично знаем, как знали это — еще лучше нас — современники, что далеко не всегда в своей личной жизни императоры являли собой тот образец святого, который, как мы только что видели, с течением времени все больше и больше приобретает монашескую окраску. Вернее, увы, было бы сказать, что примеров истинно праведных василевсов насчитать можно немного, не говоря уже о таких исключительных фактах, как убийство Криспа Константином или ослепление равноапостольной Ириной сына своего Константина. Что же это: аберрация церковной совести, приспособление ее к миру, угодничество перед властью? Мы не оспариваем того, что чувства такие были — где их нет? Но в канонизации императоров дело совсем не в них. Здесь мы касаемся самой основной черты византийского понимания религиозной миссии, религиозной природы империи и императора. Император причисляется к лику святых именно как император, как богопомазанный возглавитель христианской империи. Но святость эта не того же, так сказать, порядка, что святость личная или монашеская. Святость личная, мы видели, достижима и мыслится только в уходе от мира. Но у мира остается великая религиозная задача, великая цель и подвиг — сохранить в первой чистоте «бесценный бисер» истинной веры, догматическую акривию. Император и есть прежде всего символ и носитель этой православной миссии империи. Это не означает, что к нему, как к человеку, неприменимы нравственные требования христианства, но здесь возможны снисхождение и компромисс. В некотором смысле, тот нравственный максимализм, который связан с влиянием монашества, парадоксально минимизировал нравственный уровень мира. Праведность стала как бы не от мира сего — за ней нужно уходить из мира — и император или его наследник — русский князь — принимает на смертном одре ангельский образ, как бы свидетельствуя этим недостаточность своего мирского чина для спасения души. И потому не в нравственном совершенствовании, а в этом назначении империи — быть защитницей правой веры — и устанавливается ее теоретическая ценность, ее религиозное оправдание. Так возвращаемся мы к тому догматическому союзу, с которого начали. И недаром Свод Юстиниана, этот первый опыт законодательства христианской империи, начинается с Символа Веры. Тут — основа и цель империи, тут — сердце византийской теократии.
Для нашего адогматического времени, равнодушного к богословию, когда в самой Церкви оно становится уделом «специалистов», уже почти непонятен этот богословский пафос Византии. А между тем, не поняв этого, не почувствовав этот краеугольный камень ортодоксии в церковной оценке империи, нельзя понять и духа церковно–государственных отношений в Византии, и именно здесь нужно искать объяснения всем противоречиям византийской симфонии, так смущающей западных исследователей Византии.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
4
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Все сказанное доселе имеет, естественно, гипотетический характер. И для того чтобы превратить эту гипотезу в убедительное историческое построение, нужен, конечно, детальный анализ всей длинной и сложной истории взаимоотношений Церкви с империей на протяжении почти целых двенадцати столетий. Такая задача не может уместиться в короткой статье. Да в наши цели и не входило приступать к проверке этой гипотезы. Мы хотели только указать на ту систему мыслей, в которой, как нам кажется, нужно пытаться объяснить проблемы цезаропапизма. Но в заключение все же прибавим несколько слов и о том, как нам представляется указанная проверка. Очень схематично ее можно свести к двум моментам, двум важным проявлениям византийской церковной жизни.
1. Обычно говорят о существовании в Византии двух церковных партий или течений, боровшихся друг с другом за преобладание в Церкви, — партии так называемых зилотов и партии так называемых политиков. Не имея возможности, за недостатком места, разобрать это утверждение детально, признаем за несомненный факт существование в Византии если не партий, то, во всяком случае, двух церковных установок, двух пониманий отношений Церкви и мира. Одно из них во главу угла ставило неукоснительно точное следование канонам, применение их во всей интегральности, другое допускало возможность их послабления, как говорилось, cat j o«conom…an — ради пользы Церкви. Примеры столкновений между представителями этих двух течений хорошо известны: это в IX веке — борьба монахов–студитов с патриархами Тарасием, Никифором и Мефодием, затем фотиан с игнатианами, в X веке — столкновение евфимитов с николаитами, еще позже — известный раскол арсенитов и т. д. И вот, не вдаваясь в подробности всех этих разногласий в Византийской Церкви, нельзя не отметить, что в этой борьбе ригористов со сторонниками компромисса победителями, то есть теми, чью линию поведения в конце концов признала своею Церковь, были именно политики, а не ригористы, и икономия торжествовала на всем протяжении византийской церковной истории. Больше того, когда даже одерживали верх зилоты и брали в руки кормило церковной власти, они сами почти незаметно превращались в политиков, то есть волей–неволей становились на путь компромисса. Теперь, если же посмотреть в сущность этой борьбы, то мы увидим, что в ней речь шла неизменно и взаимные анафемы провозглашались всегда по поводу какого–нибудь нравственного казуса, причем термин «нравственное» мы употребляем здесь, в отличие от «догматического», в смысле церковной дисциплины. Поставление Фотия в три дня из мирян в патриархи, форма принятия раскаявшихся иконоборческих епископов, четвертый брак Льва VI, венчание Константина с родственницей — всегда и везде нравственный или канонический ригоризм сталкивается с более широким пониманием церковной дисциплины, с принесением в жертву некоторых пунктов ее во имя мира церковного. И вполне естественно, первое, ригористическое, течение питается, в первую голову, монашеством, второе — высшей иерархией, имеющей более непосредственное, нежели монахи, отношение к жизни со всеми ее повседневными трудностями. Охотно согласимся, что иногда эта икономия заходит, с нашей точки зрения, слишком далеко и нелегко провести границу между нею и простой угодливостью и раболепством. Так, Собор епископов 1266 года, снимающий прещение с узурпатора Михаила Палеолога, ослепившего маленького Иоанна Ласкариса, чтобы очистить себе дорогу к престолу, представляется нам пределом, «егоже не прейдеши». Но мы сейчас не разбираем индивидуально каждый отдельный случай икономии. Нам важно установить общий принцип: икономия, в большинстве случаев торжествующая над акривией, касается исключительно канонической или, по нашей терминологии, нравственной сферы. Таков наш первый вывод. Переходим ко второму ряду фактов.
2. Можно по–разному оценивать византийское богословие в целом. Можно спрашивать себя, насколько тесный союз с государством пошел на пользу богословскому творчеству, не связал его, не поставил на нем своего рода искусственной точки или, во всяком случае, не сократил его порыв. Все это выходит за пределы нашей темы. Но одно несомненно: раз определив свое вероучение, выразив его в законченных, общеобязательных формулах, раз найдя свою Lex credendi
[24], Византийская Церковь осталась верна ей до конца и пронесла ее через всю свою историю, чтобы передать своим молодым славянским наследницам.
И тут нет лучшего примера отстаивания своей веры до мелочей, чем занимающий такое огромное место в истории Византии вопрос об унии с Римом, вечно возобновляемые и никогда не удающиеся попытки пап покорить себе непокорный Восток.
Причины этой «униальной проблемы» чрезвычайно просты, и не в них заключается наш к ней интереса. Папству нужно было подчинение Востока, как нужно оно ему и сейчас; для Византии же оно было одним из главных средств политической игры — необходимости беспрерывно поддерживать равновесие между двумя одинаково враждебными, одинаково чуждыми ей силами: латинским Западом и мусульманским Востоком. Этого достаточно, чтобы объяснить настойчивость «униональной» темы в Византии и, главное, симпатии — искренние или не искренние — к ней византийских императоров. И вот, важно для нас то, что, несмотря на такие постоянные инициативы императоров, которым будто бы безоговорочно подчинена была Церковь, — все эти попытки неизменно, как стекло, разбивались о несокрушимое сопротивление Церкви. От Алексея Комнена, то есть с конца XI, и до середины XV века, можно насчитывать одних только главных попыток 28, не включая сюда почти непрекращавшиеся переговоры и дипломатические сношения. Ни одна из этих попыток не удалась.
А не удались они, помимо всего прочего, прежде всего потому, что вопрос об унии с Римом для Византийской Церкви был вопросом par excellence догматическим. Характерна одна особенность в истории церковных отношений между Западом и Востоком. Известно, что притязания Рима на церковное владычество и над Восточной Церковью начались очень рано — чуть ли не со II века. В эпоху Вселенских Соборов эти притязания уже вполне очевидны. И вот, поразительно, до какой степени вся Восточная Церковь в течение многих веков остается нечувствительной к этому давлению, как будто не понимает его действительного смысла. Больше того: часто она сама дает Риму недостающие ему аргументы в пользу его всемирной юрисдикции. Достаточно вспомнить хотя бы «апелляции» к Риму Златоуста, Флавиана Константинопольского, Евсевия Дорилейского и многих других, возвеличивание пап греческими епископами на Вселенских Соборах, подписку, данную восточным епископатом папе в 519 году при ликвидации так называемой акакианской схизмы и т. д. Известно, какую пользу для себя извлекают из всех этих примеров католические историки — Hergenrother, Batiffol и другие. И вдруг — как будто неожиданно происходит резкий перелом, и Рим становится какой–то bete noire
[25] Византийской Церкви, главным объектом всех ее обвинений и обличений. Чем объясняется этот резкий переход от нечувствия к активному антилатинству? Объяснение мы видим в следующем: до поздневизантийской эпохи, вернее до Патриарха Фотия, Рим и Запад остаются в полном догматическом единомыслии с Востоком. Рим все время твердит о своей potestas
[26], о своем каноническом примате. Но Византийская Церковь как бы не чувствует этого канонического давления, ибо ее церковная независимость от Рима, так сказать, автоматически гарантирована императором. Церковь административно вполне «следует» за империей. Так, только в силу этого церковно–государственного параллелизма Константинопольский епископ из скромных суффраганов Ираклийского митрополита становится первым иерархом Востока и перед ним меркнут древнейшие и славнейшие митрополии — Ефес, Кесария, Ираклия… Рим может требовать все, что ему угодно, и когда это оппортунистически нужно Востоку или просто императору — греческие отцы легкомысленно величают папу «отцом и учителем Вселенной», «архиереем всей Церкви» и так далее, ибо реально, жизненно это их никак не связывает. И, не признавая de jure никакого примата Рима, Восточная Церковь de facto и на все века — в противоречии с собою самой — много раз склоняется перед его решениями и подписывает его формулы.
Другое дело, когда Рим и Запад становятся «страной ереси и мрака», по выражению Патриарха Фотия. С того приблизительно момента, когда Фотий бросает Риму свое обвинение в Filioque, отношение к Западной Церкви становится ясным и определенным. С ересью никаких компромиссов быть не может. Как показательно, что во всей византийской антилатинской полемике мы едва ли можем указать на два или три обвинения Рима в экклезиологической ошибке, той, которая для нас прежде всего существенна в нашем расхождении с католиками. Византия борется не с папой, не с папизмом, а с Filioque, удавлениной, опресноками, целибатом — но нельзя забыть, что не только Filioque, но и все эти вопросы имеют для византийских богословов исключительно догматическое значение. Показательно и то, что разрыв Церквей в XI веке формально вызван именно еретичеством Запада, и на него, а не на горделивые притязания пап ссылаются и Михаил Керуларий, и Лев Охридский. То есть борьба с Римом есть для Византии прежде всего борьба за свое правоверие.
И вот, обнаруживается, что в этой борьбе Церковь оказывается сильнее императора, и император подчиняется ей, а не она ему. Императоры, самовольно смещавшие патриархов, заставлявшие их чуть ли не благословлять свои грехи и преступления, здесь, в этом догматическом споре, оказываются бессильными. Все их униональные поползновения облечены в строго канонические одежды, проводятся или пытаются быть проводимыми соборным путем. Император Мануил, сместивший по своему капризу двух патриархов, горячий сторонник унии, тем не менее почтительно выслушивает антилатинские диатрибы Патриарха Михаила Анхиала и подчиняется соборному решению. Как только дело доходит до унии, самые либеральные икономисты становятся непримиримыми, и примеров этого сопротивления и твердости византийских иерархов можно насчитать почти столько же, сколько самих униональных попыток. Михаил Палеолог, всесильный над империей, всесильный над Церковью, — за подписание Лионской унии (никогда не принятой Церковью) умирает отлученным и лишенным христианского погребения. И когда, наконец, смущенные, измученные, затравленные византийцы подписывают Флорентийскую унию, — от которой почти сразу же с ужасом отрекаются, — империи остается только умереть. «Лучше турецкий тюрбан, чем латинская тиара» — в этой страшной поговорке последних дней империи звучит не столько фанатическая ненависть к латинянам, сколько последнее подтверждение догматического союза. Империя, потеряв свое православие, теряет и свою религиозную ценность, свой церковный raison d'кtre
[27].
На этом мы можем прервать изложение нашего понимания византийского цезаропапизма. Можно ли еще говорить о подчинении Церкви государству в Византии? Да, можно, но предварительно уточнив терминологию, как мы только что пытались сделать. Речь идет не о свободе Церкви от государства, ибо ни о какой такой свободе в Византии не знали и знать не могли. Нельзя судить и объяснять прошлое по нашим меркам и понятиям. В наше время государство не претендует ни на какое религиозное или метафизическое обоснование. Оно стало до конца земным, практическим и реалистическим. Оно — иноприродно Церкви, есть явление иного порядка вещей. Византийская, как и Римская, империя имела религиозную природу и при всем различии преследовала те же цели, вдохновлялась той же надеждой, что и Церковь. Церковь была подчинена государству — ajf * ou| [oiJ basile‹z] cristian…zei=n h!rxanto, tav th~z ejcclhs…az pravgmata h!rihto e!x an*tw»n… (Сократ Н. Е. 67. 565). Это остается правдой. Но и государство было подчинено Церкви. Только в такой целостной исторической перспективе, думаем мы, следует искать истинный смысл византийской системы отношений Церкви и государства.
Задача православного богословия сегодня
Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. 1 Фее. 5, 19—21.
1
Что мы имеем ввиду, говоря о задаче православного богословия сегодня? Начать с этого вопроса нужно потому, что угадываемая в нем и кажущаяся подозрительной с православной точки зрения богословская ориентация, похоже, преобладает сейчас на Западе. Для нее характерна редукция богословия к данной «ситуации» или «эпохе», особый акцент на «актуальности», понимаемой почти исключительно как зависимость богословия, его задач, метода и языка, от современного человека и его специфически современных «нужд». Поэтому мы с самого начала должны подчеркнуть, что Православие отвергает такую редукцию богословия, первостепенной и неизменной задачей которого, наоборот, считает поиск Истины, а не актуальности, поиск слов, «достойных Бога» (т. е. богоприличных — theoprepeis logoi) а не человека. Богословие будет по–настоящему «актуальным», т. е. истинно христианским, лишь в той мере, в какой оно остается соблазном для иудеев, безумием для эллинов и чуждым этому миру, его преходящим «культурам» и «актуальностям». Но это не значит, что богословие действует в культурном вакууме.
Ибо одно дело — зависимость от мира, и совсем другое — обращенность к нему. Если первое отношение — восприятие мира как единственного критерия богословия — следует отвергнуть, то второе (которое только и будет в конечном счете фундаментально христианским отношением к миру и его спасению) является настоящим смыслом богословия. В этом смысле всякое подлинное богословие всегда было пастырским, миссионерским и профетическим и с утратой одного из этих измерений всякий раз превращалось в своего рода интеллектуальную игру, которой заслуженно пренебрегала «реальная» Церковь. Задача богословия в каждый данный момент неизбежно определяется нуждами Церкви, и первая задача богослова — всегда различать и учитывать эти нужды, сознавать, чего ждет от него Церковь. Нас, малую горстку православных богословов, живущих и работающих на Западе, удаленных от древних и «органически–православных» миров и культур, естественно, волнует первостепенно важный и в высшей степени законный предварительный вопрос: в чем заключаются нужды Церкви, на которые мы обязаны ответить и с учетом которых должны строить и планировать нашу богословскую работу? Как удовлетворить здесь, на Западе, извечным требованиям — пастырскому, миссионерскому и профетическому — православного богословия? Эти заметки — краткая попытка общего подступа к общему ответу.
2
Думаю, никто не возразит: наша богословская задача определяется прежде всего тем, что, как богословы, мы работаем внутри и в интересах православной общины, которой впервые за долгую историю нашей Церкви довелось жить в неправославном мире — западнохристианском по религиозным традициям, секуляристском по культуре и плюралистическом по мировоззрению. Для Православия такая ситуация беспрецедентна, и поэтому она ставит перед всей Церковью, а следовательно, и перед нами, богословами, целый ряд проблем, неведомых православным общинам «Старого Света».
Прежде всего эта новая ситуация затрагивает пастырскую функцию богословия. Осмелюсь утверждать, что Церковь на протяжении нескольких последних веков не знала столь насущной нужды в богословии, — нужды, которая замечается сегодня буквально на всех уровнях жизни Церкви. Причина тут простая. В Греции, России или любой другой православной стране сама культура, т. е. весь комплекс ценностей, норм и идей, которыми измеряет свою жизнь человек, глубоко соотносилась с православной верой, была продолжением мировоззрения Церкви. Можно и должно подвергать критике бесспорные недостатки и исторические грехи этих православных миров, но нельзя отрицать, что, несмотря на многократные измены Православию, именно оно, это мировоззрение, определяло их облик на протяжении целых эпох.
Совсем не то наблюдается на Западе. Здесь разрыв между православным мировоззрением и секуляристской культурой так велик, что первое в буквальном смысле не находит себе места, а язык, которым оно сообщается, т. е. язык литургии, духовности, этики — будь то даже английский или любой другой европейский язык, остается вполне чужим. А по мере врастания в западный образ жизни возникает поистине шизофреническая ситуация, в которой глубокая привязанность к православным символам и «атрибутам» (например, богослужению, музыке, архитектуре) легко уживается с едва ли не сплошь секуляристской философией жизни. Впрочем, такая ситуация не может длиться вечно, и бытовое пристрастие к православной атрибутике в конце концов не спасает православных от растворения в той причудливой смеси секуляризма и беспредметной религиозности, которая, по–видимому, являет собой последний образец западной религии.
Имеющие уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть, наверное, слишком хорошо понимают, что здесь, на Западе, нельзя быть православным без «сопротивления среде». Духовно чуждая культура является постоянным вызовом Православию, так что вера, даже сама по себе истинная, должна быть сознательно воспринята, ясно осмыслена в ее применении к жизни и всегда ограждена от воинствующего секуляризма. И потому богословию именно здесь предстоит вновь обрести пастырское измерение, помогающее осмыслить насущную связь Предания Церкви с жизнью, а точнее, самому стать и этим осмыслением, и этой связью, дабы надежно обеспечить восприятие веры взыскующей ее душой.
Но было бы ошибкой считать все сказанное здесь богословским «дайджестом», приспособленным к пониманию мирян, или простой «популяризацией» богословия. Я имел в виду совершенно иное, — возведение всей жизни Церкви на уровень богословского сознания, жизненное отнесение каждого аспекта и каждого уровня церковной жизни к области богословского размышления. Но, чтобы достичь этого, мы должны вспомнить и то, что составляет (по крайней мере для меня) основной недостаток нашего богословия: почти полную его отрешенность от реальной жизни Церкви и ее практических нужд. Само воспитание и обучение богослова приучило его видеть во всем практическом» полную противоположность богословию и его высоким задачам, и это отношение, державшееся веками, можно считать, удержалось и по сей день.
С тех пор как миновала святоотеческая эпоха, наше богословие (не без западного влияния) стало исключительно академическим и в буквальном смысле слова схоластическим». Оно замкнулось в узком кружке профессиональных интеллектуалов, пишущих и работающих фактически только для себя (ибо никто посторонний не станет читать богословские труды, а если и рискнет, то едва ли совладает с их сугубо специальным, «эзотерическим» языком!) и куда больше озабоченных мнением своих коллег по другим академическим дисциплинам, чем нуждами мало–мальски заинтересованных в богословии рядовых членов Церкви. Они вполне смирились с глубочайшим безразличием к их деятельности всего церковного тела и в своем несокрушимом самодовольстве готовы объяснять это «антиинтеллектуализмом» основной массы духовенства и мирян. Им невдомек, что этот «антиинтеллектуализм» в большой степени есть прямой результат их собственного элитарного «интеллектуализма», квазиманихейского презрения к «практическим» заботам Церкви и редукции богословия к безопасной интеллектуальной игре «интересных точек зрения» и безупречных в научном отношении ссылок. Горькая ирония этой ситуации в том, что оказавшиеся фактически за бортом Церкви богословы не стали «своими» и в пресловутом интеллектуальном сообществе, которое, вопреки их усилиям снискать благоволение ученых мужей, по–прежнему смотрит на них как на чуждых науке «мистиков». И пока общее положение и внутренняя ориентация нашего богословия таковы, нет никакой надежды, что оно выполнит свою истинную задачу и удовлетворит вопиющие нужды современности.
Но здесь–то мы и должны обратиться к тем, на кого во всех случаях ссылаемся как на образец и наставников, т. е. к Отцам Церкви, и поглубже вникнуть в их отношение к задачам богословия. Не подлежит сомнению, что в интеллектуальном плане они не уступали нам. И все же между ними и нынешними столпами богословской учености есть одно существенное различие. То, что у нас именуется «практическим» и совершенно изгоняется из области наших академических занятий, для любого из них заключало в себе единственно насущный и самый что ни на есть практический интерес христианства — вечное спасение человека. Те или иные слова и идеи соотносились у них не с отвлеченной истиной или заблуждением, но с той Истиной, которая спасает, и с тем заблуждением, которое ввергает в смерть и осуждение. Спасение реальных, конкретных душ и было их постоянной, по–настоящему «экзистенциальной» заботой, тем, что поглощало их всецело и делало каждую букву их творений жизненно важной и в буквальном смысле пастырской. Будучи в высшей степени интеллектуальным, их богословие всегда обращено не к «интеллектуалам», но ко всей Церкви — в твердом уповании, что каждый ее член; приняв Духа Истины, становится богословом, т. е. прикосновенным Богу. И непреходящее значение этого богословия в том, что его идеи всегда соотнесены с практическими нуждами Церкви, раскрыты в их сотериологическом значении, а самые «практические» стороны жизни Церкви укоренены в предполагающих их всецело богословских смысловых реальностях.
Для нас, живущих на Западе, возврат к пастырскому измерению богословия означает, таким образом, не изменение уровня (т. е. не призыв «писать более популярно ), но прежде всего изменение внутренней ориентации богословского сознания, самого богословского интереса. И в первую очередь целью наших богословских усилий должны стать реальная Церковь и реальный человек в Церкви. Нас должно заботить положение этого человека — а не только то, как помочь ему стать «более образованным» и «гордящимся своим православием». И пока у нас самих нет твердого убеждения, что большинство идей и философий, которыми он живет сегодня, ведет его к духовной смерти; что знание Истины должно в полном смысле спасти его, а не просто украсить нашу Церковь еще одним представителем интеллектуальной элиты, — не найдем мы и слов, которые дойдут до его сердца. Религия, зовущая человека к выбору между жизнью и смертью, спасением и осуждением, не нуждается в богословии, которое есть всего лишь знак некоего «духовного» роскошества и престижа.
Отсюда следует также, что «пастырская» реанимация богословия должна начаться с глубокой оценки и критики той культуры, которая засасывает сегодня православного человека, делая христианство чем–то и в самом деле «неактуальным». И вовсе не случайно святоотеческое богословие подчинено врачебно–апологетической задаче, защите христианской веры от ее внешних и внутренних врагов. Мы же, проявляя недюжинную изобретательность в богословских битвах, давно уже выигранных Отцами, лишь вежливо улыбаемся в ответ на поистине сатанинские допущения некоторых новейших «философий» и теорий. Вероятно, мы не понимаем того вполне очевидного факта, что под влиянием этих «философий» даже основные христианские ценности получают совершенно иное, диаметрально противоположное их неизменному смыслу истолкование. Так, спасение превращается в самореализацию, вера — в чувство безопасности, грех — в дело индивидуальной психологической установки и т. п. Наша культура, которую недавно определили как триумф терапии, в значительной мере переориентировала сознание даже религиозного человека, что, в свою очередь, почти закрыло для него возможность услышать и уразуметь истинное учение Церкви. И наконец, мы словно не замечаем, что эта метаморфоза религии затрагивает уже не мифического «западного человека», а собственные наши приходы, проповеди наших священников.
Поэтому нам следует начать с того, пример чего явило в свою эпоху святоотеческое богословие, — с экзорцизма культуры, с освобождающего восстановления слов, понятий и символов богословского языка. И сделать это нужно не ради более успешного «приспособления» нашего богословия к «современному человеку» и его культуре, но с тем, чтобы человек этот осознал крайнюю серьезность, подлинно сотериологическую природу и условие своей веры. На это способно лишь богословие, и потому потребность в нем сегодня так велика. Но оно достигнет этого лишь тогда, когда станет пастырским, т. д. отождествленным с Церковью и ее жизнью, отзывчивым к реальным нуждам человека, когда оно, отбросив академическое «оцеживание комара» (ни разу еще никого не удержавшее от «поглощения верблюда»), со смирением и мужеством примет свое истинное назначение в Церкви.
3
Я определил вторую задачу нашего богословия как миссионерскую. Следуя духу времени, ее можно было бы назвать экуменической. Но за последнее время это слово приобрело столь расплывчатый и двусмысленный характер, что требует множества разъяснений и серьезной переоценки. По ряду причин я предпочитаю несколько устаревший термин — «миссионерская». Во–первых, он показывает, что у православного богословия есть миссия на Западе. Православные богословы всегда единодушно признавали, что цель их участия в экуменическом движении — свидетельство о Православии перед инославными, и нет никаких оснований отрицать, что цель эта предполагает и обращение инославных в православную веру. Мне очень хорошо известно, что термин «обращение» имеет весьма дурную репутацию у современных экуменистов. Но православные просто–напросто предадут и свое Православие, и само экуменическое движение, если в угоду экуменической эйфории постараются всячески скрыть тот факт, что «обращение» для них — один из важнейших компонентов подлинно экуменической перспективы.
В настоящее время более чем когда–либо, и как раз по истинно экуменическим соображениям, мы должны настаивать на том, что лишь глубокая и подлинно христианская идея обращения (предполагающая решающий кризис, выбор и, наконец, послушание истине) придаст должный смысл и серьезность всевозможным диалогам и конвергенциям. И то, что термин этот и стоящую за ним реальность многие сегодня считают «неэкуменическими», говорит о весьма тревожной тенденции уклонения экуменического движения от его первоначального идеала — органического единства во Христе — к совершенно противоположному — благополучно функционирующему плюралистическому обществу. Каким бы превосходным и полезным ни был эта последний идеал сам по себе, у него очень мало общего с фундаментально христианскими ценностями — единством, верой и Истиной. Наша «миссия», таким образом, остается прежней: сделать Православие известным, понятным Западу и с Божией помощью воспринятым им. Эта миссия является естественным и, так сказать, неизбежным следствием того, что мы смиренно исповедуем себя православными, а нашу Церковь — истинной Церковью. Это исповедание не совместимо ни с каким провинциализмом мысли и видения, этническим самосознанием и прочими проявлениями эгоцентризма.
На протяжении нескольких десятилетий «экуменическая миссия» фактически была монополией небольшой группы богословов и оставалась совершенно неизвестной Православной Церкви в целом. Я думаю, настало время покончить с этой крайне ненормальной ситуацией, которая в довершение ко многим другим бедам просто сбивает с толку неправославных, внушая им мысль об «экуменическом православии», которого на самом деле нет. Миссионерская ориентация должна быть придана всей богословской структуре Церкви и превратиться в органическую часть нашего богословского «курса наук». В связи с этим надо коснуться и другого аспекта термина «миссионерский» — аспекта, характеризующего «способ» нашего отношения к Западу.
Миссия всегда предполагает — по крайней мере, в христианском значении этого слова — не только усилия по обращению кого–либо в истинную веру, но еще и духовное расположение миссионера: его деятельное благотворение и самоотдачу тем, кто является «объектом» его миссионерской активности. Никакая настоящая миссия, от апостола Павла до равноапостольного Николая Японского, не могла обойтись без самоотождествления миссионера с теми, к кому послал его Бог, без принесения в жертву его личных привязанностей и естественных влечений. С надлежащими изменениями то же, на мой взгляд, нужно сказать и о православной миссии на Западе, в особенности же о миссии православного богословия. Эта миссия невозможна без изрядной доли любви к Западу и многим подлинно христианским ценностям его культуры. Однако мы часто смешиваем вселенскую Истину Церкви с наивным комплексом превосходства, самонадеянностью и фарисейским самодовольством, с ребяческой уверенностью, что все должны разделять нашу ревность по «византийскому великолепию», по нашим древним и ярким обрядам и формам церковного зодчества. Грустно и тяжело наблюдать примеры огульного охаивания Запада и оскорбительной снисходительности к «бедным его уроженцам» со стороны молодых людей, едва ли читавших Шекспира и Сервантеса, слышавших что–нибудь о Франциске Ассизском и знакомых с музыкой Баха. Обидно сознавать, что нет более серьезной преграды пониманию и усвоению Православия Западом, чем провинциализм, человеческая гордость и самодовольство самих православных, почти полное отсутствие у них смирения и самокритичности.
Но Истина всегда смиряет, а гордость в любых ее формах и проявлениях чужда Истине и всегда греховна. Было бы нелепо говорить, что мы «гордимся Христом», и, однако же, мы постоянно проповедуем и учим, что надо «гордиться Православием». Пора наконец понять: если православной миссии суждено развиваться и дальше, то нам надо не только преодолеть и изжить этот дух самодовольства, но, ни на минуту не отказываясь от сокровищ культурного и духовного наследия православного Востока, стать открытыми и для западной культуры, претворив в свое достояние то, что в ней «истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно» (Флп. 4, 8).
Миссионерская функция православного богословия должна поддерживаться двумя одинаково важными и взаимосвязанными императивами: стоянием в Истине, которое есть единственная основа всякой по–настоящему экуменической деятельности, и подлинной открытостью для христианских ценностей Запада. Всякий раз, когда возникает соблазн пожертвовать Истиной ради весьма гибкого, донельзя изощренного и оттого еще более опасного релятивизма, подменить единство во Христе Ч » о мирным сосуществованием религии, при котором самая возможность ошибок и ересей якобы исключена псевдоэкуменической доктриной конвергенции, — православный богослов должен встать (если надо, то и в одиночку!) на защиту Истины в том ее значении, без которого о U » г христианство при всей его актуальности обернется отречением от своей абсолютной задачи. Но для этого он и сам должен быть открыт и послушен всей Истине, где бы она ни обреталась.
4
Третью задачу современного православного богословия следует назвать — как бы претенциозно это ни звучало — профетической. Пророки посылались к народу Божию не только для возвещения грядущих событий, но и для напоминания его истинного назначения и для обличения отступлений от Божественной воли. И если с пришествием Христа, Который есть «исполнение всякого закона и пророков» [ср. Рим. 10, 4; 13, 10], первая их функция отпала, то вторая остается по–прежнему актуальной. И богословие, без сомнения, всегда должно участвовать в этой профетической функции. Ибо его вечная задача — в том, чтобы относить жизнь Церкви к абсолютной Истине ее собственного Предания, сохранять живым и действенным тот критерий, в соответствии с которым Церковь судит самое себя.
Погруженная в стихию истории. Церковь всегда исполнена соблазнов, грехов и, что еще серьезнее, компромиссов и приспособления к духу «мира сего». Всегда есть соблазн предпочесть мир Истине, целесообразность — прямоте, человеческое преуспеяние — воле Божией. И поскольку в Православной Церкви нет видимого «непогрешимого» авторитета вроде папы, поскольку высшим критерием для нее всегда остается содержимая ею Истина, то и богословие является в ней тем особым служением, которое раскрывается в изучении и поисках Истины, дабы она стала известной и очевидной во всей ее чистоте и ясности. В этом заявлении нельзя видеть плод самонадеянности и гордыни. У богослова нет никаких прав, нет властных и административных полномочий, которые остаются функцией иерархии. Но его священный долг — снабдить иерархию и саму Церковь чистым учением о ней и стоять за Истину даже при заведомо неблагоприятных обстоятельствах.
Надо признать, что наше офицальное академическое богословие слишком часто не выдерживало такого «послушания», предпочитая всему на свете покойное самодовольство. Отсюда и многочисленные отклонения и искривления, от которых страдает сегодня вся Православная Церковь. И опять–таки совсем не то находим мы у Отцов. Почти все они так или иначе пострадали от всевозможных «силовых структур» своего времени за отказ идти на компромисс или молча подчиниться злу. Но в конечном счете вся Церковь шла за ними, а не за теми, кто, как и сегодня, находил множество законных оснований предпочесть «требования жизни» «отвлеченным принципам».
И сегодня профетическая функция богословия нужнее, чем когда–либо. Ибо, хотим мы того или нет, вся Православная Церковь переживает сейчас глубокий кризис. Он вызван многими причинами. С одной стороны, рухнул и почти полностью исчез мир, веками определявший и формировавший ее историческое бытиё. Под угрозой находится само существование древних традиционных центров церковного управления, и большинство их лишено элементарной свободы действий. Подавляющее большинство православных христиан живет в атмосфере притеснений и гонений со стороны режимов, открыто исповедующих воинствующий атеизм, в условиях, где основная задача не «прогресс», а выживание. Меньшинство посреди моря вражды — вот скорее правило, чем исключение, — правило, определяющее почти повсеместную жизнь православных. Всюду — и не только на Западе они сталкиваются с вызовом секуляристской, технологической и духовно враждебной им культуры. С другой стороны, возникновение большой православной диаспоры покончило с многовековой географической замкнутостью Православия в границах восточного мира, поставило Церковь перед беспрецедентной для нее проблемой нового административного устройства и приспособления к новым обстоятельствам. Отрицать факт кризиса может лишь слепой, но далеко не всякий зрячий видит его подлинную глубину и масштаб, и менее всего те иерархи, которые, оказавшись на передовой линии кризиса, ведут себя так, словно ничего не случилось. И никогда в прошлом не было такой пропасти между иерархией и «реальной» Церковью, такого несоответствия административной структуры Церкви насущным духовным нуждам церковного народа. Отличный пример тому — американский православный «микрокосм».
Итак, до каких пор мы будем жить в виде множества юрисдикции, либо соперничающих, либо просто не замечающих друг друга? Долго ли будем игнорировать стремительный упадок богослужения, деградацию духовенства и монашества — традиционных источников православного благочестия и преемства? Доколе, наконец, будем считать нормальным и чуть ли не традиционным положение, которое мы, будь у нас совесть, должны бы переживать как соблазн и трагедию? Но, как бы то ни было, многие православные люди убеждены, что час богословия пробил. Лишь глубокая, бесстрашная и конструктивная оценка ситуации в свете Предания Церкви, лишь творческое возвращение к самым источникам наших догматов, канонов и богослужения, лишь всецелая преданность церковной Истине помогут нам преодолеть кризис и претворить его в возрождение Православия. Знаю, что это трудная задача: многолетняя традиция научила богословов избегать острых углов и по возможности не вовлекаться». Знаю, что записной традиционализм, ничего общего не имеющий с Преданием, добился того, что самокритика и духовная свобода многим кажутся преступлением против Церкви. Знаю и то, что у многих представителей церковной администрации есть серьезные резоны не допускать никаких вопросов, никаких поисков, никакого соприкосновения с Истиной. Да, силы инерции, силы псевдоконсерватизма и откровенного цинизма очень велики. Но ведь то же самое можно сказать и об эпохе Афанасия Великого, Иоанна Златоуста и Максима Исповедника. Что же касается наших «больных» вопросов, то они ничуть не легче тех, над которыми бились и они. И лишь от нас самих зависит выбор между престижным покоем отвлеченной академической учености и следованием воле Божией.
Знаменательная буря
Несколько мыслей об автокефалии, церковном предании и экклезиологии
Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Еф 4:25
Буря, вызванная «автокефалией» православной Церкви в Америке, является, вероятно, одним из самых значительных кризисов православной церковной истории последних столетий. Или, вернее, она могла бы стать значительным событием, если бы те, кто в ней замешан, захотели принять ее как неповторимую возможность рассмотреть и разрешить ту церковную запутанность, на которую православные слишком долго закрывали глаза. Ибо Америка потому вдруг стала средоточием внимания и разгорания страстей православных, что положение Православия в Америке, являясь наиболее очевидным следствием этой запутанности, должно было рано или поздно выявить подлинную сущность и глубину поистине все–православного кризиса.
Не нужно много слов, чтобы описать положение в Америке. В 1970 году Православие в Америке существовало в следующем виде: одна греческая юрисдикция, три русских, две сербских, две антиохийских, две румынских, две болгарских, две албанских, три украинских, одна карпато–русская и несколько меньших группировок, которых мы не перечисляем, чтобы не усложнять картины. Внутри национальных подразделений каждая группа заявляла себя единственной канонической и не признавала других. Что касается критериев каноничности, они также были очень разнообразны. Некоторые группы видели этот критерий в юрисдикционной зависимости от Матери–Церкви, другие, подобно карпато–русской епархии, будучи не в состоянии назвать никакой определенной Матери–Церкви, видели его в «признании» Вселенским патриархом, третьи в еще иных категориях «преемства» и «законности». Некоторые из этих «юрисдикции» входили — а другие не входили — в «Постоянный синод православных епископов», неофициальный добровольный союз, созданный для объединения Православия в Новом Свете, который, однако, за десять лет своего существования не достиг согласия даже относительно общих принципов этого объединения. Такое исключительное и совершенно беспримерное положение существовало в течение нескольких десятилетий. Но еще более поразительно то, что оно ни в какое время не вызывало сколько–нибудь заметного беспокойства в Церкви вообще, по крайней мере в ее официальном проявлении. Никто, казалось, не замечал или не хотел признать, что Православие в Америке стало на деле явным опровержением всего того, что ученые православные представители на экуменических собраниях провозглашали в то же время как «сущность» Православия — истинной Церкви, Una Sancta
[28]. Я уверен, что для будущих историков это «положение в Америке», состоящее из постепенного дробления, тяжб, страстных споров и взаимной подозрительности, явится предметом нескончаемого удивления.
Буря поднялась в начале 1970 года, когда одна из самых больших и старых «юрисдикции» положила конец своей продолжительной ссоре с Матерью–Церковью, попросив и получив от нее статут полной административной независимости («автокефалии»), вычеркнула из своего наименования определение «русская», которое, после 175–летнего непрерывного существования на этом континенте, являлось явным пережитком, и приняла географическое определение («в Америке»), соответствующее ее местонахождению и ее призванию. И в то время как пятьдесят лет хаоса и разделений, запутанности и постепенного разрушения не вызывали во всей Церкви ничего, кроме безразличия, этот простой факт — возникновение православной Церкви в Америке, основанное на столь простых и эмпирических положениях, что Церковь в этой стране, после почти двухсотлетнего существования, имеет право быть независимой и может быть американской — вызвал бурю, которая все усиливается и в которую вовлечена уже вся православная Церковь.
Настоящая статья не имеет целью защищать «автокефалию». Цель ее — скорее исследовать природу и причины бури, вызванной «автокефалией», глубокие и, вероятно, почти бессознательные побуждения, кроющиеся за этими страстными реакциями. Того, что «автокефалия» была сначала встречена оскорблениями, обидными намеками и толкованиями
ad malem partem [29], следовало, вероятно, ожидать. Но оскорблениями ничего нельзя доказать или решить. И я убежден, что за ними кроется огромное и истинно трагическое недоразумение. Единственная цель, с которой я пишу эту статью — попробовать выявить и определить это недоразумение. Прежде всего нам нужно сейчас осмыслить создавшееся положение. Только тогда станет возможным более конструктивное и содержательное его обсуждение и изыскание общих решений.
2.
Основным и естественным «мерилом» в Православии всегда является
Предание. Следовательно, вполне нормально, что настоящий спор принимает форму «ссылок» на Предание, аргументации ех traditione
[30]. Менее нормально, но глубоко показательно для настоящего состояния Православия то, что эти «ссылки» и доводы приводят явно к прямо противоречивым и взаимно исключающим требованиям и утверждениям. Мы как бы толкуем разные предания, или одно и то же, но по–разному. Было бы, конечно, нечестно объяснять эти противоречия просто недостатком доброй воли, невежеством или эмоциональными причинами. Если для одних возникновение «Православной Церкви в Америке» является первым шагом в направлении к подлинному Преданию, а для других это начало канонического упадка, то причина тут несомненно глубже; мы действительно не только толкуем одно и то же Предание по–разному, но и ссылаемся на разные предания. Именно этот факт нам нужно понять и объяснить.
Напомним, во–первых, что православное понятие Предания нельзя свести к текстам и постановлениям, которые всякому, кто хочет что–либо доказать, остается только цитировать. Так, «Священными канонами», то есть общим для всех православных Церквей сводом канонических текстов, не исчерпывается каноническое предание. Это особенно важно отметить ввиду того, что основные слова, употребляемые в нашем теперешнем споре — «автокефалия», «юрисдикция» и т. д. — неизвестны нашим Священным канонам, и ссылки обычно делаются исключительно на разные «прецеденты» из прошлого. Такие ссылки на прошлое и на «прецеденты» всегда считались вполне законными с православной точки зрения, так как Предание несомненно включает наравне с текстами и факты. Но ясно и то, что не все «прошлое», в силу того, что оно прошлое, можно отождествлять с Преданием. В XVIII веке Вселенский престол «упразднил» сербскую автокефалию. Не так давно он «признал» еретическую «Живую Церковь» в России. Московские епископы повторно рукополагали епископа, избранного в патриархи. В то или иное время все существующие православные Церкви установили свою «юрисдикцию» в Америке. Являются ли все эти факты «каноническими прецедентами» просто потому, что они имели место в прошлом и были узаконены обиходом? Не ясно ли, следовательно, что само «прошлое» следует оценивать, и что критерий такой оценки не «фактический» («это было»), а экклезиологический, то есть состоит в соотношении к неизменному учению Церкви, к ее «сущности»? Если формы церковной жизни и организации меняются, то это для того как раз, чтобы сохранялась неизменной «сущность» Церкви; ибо иначе Церковь перестанет быть божественным учреждением и превратится в продукт исторических сил и развитий. И дело Предания всегда состоит в том, чтобы утверждать и раскрывать это существенное и неизменное «тождество» Церкви, ее «одинаковость» во времени и пространстве. Толковать Предание, следовательно, не значит «цитировать», но соотносить все факты, тексты, установления и формы с основной сущностью Церкви и понимать их смысл и значение в свете неизменной «сути» Церкви. Но тогда встает вопрос: каковы основной принцип и внутренний критерий такого толкования, такого соотношения с Преданием?
3.
Все православные канонисты и богословы всегда были согласны, что для канонического предания этот внутренний критерий составляют Священные каноны, то есть свод (corpus), включающий Апостольские постановления, постановления Вселенских и некоторых поместных соборов и правила, извлеченные из разных отеческих писаний. Этот corpus всегда и везде рассматривался как нормативный, не только потому, что он представляет собой самый ранний «пласт» нашего канонического предания, но потому, что его первичным содержанием и «мерилом» является именно «сущность» Церкви, ее основное строение и организация, а не исторически–условные формы ее существования. Этот пласт таким образом является нормой всего последующего канонического развития, внутренней меркой его «каноничности», самым контекстом, изнутри которого должно получать оценку все остальное в истории Церкви, будь то прошлое, настоящее или будущее.
Если это так — а до сих пор так оно всегда было по согласному мнению православных канонистов и богословов — то мы имеем здесь первую методологическую «нить» для разрешения нашего спора, принцип, по которому следует расценивать разнообразные наши «ссылки» на Предание. В таком случае очень показательно, что ссылки на это «сущностное» каноническое предание очень редки — если они вообще бывают — в споре, поднявшемся вокруг «автокефалии». Причина этому проста, и я уже упоминал о ней: Священные каноны практически не знают терминов, которые находятся в центре спора: «автокефалия», «юрисдикция» и т. д. И естественно является соблазн ссылаться на те «пласты» прошлого и на те «предания», из которых, как кажется, можно извлечь наиболее выгодным образом «доказательства» и «прецеденты». Но именно это и нужно определить как основную слабость и недостаток такого приема аргументации. Ибо, с одной стороны, вероятно возможно, при некоторой ловкости, найти «прецедент» и каноническое «оправдание» почти для чего угодно. Но, с другой стороны, все дело в том, что никакой «прецедент» как таковой не составляет достаточного канонического оправдания. Если понятие «автокефалии» появилось после установления нормативного предания, это не значит, что это понятие нет необходимости соотносить с этим последним, осмыслять его и оценивать в его экклезиологическом контексте. Невозможно осмысленно обсуждать вопрос о том, кто имеет «право давать автокефалию», если сначала не прийти к согласию относительно основного экклезиологического значения этого «права» и «автокефалии». Невозможно говорить о «каноничности» или «неканоничности» автокефалии, не рассмотрев сначала и не поняв ее в свете канонов, то есть основного и всеобщего канонического предания. Если «автокефалия» является — а с этим все согласятся — одним частным выражением или образом взаимоотношений Церквей друг с другом, то откуда, как не из сущностного предания, определить основную природу этого взаимоотношения?
4.
Мое первое заключение просто. Если понятия, такие как «автокефалия» или «юрисдикция», отсутствуют в каноническом предании, принятом всеми за нормативное, это самое отсутствие есть фактор огромной важности для правильного понимания и оценки этих понятий. Во–первых, это отсутствие не может быть названо «случайным»; если бы оно было случайным, мы бы непременно могли найти понятие равноценное. Его нельзя также приписать, скажем, «недоразвитому» характеру ранней экклезиологии, потому что это значило бы, что в течение нескольких столетий Церковь жила без чего–то существенного для самой ее жизни. Но тогда это отсутствие можно объяснить только одним фактом: значительным различием в самом подходе к Церкви между сущностным преданием и тем, которое появилось в позднейшую эпоху. Это различие нам и надо уяснить, чтобы понять подлинный экклезиологический смысл «автокефалии».
Даже поверхностное чтение канонических постановлений показывает, что очерченная ими Церковь не есть, как у нас теперь, сеть «самостоятельных» и «независимых» единиц, называемых патриархатами или автокефальными — или автономными — Церквами, в ведении которых («юрисдикции») находятся меньшие и подчиненные единицы, как «епархии», «экзархаты», «приходы» и т. д. Это «юрисдикционное» или «подчиненческое» измерение здесь отсутствует потому, что говоря о Церкви, раннее церковное предание имеет отправную точку и основное мерило в
поместной Церкви. Это раннее предание столько разбиралось и изучалось за последнее время, что здесь нет необходимости его подробно рассматривать. Для нас важно то, что поместная Церковь, то есть община, собранная вокруг своего епископа и клира
(clerus), есть
полная Церковь. Она есть проявление и пребывание в данном месте Церкви Христовой. И главная цель и назначение канонического предания — «охранять» эту полноту, «гарантировать», так сказать, что данная поместная Церковь полностью являет единство, святость, апостольность и кафоличность Церкви Христовой. Исходя из этой полноты, следовательно, каноническое предание регулирует отношение каждой Церкви к другим Церквам, их единство и их взаимозависимость. Полнота поместной Церкви, проявление в ней, в данном месте, самой Церкви Христовой, зависит, во–первых, от ее единства в вере, предании и жизни со всей Церковью повсеместно: от того, что она
та же Церковь. Это единство утверждается главным образом епископом, «литургическая» функция которого состоит в поддержании и охранении — в постоянном единении с другими епископами — преемственности и тождества во времени и пространстве вселенской и кафолической веры и жизни единой Церкви Христовой. Для нас главным пунктом, однако, является то, что, хотя она состоит в
зависимости от всех других Церквей, поместная Церковь не «подчинена» ни одной из них. Никакая Церковь не «подчинена» какой–либо другой Церкви, и никакой епископ не «подчинен» какому–либо другому епископу. Сама природа этой зависимости и, следовательно, единства между Церквами, не «юрисдикционного» характера. Это — единство веры и жизни, непрерывное преемство Предания, даров Духа Святого, которое выражается, исполняется и охраняется в рукоположении епископа другими епископами, в их регулярных соборах, короче, в органическом единстве Епископства, принадлежащего всем епископам
in solidum [31] (св. Киприан).
Отсутствие «юрисдикционного» подчинения одной Церкви другой, одного епископа другому не значит, что не существует иерархичности и порядка. В раннем каноническом предании этот порядок соблюдается разными уровнями первенства, то есть епископских и церковных центров, или очагов единства. Но опять–таки, первенство не есть «юрисдикционный» принцип. Если, согласно известному 34–му апостольскому правилу, епископы повсеместно должны признавать первого среди них, то же правило, утверждая это первенство, ссылается на Святую Троицу, в которой есть «порядок», но отнюдь не «подчинение». Функция первенства — выражать единство всех, быть его проводником и глашатаем. Начальный уровень первенства обычно «провинция», то есть область, в которой все епископы вместе с митрополитом участвуют в рукоположении епископа для этой области и собираются два раза в год на собор. Если бы нужно было применить понятие «автокефалии» к ранней Церкви, то его бы следовало применить к этому уровню провинции, так как основной признак «автокефалии» есть именно право избирать и рукополагать епископов в пределах определенной области. Следующий уровень первенства — более обширная географическая область: «Восток» с Антиохией, Азия с Ефесом, Галлия с Лионом и т. д. «Содержание» первенства в первую очередь доктринальное и моральное. Церкви какой–либо данной области обычно «почитают» Церковь, от которой они приняли Предание, и в случае кризиса и сомнения собираются вокруг нее, чтобы найти под ее руководством совместное решение своих затруднений. Наконец, существует также с самого начала вселенский «центр единства», вселенское первенство: первенство Матери Церкви Иерусалимской, в первую очередь, затем первенство Церкви Римской, которое даже современные римские богословы определяют, по крайней мере для этого раннего периода, в терминах «попечения» скорее чем какой–либо формальной «власти» или «юрисдикции».
Таково сущностное каноническое предание Церкви. И только в его свете мы можем понять истинное значение тех последующих «пластов», которые прибавились к нему и усложнили его в течение долгого земного странствия Церкви.
5.
Раннее строение Церкви было существенно изменено и «усложнено», как известно, событием, которое до сих пор остается важнейшим исключительным событием в истории Церкви: примирением Церкви с Империей и их союзом в форме христианской «ойкумены», христианского «мира». Экклезиологически это событие означало, главным образом, постепенное организационное включение церковных структур в административную систему Империи.
Я хочу сразу же подчеркнуть, что это включение и весь создавшийся вследствие его второй «пласт» нашего канонического предания, который можно назвать «имперским», нельзя рассматривать, с православной точки зрения, как преходящую «случайность» или, как думают некоторые западные историки, как результат «капитуляции» Церкви перед Империей. Нет, он является составной частью нашего предания, и православная Церковь не может отбросить Византию, не отбросив одновременно чего–то, что принадлежит к самой ее сущности. Но нужно понять, что этот пласт иной, основанный на иных предпосылках, и имеет таким образом иные последствия для православной экклезиологии. Ибо если первый пласт — одновременно и выражение и норма неизменной сущности Церкви, то основное значение этого второго, «имперского» пласта — то, что он выражает и регулирует историчность Церкви, то есть столь же существенную область ее отношения к миру, в котором ей надлежит совершать свое призвание и свою миссию. Самая природа Церкви такова, что она всегда и везде не от мира сего и получает свое бытие и жизнь свыше, не снизу, но в то же время она всегда принимает мир, к которому она послана, и приспособляет себя к его формам, нуждам и структурам. Если первый пласт нашего канонического предания относится к Церкви в себе, к тем структурам, которые, выражая ее сущность, не зависят от «мира», то второй пласт имеет своим предметом именно ее «принятие» мира, нормы, согласно которым она с ним связана. Первый имеет дело с «неизменным», второй — с «изменяемым». Так, например, Церковь является постоянной реальностью для христианской веры и опыта, тогда как христианская Империя не является постоянной реальностью. Но поскольку и до тех пор пока эта Империя, этот «христианский мир», есть реальность, Церковь не только принимает его de facto, но и входит в положительное и в некотором смысле органическое взаимоотношение с ним. Однако основная черта, «канонический» смысл этого взаимоотношения таков, что ничему мирскому не придается той существенной ценности, какую имеет Церковь. Для Церкви «образ мира сего» всегда «проходит» (1 Кор 7:31), и это относится ко всем формам и учреждениям мира. В рамках «христианской ойкумены» Церковь может легко признать за христианским Василевсом право созывать вселенские соборы или назначать епископов, или даже изменять территориальные границы и привилегии Церквей; несмотря на это, император не становится существенной категорией церковной жизни. В этом смысле второй канонический пласт преимущественно относительный, потому что сам предмет его есть жизнь Церкви внутри относительных реальностей «сего мира». Его функция — связывать неизменную сущность Церкви с всегда изменяющимся миром.
Теперь ясно, что то, что можно назвать
юрисдикционным измерением Церкви и ее жизни, получило основание именно во втором, «имперском» пласту нашего предания. Но нужно подчеркнуть сейчас же, что этот юрисдикционный слой не только не
заменил предыдущий, «сущностный» слой, но даже и не явился его
развитием. Даже теперь, после многих веков почти полного торжества «юрисдикционной» экклезиологии, мы говорим, например, что все епископы «равны по благодати», отрицая этим, что различия в чине (патриарх, архиепископ, епископ) имеют какое–либо «онтологическое» содержание. Совершенно необходимо понять, что этот «юрисдикционный» пласт, хотя вполне оправданный и даже необходимый в своей области применения, является
другим пластом, и нельзя его смешивать с пластом «сущностным». Корень различия находится в том факте, что юрисдикционная «власть» приходит Церкви не от ее
сущности, которая «не от мира сего», и стоит таким образом по ту сторону всякого
jus [32], но от ее пребывания «в мире» и, следовательно, взаимного отношения с ним. По своей сущности, Церковь — тело Христово, Храм Духа Святого, Невеста Христова; но эмпирически она также
общество, и как таковое — часть «сего мира» и состоит в «отношении» с ним. И если всякая попытка разделить и противопоставить эти две реальности одну другой приводит к еретическому развоплощению Церкви, то смешение обеих, сведение Церкви к человеческому, слишком человеческому «учреждению», одинаково еретично, потому что оно в конце концов подчиняет благодать закону
(jus), приводя к тому, что Христос, по слову апостола Павла, «умер напрасно». Суть дела в том, что «сущность» Церкви — которая не «юрисдикционна» — может и даже должна иметь «в этом мире» неизбежную «юрисдикционную» проекцию и выражение. Так, например, когда канон говорит, что епископ должен быть рукоположен «двумя или тремя» епископами, это само по себе не есть «юридическая» норма, но выражение самого существа Церкви как органического единства веры и жизни. Полное «толкование» и понимание этого канона необходимо требует, следовательно, соотнесения его с «сущностной» экклезиологией. Однако в то же время этот канон является, конечно, и правилом, практической и объективной нормой, первым и основным критерием для различения «каноничного» и «неканоничного» посвящения. Как «правило», как
jus, он и недостаточен и не самоочевиден, и сущность Епископства, конечно, не может быть к нему сведена. Однако именно это правило — верно понятое в экклезиологическом контексте — охраняет тождество «сущности» Церкви во времени и пространстве.
В первые столетия существования Церкви «этот мир», преследовавший ее, отказывал ей в каком–либо «легальном» статуте и «юрисдикции». Но при новом положении — в «христианской ойкумене» — Церковь нормально и неизбежно должна была получить и приобрести такой статут. Оставаясь «существенно» тем, чем она была, всегда есть и всегда будет в любом «положении», «обществе» и «культуре», Церковь получила внутри некоего данного положения «юрисдикцию», которой она раньше не имела и которую иметь для нее не «существенно», хотя и выгодно. Государство, даже христианское государство, всецело принадлежит «этому миру», то есть оно порядка jus, и оно не может выразить своего отношения к Церкви иначе, чем «юрисдикционным» образом. В категориях мира Церковь также есть в первую очередь «юрисдикция» — общество, структура, учреждение с правами и обязанностями, с привилегиями и правилами и т. д. Церковь может лишь требовать от государства, чтоб это «юрисдикционное» понимание не калечило и не изменяло ее «существенного» бытия, чтоб оно не было противоположно ее основной экклезиологии. Внутри, следовательно, этого нового «положения» и, фактически, от христианской Империи, Церковь получила, как бы в добавок к ее «существенной» структуре, также и юрисдикционную структуру, первоначально имевшую целью выразить ее место и функцию в Византийской «симфонии»: органическом союзе государства и Церкви в единой «ойкумене». Наиболее важная сторона этого юрисдикционного аспекта та, что в плане организационном, институционном, Церковь «последовала» за государством, то есть включила себя в его организационную структуру.
Наилучший пример, поистине «средоточие» этого включения и нового «юрисдикционного» порядка мы видим, несомненно, в месте и функции патриарха Константинопольского внутри Византийской «ойкумены». Никакой историк не станет отрицать теперь, что быстрое возвышение константинопольской кафедры объясняется исключительно новым «имперским» положением Церкви. Идеал «симфонии» между
Imperium и
Sacerdotium [33] — основа византийской «идеологии» — требовал церковного «эквивалента» императору, личного «центра» Церкви, соответствующего личному «центру» Империи. В этом смысле «юрисдикция» Константинопольского епископа как Вселенского (то есть «имперского») патриарха является
имперской юрисдикцией, и ее подлинный контекст и мерило находятся прежде всего в византийской теократической идеологии. И очень интересно отметить, что есть определенная разница между имперским законодательством относительно роли и функции патриарха и каноническим преданием того же времени. Канонически, то есть по отношению к «сущностной» экклезиологии, Константинопольский патриарх, несмотря на его исключительное «имперское» положение, оставался первоиерархом Восточной Церкви — хотя даже это первенство было дано ему по той причине, что город его был городом «Императора и государства» (IV В. С., 28), — и также первоиерархом своей «епархии». «Имперски», однако, он стал главой Церкви, ее «глашатаем» в Империи и ее звеном связи с Империей, «центром» не только Церковного единства и согласия, но и церковного «юрисдикционного» управления.
Мы знаем также, что эта «имперская» логика не была принята Церковью легко и без сопротивления: борьба против Константинополя старых «центров единства» или «первенств» — Александрийского и Антиохийского — свидетельствует нам об этом. Историческая трагедия, превратившая эти когда–то цветущие Церкви в один лишь след от них, положила конец этому сопротивлению; и на несколько столетий Новый Рим стал центром, сердцем и головой единой «Имперской» Церкви — религиозной проекцией Вселенской христианской Империи. «Юрисдикционный» принцип, хотя в теории все еще отличный от основной экклезиологии, занял центральное место. Поместные епископы, подобно гражданским правителям, постепенно стали лишь представителями и даже просто «делегатами» «центральной власти»: Патриарха и его теперь постоянного Синода. Психологически, в силу той же имперской и «юрисдикционной» логики, они стали даже его «подчиненными», как и подчиненными императора. То, что в начале было формой отношения Церкви с неким определенным «миром», стало проникать в самое мировоззрение Церкви и смешиваться с «сущностью» Церкви. И в этом, как мы увидим дальше, главный источник нашей настоящей запутанности и расхождений.
6.
Мы подходим теперь к третьему историческому «пласту» нашего предания, формирующий принцип и содержание которого не поместная Церковь, как в раннем предании, и не Империя, как в «имперском» предании, а новая реальность, возникшая из постепенного распадения Византии: христианская нация. Соответственно, мы назовем этот третий пласт национальным. Его появление прибавило новое измерение — но и новую усложненность — к православной экклезиологии.
Византия мыслила себя, по крайней мере в теории, в терминах универсальных, а не национальных. Даже накануне самого ее падения Византийский патриарх в длинном письме к русскому князю объяснял ему, что под небом может существовать только один император и одна Империя, точно так же, как на небе только один Бог. По идеологии и в идеале Империя была вселенская (притом «Римская», а не «Греческая», согласно официальному языку Империи), и ее «вселенскость» была главной основой, позволившей Церкви принять ее и войти с ней в союз.
Но теперь мы знаем, что эта византийская вселенскость начала, притом в сравнительно ранний период, растворяться в довольно узком «национализме» и исключительности, естественно питавшимися трагическими событиями византийской истории, как то: завоевание арабами византийских провинций, растущий напор турок, вторжение латинян в 1204 г., появление славянской угрозы на севере и т. д. В теории ничего не изменилось; на практике Византия становилась сравнительно маленьким и слабым греческим государством, универсальные притязания которого были все менее и менее понятны нациям, вовлеченным в ее политическую, религиозную и культурную орбиту: болгарам, сербам и, позднее, русским. Или, вернее, этим самым притязаниям, этой самой византийской идеологии парадоксально суждено было стать основным источником нового православного национализма. (Вторым источником явилось позднейшее превращение этого национализма под влиянием «светского национализма» 1789 г.). Все менее поддающиеся влиянию больной Империи, все более нетерпеливые по отношению к ее религиозно–политическим притязаниям, «нации», порожденные византийской идеологией, стали применять эту идеологию к самим себе. Из этого сложного процесса возникло понятие христианской нации, с национальным призванием, с некоей «соборной личностью» перед Богом. Для нас важно отметить, что только на этом уровне истории Восточной Церкви появляется понятие «автокефалии», которое если не по своему происхождению (оно употреблялось и раньше в различных смыслах, но никогда не систематически), то по крайней мере по своему применению является плодом не экклезиологии, а явления национального. Его основная историческая связь, таким образом, не чисто экклезиологическая и не «юрисдикционная», а национальная. Вселенской Империи соответствует «имперская» Церковь с центром в Константинополе: такова аксиома византийской «имперской» идеологии. Следовательно, не может быть независимости от Империи без соответствующей церковной независимости, или «автокефалии»: такова аксиома новых православных «теократий». «Автокефалия», то есть церковная независимость, становится таким образом самой основой национальной и политической независимости, статутом–символом новой «христианской нации». И очень показательно то обстоятельство, что все переговоры, касающиеся различных «автокефалий», велись не Церквами, а государствами: наиболее характерным примером здесь является процесс переговоров об автокефалии русской Церкви в шестнадцатом веке, — процесс, в котором сама русская Церковь практически не принимала участия.
Нужно еще раз подчеркнуть, что новая «автокефальная» Церковь, которая появляется сначала в Болгарии, потом в России и Сербии, — не просто «юрисдикционная» самостоятельная единица. Ее главное содержание — не столько «независимость» (потому что на деле она целиком зависела от государства), сколько именно национальность Церкви, другими словами, она определяет Церковь как религиозное выражение и проекцию нации, как носительницу национальной личности. И опять, однако, не следует рассматривать это как «отклонение», относиться к этому отрицательно и пренебрежительно. В истории православного Востока «православная нация» — не только реальность, но и во многих отношениях достижение; ибо несмотря на все недостатки, трагедии и предательства, действительно существовали такие «реальности» как «Святая Сербия» или «Святая Русь», действительно имело место национальное рождение во Христе, появлялось национальное христианское призвание; исторически же появление национальной церкви — в период, когда идеал, как и действительность вселенской христианской Империи и соответствующей ей «имперской Церкви» изнашивались — было вполне оправдано. Что не оправдано — это смешение такого исторического развития с основной экклезиологией и, в сущности, подчинение последней первому. Ибо когда самую сущность Церкви стали рассматривать в терминах национализма и сводить к нему, тогда то, что было само по себе вполне совместимо с этой «сущностью», оказалось началом тревожного церковного повреждения.
7.
Теперь, может быть, более понятно, что я хотел сказать, когда в начале этой статьи я говорил, что в наших теперешних канонических и экклезиологических спорах мы ссылаемся фактически на разные предания. Действительно, совершенно очевидно, что ссылки наши относятся к одному из трех пластов, кратко рассмотренных выше, как будто каждый из них является самодостаточным воплощением всего канонического предания. И еще совершенно очевидно, что в православном богословском и каноническом сознании никогда не было сделано усилия, чтобы дать этим трем пластам, и в частности их взаимосвязи внутри Предания, серьезную экклезиологическую оценку. Этот странный факт и является главным источником наших настоящих трагических недоразумений. Историческая причина такого полного отсутствия экклезиологической «рефлексии» и разъяснения опять–таки довольно проста. Практически до самого нашего времени и несмотря на постепенное исчезновение различных «православных миров» православные Церкви жили в духовном, структурном и психологическом контексте этих органических «миров», а это значит — по логике либо «имперского», либо «национального» предания, либо сочетания обоих. И нельзя не признать, что в течение нескольких столетий в Православии была почти полная атрофия экклезиологического мышления, какого–либо настоящего интереса к экклезиологии.
Падение Византии в 1453 г. такой экклезиологической реакции не вызвало, и мы знаем почему: исламическое понятие «религии–нации» (миллиет) обеспечило всему византийскому миру, оказавшемуся под турецким владычеством, преемство «имперского» предания. В силу этого принципа Вселенский патриарх облекся не только de facto, но даже и de jure функцией главы всех христиан; он стал как бы их «Императором». Это даже привело в некоторый период к упразднению первоначальных «автокефалий» (сербской, болгарской), никогда не вошедших на самом деле в византийскую систему (греки и теперь редко употребляют термин «автокефалия» как определенное экклезиологическое понятие) и всегда даровавшихся «с неохотой» и под политическим давлением. Можно сказать, что византийская «имперская» система была даже укреплена турецкой религиозной системой, потому что она еще усилила греческое «имперско–этническое» самосознание. Что же касается «Церквей–наций», родившихся до падения Империи, то они были либо поглощены монархией Вселенского престола, либо, как в случае России, приняли это самое падение за основу новой национальной и религиозной идеологии с мессианическими перегибами («Третий Рим»). Оба развития явно исключали какую–либо серьезную экклезиологическую рефлексию, совместную переоценку вселенских структур в свете совершенно нового положения. Наконец, влияние на после–патристическое православное богословие форм и категорий западной мысли перенесло экклезиологическое внимание с Церкви–Тела Христова на Церковь как «средство освящения», с канонического предания на различные системы «канонического права», или, выражаясь более резко, с Церкви на церковное управление.
Все это объясняет, почему в течение многих веков православные Церкви жили по всевозможным
statu quo [34], не пытаясь даже связать их между собою или дать им оценку внутри последовательного церковного Предания. Следует добавить, что эти века были временем почти полного отсутствия общения между Церквами, их взаимного отчуждения и роста вследствие этого взаимного недоверия, подозрительности и—не будем скрывать — иногда даже ненависти. Греки, ослабленные и униженные турецким владычеством, навыкли видеть — не всегда без основания — в каждом движении русских угрозу для своей церковной независимости, «славянскую» угрозу «эллинизму»; разные славянские группы, при взаимном враждовании, приобрели общую ненависть к греческому церковному «господству». Судьба Православия стала частью знаменитого «восточного вопроса», в котором, как всякий знает, западные «державы» и их христианские «учреждения» приняли большое и далеко не бескорыстное участие. Где во всем этом оставалось хоть какое–то место для экклезиологического размышления, для серьезного и совместного изыскания канонической ясности? Не много найдется во все–православной истории страниц более темных, чем те, которые относятся к «новому времени», бывшему для Православия — с несколькими замечательными исключениями — временем разделений, провинциализма, богословского склероза и, последнее, но не наименьшее —
национализма, который к этой поре был уже почти целиком «обмирщен» и, следовательно, проникнут языческим духом. Неудивительно, таким образом, что всякий вызов
statu quo, трагически незамечаемой и вошедшей в норму раздробленности, должен был неизбежно принять форму взрыва…
8.
Что именно Америка явилась поводом и центральной точкой такого «взрыва» — вполне естественно. Возможности открытого кризиса были очень малы, пока православные Церкви жили в своих соответствующих «мирах» в почти полной разобщенности. То, что происходило в одной Церкви, почти не имело никакого значения для других. Так, своеобразная греческая «автокефалия» 1850 г. рассматривалась как внутреннее греческое дело, а не как событие, имеющее экклезиологическое значение для всех Церквей. То же отношение преобладало и в других случаях — при развитии сложных церковных событий в Австро–Венгерской империи, «болгарском расколе», чисто административном «упразднении» русским правительством — не Церковью — древней грузинской «автокефалии» и т. д. Все это была политика, а не экклезиология. Российское министерство иностранных дел, западные посольства в Стамбуле и Афинах, императорский двор в Вене, темные интересы и интриги Фанарских семей
[35] были в эти времена более важным фактором в жизни православной Церкви, чем одинокие размышления о природе и сущности Церкви какого–нибудь Хомякова…
В Америке, однако, этому положению суждено было дойти до «момента проявления истины». Здесь, в главном центре православной «диаспоры», православной миссии и свидетельства на западе, экклезиологический вопрос по преимуществу — вопрос о природе и единстве Церкви, об отношении в ней канонического порядка и жизни, вопрос о подлинном значении и подлинных выводах из содержания самого термина православный, проявился наконец как жизненный — не академический — вопрос. Здесь трагическое расхождение между различными пластами православного прошлого, многовековое отсутствие какого–либо серьезного экклезиологического размышления, отсутствие «общего мнения» проявились как поистине трагическая очевидность.
Во–первых, положение в Америке выявило гипертрофию
национального принципа, его практически полное разобщение с «сущностной» экклезиологией. Национальный принцип, в ином экклезиологическом контексте и в связи с подлинным каноническим преданием явившийся действительно принципом единства и таким образом приемлемой формой выявления Церкви («в одном месте одна Церковь»), в Америке явился как раз обратным: принципом разделения, выражением порабощения Церкви разделениям «сего мира». Если в прошлом Церковь
объединяла и даже
создавала нацию, здесь национализм
разделял Церковь и стал таким образом настоящим отрицанием, карикатурой своей собственной изначальной функции. Это
reductio ad absurdum прежде положительного и приемлемого принципа может наилучшим образом быть показано на примере Церквей, в «Старом Свете» бывших свободными от «национализма». Возьмем, например, Антиохийский патриархат, никогда не имевший никакого националистического «лица», сравнимого с русской или сербской Церквами: довольно парадоксальным образом «распространение», почти спорадическое, этого Патриархата в «Новом Свете» создало мало–помалу «национализм»
sui generis [36], во всяком случае национализм «юрисдикционной личности».
В Америке национальный принцип вылился во что–то совершенно новое и беспримерное: каждая «национальная» Церковь претендовала теперь
de facto на вселенскую юрисдикцию на основе национальной «принадлежности». В «Старом Свете» даже в апогее церковного национализма богатые и могущественные русские монастыри на Афоне никогда не оспаривали юрисдикцию Вселенского патриарха, так же как и очень многочисленные греческие приходы южной России не оспаривали юрисдикции русской Церкви; что касается русского прихода в Афинах, он и сейчас состоит в юрисдикции греческой Церкви. Каков бы ни был их внутренний национализм, все Церкви знали свои
пределы. Мысль о том, что эти пределы чисто национальные, что каждый русский, грек, серб или румын
принадлежит своей Церкви, где бы он ни жил, и что
ipso facto [37] каждая национальная Церковь имеет канонические права повсюду — есть таким образом новая мысль, поистине результат
reductio ad absurdum. Появились даже «Церкви в изгнании», с «территориальными» титулами епископов и епархий; появились национальные продолжения несуществующих Церквей; появились, наконец, иерархия, богословие, даже духовность, защищающие все это как нечто вполне нормальное, положительное и желательное.
В раннем и основном предании территориальный принцип устройства Церкви (в одном месте одна Церковь, один епископ) был так централен и так важен именно потому, что он был действительно основным условием для того, чтобы Церковь была свободна от «сего мира», от всего временного, случайного и несущественного. Церковь знала, что она одновременно и у себя, и в изгнании всюду, она знала, что она во–первых и преимущественно новый народ и что самая ее «структура» была выражением всего этого. Отказ от этого принципа в рассеянии неизбежно привел к постепенному порабощению Церкви тем — и к отождествлению ее с тем, — что как раз является случайным и временным, будь то политика или национализм.
Несовместимость между таким умонастроением и самой идеей американской «автокефалии» столь очевидна, что нет нужды ее доказывать или пояснять. Итак, в национальном пласту нашего предания — пласту, почти совершенно отделившемся от существенного предания Церкви и даже ставшем «самодовлеющим», — находим мы первый locus, причину и выражение нашего настоящего церковного кризиса.
9.
Но он не единственный. Почти все православные Церкви страдают в той или иной степени гипертрофией национализма и «ссылаются» почти исключительно на национальные «прецеденты» из православного прошлого. Но нашедший на нас «час обнаружения правды» касается также и «пласта», названного нами имперским. В нем мы действительно находим корень синдрома, составляющего самую сердцевину специфически греческой реакции в теперешней буре.
Конечно, не простая случайность, если самая резко–отрицательная реакция на «автокефалию» была со стороны Вселенского патриархата. Эта реакция, однако, настолько не соответствует всему личному облику патриарха Афинагора — облику, сочетающему экуменическую широту, всеобъемлющее понимание и сострадание, противление узости взглядов во всех ее формах, открытость для диалогов и переоценок, — что ее, конечно, никак нельзя объяснить чем–то личным и мелким. Невозможно также эту реакцию приписать похоти власти, желанию управлять православной Церковью на «папский» манер, желанию подчинить Константинополю всех православных христиан в рассеянии. Действительно, в течение нескольких десятилетий юрисдикционного плюрализма в Америке и других местах Вселенский патриарх не осуждал его как «неканоничный» и не изъявлял никаких прямых и конкретных притязаний на эти земли как на принадлежащие его юрисдикции. Даже в самых недавних документах, исходящих от этого Патриархата, основной темой является защита statu quo, а не прямое юрисдикционное притязание. В частности, мысль поручить Вселенскому престолу разрешение канонических проблем диаспоры развивалась каких–нибудь двадцать лет назад группой русских богословов (включая автора), но встретила со стороны греческих и Фанарских кругов полное безразличие. Все это показывает, что подлинную мотивацию, кроющуюся за греческой «реакцией», надо искать в чем–то другом. Но в чем?
Ответ на этот вопрос лежит, по моему убеждению, в развитии церковного положения, разбиравшемся на предыдущих страницах. Именно в имперском пласту этого развития нам следует искать объяснения чего–то основного в греческом религиозном умонастроении: его почти полной неспособности понять и, следовательно, принять послевизантийское развитие православного мира. Если практически для всех остальных православных основная «мера» их церковного умонастроения — просто национальная, то национализм греческого умонастроения именно не прост. Корни этого национализма не находятся, как для других православных, в реальности и опыте «Церкви–нации», но прежде всего в реальности и опыте Византийской ойкумены, а это значит — в том пласту прошлого, который мы назвали имперским. Так, например, Церкви Элладская и Кипрская, или даже патриархаты Александрийский и Иерусалимский являются, говоря технически, автокефальными Церквами; но для них эта «автокефалия» имеет смысл, глубоко отличный от того, который ей дают русские, болгары или румыны, и действительно, они очень редко — если вообще — употребляют этот термин. Потому что, каков бы ни был их юрисдикционный статут или устройство, в их сознании — или скажем лучше подсознании — они все еще органические части большого целого; и это «целое» не есть Вселенская Церковь, а именно Византийский мир, с Константинополем в качестве его священного центра и очага.
Несомненно, центральным и решающим фактом послевизантийской религиозной истории является это бессознательное, однако очевидное
превращение «имперского» пласта в существенный пласт православного предания, превращение Византии в постоянное, основное и нормативное измерение или знак
(nota) самого Православия. Причины этого парадоксального процесса слишком многочисленны и сложны, чтобы их можно было здесь хотя бы перечислить. Некоторые из них имеют корни в самой Византии, некоторые — в долгом турецком пленении, некоторые — в более недавних пластах греческой истории. Но факт налицо: предание, которое мы определили выше как обусловленное основной историчностью Церкви, то есть «принятием» преходящих и относительных «миров», с которыми она связана в продолжении ее земного странствия, привело к его противоположности: столь же основному
анти–историчному и
без–историчному характеру греческого мировоззрения. Византия для греков не является одной из глав — будь то центральной, важной и во многих отношениях решающей — в истории нескончаемого «странствия» Церкви, но полнотою истории, ее постоянным
terminus ad quem [38], за пределом которого ничего значительного не может «случиться» и который поэтому можно только охранять.
Реальность этого исключительного и вершинного «мира» не зависит от истории. Историческое крушение Империи в 1453 г. не только не разрушило его, но, напротив, освободив его от всего чисто «исторического», то есть временного и преходящего, превратило в подлинно сверх–историческую реальность, сущность, более не подверженную историческим превратностям. «Исторически» имперский город может полтысячелетия называться Стамбулом, — для греков он
есть Константинополь, Новый Рим, сердце, центр и символ «реальности», стоящей вне всякой истории.
Но подлинно парадоксальный характер этой «реальности» состоит в том, что ее нелегко отождествить с какой–либо «формой» или «содержанием». Это, конечно, не Византийская империя как таковая, не «политическая» мечта о возможном ее историческом восстановлении. Греки слишком практичны, чтобы не понимать иллюзорности такой мечты, и на деле они отрываются от родины гораздо легче, чем многие другие православные, их «приспособление» ко всякому новому положению обычно бывает более успешно и они несомненно не перенесли никакой византийской и «теократической» мистики на современное греческое государство. Но это и не «содержание» ее — в смысле, например, особой верности или интереса к доктринальной, богословской, духовной и культурной традиции Византии, — не тот «православный византизм», который составляет существенную часть православного предания. Греческое академическое богословие не менее — если не более — «озападнилось», чем богословие других православных Церквей; и большое патриотическое, литургическое, иконографическое возрождение нашей эпохи, новое и страстное открытие византийских «истоков» православия началось не в Греции и не среди греков. Итак, тот «византийский мир», который представляет собой основное «мерило» — сознательное или главным образом несознательное — греческого религиозного умонастроения, не есть ни историческая Византия, ни духовная Византия. Но тогда что же он такое? Ответ — решающего значения для понимания греческого религиозного и экклезиологического мировоззрения: Византия как одновременно основание и оправдание греческого религиозного национализма. Действительно, именно это исключительное и поистине парадоксальное соединение двух различных, если не противоречивых, пластов исторического развития православного мира стоит в самом центре огромного и трагического недоразумения, в свою очередь порождающего во многих отношениях наш настоящий церковный кризис.
Я называю это соединение парадоксальным, потому что, как я уже сказал, сама «сущность» византийского «имперского» предания была не национальной, а универсальной. И только эта универсальность — как бы она ни была теоретична и несовершенна — позволила Церкви «принять» самую Империю и сделать из нее свое земное «обиталище». Византийцы называли себя римлянами, а не греками; потому что Рим, а не Греция, был символом вселенскости, и по этой причине новая столица могла называться не иначе как «Новым Римом»; до седьмого столетия официальным языком византийских государственных канцелярий был латинский, а не греческий язык; и наконец, Отцы Церкви пришли бы в ужас, если бы кто–нибудь назвал их «греками». Здесь кроется первое и самое глубокое недоразумение. Потому что когда проф. прот. Г. Флоровский говорит о «христианском эллинизме» как о постоянном и основном измерении христианства, когда митрополит Филарет Московский определяет в своем «катехизисе» православную Церковь как «греко–кафолическую», они очевидно не имеют в виду что–то «этническое» или «национальное». Для них «христианский эллинизм» — в богословии, литургии, иконографии — не только не тождествен с «греческим», но и является во многих отношениях прямым «противоядием» последнего, плодом длительного и подчас болезненного и критического «претворения» греческих категорий. Борьба между «греческим» и «христианским» составляет самое содержание великой и навеки нормативной патриотической эпохи, ее подлинную «тему». И именно «греческое» возрождение, возникновение не связанного более с христианским эллинизмом греческого национализма явилось, в последние годы Византии, одним из основных факторов Флорентийской трагедии.
То, что случилось с греческим умонастроением, было, таким образом, результатом не эволюции и развития, а превращения. Трагические события в истории Империи, горький опыт турецкого владычества, борьба за сохранение жизни и за освобождение видоизменили византийское «имперское» предание, придали ему смысл прямо противоположный тому, который оно имело вначале и который оправдывал принятие его Церковью. Универсальное было заменено «национальным», христианский эллинизм — «эллинизмом», Византия — Грецией. Исключительная и универсальная христианская ценность Византии была перенесена на самих греков, на греческую нацию, которая приобрела теперь, из–за исключительной идентификации с «эллинизмом», новую и исключительную ценность. Очень характерно, однако, что даже когда иерархи греческие говорят об «эллинизме», они имеют в виду не столько христианский эллинизм Византии, сколько древнегреческую культуру, Платона и Пифагора, Гомера и Афинскую демократию, как будто бытие греком делает человека почти в исключительном смысле «наследником» и носителем этого эллинизма.
Но на самом деле этот «эллинизм» есть греческое выражение общего для всех современных наций светского национализма, имеющего свои корни во французской Революции 1789 года и в европейском романтизме. Как всякий национализм такого типа, он построен на мифологии, частично «светской» и частично «религиозной». В мирском плане это миф об исключительном взаимоотношении греков с тем «эллинизмом», который является общим источником и основанием всей западной культуры. В религиозном плане это миф об исключительном взаимоотношении с Византией, христианской «ойкуменой» — общим основанием всех православных Церквей. И именно эта двойная мифология, или скорее ее давление на греческое церковное мышление, делает экклезиологический диалог с греками столь трудным.
10.
Первая трудность заключается в разном понимании места и функции внутри православной Церкви патриарха Вселенского. Все православные Церкви без исключения признают его первенство. Есть, однако, существенная разница в понимании этого первенства между греческими Церквами и всеми остальными.
Для не–греческих Церквей основным мерилом его первенства является «сущностная» экклезиология, которая всегда, и с самого начала, признавала вселенский центр единства и согласия, и следовательно taxiz , порядок старшинства и чести между Церквами. Вселенское первенство таким образом одновременно и сущностное, в том смысле, что оно всегда существует в Церкви, и историческое, в том смысле, что его «принадлежность» может меняться и на самом деле менялась; ибо она зависит от исторического положения Церкви в данный период. Первенство Константинополя было установлено Вселенскими Соборами, согласием всех Церквей; это делает его «сущностным», потому что оно является действительно выражением согласия Церквей, их единства. Одинаково верно, однако, что оно было установлено в определенном историческом контексте как экклезиологический ответ на определенное положение: возникновение вселенской христианской Империи. И хотя сегодня во всей православной Церкви никто не ощущает и не выражает необходимости какого–либо изменения в «чинопорядке» Церквей, такие изменения имели место прежде и, во всяком случае теоретически, могут случиться и в будущем. Так, например, в случае «обращения» в православие Римо–католической Церкви «вселенское первенство» может вернуться — как может и не вернуться — к первому Риму. Такова в своей наипростейшей форме экклезиологическая установка всех не–греческих православных Церквей. Вполне принятое первенство Константинопольского патриарха не имеет здесь никакого «национального» истолкования и не подразумевает никакого Божественного и, следовательно, вечного характера taxiz'a, чинопорядка Церквей. В случае необходимости согласием Церквей, выраженным посредством Вселенского Собора, данный чинопорядок может быть изменен, как он уже изменялся и прежде — в случае Антиохии и Иерусалима, Ефеса и Кипра, и самого Константинополя.
Эта теория, однако, — «анафема» для греков, и здесь именно становится явной двусмысленность современной православной экклезиологии. Для греков «мерило» первенства Вселенского престола находится не в каком–либо определенном экклезиологическом предании, будь оно «сущностным» или «имперским», но в исключительном положении, занимаемом Вселенским патриархом внутри того «эллинизма», который, как мы только что видели, составляет «сущность» их религиозного мировоззрения. Ибо если мирской центр этого «эллинизма» находится в Афинах, то религиозный его очаг и символ несомненно находится в Константинополе. В течение долгих веков турецкого владычества Патриарх был
религиозным этнархом греческой нации, очагом и символом ее продолжающейся жизни и ее подлинного лица. И этим Вселенский престол остается для греков и по сей день — реальностью порядка не столько экклезиологического и канонического, сколько в первую очередь духовного и психологического. «Канонически» греки могут «принадлежать» или «не принадлежать» к Патриархату. Так, элладская Церковь независима от Патриархата, в то время как всякий грек, проживающий в Австралии или Латинской Америке, находится в его «юрисдикции». Но каков бы ни был их «юрисдикционный» статут, они все
под Константинополем. Здесь важен не Константинополь как вселенский центр единства и согласия, а Константинополь как таковой, Вселенский престол как носитель и хранитель «эллинизма». Первенство Константинополя приписывается теперь к самой сути
(esse) Церкви, становится само по себе
nota Ecclesiae [39]. Экклезиологическая формула:
''существует Константинополь, которому Церковь вверила вселенское первенство» становится:
«должен быть Константинополь». Но трагическая двусмысленность этого положения как раз состоит в том, что Первоиерарх, чья функция — свидетельствовать о
вселенскости Церкви, быть хранителем того «христианского эллинизма», который предохраняет каждую Церковь от полного отождествления с «национализмом», в то же время является для одной отдельной нации носителем и символом именно ее
национализма. Вселенское первенство становится первенством «греков».
Эта двусмысленность в греческом религиозном и национальном мировоззрении и сделала — и до сих пор делает — столь затруднительным для греков понимание истинного значения после–византийского православного мира, его подлинных проблем, его единства и разнообразия. Они не поняли, что падение Византийской империи не было непременно и концом православного единства, основанного на общем принятии православной Византии, то есть «христианского эллинизма». Ибо дело в том, что славяне, например, искавшие независимости от Империи, были на деле не менее «византийцами», чем греки, и независимости они добивались от греков, а не от «христианского эллинизма». Первая болгарская империя — империя Бориса и Симеона — была истинно «византийская» во всем своем этосе, культуре и, конечно, религиозной традиции. Проф. прот. Г. Флоровский в «Путях русского богословия» говорит о «раннем русском византинизме». Все эти молодые нации не имели культурной традиции, подобно тому как ее имели греки в Древней Греции, и их исходная и формирующая традиция, та, от которой они получили свое «рождение» и которая сделала их православными нациями, была христианская византийская традиция. И несмотря на все конфликты, недоразумения и разобщения, это единство в византийской традиции никогда в действительности не разрывалось и не забывалось, но всегда составляло общую основу, самую форму единства всего православного Востока.
Но для греков, постепенно оказавшихся в плену у отождествления «византийского» с «греческим», с национальным и даже этническим сужением византинизма, всякая попытка установить политическую и церковную независимость от Империи — со стороны славян, или христиан–арабов, или румын — означала почти автоматически угрозу «эллинизму», попытку уничтожить греков и их первородство внутри Православия. Они никогда не смогли понять, что существенное единство православного мира не есть единство ни национальное, ни политическое, ни даже юрисдикционное, но есть именно единство «христианского эллинизма», православного воплощения основного христианского Предания. И они не поняли этого потому, что отождествили «христианский эллинизм» с «эллинизмом», то есть с греческой национальной и этнической «личностью». Славяне в этой перспективе воспринимались как чуждая и преимущественно «варварская» сила, направленная на уничтожение «эллинизма». И поскольку славяне были сильны, а греки слабы, то этот взгляд принимал иногда почти параноические формы. После освобождения Греции в XIX в. и появления нового «западного» греческого национализма, «пан–славизм» стал — не без помощи западных держав — настоящим пугалом, синонимом Угрозы и Врага — с большой буквы. Здесь следует прибавить, что русская имперская политика в «восточном вопросе» не всегда способствовала утолению этих страхов и, несомненно, ее тактика была часто отталкивающа, но верно и то, что и на самой вершине своего собственного русского мессианизма и империалистического национализма никогда русское православное сознание не оспаривало первенство Константинополя и древних восточных Патриархатов и не оказывало никакого давления, чтобы изменить «чинопорядок» православных Церквей. Наоборот, XIX век в России был отмечен возрождением именно «византийских» интересов, возвращением к «христианскому эллинизму» как к источнику Православия, возвращением к подлинно вселенской православной экклезиологии, постепенным освобождением от узкого, псевдо–мессианского национализма «Третьего Рима». Каковы бы ни были различные «дипломатические» трудности, в плане экклезиологическом в эту эпоху настоящим препятствием для того, чтобы православная Церковь могла вновь обрести свое существенное единство, был не какой–нибудь мифический «пан–славизм», а узко–националистическое сведение греками «христианского эллинизма» к «эллинизму».
Все это объясняет, почему греческий церковный «официальный мир» (мы не говорим здесь о народных настроениях, в которых всегда как–то сохранялась интуиция православного единства) никогда по–настоящему не принял после–византийского церковного развития, никогда не допустил его в свое мировоззрение. Различные «автокефалии», дарованные в течение и после византийского периода, были «уступками» и «приспособлениями», а не признанием чего–то нормального, чего–то «соответствующего» новому положению, подобно тому, как признание «Имперской Церкви» «соответствовало» предыдущему положению — христианской Империи. Потому что для этого нового положения не было места в греческом религиозном умонастроении, и оно на самом деле рассматривалось как случайное и временное. По этой причине ни одна «автокефалия» не была дана свободно, но всегда являлась результатом борьбы и «переговоров». По той же причине даже сегодня принцип «автокефалии», составляющий основной принцип нынешнего устройства Церкви, никогда не понят вполне греческим «официальным» церковным миром как в своем «исходном положении» («право давать автокефалию»), так и в своей «модальности» (вытекающие из него последствия для меж–Церковных отношений).
Одна вещь тем не менее ясна и составляет, вероятно, высший парадокс всего этого развития. Нехотя признав принцип автокефалии
de facto, греческий «официальный» церковный мир как будто оправдывает его тем самым рассуждением, которое заставило греков отбрасывать его и бороться против него: идеей о
существенной разнице между эллинским и разными не–эллинскими «православиями». Если в прошлом они боролись против «автокефалий» потому, что отбрасывали мысль, что «христианский эллинизм» — как сущность Православия — может иметь какое–либо другое экклезиологическое выражение, кроме «Имперской Церкви» — а она греческая, — то теперь они признают их потому, что, заменив на деле «христианский эллинизм» — «эллинизмом», думают, что другие «православия» должны непременно быть выражением каких–то других «сущностей»: «русское православие», «сербское православие» и т. д. И так же, как призвание «греческого православия» состоит в том, чтобы охранять эллинизм, призвание других Церквей состоит в том, чтобы охранять их собственные — сугубо «национальные» — сущности. Завершив таким образом свой полный круг, «имперское» мировоззрение сомкнулось с «национальным». И это было неизбежно, если вспомнить, что настоящий источник современного «национализма» находится не в христианстве, но в идеях французской Революции 1789 г., действительной «матери» мелких, фанатических и отрицательных «национализмов» XIX и XX столетий. То, что делает, однако, этот новый греческий национализм (не византийский, а
современный) отличным от других православных «национализмов», — это оставшееся в нем от его имперского прошлого убеждение, что среди всех православных «сущностей» греческая «сущность» имеет первенство, занимает
jure divino [40] первое место. Забыв, что не «эллинизм» как таковой, но «христианский эллинизм» составляет настоящее единство Православия и действительно имеет духовное и вечное «первенство» над всеми другими его «выражениями», отождествив этот «эллинизм» с собой самими, греки претендуют на «первенство», которое действительно могло бы им принадлежать, но на основании совершенно иных предпосылок. В этом заключается в наше время основная двусмысленность «вселенского первенства» в православной Церкви. Принадлежит ли оно первому среди епископов, тому, кого «согласие» всех Церквей уважает, любит и почитает в лице Вселенского патриарха, или принадлежит оно духовному главе и носителю «эллинизма», христианская ценность и принадлежность которого так же сомнительны, как и любого иного современного полу–языческого национализма?
11.
Мы можем прервать на этом наши размышления об истинной природе и о причинах нашей теперешней бури. Я уверен, что пока вопросы, поднятые в этой статье, не получат ответа, все наши споры и препирания относительно новой «автокефалии» останутся поверхностными, несущественными и в конечном итоге бессмысленными. Ответить на них, однако, непременно значит достигнуть глубокого и конструктивного выяснения самой православной экклезиологии.
То, что произошло, или вернее, что происходит в Америке, можно свести к простой формулировке: это почти вынужденное возвращение к сущностной экклезиологии, к самым ее корням, к тем основным нормам и предпосылкам, к которым Церковь всегда возвращается, когда она оказывается в новом положении в «сем мире», «образ» которого преходит. Я говорю «вынужденное», потому что это возвращение есть плод не абстрактного «академического» размышления, но плод самой жизни, обстоятельств, в которых Церковь обнаруживает — с трудом и не без мук и страданий, — что единственный для нее путь, чтобы выжить, это именно — быть Церковью, быть тем, что вечно сияет и светит нам в первичной и существенной экклезиологии, в которой исключительный и вечный опыт, форма и сознание Церкви — самое ее существо — нашли свое выражение.
То обстоятельство, что до сих пор только одна «часть» православной Церкви в Америке была «вынуждена» к такому возвращению, потому что ее собственное положение сделало это неизбежным; что это вызвало страсти, страхи и подозрения; что некоторые внешние «факторы» делают некоторые из опасений понятными — все это естественно, все это было, вероятно, неизбежно. Страх, однако, плохой советчик. Только если мы способны поставить наши вопросы на том уровне, на котором единственно и можно дать на них ответ, — на уровне «сущностной» экклезиологии, — только если мы способны увидеть и оценить факты в этой основной перспективе, буря окажется осмысленной и приведет к общей победе.
Рано или поздно станет ясно всем, что не сосредоточением усилий на охранении «эллинизма», или «руссизма», или «сербизма» сохраним мы Православие; но, напротив, сохраняя и исполняя требования Церкви, мы спасем и все то, что есть существенного в разных воплощениях христианской веры и жизни. Если проф. прот. Г. Флоровский, русский богослов, живущий и работающий «в изгнании», имел смелость (в своих «Путях русского богословия») обличить и осудить отклонения «руссизма» от «христианского эллинизма» и освободить таким образом целое поколение русских богословов от последних остатков псевдо–мессианского религиозного национализма, то не время ли и грекам — хотя бы одному — совершить такую же трудную, но освободительную, операцию относительно двусмысленностей «эллинизма»?
Рано или поздно станет ясно, что Вселенский патриарх, чтобы нести свое «вселенское первенство», должен будет осуществлять его не посредством оборонительных и отрицательных реакций, сомнительных «ссылок» на столь же сомнительные и неприменимые «прецеденты» и «предания», а через созидательное руководство, направляя Церковь к исполнению ее сущности на всяком месте владычества Господня. Лично я посвятил слишком большую часть моей богословской жизни «защите» вселенского первенства Константинопольского патриарха, чтобы меня можно было обвинить в «анти–Константинополитанстве». Это первенство, его необходимость для Церкви, его огромное потенциальное значение для Православия, я еще раз здесь торжественно исповедую и утверждаю. Однако это первенство, для того, чтобы оно вновь стало «тем, что оно есть», должно быть очищено от всех двусмысленностей, от всех не–существенных «контекстов», от всех национальных выводов, от зависимости от чего бы то ни было прошлого, настоящего или будущего, что не есть Церковь и только Церковь. Это, может быть, в настоящее время для вселенского первенства наиболее насущная задача: освободить нас от языческих и еретических национализмов, которые душат вселенское и спасительное призвание православной Церкви. Нам нужно перестать говорить о наших «славах». Потому что слава в подлинном Предании Церкви принадлежит одному Богу, и для прославления Бога, а не самой себя, основана Церковь. Когда мы это поймем, невозможное для человеков станет возможно Богу.
Прощеное воскресенье, 1971
Литургическая реформа: Дебаты
В. Жардин Грисбрук
Литургическое богословие и литургическая реформа: некоторые вопросы
Протопресвитер Александр Шмеман
Литургическое богословие, богословие литургии и литургическая реформа
В. Жардин Грисбрук
Литургическое богословие и литургическая реформа: некоторые вопросы
Комментарии Дома Ботта «О литургическом богословии» и «Краткий ответ» на них отца Александра Шмемана поднимают так много важных вопросов, что остается только надеяться, что диалог этих видных ученых–литургистов продолжится, и они еще не раз поделятся с нами своими мыслями по этому предмету
[41]. В особенности приятно читать расширенный вариант ответа о. Александра Шмемана на вопрос, поставленный Домом Боттом в последнем параграфе его комментариев.
«Задача литургического богословия, — пишет Дом Ботт, — заключается в том, чтобы вернуть наиболее важное и поставить второстепенное на свои места. Подразумевает ли это литургическую реформу? Именно этот путь был избран в случае с римской литургией. Возврат к основополагающим принципам привел к «чистке» и к новому творчеству. Было обнаружено, что жесткие формы перестали соответствовать как смыслу литургии, так и нуждам христианского народа. Возможно ли и подобное изменение византийской литургии и желательно ли оно? Я не могу дать компетентного ответа на этот вопрос. Здесь ситуация отличается от ситуации с римской литургией, где «рубрики» имеют абсолютную жесткость. Восточная церковь всегда сохраняла некоторую гибкость, хотя свобода византийского предстоятеля не беспредельна. Нуждается ли Восток в реформе? Настало ли для нее время? Колебания и сопротивление тут очень понятны. Римская реформа готовилась около половины столетия, но до сих пор можно поставить вопрос — не слишком ли быстро развивались события? Изменения были слишком внезапными, и эта мания экспериментаторства выливалась то здесь, то там в анархию. Понятно, что такой опыт питает колебания восточных. Незрелые и односторонние реформы могут принести больше вреда, чем пользы. И тем не менее — должна ли идея реформы быть окончательно отвергнута? Не должно ли литургическое богословие подготовить фундаментальные принципы такой реформы, которая уважала бы Предание и следовала бы ему? На этот вопрос отец Александр Шмеман может ответить более квалифицированно».
«Что касается необходимости литургической «реформы» в Православной церкви, отвечает отец Александр Шмеман, то мне кажется, что эта идея должна быть проработана. Поскольку если что и было доказано лихорадочными реформами и изменениями на Западе, то только то, что сами по себе и сами в себе они не могут достичь того, что представляется их целью. Литургия — это живое предание, и здесь хирургическое вмешательство — метод неподходящий. Прежде всего нам нужно понимание этого предания, понимание «сущности» литургии. Это понимание, как только оно будет достигнуто, само приведет — органически — к необходимой чистке и изменениям, но все это произойдет без разрыва целостности, без какого–либо кризиса. Несмотря на глубоко укоренившееся общее представление, литургия всегда меняется, потому что она живет. Одно из различий между западным и восточным менталитетом заключается в западной вере в планирование и реформирование сверху. Да, конечно, наша литургия несет в себе много несущественных элементов, много «археологических» пережитков. Вместо того, чтобы осуждать их во имя литургической чистоты, мы должны постараться раскрыть lex orandi, который ни один из этих случайных элементов не смог затмить. Таким образом, настало время не для внешней реформы, но для богословия и благоговейного черпания вновь и вновь из вечных и неизменных источников литургического предания».
Этому последнему параграфу, как мне показалось, не хватает той логики и прозрачности, которые как правило отличают все, что пишет отец Александр Шмеман. Я всецело согласен с тем, что «если что и было доказано лихорадочными изменениями на Западе, то только то, что сами по себе и сами в себе они не могут достичь того, что представляется их целью. Литургия — это живое предание, и здесь хирургическое вмешательство — метод неподходящий. Прежде всего нам нужно понимание этого предания, понимание «сущности» литургии». Но я не в состоянии проследить дальнейший ход его рассуждения.
Кем должно быть достигнуто это понимание литургического предания? Вероятно, всеми верными, равно клириками и мирянами. Какими средствами это должно быть достигнуто? Очевидно, через научение — духовное и интеллектуальное — тем меньшинством, которое уже просвещено или просвещается; т. е. теми учеными–литургистами, которые достигли понимания предания (или находятся в процессе его постижения), а впоследствии теми, кого они научат: «мы должны постараться раскрыть lex orandi, который ни один из этих случайных элементов не смог затмить».
Не обнаружит ли сразу же каждый литургически образованный приходской священник, — а на практике в основном именно на таких священников ляжет эта задача — стараясь помочь своей пастве на этом пути, что эти «случайные составляющие» смогли «затмить» lex orandi? Если же они не смогли, то почему возникло такое непонимание, зачем нужно вновь раскрывать утерянный смысл?
Является ли сам lex orandi чем–то настолько слабым, что его понимание или непонимание целиком зависит от внешних по отношению к нему влияний? Если это так, то об «органическом» восстановлении правильного его понимания не может быть и речи: как еще может быть тогда достигнуто это понимание, если не посредством «внешней литургической реформы»? Если же это не так, то как это восстановление может быть достигнуто, если не через исправление того, что было искажено в самом lex orandi? И как тогда мы можем говорить о «неизменных источниках литургического предания»? Или же эти источники являются внешними по отношению к lex orandi, и если это так, то что же именно они из себя представляют, и как lex orandi с ними соотносится? Возможно ли восстановить истинное литургическое благочестие, не убрав из самой литургии те искажения, которые были внесены в нее из–за упадка этого благочестия во времена позднего Средневековья? Если нет, то «внешняя литургическая реформа» необходима уже совсем в другом смысле, не правда ли? Если же это возможно, то можем ли мы вообще после этого говорить о lex orandi? Не будет ли это, пользуясь проницательным выражением Дома Ботта, сведением самой литургии к случайному «протоколу общественных отношений с Богом»? Что есть «литургическое богословие» и «литургическое благочестие», если не богословие и благочестие, основанные на литургии? И как они могут быть восстановлены или возрождены, если не через восстановление или возрождение полноты самой литургии? Конечно, эти два процесса идут рука об руку, но должно ли это движение быть обязательно двусторонним?
Возьмем простой пример. Предположим, приходской священник хочет привести своих прихожан к действительному пониманию значения «малого входа» — предмета, о котором о. Александр Шмеман так проницательно и поучительно писал в других своих публикациях. Как же он (священник) может это сделать, не указывая на недостатки современной формы «малого входа» — не «осуждая их во имя литургической чистоты»? Как он может это сделать, не осознав и не призывая других осознать тот факт, что историческое развитие привело к такому затемнению lex orandi, что теперь он почти неразличим? И придя к подлинному и духовно значимому его пониманию, будет ли он и его паства удовлетворены, по–прежнему совершая богослужение в его бессмысленной упадочной форме?
Нет, очевидно нет, но они не должны ничего делать в поисках изменения, потому что это изменение произойдет не путем «внешней литургической реформы», являющейся результатом «планирования и реформирования сверху», но «органически». «Понимание lex orandi приведет — «органически» — к необходимой чистке и изменениям, но все это произойдет без разрыва целостности, без какого–либо кризиса».
Что именно это значит? Это звучит впечатляюще, но что это значит, что это будет означать на практике? Может ли изменение не быть изменением? Если же нет, то чем оно может быть, если не «разрывом целостности» в каком–то смысле и какой–то мере? Если же отец Александр Шмеман имеет в виду под «разрывом целостности» что–либо другое, то что именно? Имеет ли он в виду под литургической реформой реформу столь коренную по типу и столь большую по влиянию, что она приведет к полному перевороту lex orandi? Если да, то как он представляет себе осуществление этого? Имеет ли он в виду литургическую реформу, которую некоторые люди будут воспринимать как полный переворот? Если да, то почти неизбежно, что любая мера по осуществлению реформы где–то обязательно будет рассматриваться именно так. Не приведет ли это неминуемо к какому–то «кризису», независимо от того — где, кем и каким образом эта реформа будет начата или осуществлена?
И где, кем и каким образом она может быть начата и осуществлена? Не путем «реформирования и планирования сверху», но «органически». Я еще раз спрашиваю, что же именно означает «органически»? Означает ли это, что однажды утром все прихожане проснувшись, обнаружат, что их понимание литургического предания за ночь созрело, и автоматически, без какого–либо рассуждения, ничего заранее не планируя, пойдут в церковь и будут совершать литургию абсолютно иначе чем, скажем, на прошлой неделе? Нужно ли для изменения литургии ждать, пока каждый отдельный член прихода придет к осознанию его необходимости? По–видимому нет, поскольку в таком случае ни этого, ни чего–либо похожего никогда не случится: подобная ситуация до предела невероятна. Но если ждать не нужно, то не будут ли такие изменения, произведенные по решению приходского священника и приходского совета, даже если это соответствует желаниям большинства прихожан, практически — и, безусловно, в глазах несогласных — в какой–то степени очевидно соответствовать «реформированию и планированию сверху»?
И опять же, чьей властью эти изменения могут быть осуществлены? Должны ли они быть сделаны в каждой церкви, священник и прихожане которой пришли к выводу, что для них это необходимо или желательно, без консультаций с какой–либо вышестоящей властью? Но это вызовет настоящую литургическую анархию. Это приведет также и к канонической анархии, которой и без того уже более, чем достаточно. Если такие изменения должны осуществляться без епископской и синодальной власти, то что же это за организм — Церковь? Но, может быть, напротив, они могут осуществляться только этой властью того или другого уровня? Тогда повторяются те же самые вопросы. Не проснется ли вся епархия, или митрополия, или даже вся автокефальная церковь однажды утром убежденной в необходимости изменений и, более того, с полным безотчетным согласием в том, какие именно изменения необходимы и как их осуществлять на практике? Нужно ли для этого ждать, пока каждый верный в пределах данной юрисдикции не будет убежден в их необходимости? Если ответ на этот вопрос «нет» — а утвердительный ответ представляется до смешного невероятным — тогда, по–видимому, изменения должны быть сделаны и их детали должны быть определены епископской и синодальной властью. Но ведь это подразумевает «планирование и реформирование сверху», не так ли? Некоторые из тех, что «внизу», непременно так или иначе с ними не согласятся: предполагать обратное — значит игнорировать человеческую природу.
Не определяется ли на самом деле позиция о. Александра Шмемана страхом, что реформа, как только ее отпустят, собьется с пути и приведет скорее к разрушению, чем к обновлению lex orandi и истинного литургического благочестия, основанного на нем? Это действительно приходит на ум в свете того, что он пишет о современных реформах в Римской католической церкви:
Несмотря на то, что литургическое движение, по крайней мере в своих лучших представителях, было ориентировано на возрождение тех начал подлинного предания христианской leitourgia, начал, которые были затемнены или даже совершенно утрачены в течение веков, то «литургическое благочестие», которое стоит за современным «экспериментированием» и «анархией», вдохновлено одновременно очень разнообразным и глубоко противоречащим Преданию рядом стремлений.
Это правильно, но это никоим образом не вся правда. Однако до какой степени это правда, почему это так? Почему такая ситуация возникла? Дом Ботт пишет: «Колебания и сопротивление тут очень понятны. Римская реформа готовилась около половины столетия, но до сих пор можно поставить вопрос — не слишком ли быстро развивались события.» Кому–то они действительно понятны, а кому–то нет. Кто–то может задать вопрос, не слишком ли медленно они развивались в течение столь долгого времени и не стало ли именно это решающим фактором в этой ситуации, не есть ли это действительная причина того, что «изменение было слишком внезапным, и эта мания экспериментаторства выливалась то здесь, то там в анархию»? Не является ли именно это реальной опасностью, которой о. Александр Шмеман должен страшиться? «Реформа в преемственности и уважении Предания», основы которой заложили богословы и литургисты литургического движения, была так затянута, что теперь она смешалась и в некоторой степени исказилась «одновременно очень разнообразным и глубоко противоречащим Преданию рядом стремлений», о которых говорит о. Александр Шмеман. Органичному импульсу живого предания — измениться в соответствии со своей собственной природой–был перекрыт кислород на столь длительный срок, что теперь изменения производятся под влиянием внешних факторов, которые этой природе не соответствуют. Если бы реформа, действительно следующая Преданию, была проведена ранее и если бы она обладала временем, чтобы принести плоды, то эти стремления, направленные против Предания, могли бы никогда не возникнуть, не говоря уже о том, чтобы достичь такой силы и власти. Не является ли это тем важным и злободневным уроком, который Православная церковь должна извлечь из современного беспорядка в Римской католической церкви?
«Литургия, — говорит о. Александр Шмеман, — это живое предание, и хирургическое вмешательство здесь — метод неподходящий». Так ли это? Хирургическое вмешательство всегда нежелательно, всегда неудобно, но не приходит ли однажды момент, когда оно необходимо — именно для того, чтобы сохранить жизнь пациенту? И если литургическое предание в Православной церкви находится в таком тяжелом состоянии, как это диагностировал в другом месте сам о. Александр Шмеман, то не сейчас ли такой момент?
Александр Шмеман
Литургическое богословие, богословие литургии и литургическая реформа
Я очень благодарен господину В. Жардину Грисбруку за его комментарии и вопросы, хотя я и не уверен, что мои ответы его удовлетворят
[42]. Дело в том, что его замечания, так же как и замечания Дом Ботта, основаны, как мне представляется, на достаточно серьезном непонимании некоторых моих основных тезисов, и я не знаю, в чем причина этого непонимания: в погрешностях моего объяснения или в более глубоком разногласии по вопросу самой природы литургического богословия. В первом случае мои ответы прояснят ситуацию, во втором — быть может, только углубят разногласие.
В. Жардин Грисбрук, вслед за Домом Боттом, предполагает, что для меня «Задача литургического богословия заключается в том, чтобы вернуть наиболее важное и поставить второстепенное на свои места», и таким образом приготовить почву для литургической реформы, которая восстановит «сущность» литургии. Если бы это предположение было правильным, то В. Ж. Грисбрук был бы, конечно, совершенно прав, упрекая меня в «недостатке логики и ясности», и в моем, в этом случае безусловно безответственном, нежелании признать крайнюю необходимость литургической реформы.
В действительности, однако, такое понимание литургического богословия отнюдь не есть мое и поэтому мой подход к сложному вопросу литургической реформы совсем не обязательно является результатом «недостатка логики». В моей книге, а также в других моих публикациях, я пытался показать, что «сущность» литургии или lex orandi есть ни что иное, как сама вера Церкви, или, лучше сказать, проявление веры, общение в вере и исполнение этой веры. Именно в этом смысле надо понимать, как мне кажется, знаменитое изречение lex orandi est lex credendi. «Это не означает сведения веры к литургии или культу, как это было в мистериальных культах, где целью веры являлся сам культ, а его спасительная сила была самим предметом веры. Это также не означает смешения между верой и литургией, как в известном литургическом благочестии, где «литургический опыт», опыт «священного», просто заменяет веру и делает человека безразличным к ее «доктринальному» содержанию. И, наконец, это не означает разделения веры и литургии на две различных «сущности», содержание и значение которых должны быть поняты с помощью двух разных и независимых средств исследования, как в современном богословии, где изучение литургии составляет особую область или дисциплину: «литургику». Это означает то, что leitourgia Церкви, термин гораздо более понятный и адекватный, чем «богослужение» или «культ», это полная и адекватная «эпифания» — выражение, проявление, исполнение того, во что Церковь верит, или того, что составляет ее веру. Это подразумевает органичную и сущностную взаимозависимость, в которой один элемент, вера, хотя и является источником и причиной второго, литургии, существенным образом нуждается в ней для своего само осознания и само исполнения. Ведь это именно вера рождает и «формирует» литургию, но литургия, в свою очередь, исполняя и выражая веру, «свидетельствует» о вере и таким образом является ее истинным и адекватным выражением и нормой: lex orandi est lex credendi.
Но тогда литургическое богословие — и здесь не может быть преувеличения — это не часть богословия, не «дисциплина», которая, рассматривая литургию как свой особый предмет, имеет дело с литургией «самой по себе», но, прежде всего, попытка осознать «богословие» как то, что проявляется в литургии и через нее. Я утверждаю, что существует радикальная и поистине непреодолимая разница между этими двумя подходами к литургическому богословию, задача которого очевидным образом зависит от того, какой из них мы выберем.
При первом подходе, который и Дом Ботт и В. Жардин Грисбрук считают моим, рассматривается специфическая «сущность» литургии в целом или же каждого из ее основных элементов: таинств, Божественной литургии, циклов богослужения и т. д. В этом случае литургия понимается прежде всего, а на самом деле исключительно, как богословие литургии, как поиск последовательного богословия богослужения, которому, как только оно будет сформулировано, литургия должна будет «последовать», в случае необходимости, посредством литургической реформы.
На данном этапе я могу только настойчиво утверждать, что отрицание этого подхода, уверенность в том, что он является неправильным и пагубным и для литургии, и для богословия, является, без всякого преувеличения, основным побуждением моей работы. В подходе, который я отстаиваю каждой строчкой, которую я когда–либо написал, вопрос, обращенный литургическим богословием к литургии и ко всему литургическому преданию — это вопрос не о литургии, но о «богословии», т. е. о вере Церкви, выраженной, переданной и сохраненной в литургии. Здесь литургия рассматривается как locus theоlogicus par exellence, ибо в этом ее настоящее предназначение, ее leitourgia в первоначальном значении этого слова — выявлять и исполнять веру Церкви, и выявлять ее не частично, не «дискурсивно», а как живую полноту и соборный опыт. И именно потому, что литургия есть эта живая полнота и этот соборный опыт веры Церкви, она есть истинный источник богословия, условие, которое делает его возможным. Потому что если богословие, как утверждает Православная церковь, не является простым рядом более или менее индивидуальных толкований той или иной «доктрины» в свете и посредством форм той или иной «культуры» или «ситуации», но попытка выразить саму Истину, найти адекватные разуму и опыту Церкви слова, то у него неизбежно должен быть свой источник, в которым вера, разум и опыт Церкви имели бы свое живое средоточие и выражение, где вера в обоих важнейших смыслах этого слова — как Истина, данная в откровении, и как Истина принятая и «переживаемая», имела бы свою эпифанию, и именно в этом и заключается функция литургии (leitourgia).
Отсюда должно стать ясным, что та трагедия, о которой я говорю и о которой скорблю, заключается не в каком–либо частном «дефекте» литургии — и Бог знает, что таких дефектов было много во все времена, — но в чем–то гораздо более глубоком: в разделении между литургией, богословием и благочестием, разделении, которое характеризовало послесвятоотеческий период истории нашей Церкви и которое изменило — не веру и не столько литургию — но богословие и благочестие. Другими словами, кризис, который я пытаюсь анализировать, это кризис не литургии, но ее понимания — в ключе ли послесвятоотеческого богословия или в ключе более позднего, но считающегося традиционным, литургического благочестия. И именно потому, что корни кризиса скорее богословские и духовные, нежели литургические, никакая литургическая реформа сама по себе и сама в себе его не разрешит.
Возьмем, например, органичные, и для ранней церкви самоочевидные, связь и взаимозависимость внутри lex orandi Дня Господня, Евхаристии и Экклесии (собрания верных как «церкви»). Если это было самоочевидным и настолько центральным, что действительно сформировало литургическую традицию Церкви, то потому, что это было вместе и выражением, и исполнением чего–то одинаково центрального и существенного для веры Церкви: единства и взаимозависимости в этой вере космологического, эсхатологического и экклезиологического «опытов». Оно было рождено из христианского видения и опыта Мира, Церкви и Царства и из их фундаментальных взаимоотношений. Теперь ясно, что, с одной стороны, эта связь до сих пор литургически существует, но настолько же очевидно, что, с другой стороны, это не понимается и не переживается так, как это переживалось и понималось в ранней Церкви. Почему? Потому что известное богословие и известное благочестие, сформированное этим богословием, навязав свои категории и свой собственный подход, изменили и наше понимание литургии, и наш литургический опыт. В нашем конкретном случае они сделали это, лишив ее этой «связи» космологического, эсхатологического и экклезиологического значений и оттенков. Связь эта сама по себе осталась частью lex orandi, но перестала быть как–либо связана с lex credendi, и уже не рассматривается как богословский datum, и ни один богослов ни разу не удосужился упомянуть ее как имеющую хоть какое–то богословское значение, как открывающую какой–то «опыт» Церкви о себе самой, о Мире и Царстве Божием. Таким образом, День Господень превратился всего–навсего в христианский вариант субботы, Евхаристия стала одним из «средств получения благодати», а Церковь — институтом, где таинства есть, но который не сакраментален по самой своей природе и «устроению». Но тогда может возникнуть вопрос: какая литургическая, т. е. внешняя, реформа способна восстановить этот опыт, вернуть изначальное значение этой «связи»? Она все еще здесь, с нами. Она все еще является нормой, мы же ее не видим. Она звучит в каждом слове Евхаристии — мы же ее не слышим. Как будто кто–то одел на наши глаза очки, сделавшие нас слепыми к очевидному, и вставил в наши уши слуховые аппараты, сделавшие нас глухими к самому явственному.
Реальная проблема поэтому заключается не в «литургической реформе», но, прежде всего, в столь необходимом «примирении» и взаимопроникновении литургии, богословия и благочестия. Здесь, однако, я должен покаяться в собственном пессимизме. Я не вижу в православном богословии и вообще в православной церкви даже признания этой проблемы и мне ясно, что пока проблема не признана, ее решение либо невозможно, либо это будет неверное решение. Таким образом, например, я не ожидаю больших результатов от «возвращения к отцам», о котором так много говорят и в котором некоторые видят панацею от всех бед. Потому что, по моему мнению, все зависит от того, как «возвращаться» к отцам. У меня создается впечатление, что, за редким исключением, это «святоотеческое возрождение» по–прежнему сковано рамками старого западного подхода к богословию, что это возвращение скорее к святоотеческим текстам, чем к мышлению отцов, как будто эти святоотеческие тексты являются самодостаточными и само–объясняющими. Настоящий «первородный грех» всего развития западного богословия именно в том, что оно сделало «тексты» единственным loci teologici, внешними «авторитетами» богословия, оторвав богословие от его живых источников: литургии и духовности.
Парадокс некоторых современных православных богословских течений заключается в том, что их авторы могут осуждать — во имя отцов — все виды западных ересей, при этом оставаясь глубоко «западными» в том, что касается основных предпосылок и самой природы богословия. Они могут издать более или менее интересные, более или менее ученые монографии о святоотеческих «идеях» или «доктринах» на ту или иную тему, создав у нас впечатление, что отцы были прежде всего «мыслителями», которые, подобно современным богословам, работали исключительно над «библейскими текстами» и «философскими концепциями». Что игнорирует такой подход, так это собственно экклезиологический и литургический контекст святоотеческой мысли. И он игнорирует его — и в этом суть вопроса — потому что через те западные научные принципы, методы и критерии, которые уже давно были усвоены нашими богословами как единственно правильные, — этот контекст осознается не сразу. Отцы очень редко ссылаются на него явно, их тексты его не упоминают, и ученый, занимающийся патристикой и с уважением относящийся к этим текстам и тем «данным», которые проявляются в форме «сносок», оказывается, благодаря самому своему методу, не в состоянии его уловить. Существуют богословы, исключительно хорошо начитанные в писаниях отцов и абсолютно уверенные в своей верности Преданию, и рассматривающие, например, идею органической связи между экклезиологией и Евхаристией как не соответствующую отцам и Преданию, потому что «тексты» формально не выражают этой идеи. И действительно, если богословское исследование a priori ограничено «текстами», — какими бы то ни было — текстами Писания, святоотеческими или даже литургическими — эти богословы правы. Но реальное значение этого argumentum in silentio другое. Для отцов эта связь есть не что–то, что должно быть богословски установлено, определено и доказано, но источник, делающий возможным само богословие. Они редко говорят о Церкви или о литургии в явных выражениях, потому что для них это не «предмет» богословия, но его онтологическое основание, эпифания, самоочевидность того, о чем они «свидетельствуют» в своих писаниях. Это именно и делает их отцами, т. е. свидетелями «разума» Церкви, выразителями ее соборного «опыта». Отделенные от этого источника и этого контекста, отеческие «тексты», также как библейские тексты, могут быть истолкованы множеством способов, так, что с их помощью можно доказать практически все, что угодно. В лучшем случае они остаются «идеями» или «доктринами», доступными лишь академическим кругам и настолько же чуждыми реальной жизни церкви, как и старое богословие семинарских учебников западного образца. Здесь, как и в случае с lex orandi, можно запросто смотреть и не видеть, слушать и не слышать. Выражаясь в модных сегодня терминах, успех богословия зависит от «герменевтики», которая определенно является основополагающим вопросом контекста и семантики. Я утверждаю, что для православного богословия, и в этом оно существенно отличается от западного, ее sui generis герменевтическое основание должно быть найдено в lex orandi: в эпифании и опыте Церкви о самой себе и о своей вере. Именно это мы имеем в виду, когда утверждаем, в соответствии с нашим Преданием, что Писание толкуется «Церковью», и что отцы являются свидетелями соборной веры Церкви. И, таким образом, чем дольше эта православная «герменевтика» не будет осознана, заново найдена и введена в практику, исследование наиболее важных текстов предания останется, увы, так же бесполезно для нашей литургической ситуации, как и в прошлом.
Еще меньше надежд я питаю по поводу любого вида литургических «возрождений», которые периодически встряхивают самодовольство церковного «истеблишмента» и неизбежно ведут к дискуссиям о литургических реформах. Поэтому литургическая реформа (надобность которой я, кстати, не отрицаю) должна иметь разумное обоснование, согласованный набор предпосылок и целей, и это обоснование, я не устану повторять, может быть найдено только в lex orandi и в органической связи с lex credendi. Но я не обнаруживаю ни малейшего интереса к такому обоснованию среди тех — а их много — для кого литургия является основным объектом их забот. Мы видим, с одной стороны, романтический и ностальгический пафос литургической реставрации, настоящее пристрастие к рубрикам и правилам, при полном отсутствии интереса к тому отношению, которое они могут иметь или не иметь к вере Церкви. Не удивительно, что при таком подходе объекты и избираемые цели такой реставрации варьируются почти ad infinitum. Существуют фанатики русского литургического благочестия — старинного или современного — и такие же фанатики греческого стиля, есть и такие, для которых все зависит от восстановления определенного «распева» или сохранения «малых ектений», как это предписано правилами. Когда люди этого сорта узнают, что в русской (впрочем, достаточно недавней) практике Царские врата были закрыты в течение евхаристического канона, они объявляют еретиками и модернистами тех, кто защищает ту точку зрения, что они должны быть открыты. С другой стороны мы видим противоположную тенденцию: одержимых тем, чтобы сделать литургию «более понятной», «актуальной», «близкой к народу». В этом случае набор пристрастий и средств, рассматриваемых как немедленная панацея, прямо противоположен: убрать иконостас, читать все молитвы громко вслух, сократить службу, отменить все, что не относится к «общности», ввести общее пение, перевести все богослужение на самый популярный и простой английский, бороться со всеми «этническими» обычаями и т. д. Но каков бы ни был подход, никакая сколько–нибудь содержательная дискуссия невозможна, поскольку в обоих подходах отсутствует интерес именно к смыслу литургии как целого, смыслу lex orandi в его отношении к lex credendi, потому что литургия рассматривается сама в себе, а не как «эпифания» веры Церкви, ее опыта во Христе о самой себе, о Мире и Царстве.
Возьмем, например, сегодняшнюю поляризацию внутри церкви по вопросу «частого причастия». Вот поистине странный спор, в котором обе стороны, т. е. те, кто защищает «частое причастие», и те, кто выступает против него, никогда не обращаются к тому единственному вопросу, который, как ни парадоксально это звучит, состоит в следующем: «Что такое причастие?», или скорее — «Чему и кому мы причащаемся?» Я говорю «парадоксально», потому что обе стороны считают, что ответ на этот вопрос абсолютно ясен, что это даже не вопрос. Они ответят: Телу Христову, «Святым Тайнам». Все дело, однако, в том, что разные практики причастия, в пользу каждой из которых можно найти аргументы в «предании», являются, в свете приведенного выше анализа, следствием различных «богословий» и «благочестий», разных взглядов на Евхаристию и на саму Церковь, каждый из которых должен быть подвергнут переоценке в свете истинного lex orandi. Таким образом, противники «частого причастия» не обязательно менее «благоговейны», чем его защитники, так же как и последние не обязательно отстаивают его по правильным причинам. Трагедия всех этих споров о литургии в том, что они остаются замкнутыми в пределах категорий «литургического благочестия», которое само является следствием разрыва между литургией, богословием и благочестием, разрыва, о котором я упоминал выше. И пока такое литургическое благочестие господствует и формирует эти споры, само упоминание литургической реформы может быть не только бесполезным, но даже опасным.
Действительно, печальный урок современной литургической неразберихи на Западе не должен пройти для нас даром. Эта неразбериха, особенно в Римской церкви, вызвана именно отсутствием ясного и последовательного обоснования литургической реформы. Поистине достойно сожаления, что около 50–ти лет конструктивной работы Литургического движения были просто сведены на нет необдуманным принятием таких принципов, как знаменитые «актуальность» и «неотложные нужды современного общества», «служение жизни» или «социальная справедливость». Результатом оказалось разрушение литургии, и это несмотря на некоторые великолепные идеи и высокий уровень литургической компетентности.
Наконец, может возникнуть вопрос: но что же вы предлагаете, чего же вы хотите? На него я отвечу, признаюсь, без особой надежды быть услышанным и понятым: нам нужно литургическое богословие, рассматриваемое не как богословие богослужения и не как сведение литургии к богословию, но как медленное и терпеливое соединение того, что в течение очень длительного времени из–за очень многих факторов было разрушено и изолировано — литургии, богословия и благочестия, их воссоединение внутри единого фундаментального видения. В этом смысле литургическое богословие является незаконнорожденным ребенком разбитой семьи. Оно существует, или, может быть, я должен сказать, вынуждено существовать только потому, что богословие перестало искать в lex orandi свой источник и пищу, потому что литургия перестала приводить к богословию. Мы должны научиться — а это нелегко — задавать правильные вопросы о литургии, а для этого мы должны вновь открыть — и это, опять–таки, нелегко, истинный lex orandi Церкви. И прежде всего мы должны поставить под вопрос сам дух, организацию и метод нашего богословия и весь процесс образования, который мы некритично, слепо переняли от пост–тридентского Запада и который мы сейчас выдаем за православный и следующий Преданию. Определенным западными богословским предпосылкам может соответствовать попытка разбить богословие на несколько практически автономных и самодостаточных «разделов» или «дисциплин» — библейское богословие, систематическое богословие, патристика, литургика, каноническое право. В православной же церкви такое разбиение не только ведет, в конечном счете, в никуда, но, что еще хуже, очень тонким образом искажает саму богословскую работу, навязывая ей вопросы, категории и проблемы, просто чуждые «разуму» Церкви.
Все это, я повторяю, не только не лежит в поле зрения, но напротив, складывается впечатление, что никто не понимает, где находится настоящая проблема. Иногда мне кажется, что настоящие секуляристы — это не те «секулярные» люди нашего времени, которых мы постоянно упрекаем и обвиняем в их секуляризме, но многие наши профессиональные богословы, клирики и «благочестивые» миряне. Секулярные люди по крайней мере проявляют знаки неудовлетворенности собственным секуляризмом, все больше и больше связанным с ностальгией по священной глубине и полноте. Кажется, только мы принимаем, даже не замечая этого, разбитость нашего христианского видения и опыта на узкие и несвязанные между собой отсеки, принимаем как нормальный легализованный и институтиализированный разрыв, в рамках которого ни литургия, ни богословие не могут действительно быть победой, побеждающей мир… Но в настоящее время голос тех, кто это видит и призывает к воссоединению — именно в этом видя задачу литургического богословия — кажется рискует остаться vox clamans in deserto.
Перевод Ирины Волковой
Литургия и эсхатология
Лекция на вечере памяти Николая Зернова 25 мая 1982 (впервые опубликовано в Sobornost, 7, 1985, pp. 6–14)
Для меня большая честь и радость открывать этот первый вечер памяти. Доктор Николай Зернов, памяти которого посвящена эта лекция, сыграл огромную роль в моей жизни и в жизни многих моих современников, русских православных юношей в изгнании — ободряя и вдохновляя нас, показывая пример совершенного и неразрывного служения Православной Церкви. В 20–е и 30–е русским в изгнании так легко было забыть о прошлом и счастливо осесть на водах Вавилона. Но Николай Зернов своим собственным примером ободрил и вдохновил нас сохранить верность той реальности, которой сам он служил всю жизнь: Церкви и России, Христианской России. Поэтому я с большой благодарностью принял это приглашение. Два дня я ходил вокруг Оксфорда и все время вспоминал мою первую встречу с др. Зерновым. Мне было шестнадцать лет, и тогда состоялась конференция Дружбы св. Албания и св. Сергия. Я не разговаривал по–английски, не понимал, что обсуждалось. Я даже не посещал многие заседания — мне было интереснее играть в теннис. Но остается фактом, что именно здесь, не в Париже, но на конференции Дружбы в Британии, я открыл направление для своей жизни. За это я всегда буду должником перед Николаем Зерновым.
Пост–христианская эра?
Когда я думаю о современном богословии и пытаюсь понять смысл его разнообразия, различных направлений, идеологий, конфессиональных акцентов, которые так сильно характерны для него, то всегда вспоминаю выражение, популярное несколько последних лет в некоторых кругах, — выражение «пост–христианская эра». Что бы ни означала эта фраза, она определенным образом важна для для понимания смысла современного богословия. Общая установка этого богословия (при всех конфессиональных и прочих отличиях) — предположение о том, что, сознательно или неосознанно, оно пишется, мыслится или исповедуется в пост–христианскую эру. Такова установка. Это не означает, что каждый богослов прямо говорит о пост–христианской эре; наоборот, богословие занимается многими «обычными делами». Но когда вы попробуете отыскать объединяющий принцип современного богословия, он будет выглядеть так: мы живем, молимся и богословствуем в мире, с которым наша христианская вера никак не связана; существует глубокий разрыв между не только Церковью, но вообще христианским мировоззрением, и культурой и обществом, в котором мы живем. Это считается самоочевидным. Это — не тема современного богословия, но один из его источников. Для нас важно попытаться понять опыт этого разрыва.
Богословие всегда есть и было нацелено на мир. Богословие не существует исключительно для внутреннего пользования Церкви. Со стороны христиан всегда наблюдалось усилие выразить Евангелие в терминах современной им культуры, современной мировой федерации. И поэтому богословие всегда старалось иметь общий язык с миром, в котором оно богословствовало. Отцы Церкви делали именно это (не исчерпывая этим смысл патристической эпохи); они примирили Иерусалим и Афины, Афины и Иерусалим, и создали общий язык, сохранивший верность Евангелию и вместе с тем понятный и доступный миру. Что же необходимо делать, когда этот общий язык утрачен, и больше нет общего языка? — Такова наша сегодняшняя ситуация. Эпоха окончилась, эпоха, охарактеризованная существованием Христианской Церкви, христианского богословия, подлинно христианского мира.
Радикальное «да»: освободительное богословие и терапевтическое богословие
При этом разрыве, при утрате общего языка имеют тенденцию к развитию в богословии два основных направления.
Один тип богословия — внутри него присутствует широкий плюрализм — все еще продолжает искать общий язык с миром, и делает это, тщательно приспосабливаясь к сегодняшнему миру, что можно описать как дискурс. Это значит (заимствуя фразу, которую я связываю с о. Конгаром), что мир устанавливает для Церкви повестку дня. Я живо помню посещение около трех лет назад одного богословского книжного магазина в Париже, где вы могли бы отыскать все современное богословие за двадцать две минуты. Здесь я прошел вдоль титула Марксистское прочтение св. Луки, несколько минут спустя нашел Фрейдистское прочтение св. Иоанна. Здесь, в названиях этих двух книг и подобных им, мы видим богословие в отчаянной попытке найти общий язык с миром, богословие, которое находит этот язык в дискурсе самого мира.
Богословие этого типа включает различные течения. Когда оно начинает особенно интересоваться правом и политкой, то может принять формы освободительного богословия. Другое направление того же типа богословия хорошо описано в заголовке книги Триумф терапевтики. Мы открываем терапевтическое богословие, потому что наш мир терапевтичен. Мы всегда стараемся помочь людям. Я не знаю о Лондоне, но в Нью–Йорке вы обязательно встретите приглашение купить зубную пасту, которая приносит счастье. Такой же самый лозунг мы делаем для религии: это тоже «гарантия счастья». «Придите всей семьей в церковь или синагогу вашего выбора. Это помогает».
Итак, здесь есть два течения: одно направлено на общество, второе — на индивидуальность. Первое до некоторой степени извлечено из Гегеля, с его трансформацией истории в Историю с прописной И. Второе принимает вид доминанты индивидуальности в современном мире, которая относится к человеку как к пациенту космического госпиталя, постоянно опекая его и всегда обещая полное исцеление и бессмертие. Здесь, как и в области политики, богословие берет все более активное участие: мы хотим показать, что мы не позади, мы догоняем терапевтический триумф.
Радикальное «нет»: «духовность»
Но существует и другой тип богословия, который заключается прежде всего в отказе от только что описанного подхода. Второй тип оставляет все попытки достичь общего дискурса между богословием и миром. Его главная цель (я упрощаю, я только делаю обрисовку) — достижение чувства личного духовного удовлетворения. Будучи ректором семинарии более двадцати лет, я заметил, что слово «духовность» произносится гораздо чаще, чем имя Иисуса Христа. Духовность, которую защищает этот тип богословия, — это прежде всего духовность побега, личная духовность без всякого упоминания о мире. Получается небольшой парадокс: св. Антоний Великий, основатель христианского монашества, был более вовлечен в образовавшийся в его время христианский мир, чем некоторые сегодняшние христиане, которые, живя в миру, всеми возможными способами пытаются убежать от него и не замечать его существования.
Таковы два главных подхода к богословию, каждый из которых включает многие позиции. Вместе они представляют собой то, что я назвал богословием пост–христианской эры, потому что оба типа во всех вариациях предполагают, что невозможно ничего сделать, кроме как мыслить «пост–христианскими» категориями. Или мы должны согласиться с миром в его трудах, мечтах, перспективах и горизонтах, или же иначе мы должны искать личный, индивидуальный побег из мира в область чистой «духовности». В этом случае духовность становится видом религии, и это помогает объяснить возникновение многих точек соприкосновения между христианской и нехристианской духовностью. Даже понятие «Иисусова молитва», настолько центральное в православном опыте, произносится некоторыми как одно слово Иисусовамолитва: Иисус упоминается как компонент, не как субъект или объект молитвы. В чем согласны оба типа богословия — это в предположении того, что мы живем в конце эпохи, христианской эпохи.
Третий путь?
Нет ли чего–то такого в каждом типе богословия, что радикально упущено? Лицом к лицу с миром одни занимают позицию капитуляции, другие — побега. Это трагедия современного богословия. Неужели нет третьего пути? Стараясь выбраться из тупика, в котором мы оказались благодаря этим двум взаимно противоположным путям взгляда на все — на мир, культуру, жизнь, путь ко спасению, давайте начнем с понятия и принятия относительной правды, которую каждый из них содержит. Каждый из них сделан из того, что во Франции некоторые называют les verites chretiennes devenues folles, христианскими добродетелями, которые сошли с ума. Потому что христианская истина есть в каждом из них, что мы можем увидеть, если рассмотрим парадоксальное использование термина «мир» в Новом Завете. С одной стороны, мы не должны любить ни мир, ни то, что в мире (1 Ин. 2:15); мир прейдет. С другой стороны, сказано: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Ин. 3:16). В настоящее время существуют как те, кто выделяет только первое отношение к миру, так и другие, разделяющие только второе. В определенных христианских общинах присутствует глубокая и почти апокалиптическая ненависть к миру; участники их думают только о пришествии Христа и даже пытаются предсказать его точную дату. Другая крайность — пример очень респектабельной семинарии в штате Нью Йорк, которая в «славные 60–е» единогласно проголосовала за то, чтобы закрыть часовню и раскаяться за время, бесполезно проведенное в молитве и созерцании, когда мир нуждается в помощи. Такова антиномия: с одной стороны радикальное «нет», а с другой — радикальное «да».
Эсхатологическое измерение
Почему же эти два пути взаимно исключают друг друга? Вот в чем наша проблема. Что произошло в истории Церкви, в христианском менталитете, что привело нас сегодня к этой взаимной противоположности, поляризации не только в богословии как таковом, но вообще в христианском мировоззрении? Ответ лежит в оставлении, на весьма раннем этапе христианской истории, важного эсхатологического измерения и основания христианской веры, а значит, и христианского богословия.
Сейчас нет возможности проводить исторический анализ того, когда и как это случилось. Термин «эсхатология» так часто употребляется и злоупотребляется современными писателями, богословами и небогословами, что я хочу кратко определить, в каком смысле буду употреблять его. Я использую его для обозначения отличительной особенности христианской веры, которая прежде всего система убеждений — веры в Бога, в спасительную силу определенных исторических событий и, наконец, в окончательную победу Бога во Христе и Царства Божия. Но в то же время как христиане мы уже обладаем тем, во что мы верим. Царство должно прийти, но вместе с тем грядущее Царство уже посреди нас. Царство — не только нечто обещаемое, мы можем познать его уже здесь и сейчас. И следовательно, в каждой проповеди мы несем свидетельство, martyria, не только о нашей вере, но и об обладании тем, во что мы верим.
Эсхатология — не просто последняя и самая необычная глава в богословских трактатах, унаследованных нами со времен Средневековья, не просто карта грядущих событий, заранее рассказывающая о том, что некогда произойдет. Ограничивая эсхатологию самой последней главой, мы лишаем эсхатологического характера все остальные главы, которые его имели. Эсхатология перенесена в область личной надежды, личного ожидания. Но на самом деле все христианское богословие в целом эсхатологично, оно — цельный опыт жизни. Подлинная сущность христианской веры в том, что мы живем в таком ритме: покидаем, оставляем, убегаем из мира и в то же время постоянно возвращаемся в него; живем во времени, но тем, что выше времени; живем тем, что еще не пришло, но мы это уже знаем и имеем.
Литургия и богословие
Один из главных истоков забвения подлинной эсхатологии, фундаментальной для христианского переживания самой веры, в разрыве между богословием и литургическим опытом Церкви. Богословы забыли существенный принцип: lex orandi определяет lex credendi; во всех богословских рассуждениях забыли совершенно уникальную функцию христианского богослужения. В конце концов богословие пришло к определению таинств как только «источников благодати», и сегодня оно делает следующий шаг и превращает их в «источники помощи». Но в действительности таинства должны рассматриваться как locus, самый центр эсхатологического понимания и переживания Церкви. Вся Литургия должна рассматриваться как таинство Царства Божия, Церковь — как присутствие и причастность грядущего Царства. Исключительная — я повторяю, исключительная функция богослужения в жизни Церкви и в богословии — передавать смысл этой эсхатологической реальности. Эсхатология должна соединять вещи, которые иначе оказываются разорванными и объясняются как отдельные события, происходящие в разных местах в течение времени. Когда они рассматриваются так, забывается подлинное назначение Литургии.
На мой взгляд, в Византии появилось множество бесконечных символических объяснений богослужения, так что евхаристическая Литургия, находящаяся в сердце Церкви, в результате трансформировалась в ряд зрительно–слуховых пособий. Символизм различается повсюду. Однажды я попробовал собрать все значения возгласа перед Верую — «Двери, двери!» — и нашел около шестнадцати различных и взаимно исключающих толкований. Или еще: семь облачений епископа понимаются как семь даров Святого Духа. Я не отрицаю, что епископство является источником благодати, но конечно, семь элементов облачения не были изначально предназначены для иллюстрации этого.
На Западе, с другой стороны, когда забылось эсхатологическое измерение таинств, развился постоянный акцент на идее реального присутствия. (Но бывает ли присутствие не реальным? В таком случае его можно назвать отсутствием.) Ввиду того, что Восток утратил взгляд на правильное понимание Литургии через погружение в мечтательный символизм, Запад запутал ее верное понимание, сделав различие между символом и реальностью, и сопроводив это вопросами о причинах и точном моменте освящения.
Если нам необходимо вновь открыть верное понимание Литургии, мы должны вернуться назад, через комментарии с их символическими объяснениями к самому тексту Евхаристического торжества. Мы должны увидеть в Литургии исполнение Церкви за трапезой Господней в Его Царстве. Евхаристическое торжество — это не нечто совершаемое клиром для пользы мирян, которые «присутствуют». Это скорее восхождение Церкви туда, где она находится in statu patriae. Это также ее последующее возвращение в мир: возвращение с силой проповедания Царства Божия способом, возвещенным ей Самим Христом.
Такой же эсхатологический подход необходимо применить ко всем аспектам Евхаристии. Что такое пасхальная ночь? Что такое Пасха? Мы теперь имеем историческую концепцию праздника: он служит напоминанием о прошлых событиях. Но для ранней христианской эортологии он ни в коем случае не был просто воспоминанием. Это всегда был вход Церкви в последнюю реальность, сотворенную Христом через Свою смерть и воскресение.
Нельзя понимать таинство так, как оно понималось в течение столетий, в терминах контраста естественного и сверхъестественного. Мы должны вернуться от этого к основной христианской дихотомии между ветхим и новым. «Се, творю все новым» (Откр. 21:5). Заметим, что Христос не сказал «Я творю новые вещи», но «всё новым». Таково эсхатологическое видение, которое должно отмечать наше празднование Евхаристии в каждый День Господень. Сегодня мы понимаем День Господень как седьмой день, субботу. Но для Отцов это был восьмой день, первый день нового творения, в который Церковь вспоминает не только прошлое, но и будущее, последний и великий день, и уже входит в него. Это день, в который Церковь собирается, закрыв двери, и восходит туда, где можно воскликнуть: «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, исполнь Небо и земля славы Твоея». Скажите, по какому праву мы можем это произнести? Сегодня я прочел лондонскую «Таймс» — приятно отличающуюся от «Нью Йорк Таймс» — но, что бы мы ни читали, позволит ли оно нам сказать: «Небо и земля полны славы Твоея»? Мир, который нам показывается, конечно же, не исполнен славы Божией. Если же мы утверждаем так в Литургии, то это не только выражение христианского оптимизма («Вперед, воины Христовы!»), но просто и исключительно по причине нашего восхождения туда, где это утверждение — истинная правда, так что нам остается только благодарить Бога. И в этом благодарении мы пребываем в Нем и с Ним в Его Царстве, потому что теперь ничего не оставлено вне, мы — там, куда привело нас восхождение.
Сотворенный, падший, искупленный
Здесь, в литургическом опыте и свидетельстве, которые позволяют сказать «Небо и земля полны славы Твоея», мы восстанавливаем, или по крайней мере имеем возможность восстановить, внутренне присущее христианству видение мира, а значит, и повестку дня для богословия. В этом видении или программе существуют три элемента, три фундаментальных провозглашения веры, которые мы должны соединять вместе.
Во–первых, Бог сотворил мир; мы — Божие творение. Говорить это — не значит вступать в споры о дарвинистском или библейском понимании истории творения, все еще популярные в Америке. Это — вообще не существенный вопрос. Исповедовать, что мы являемся Божиим творением, — значит утверждать, что глас Божий постоянно звучит внутри нас, говорит нам: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31). Отцы утверждали, что даже дьявол по природе добрый, а злой только вследствие неправильного использования своей свободной воли.
Второй момент неотделим от первого: этот мир — падший, падший в его полноте; он стал царством князя мира сего. Пуританское мировоззрение, столь популярное в американском обществе, в котором я живу, предполагает, что томатный сок всегда добр, а алкоголь всегда плох; томатный сок фактически не есть падший. Подобно говорит нам телевизионная реклама: «Молоко натуральное», — другими словами, оно тоже не падшее. Но в действительности томатный сок и молоко — равным образом части падшего мира, наряду со всем прочим.
Все сотворено хорошим, все пало; и наконец — это наше третье «фундаментальное утверждение» — все искуплено. Искуплено воплощением, Крестом, воскресением и вознесением Христа и через дар Духа в Пятидесятницу. Такова триединая интуиция, принятая нами от Бога с благодарением и радостью: наш взгляд на мир как сотворенный, падший и искупленный. Это наша богословская программа, наш ключ ко всем проблемам, беспокоящим сегодня мир.
Радость Царства
Мы не можем отвечать на проблемы мира, как капитулируя перед ним, так и убегая от него. Мы можем ответить, только изменяя сами проблемы, понимая их в другой перспективе. Нам требуется обратиться к тому источнику энергии, в самом глубоком смысле этого слова, которым обладала Церковь, когда побеждала мир. Церковь принесла в мир не просто приспособленные к потребностям человека идеи, но правду, праведность, радость Царства Божия.
Радость Царства: меня всегда беспокоит, что в многотомных системах догматического богословия, унаследованных нами, объясняются и дискутируются почти все понятия за исключением одного слова, которым начинается и оканчивается христианское Благовестие. «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость» (Лк. 2:10) — с этого ангельского приветствия начинается Евангелие. «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью» (Лк. 24:52) — так Евангелие оканчивается. Богословское определение радости фактически отсутствует. Потому что нельзя определить смысл радости, которую никто не отымет у нас; здесь умолкают все определения. До тех пор, пока это переживание радости Царства во всей его полноте снова не возвратится в центр богословия, последнему будет невозможно иметь дело с миром в его действительно космическом измерении, с исторической реальностью борьбы между Царством Божиим и царством князя мира сего и, наконец, с искуплением как с полнотой, победой и присутствием Бога, ставшего всяческая во всем.
Требуется не просто литургическое благочестие. Наоборот, литургическое благочестие — один из самых больших врагов Литургии. Литургию не следует объяснять как эстетическое переживание или терапевтическое упражнение. Единственное ее предназначение — являть нам Царство Божие. Вот что мы напоминаем постоянно. Воспоминание, anamnesis Царства — источник всего остального в Церкви. Именно это старается принести в мир богословие. И оно приходит даже в «пост–христианский» мир как дар исцеления, искупления и радости.
Перевод с английского свящ. А. Дудченко
Мир в свете православной мысли и опыта
1
Тот факт, что после почти двухтысячелетнего присутствия Церкви в мире мы вынуждены поставить вопрос о значении этого присутствия и о роли богословия в свидетельстве о нем, ясно доказывает: «произошло» нечто (с Церковью ли, с миром ли), требующее от богословия новой попытки осмысления, нового «прочтения» Предания. Итак, что же, собственно, произошло?
Цель статьи — найти ответ на этот вопрос, для чего необходимо обозначить столь насущную для нас проблему и хотя бы в самых общих чертах определить наше понимание путей ее решения.
Незачем и говорить, что эта задача не из легких. Странным и даже парадоксальным кажется прежде всего то, что сами понятия «Церковь» и «мир», взаимоотношение и взаимопроникновение (т. е. присутствие друг в друге) которых мы должны выяснить, лишь недавно вошли в православное богословие как объекты специально богословского изучения и анализа и как самостоятельные «отделы» богословских систем. Мы еще только начинаем расставаться с продолжительной богословской эпохой, характеризующейся (без всякого преувеличения) именно отсутствием экклезиологии, т. е. такого осмысления Церкви, которое начинается с принципиального различия Церкви и мира и потому настойчиво выдвигает проблему их взаимоотношения.
И первая наша трудность состоит в том, что всякое обсуждение проблемы немыслимо без предварительной расшифровки этого «экклезиологического молчания». Многие сейчас склонны видеть здесь всего лишь некий изъян нашего богословия, — изъян, который, как бы он ни был серьезен, излечивается новой солидной инъекцией западной теологии, прививкой себе той характерной для сегодняшнего Запада увлеченности (если только не одержимости) дихотомией «Церковь—мир» и вытекающей отсюда проблематикой. Но, быть может, это молчание нужно рассматривать как часть нашего Предания и тогда это уже не просто молчание или отсутствие чего–либо, но показатель — и весьма красноречивый — существенно иных, чем у Запада, опыта и видения. Очевидно, и само понимание обсуждаемой нами проблемы и ее формулировка будут определяться в первую очередь тем, какую точку зрения мы изберем и как сумеем обосновать этот выбор.
Каким бы соблазнительным ни казался первый подход (а православному богословию долгое время суждено было «соблазняться» Западом и «обретать себя», противясь его соблазнам), не подлежит сомнению (по крайней мере, для меня), что его надо отвергнуть. Ибо при всем множестве изъянов (и нередко серьезных), при всей поистине трагической односторонности нашего послеотеческого (и в значительной степени именно «озападненного») богословия пресловутое «экклезиологическое молчание» Восточной Церкви имеет свои предпосылки и свое развитие, будучи укоренено в более глубоком уровне православного сознания, так что остается лишь спросить, в чем же именно. Я отвечу: в том «христианском мире», который сформировал историческое сознание Православия и до сих пор определяет основной контекст православного опыта Церкви, мира и их отношения друг к другу. И если на протяжении нескольких веков наше богословие нуждалось в осмыслении такого отношения (которое само по себе предполагает различение Церкви и мира), то объяснение этому нужно искать в самой христианской экумене, которая возникла из примирения и союза Церкви с греко–римской Империей и на протяжении всего Константинова периода оставалась единственным самоочевидным выражением и опытом присутствия Церкви в мире. И потому именно этот опыт, точнее, его экклезиологический смысл, его место и значение в нашем Предании и подсказывают столь же самоочевидный исходный пункт православного осмысления Церкви в ее отношении к миру.
2
Но сказать так — еще не значит решить проблему.
Ибо если историческое изучение этого «христианского мира» в его различных аспектах и измерениях — политическом, культурном, социальном и т. д. — сделало большие успехи, то с богословским его пониманием дело обстоит иначе. И едва ли даже ставился когда–нибудь вопрос о его экклезиологическом значении, — вопрос, от которого зависит и наше собственное осмысление Церкви и мира. Мы знаем, что примирение Церкви с Империей выразилось не в юридическом соглашении — не в контракте, определявшем права и обязанности обеих сторон и вместе с тем оставившем в неприкосновенности их структурные различия. Мы знаем, что результатом этого примирения была такая интерпретация Церкви и Империи, их структур и функций, которая последовательно выражала все это в терминах органического единства, подобного единству души и тела. Знаем мы и то, что этот излюбленный образ византийской словесности не был риторическим преувеличением, что христианская экумена и в теории и в народном сознании равно как и в реальности, била организмом, в котором ни Церковь, ни мир — государство, общество, культура — не имели отдельного бытия и не могли «конституционально» отличаться друг от друга. Все это мы знаем, и знание наше подтверждается горой книг и диссертаций. Не знаем мы одного: какое значение имеет все это для наших собственных богословских раздумий о сегодняшнем присутствии Церкви в мире?
Причина этого незнания проста, и, обозначив ее, мы одновременно укажем вторую и, пожалуй, главную трудность, коренящуюся в том влиянии, которое ушедший «христианский мир» по–прежнему оказывает на форму и склад нынешнего православного менталитета, оставаясь, по сути дела, единственным, хотя и неосознанным его источником. Говоря проще, мы, православные люди, все еще живем в том «христианском мире», игнорируя исторический факт его крушения и исчезновения. А игнорируем мы его не только потому, что «христианский мир» продолжает для нас свое существование в Церкви и через Церковь, но и потому еще — и в этом все дело! — что поистине главной, если не единственной функцией Церкви стало именно поддержание в нем жизни и обеспечение его продолжающегося «присутствия».
Нужны ли тут доказательства? Разве не очевидно, что для большинства православных — будь то отдельные верующие или целые церкви — само слово «православный» звучит бессмысленно или абстрактно без предикатов, которые указывают на реальность, относящуюся к «миру», но, однако же, неотделимую от восточнохристианского «переживания» Церкви и очень точно его выражающую. Греческая, Русская, Сербская… — все эти обозначения в их церковном употреблении переходят границы обычного национализма (под которым мы понимаем естественную привязанность и заинтересованность в судьбах своей нации, страны, культуры). Если православная диаспора что–нибудь и доказала, то в первую очередь следующее: православные, даже добровольно покинувшие свое православное отечество, даже утратившие свой родной язык и полностью отождествившие себя с жизнью и культурой другой нации, тем не менее считают и нормальным и желательным, чтобы их «православие» оставалось греческим, русским, сербским и т. д. И происходит это не потому, что они не в состоянии вообразить какое–то иное проявление, иную форму Православия, но как раз потому, что это та самая квинтэссенция «эллинизма» (а не греческое православие) или «русизма» (а не русское православие), единственным «присутствием», единственным символом которой в «современном мире является Церковь — и это присутствие, этот символ и есть то, что они любят в Православии и что составляет для них предмет самых сильных и сокровенных переживаний.
Все сказанное относится не только к диаспоре, которая просто–напросто отражает и усиливает (иногда до reductio ad absurdum) православную ментальность, но и к Православию в целом. Православие переживается всюду главным образом как представительство иного мира (т. е. как то, что делает этот иной мир присутствующим) — мира прошлого, который, хотя и может быть спроецирован в будущее как мечта или надежда, в принципе остается отчужденным от мира настоящего. Даже основоположные канонические структуры Православной Церкви по–прежнему определяются всюду географическими границами и административной организацией этого мира, язык, форма мышления, культура — словом, весь этос которого до сих пор определяет и окрашивает собой православное сознание. И именно вследствие этой идентификации, вследствие переживания самой Церкви как идеального и символического существования несуществующего мира, мы с таким трудом уясняем реальное значение и ценности ушедшего мира, значение нашего прошлого для настоящего.
Прежде всего, такая идентификация едва ли позволяет православному сознанию оценить этот «христианский мир» в экклезиологических терминах, установить в нем различие между тем, что открывается как его «успех» и остается для нас нормой, истинной частью церковного Предания, и тем, что в своем отступлении от Предания и искажении его может быть обозначено как «неудача». Именно здесь, в этой неспособности к такого рода оценке мы и можем усмотреть уникальное и поистине решающее значение события, которое игнорируется православным сознанием и которое именно потому, что оно игнорируется, по–прежнему владеет этим сознанием. Это событие — конец и распад христианской экумены.
В самом деле, падение одного за другим прежних органических православных миров, начиная с их общего истока и архетипа — Византийской империи, вызвало глубокую трансформацию их опыта в православном мышлении. А центральным моментом, своего рода фокусом этого опыта — мы еще скажем об этом в дальнейшем — была вера в то, что христианский мир, рожденный под эгидой победы (en touto nika
[43]), не может пасть, не может разрушиться и в соответствии с его призванием пребывает таковым до последнего дня, т. е. до конца мира. Это объясняет, почему вызванное его падением потрясение привело, как ни парадоксально, к отрицанию этого падения — разумеется, не в исторической его реальности, но как «решающего» события, бросающего вызов устоявшемуся «православному» миропониманию. Ввиду того, что «христианский мир» не может исчезнуть, он и не исчез. Внешнее его падение есть лишь временное «смущение», Богом попущенное искушение. Таково неизменное с тех пор содержание и смысл этого отрицания, которое позволило — и до сих пор позволяет — православным жить так, будто ничего не произошло и не изменилось.
В действительности же изменилось само православное сознание. Именно после крушения христианского мира и вследствие отрицания этого крушения, «христианский мир» стали видеть чуть ли не в образе мифо–археологического «золотого века», который надлежит «восстановить» и к которому надо «вернуться». Идеальное прошлое, таким образом, проецируется как идеальное будущее, как единственный горизонт церковного видения истории. При такой трансформации первоначальный опыт оказывается перевернутым: если до падения этого мира его ценность для Церкви заключалась в том, что он видел в ней свою душу, т. е. высшее содержание и критерий собственного существования, то теперь Церковь переживается уже как тело, выражаемое и оживотворяемое христианским миром как ее душой.
Здесь — корень того экклезиологического молчания о котором говорилось в начале статьи, и причина неспособности нашего богословия установить различие между Церковью и миром, оценить ключевой для православия опыт «христианского мира» с его «успехом» и его «неудачей». Это молчание не нарушалось и не преодолевалось в шуме беспорядочных споров по поводу прав и привилегий той или иной церкви, каноничности тех или других путей развития, — споров, которыми сегодня, увы, вроде бы и исчерпывается жизнь Православной Церкви. Более того, сами эти споры являются следствием такого молчания и говорят об отсутствии в сегодняшнем православном сознании ясной экклезиологической перспективы, проясняющей те самые термины и понятия, которые так неразборчиво используются спорящими, и соотносящей их с православной верой и православным опытом в целом.
Это молчание не побеждается и столь же шумными столкновениями православных из–за «мира». Православное сознание представлено здесь как бы двумя полюсами — с оптимистами на одном и пессимистами на другом. Но главная особенность этой поляризации в том, что она по–прежнему обусловлена, а лучше сказать — сама есть результат все той же психологической плененности прошлым, тем образом золотого века, который, как ни удивительно, служит источником и православного «оптимизма», и православного «пессимизма». Ибо grosso modo (по большому счету) разница между ними в следующем: если «оптимисты» верят в грядущее воскресение ушедшего православного мира, то «пессимисты» оставили эту надежду, так что очевидно–неизбежное торжество зла в «современном мире» обретает, с их точки зрения, апокалиптический смысл как знамение приближающегося Конца.
«Оптимисты» могут осуждать «пессимистов» как фанатиков. «Пессимисты» могут анафематствовать «оптимистов» как отступников. И те и другие в известном смысле правы: ведь если православный «оптимизм» чаще всего превращается в некритическое, пассивное и бессознательное хождение на поводу «мира сего», то православный «пессимизм» оборачивается манихейством и дуалистическим неприятием мира. И тем не менее обе позиции — пример «неактуальности» (в глубочайшем смысле слова), ибо в их столкновении теряется из виду сам мир как предмет богословского размышления, как необходимое и существенное понятие экклезиологии, которая есть размышление Церкви о себе и, следовательно, о своем присутствии в мире и отношении к нему.
3
И лишь теперь мы вправе задать главный вопрос: если такова теперешняя наша экклезиологическая ситуация, то где и как отыскать объективное и вместе с тем православное основание, контекст и точку отсчета для обсуждения проблемы «присутствия Церкви в мире», которой посвящена настоящая статья? Предикат «православное» предполагает, что они укоренены в православной вере и опыте, а не в нескольких искусственно выделенных категориях западного происхождения; «объективное» подразумевает, что они свободны от того рабства «христианскому миру», которое, как мы старались показать, препятствует должной экклезиологической оценке собственного прошлого и его значения для нашего настоящего. Наше затруднение происходит скорее всего от мнимой несовместимости понятии объективный и православный. В самом деле, казалось бы, не имея ясного понимания ситуации, нельзя верно сформулировать и основной вопрос; но, с другой стороны, именно такое понимание и делает невозможным ответ. И вместе с тем настоящая статья задумана как попытка доказать, что именно эта трудность, именно этот порочный круг, будучи верно осмыслены, откроют перед нами ту единственную перспективу, которая только и может удовлетворить обоим вышеназванным требованиям — и «объективности и православия — и приведет нас к адекватным (т. е. богословским) постановке и решению нашей проблемы. Действительно, реальная выгода, извлекаемая нами из этого порочного круга и, следовательно, из всего анализа, убеждающего в его существовании, основана на том, что он в буквальном смысле влечет нас к открытию, а точнее, к новому обретению третьей «реальности». Бесконечно превосходя «реальности» Церкви и «мира», она открывает христианской вере область касательства каждой из них, а следовательно, единственно–неизменный принцип и критерий их различения, равно как и соотнесения друг с другом. Эта реальность есть Царство Божие, провозглашение которого именно как реальности, а не как идеи или доктрины является центральным моментом Евангелия, а лучше сказать, само есть Евангелие, и в то же время вечный горизонт, источник и содержание христианского опыта.
До тех пор пока мы не соотнесем все наши реальности с этой последней реальностью реальностей, пока надеемся понять и выразить присутствие Церкви в мире в категориях безнадежно «мирского» видения и опыта, т. е. не увидев Церковь и мир в свете Царства Божия, мы обречены — вольно или невольно — пребывать в тупике или порочном круге. Ибо нет и не может быть никакой истинной экклезиологии, т. е. истинного понимания Церкви, мира и их взаимоотношения без эсхатологии, т. е. без православной веры в Царство Божие и опыта этого Царства. Здесь уместно и даже необходимо подчеркнуть, что под эсхатологией мы разумеем не только главу, обычно завершающую школьные курсы богословия и почти целиком посвященную судьбам человеческой души после ее выхода из смертного тела. Эта футуристическая и индивидуалистическая редукция эсхатологии — действительно один из крупнейших недостатков нашего послеотеческого богословия, худший плод длительного «западного плена».
Эсхатология в ее истинном понимании — не столько отдельная «глава» или «доктрина» (которая, будучи отличной от всех других христианских «доктрин», может и должна рассматриваться сама по себе), сколько неотъемлемое измерение самой христианской веры и опыта и, следовательно, христианского богословия во всей его целостности. Христианская вера сущностно–эсхатологична, ибо события, которые ее породили и которые являются ее объектом, равно как и содержанием — жизнь, смерть. Воскресение и Вознесение во славе Иисуса Христа, сошествие Духа Святого и основание Церкви — видятся и переживаются в ней не только как цель и завершение истории спасения, но еще и как начало и дар новой жизни, содержание которой — в Царстве Божием, и содержание это есть знание Бога, общение с Ним, возможность, находясь еще в «мире сем», вкусить «радости, мира и правды» мира «грядущего» и реально участвовать в них. Таким образом, эсхатология, будучи основной «областью касательства христианской веры, как таковой, пронизывает все христианское богословие и, по сути дела, является залогом самой возможности богословия, т. е. преобразования наших человеческих и потому безнадежно ограниченных слов в theoprepeis logoi (богоприличные слова), верно выражающие вечно трансцендентную Божественную Истину.
И еще одно: именно эсхатология, утверждая истинное понимание Церкви и мира, раскрывает и природу их отношения друг к другу. И в первую очередь она раскрывает Церковь как эпифанию, как проявление, присутствие и дар Царства Божия, как его таинство в этом мире. Кроме того. Церковь в целом — и как «институция», и как «жизнь» — эсхатологична, ибо не имеет иного основания, иного содержания, иной цели, кроме раскрытия трансцендентной реальности Царства Божия и приобщения к ней.
В ней нет разделения на «институцию» и «жизнь»: как институция, она — символ Царства, как жизнь, она — таинство Царства, исполнение символа в реальности, опыте, общении. Будучи в «мире сем» (in statu viae)
[44], она живет своим опытом «мира грядущего», которому уже принадлежит и в котором она уже «дома» (in statu patriae)
[45]. Эсхатологическое «бытие» Церкви объясняет «эсхатологическое молчание» Православия в классическую, т. е. отеческую, эпоху нашего богословия. И если Отцы, как нередко отмечалось, не дали определения Церкви, не сделали ее объектом богословского размышления, то это потому, что ни одна из таких дефиниций не могла вполне охватить и адекватно выразить сущностную тайну Церкви как опыта Царства Божия, как его эпифанию в «мире сем». Даже новозаветные образы Церкви — Тело Христово, Невеста Христова, Храм Духа Святого — не поддавались перетолкованию в «дефиниции». Совершенно бессмысленно говорить, что Церковь — «Тело Христово», тем, у кого нет опыта Церкви и ее жизни.
Таким образом. Церковь для Отцов не «объект» богословия, но сам сущий в них «субъект» их богословствования, та неотъемлемая реальность, которая через раскрытие Царства Божия, т. е. последней спасительной истины, делает возможной новую жизнь и свидетельство о ней. Отцы не дали определения Церкви, ибо она, абстрагированная от опыта этой реальности, стала бы чистой формой, о которой нечего сказать по существу. И из последующей истории богословия, особенно западного, мы знаем, что происходит, когда экклезиология, лишенная эсхатологического измерения, эсхатологической основы и содержания, избирает своим объектом именно форму Церкви, усваивает ей, так сказать, «жизнь в себе» и, проделав все это (т. е. превратив экклезиологию в экклезиолатрию), извращает целостный «опыт» Церкви. Все это, как мы увидим далее, очень важно для правильной оценки «христианского мира» и места Церкви в нем.
4
Открывая миру Церковь, ее природу и призвание, эсхатология по необходимости открывает мир или, лучше сказать, его видение и понимание в свете христианской веры. Если существенный опыт Церкви есть опыт новой твари, новой жизни в обновленном мире, то он предполагает и утверждает некий фундаментальный опыт мира. И прежде всего — это опыт мира как творения Божия и потому позитивного по своему происхождению и своей сути, мира, запечатлевшего в своем устроении и бытии мудрость, славу и красоту Того, Кто его создал: «Исполнь небо и земля славы Твоея». В христианской вере, являющей полноту сущностно–библейского прославления Бога в Его творении, нет ни онтологического дуализма, ни космического пессимизма. Мир «добр зело». Далее, эсхатологический опыт Церкви обнажает мир как мир падший, подвластный греху, тлению и смерти, работающий «князю мира сего». Это падение, хотя и не могло упразднить присносущную благость Божия творения, все же вызвало его отчуждение от Бога, превратило его в «мир сей», который, став «плотью и кровью», гордостью и самостью, сделался не только чуждым Царства Божия, но и активно противостоящим ему.
Отсюда и неизбывно трагический взгляд христиан на историю, отвержение христианством той разновидности исторического оптимизма, которая отождествляет мир с прогрессом.
И наконец, последний опыт — опыт искупления, которое Бог совершает, пребывая посреди Своего творения во времени и истории, и которое, освобождая человека, делая его сарах Dei
[46]— способным к новой жизни, — есть спасение всего мира. Ибо как только мир отвергнет — в человеке и через человека — свою самодостаточность, как только он перестанет быть самоцелью и, как это подобает «миру сему», миром «дня», он станет таким, каким задуман от сотворения и каким воистину становится во Христе: объектом и орудием освящения, приобщения и приведения человека к вечному Царству Божию.
5
А теперь снова обратимся к «христианскому миру», который, как мы уже говорили, всецело завладев современным «православным» сознанием, оказался для него камнем преткновения. Эсхатологическая перспектива, как общая почва христианского опыта и понимания Церкви и мира, позволяет нам верно оценить наше прошлое и на основе этой оценки распознать наше настоящее; то и другое есть важнейшие нормы православного отношения к миру в том виде, в каком он ныне существует и бросает нам вызов. Если «оценить» означает установить различие между «успехом» и «неудачей», то оценка сложной реальности прежнего «православного мира» требует отделить его подлинно христианские и потому по сей день значимые достижения от того, что было в нем изменой христианскому идеалу. Но уже сам этот идеал явился, по моему глубокому убеждению, первым и существенным «успехом» христианского мира и его непреходящей ценностью для нас в нашей теперешней ситуации. Если Церковь с такой готовностью, с таким энтузиазмом, без всяких оговорок, без каких бы то ни было юридических или «конституционных» условий приняла «мир», который на протяжении двух с лишним веков отрицал само ее право на жизнь, — итак, если она приняла его как форму своего собственного существования и во всех практических нуждах сливалась с ним, то лишь потому, что поначалу и сам этот мир, т. е. греко–римская Империя, принял христианскую веру и, следовательно, подчинил себя, свои ценности, все свое самосознание главному объекту и содержанию этой веры — Царству Божию. Иными словами, он воспринял христианскую эсхатологическую перспективу как собственную точку опоры.
И это произошло не только в теории, не только номинально. Мы до того привыкли к «западной» оценке «христианского мира», сформулированной почти сплошь в понятиях церковно–государственных отношений, а точнее, с точки зрения взаимодействия двух сил — imperium (политической власти) и sacerdotium (священства), что не в силах уже определить истинный locus (истиннон значение) этого беспримерного альянса Церкви и мира как принципиального согласия по поводу того, что составляет конечную ценность, конечное назначение, конечный горизонт человеческого бытия во всех его измерениях. Доказательство существования и, вопреки всем человеческим неудачам и изменам, действенности этого неписаного, но тем не менее реального «соглашения», безусловно, требует детального анализа всей культувы и этоса пресловутого «христианского мира», но такой анализ выходит за пределы нашей статьи.
Однако не подлежит сомнению, что такой анализ выявил бы фундаментальную открытость и этой культуры и породившего ее общества христианскому эсхатологическому видению, в котором нельзя не усмотреть единственное в своем роде оплодотворяющее начало — их живую душу–Какой бы аспект этого мира мы ни взяли — например, искусство, которое в каждом конкретном «обществе» по преимуществу выражает его жизнеотношение, образ жизни, весь (употребим еще один излюбленный термин современности) «дискурс» его культуры, мы обнаружим, что его внутренняя согласованность, самый стиль (в глубочайшем значении этого слова) в конечном счете происходит из эсхатологического опыта Церкви, ее видения и знания Царства Божия. Так, если монашество стало для этого общества тем идеальным полюсом, тем «предобрым» путем к совершенству, на основе которого сформировалось его богослужение, его благочестие — словом, весь его менталитет, то это вызвано тем, что монахи воплотили в себе эсхатологическую природу христианской жизни, всю невозможность свести христианство к чему–либо от «мира сего», чей «образ проходит». В этом смысле покаяние (в радикальном его понимании, как евангельская metanoia) сделалось основной тональностью «христианского мира», пронизывающей его молитву, его мысль и все глубочайшие символы всецелого его бытия. Эту истину слишком легко забывают современные христиане, хотя в свете присущего современной цивилизации редукционизма именно ее надлежало бы крепче всего запомнить.
6
Если все, о чем мы только что говорили, есть, без сомнения, «успех» «христианского мира», то явившая его нашему взору эсхатологическая перспектива обнажит и его фундаментальную «неудачу». Я называю ее «фундаментальной», чтобы отличить от других изъянов, которыми христианский мир, как и всякое человеческое общество, обладал в полной мере. Но все эти «человеческие, слишком человеческие» недостатки и трагедии, превзошла внутренняя измена христианского мира — измена своему высшему видению и постепенное подчинение видению совсем иного свойства, которое совершилось вполне бессознательно и от этого кажется еще более трагическим. Используя понятные нам сегодня категории, эту измену можно определить как отказ от истории, т. е. от того опыта времени, от такого его значения и функции, которые заложены в христианской эсхатологии. В самом деле, отличительная особенность христианской эсхатологии в том, что, открывая eschaton (предел), последнюю цель и, следовательно, высшее назначение мира, она видит мир как историю, и как осмысленный процесс, протекающий внутри линейного времени. Христианское мировоззрение динамично. Оно освобождает мир от рабства статичной «сакральности». Открывая Царство Божие как Горнее, которое тем не менее присутствует во времени как его закваска, как то, что придает ему ценность, смысл и направленность, Церковь пробуждает в человеке жажду и алкание абсолюта, неутолимое желание и стремление к совершенному.
Первоначальное «соглашение» между Церковью и «миром» не только предполагало это динамичное мировоззрение, но и основывалось на нем. Принимая эсхатологическую веру Церкви, «мир» соглашался быть «шествием» к Царству, миром, открытым пророческому видению, пророческому гласу Церкви. Пусть греко–римской экумене, согласно приложенной к ней Церковью библейской схеме, суждено было стать последней в череде великих империй, составляющих дом и пространство истории спасения; пусть по восприятии Христа как верховного Василевса и Пантократора, она стала мыслить себя христианской politeuma (общностью) — тем наибольшим, что мир может принести Богу, — в глазах Церкви Империя по–прежнему оставалась историчной в самом своем существе, т. е. принадлежащей миру, «образ» которого «проходит».
Однако со временем это видение начинает меняться. Из динамичного оно мало–помалу, и снова почти бессознательно, превращается в статичное. Не имея возможности даже бегло перечислить различные обстоятельства, приведшие к этой метаморфозе, мы убеждены, что они укоренены в общей всем социальным организмам инерции, в их «естественном» стремлении отделять свою форму от того содержания, которое служит единственным оправданием этой формы, и в конечной абсолютизации формы как самоцели, как священной «формы навеки». Лучшей иллюстрацией этой метаморфозы является смещение (и опять–таки бессознательное!) эсхатологических акцентов. Именно теперь начинается индивидуалистическая и почти исключительно футуристическая редукция эсхатологии, которая лишает эсхатологического измерения даже таинства Церкви (в том числе Евхаристию) и, попросту говоря, вытесняет Царство Божие (по крайней мере на уровне богословского осмысления) в область голого будущего, превращает его в простое учение о посмертных наградах и наказаниях.
Истинный контекст этой редукции не исчерпывается богословием. Она отражает нарастающие изменения в самом менталитете, самом сознании христианского мира, постепенное оставление им эсхатологического видения. С одной стороны, его самосознание как последнего земного царства, как провиденциального locus (места) победы Христовой привело к тому, что он стал переживать (скорее, чем мыслить) себя и как конец истории — не времени, но именно «истории», т. е. того времени, которое открыто новым событиям, целенаправленному развитию. Все проявления такого развития, все исторические происшествиянадлежало теперь так или иначе втиснуть в мертвые схемы, отрицающие их специфику и неповторимость. С другой стороны, наряду с углублением внеисторичности в христианском мире укреплялось чувство собственного совершенства, подразумевавшее, конечно, не его членов, остававшихся грешниками, но его формы и структуры, которые чем дальше, тем больше переживались как окончательные, богодарованные и потому не подлежащие никакому изменению.
Все это, повторяю, совершалось шаг за шагом, и скорее бессознательно, чем осознанно, менялась не теория, а лишь ее «опыт». Но последствия этой перемены составляют, без всякого преувеличения, величайшую трагедию истории христианства. Указанная перемена вызвала к жизни растущую эмансипацию человеческого разума (с привитыми ему христианством «жаждой» и «гладом») от «христианского мира», а затем и его бунт против самого христианства. Связанный в своем развитии рамками — религиозными, культурными, психологическими — «христианского мира», скованный его самоабсолютизацией и вместе с тем сформированный и вдохновленный христианским эсхатологическим максимализмом, человеческий разум увидел в «христианском мире» главную помеху этому максимализму, структуру угнетения, а не освобождения. Печальная повесть о разрыве между человеком с его «исканиями и христианским миром звучала неоднократно. Для нас же всего важнее неизгладимая христианская метка, оставленная этим разрывом на физиономии «современного мира», несмотря на его бунт, а порой и апостазию. Это воистину послехристианский мир, ибо самые секуляристские, самые антирелигиозные и антихристианские идеи и идеологии, в той или иной мере волновавшие его, — все эти des verites chretiennes devenues folles (обезумевшие христианские истины) — на самом деле плод секуляризованной эсхатологии. Именно христианская вера, влившая в ум и сердце человека мечту — видение Царства Божия, сделала возможным и фундаментальный утопизм «современного сознания», и его обожествление истории, и его чуть ли не параноидную веру в грядущее царство свободы и справедливости.
7
И, наконец, последний вопрос, какое значение все это имеет для нас, для нашего богословского размышления о присутствии Церкви в «современном мире»^ Наша задача состояла в том, чтобы определить экклезиологическую перспективу, скорее заложенную, чем прямо выраженную, в центральном для православия опыте — опыте христианского мира, его успеха и неудачи, выявить его смысл, его нормативное значение для нынешних наших задач
Я полагаю, основной смысл того, что мы определили как успех, заключается в самом факте существования христианского мира, который являет веру Православия в возможность освящения мира — другими словами, в то, что мир не безнадежно «внешняя» реальность, несоотносимая со всецело «религиозными» интересами Церкви и чуждая ей, но объект ее любви, попечения и действия. И это — самое главное, особенно ввиду распространенной сегодня среди православных опасной и потенциально еретической тяги к манихейскому, дуалистическому миропониманию, к преобразованию Церкви в самодостаточное и лишь собою занятое религиозное гетто. Наше собственное прошлое, наше собственное Предание не только говорит о возможности «богословия мира», но и на деле претворяет такое богословие, сообщая ему подлинно экклезиологическое измерение.
Но если этот успех освобождает нас от манихейского дуализма, то он же должен освободить и от противоположного соблазна, весьма распространенного и столь же опасного — соблазна безоговорочной капитуляции перед миром, приятия этого мира как единственного содержания церковной жизни и действия, диктующего — снова модное слово — agenda (повестка дня) для Церкви. Этот успех — в той мере, в какой он оказался успехом, показывает: функция Церкви в мире определяется тем, чтобы раскрывать его eschaton, возвещать Царство Божие как последнюю цель и, таким образом, относить к нему всю жизнь человека и мира. Церковь — не агентство по разрешению бесчисленных проблем, захлестывающих мир; вернее, она может содействовать их разрешению постольку, поскольку по–прежнему исполнена веры в свою природу и в свое неотъемлемое призвание — являть в «мире сем» то, что, будучи «не от мира сего», есть единственно абсолютный контекст видения, осмысления и разрешения всех человеческих «проблем».
Что же касается «фундаментальной неудачи» христианского мира, то она помогает в полной мере осознать, что есть лишь один сущностный грех, одна настоящая опасность. Это — грех и опасность идолопоклонства, вечно актуальный и вечно притягательный соблазн абсолютизации и обожествления «мира сего», с его эфемерными ценностями, идеями и идеологиями, — соблазн забвения того, что мы, как народ Божий, не имеем здесь «постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13, 14).
Именно неудача христианского мира позволяет нам, вглядываясь в современный мир и породившую его духовную реальность, распознать в нем и доброе — плач, идущий из его христианского подсознания, и темное — его поистине сатанинский бунт против Бога.
Впрочем, для всех этих необходимых, равно как и достаточных, вещей есть одно непременное условие. Оно состоит в том, что и сама Церковь должна вернуться к «единому на потребу» — к сущностно–эсхатологической природе ее веры и ее жизни. Богословское размышление о. мире не только бесполезно, но и просто невозможно до тех пор, пока мы не откроем для себя заново и не обретем как истинно «нашу» ту реальность, которая только и составляет Церковь и является источником ее веры, ее жизни, а значит, и ее богословия, — реальность Царства Божия. Церковь находится in statu viae — в странствии мире сем, посланная к нему как его спасение, по смысл этого странствия, как и самого мира, открывается лишь тогда, когда Церковь исполняет себя как пребывающая in statu patriae — поистине у себя дома, за трапезой Христовой, в Его Царстве.
Конечно, это предварительное условие требует радикального переосмысления нашей богословской деятельности, ее структуры и методологии, самых ее корней, всего того, что делает ее возможной. Недостаточно просто цитировать Отцов, прикрывая их авторитетом любое наше богословское утверждение, ибо богословие стоит не на цитатах — будь то библейские или святоотеческие, — но на опыте Церкви. И поскольку она в конечном итоге не имеет иного опыта, кроме опыта Царства, поскольку в этом уникальном опыте укоренена вся ее жизнь, то у богословия, если оно и вправду есть выражение веры Церкви и размышление об этой вере, не может быть никакого другого источника, никакой другой основы, никакого другого критерия.
Все это возвращает нас к одной очень старой, подлинно вечной истине. Присутствие Церкви в мире всегда полнее, а «польза» миру от Церкви всегда больше там, где полнее ее свобода от мира, и не только «внешняя» свобода (т. е. независимость от структур и властей), но также (и главным образом!) «внутренняя», т. е. свобода от добровольного рабства его ценностям и сокровищам. Но достичь такой свободы нелегко, ибо она предполагает, что наше сердце обрело то единственное подлинное сокровище — опыт Царства Божия, которое возвратит нам полноту Церкви и полноту мира и даст силы исполнить свое предназначение.
Миссия Православия
Лекция, прочитанная в 1968 г. на Национальной конференции православных студентов.
Какова роль православных христиан в Америке и какие задачи стоят перед ними? Слишком часто мы беремся решать проблемы, которые мы даже не сформулировали, стремимся достичь цели, которую еще не определили, победить в боях, в которых мы даже не знаем противников.
Пора прояснить вопросы, сформулировать проблемы, стоящие перед всеми нами, обсудить возможные решения и определить приоритеты в нашей жизни, жизни православных христиан в западной и в то же время — нашей стране. Кто мы? Группа эмигрантов? Духовное и культурное гетто, долженствующее существовать в этой форме наперекор всему? Или нам следует раствориться в том, что называется «американским образом жизни»? Что это такое — «американский образ жизни»?
Я намереваюсь обсудить основной контекст этих проблем. В первой лекции первокурсникам Св. — Владимирской семинарии я всегда использую такой пример. Если у вас большая библиотека и вы переезжаете в новый дом, вы не можете воспользоваться своими книгами, если не построите полки. Пока книги лежат в ящиках, они принадлежат вам, но никакой пользы вам не приносят. И потому моя задача построить полки, а потом попытаться уяснить, какие первоочередные задачи и проблемы стоят перед нами сегодня.
Невозможно говорить о нашей ситуации в Америке, не «относя» ее к нашей естественной и существенной точке — к Православной Церкви. Православная Церковь — греческая, сирийская, сербская, румынская или болгарская — всегда была сердцем и формой православного мира. И только здесь, на Западе, впервые в истории Православия, нам приходится думать о Церкви только в терминах религиозной организации, такой как епархия, приход и т. п. Никто в органически православных странах не представлял себе Церкви, отличной от всецелой жизни. С момента обращения Константина Церковь была органически связана с обществомм, культурой, образованием, семьей и т. п. Не было никакого разделения, никакой дихотомии. И здесь мы видим первое радикальное отличие, с которым мы сталкиваемся в Америке: мы принадлежим к Православной церкви, но не принадлежим к nравославой культуре. Это — первое и наиважнейшее отличие, и если мы не поймем, что перед нами не просто академическое утверждение, но истинный контекст нашей жизни, то и не сумеем уяснить себе ситуацию, в которой живем. Ибо все в Православной Церкви указывает на определенный образ жизни, Церковь связана со всеми сторонами жизни. Но мы лишены такой связи потому, что, выходя в воскресенье утром из церкви, возвращаемся в культуру, не созданную, не сформированную и не вдохновленную Православной Церковью и потому во многом чуждую Православию.
Столкновение культур
Первые православные эмигранты в Америке не задумывались об этом, поскольку продолжали во многом жить внутри органической православной «культуры». Они держались и принадлежали тому, что в американской социологии известно как «субкультура». После литургии русские или греки собирались в приходском доме, причем собирались не только как православные христиане, но именно как русскте, или греки, или болгары, или карпатороссы, для того, чтобы дышать своей родной культурой.
Вначале это было абсолютно нормально и естественно. Даже сегодня в некоторых местах можно жить так, как будто живешь и не в Америке, — не зная толком английского языка, не имея отношения к американской культуре. Но, нравится нам это или нет, эта «иммигрантская» глава нашей истории подходит к концу, и пора подумать о новых поколениях.
У сегодняшних молодых православных нет этого иммигрантского сознания. Православие для них — не воспоминание о детстве в другой стране. Они не будут сохранять Православие просто потому, что это — «вера их отцов». Ведь что получится, если мы применим этот критерий к другим? Тогда потомку протестантов придется остаться протестантом, еврею — иудеем, а сыну атеиста — атеистом просто потому, что такова была «вера отца». Если именно это является критерием, то религия становится не более чем сохранением непрерывности культуры.
Но мы заявляем, что наша Церковь — Православная, или еще проще — истинная и единственная Цeрковь, а это страшная ответственность. Ведь это подразумевает, что Православие — это вера для всех людей, всех стран, всех культур. Но если мы не будем сохранять эту уверенность в своем сердце и уме, наши притязания на то, что мы составляем поистине истинную, или Православную, Церковь, обратятся лицемерием, и честнее будет называть себя обществом сохранения культурных ценностей определенного географического региона.
Наша вера не может быть сведена лишь к религиозной практике и традициям. Она заявляет свои права на всю жизнь человека. Но культура, в которой мы живем, «американский образ жизни», уже существовала до того, как мы сюда приехали. И вот мы оказываемся в ситуации, когда мы принадлежим к «Восточной» Церкви, требующей от нас всей нашей жизни, но живем изо дня в день в западном обществе и ведем западный образ жизни.
Таким образом, первую проблему можно сформулировать очень просто, хотя решить ее очень трудно: как нам соединять эти две жизни? Как мы можем следовать православной вере, требующей всю нашу жизнь, в контексте культуры, которая тоже пытается формировать наше существование?
Такова антиномия нашей ситуации, именно здесь корни наших трудностей. И пока мы не поймем это, мы не сможем прийти к правильному решению. А неправильные решения — сегодня весьма популярные — следуют двум основным линиям.
Одну линию я назову «невротическим» Православием. Оно присуще тем, кто, независимо от того, родились ли они в Православии или обратились в него, решил, что они не могут быть православными, если просто не отринут американскую культуру. Такие люди считают своим духовным домом какие–нибудь романтические и идеализированные Византию или Русь, постоянно ругают Америку и упадочное западное общество. Для них слова «западный» и «американский» — синонимы слов «порочный» и «сатанинский». Такая крайняя позиция дает им иллюзию безопасности, но в конечном счете она самоубийственна. Это, безусловно, не позиция апостола Иоанна, который среди жестоких преследований просто сказал: « … и сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1 Ин. 5:4). И еще он говорит: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение» (1 Ин. 4:18). Но у некоторых, однако, Православие превращается в апокалиптический страх, который всегда вел к сектантству, ненависти и духовной смерти.
Второе опасное направление — это почти патологический «американизм». Есть люди, которые, услышав в церкви одно русское или греческое слово, видят в этом чуть ли измену Христу. Это — тоже невроз, противоположный, невроз тех, кто хочет, чтобы Православие стало американским незамедлительно.
Первый невроз превращает Православие в фанатичную негативистскую секту, второй «фальсифицирует» Америку, — Америка вовсе не та страна, которая требует капитуляции, конформизма и принятия основного направления американского мышления, «американского образа жизни». Это поистине великая и уникальная страна именно потому, что ее культура открыта переменам.
Неизменная весть
Кто знает, может, истинная миссия Православия в Америке — изменить американскую культуру, которая никогда по–настоящему не сталкивалась с иной системой ценностей? Православие, несомненно, обладает пониманием человека, жизни, мира, природы и т. д., радикально отличным от того, которое превалирует в американской культуре, но само это отличие — вызов Православию на определенные действия, а не повод к эскапизму, негативизму и страху. Избежать указанных крайностей, быть истинно православными и в то же время американцами — вот в чем видится нам единственно истинная верность православному преданию. С чего и как следует нам начать этот путь? •
Я уже говорил, что у меня нет готовых ответов, но у меня есть несколько мыслей, которыми я хотел бы с вами поделиться, мыслей о тех предпосылках, тех условиях, которые могут помочь нам на этом трудном пути. Одна из огромных опасностей современной, и в особенности американской, культуры — редукция человека к истории и переменам. Это первое, что мы, православные, должны решительно осудить и чему должны сопротивляться. Мы должны открыто исповедать, что существуют вещи неизменяемые, что человеческая природа в действительности не меняется, что такие реальности, как грех, добродетельность, святость, не зависят от культурных перемен.
Сколько раз я слышал, например, что в «наш век» понятие греха должно измениться, чтобы быть понятным современному человеку! Сколько раз все мы слышали, что в «наш век» нельзя говорить о диаволе! Однако я абсолютно уверен, что грех означает для меня то же самое, что означал для апостола Павла, и что если диавол не существует, то христианство — уже не та религия, которой оно было в течение почти двух тысяч лет. Недостаточно говорить, как делают некоторые западные богословы, о «демоническом». Недостаточно отождествлять грех с отчуждением. И именно в этих вопросах на Православии лежит великая обязанность, ибо оно по существу вера в неизменяемые, постоянные реальности, оно — обличение всех редукций как не только противных вероучению, но и экзистенциально разрушительных.
Так, первым условием должна стать просто вера. Еще до того, как я могу отнести себя к тому или иному поколению, назвать себя иммигрантом или «аборигеном», а наш век технологическим или постиндустриальным и т. д., я сталкиваюсь с основной, все определяющей реальностью — человеком, стоящим перед Богом и понимающим, что жизнь — это общение с Ним, знание Его, вера в Него, что мы в прямом смысле созданы для Бога.
Без этого опыта и утверждения ничто не имеет смысла.
Моя истинная жизнь — во Христе и на небесах. Я был создан для вечности. Эти простые утверждения отвергают как наивные и не имеющие отношения к сегодняшней жизни, и, несмотря на всю свою христианскую терминологию, западное христианство все больше превращается в антропоцентрический гуманизм. В этом пункте невозможны для нас никакие компромиссы, и все зависит от того, сохранит ли Православие верность своей «Богоцентричности», своей направленности к Трансцендентному, Вечному, Божественному.
Мы не отрицаем, что людям нужны справедливость и хлеб. Но в первую очередь им нужен Бог. И поэтому мы можем делать то, к чему призваны, невзирая ни на какие искушения. По видимости «милосердный» характер этих искушений упускает из виду неизменную истину, что наше призвание — не только провозглашать или защищать, но прежде всего жить этой неизменной, вечной иерархией ценностей, в которой Бог, и только Бог, — начало, содержание и конец всего. И это — истинное содержание православной веры, православного богослужения, православных таинств. Это то, что празднуем мы пасхальной ночью, то, что открывается за евхаристической трапезой. Это всегда та же молитва, та же радость: «Да приидет Царствие Твое… » Это–понимание жизни как приготовления, и не к вечному покою, но к жизни более реальной, чем что–либо иное, жизни, только «символом» И «таинством» которой является наша земная жизнь.
Могу услышать и почувствовать реакцию: «Ох, опять рай и ад! И это христианство? Разве можно проповедовать это в двадцатом веке?» И я отвечу: «Да, это христианство. Да, это можно проповедовать в двадцатом веке». Именно потому, что столь многие сегодня забыли об этом, потому, что это стало неважным и для самих христиан, — так много людей уже находятся в аду. И Православие потеряет свою соль, если каждый из нас не будет прежде всего стремиться к личной вере, к этой жажде спасения, искупления и обожения.
Христианство начинается только тогда, когда мы серьезно относимся к словам Христа: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33).
Видение будущего
А теперь позвольте мне поделиться с вами моей второй предварительной мыслью. Точно так же, как каждый из нас должен открыть для себя «неизменное» и вступить во всегда тy же самую, никогда не прекращающуюся духовную борьбу, мы должны понять, что принадлежим к определенному поколению православных христиан, живущих в хх веке в Америке, в секулярной и плюралистической культуре, в условиях глубокого духовного кризиса.
Что мы можем сделать сообща? Каковы православные императивы для нашей общей задачи? Думаю, здесь приоритеты довольно ясны, особенно когда мы говорим со студентами и для студентов, ибо «студент» — чистейший представитель того, что я называю вторым Православием в Америке. Приверженцы первого — независимо от того, прибыли ли они из Старого Света или родились здесь, — по своей ментальности все еще иммигранты. Они живут в условиях американской культуры, но не стали еще ее органической частью.
Студент по определению тот, кто может и должен рефлексировать. Пока американское Православие не рефлексировало на тему самого себя и своего положения здесь. Православный студент — первый православный, призванный задуматься о своей жизни как жизни православного христианина в Америке. От этого зависит будущее нашей Церкви на этой земле, ибо такая рефлексия очевидно будет направлена на вопросы, описанные мною выше. И это чрезвычайно важная задача. Вы скажете либо «да», либо «нет» от имени всей Православной Церкви на этом континенте.
Сказать «да», однако, значит вновь ощутить Церковь как миссию, а миссия в условиях существующей сегодня ситуации означает нечто большее, нежели просто обращение отдельных людей в Православие. Это означает в первую очередь оценку американской культуры в православной перспективе, и такая оценка — истинная миссия православной «интеллигенции», ибо никто другой этого сделать не сможет.
Основы встречи
Здесь я опять хочу подчеркнуть существенное качество американской культуры — ее открытость к критике и переменам, к вызовам и оценкам со стороны. На протяжении всей американской истории американцы задавались вопросами: «Что это значит — быть американцем?», «Для чего существует Америка?» И они до сих пор задают эти вопросы. И здесь — наш шанс и наш долг. Для оценки американской культуры в православной перспективе необходимо, во–первых, знание Православия и, во–вторых, знание истинной американской культуры и традиций.
Нельзя правильно оценить то, чего не знаешь, не любишь и не понимаешь. Таким образом, наша миссия — прежде всего образование. Мы — все мы — должны стать богословами, не в техническом смысле слова, конечно, но в смысле насущного интереса, заботы, внимания к нашей вере, а главное — в перспективе связи веры и жизни, веры и культуры, веры и «американского образа жизни».
Я приведу один пример. Мы все знаем, что один из глубочайших кризисов нашей культуры, да и всего современного мира, — это кризис семьи и вообще отношений между мужчиной и женщиной. И я спрашиваю: как этот кризис можно понять в перспективе нашей веры в Ту, Которая «честнейшая херувим и славнейшая без сравнения серафим», Богородицу, Матерь Божию, Деву, и соотнести его с этой верой?
Куда именно нас все это приведет, — я не знаю. Как сказано в молитве кардинала Ньюмана
[47]: «Я не вижу дальних картин, мне достаточно одного шага». Но я знаю, что между двумя крайностями — капитуляцией перед Америкой и отказом от Америки — нам необходимо найти узкий и трудный путь, соответствующий истинному православному преданию. Ни одно решение не будет окончательным, ибо в мире сем окончательных решений не существует.
Мы всегда будем жить в напряжении и в конфликте, в ритме побед и поражений. Но если пуритане смогли оказать такое огромное влияние на американскую культуру, если Зигмунд Фрейд смог изменить ее так радикально, что отправил два поколения американцев на кушетки психоаналитиков, если марксизм, вопреки своим феноменальным провалам, до сих пор вдохновляет предположительно умных американских интеллектуалов, — то почему вера и учение, которые мы считаем истинной верой и истинным учением, не может сделать чего–либо подобного? «О вы, маловерные … »
Маркс и Фрейд никогда не сомневались — и одержали свои ужасные победы. Современный христианин, однако, страдает врожденным комплексом неполноценности. Одна историческая неудача — и он впадает либо в апокалиптический страх и панику, либо бросается в богословие «смерти Бога». Может быть, пришло время вновь обрести свою веру и с любовью и смирением применить ее к стране, которая стала нашей? И кто способен на это, если не те, кто органически участвует в американской культуре?
Таким образом, необходимы две вещи. Во–первых, укрепление нашей личной веры и верности. Каждый православный христианин, будь то священник или мирянин, мужчина или женщина, должен прежде всего не говорить о Православии, а житъ им в полной мере; это и молитва, и предстояние Богу, и трудная радость переживания «неба на земле». Это главное, и этого нельзя достичь без усилия, без поста, аскетизма, жертвы, то есть без того, что в Евангелии называется «узким путем».
И во–вторых (я позволю себе использовать чрезвычайно избитое слово), нужен глубокий и реальный диалог с Америкой — не приспособление, не компромисс, а именно диалог, который может вестись иногда и очень жестко. Этот диалог может, по крайней мере, привести к двоякому результату. Во–первых, он поможет нам увидеть, что в нашей вере — реально и подлинно, а что — не более чем декор. Мы даже сможем в процессе этого диалога потерять много таких украшений, которые ошибочно принимали за само Православие. Но то, что останется, и есть именно та вера, которая побеждает мир.
В процессе этого диалога мы также откроем для себя истинную Америку, не ту, которую одни православные проклинают, а другие обоготворяют, но Америку той великой жажды Бога и Его справедливости, которая всегда лежала в основе подлинной американской культуры. Чем дольше я живу здесь, тем сильнее я верю в то, что встреча Православия с Америкой провиденциальна. И именно из–за ее «провиденциальности» эта встреча с обеих сторон подвергается нападкам, непониманию, отвержению … Может быть, именно мы — здесь, сегодня — призваны понять ее истинное значение и действовать соответственно.
Миссия Православия
Мы знаем, что православная молодежь Америки должна иметь миссию. И первое условие миссии — духовное основание. Мы не можем никуда двигаться без веры и взятого на себя личного обязательства вести истинно христианскую жизнь. Далее, мы должны думать о своей миссии в контексте конкретной ситуации, с которой мы сталкиваемся в Америке, в этом совершенно секулярном обществе.
Но что такое миссия? Миссия — одно из тех слов, которые часто употребляют и используют неверно в сегодняшней Америке. Поэтому нам необходимо, в первую очередь, уяснить себе его значение. С одной стороны, все понимают, я надеюсь, что в определенном смысле каждый христианин призван быть миссионером. Каждый христианин — посланник. Мы говорим: «Единая, Святая, Кафолическая и Апостольская Церковь», и слово «Апостольская» означает здесь не просто непрерывность священнослужения, как думают очень многие, но и апостольство, то есть миссионерскую природу Церкви и каждого ее члена.
Это «миссионерство» имеет три смысла. Во–первых, я послан к себе самому, что значит: новый Адам во мне всегда готов бороться с ветхим Адамом, то есть с самим собой, все еще держащимся за мир сей и подчиняющимся ему. Во–вторых, я послан к другим. И это опять же относится ко всем, а не только к епископам, священникам и профессиональным миссионерам. В–третьих, наконец, я послан как миссионер миру. Наше видение и вера охватывает всегда спасение всего, за что умер на кресте Христос, а Он умер «за жизнь мира». Таким образом, нельзя спастись без того, чтобы посвятить себя этой миссии. Каждый из нас — миссионер.
Но, с другой стороны, по мере того как мы начинаем искать конкретные способы применения этих общих определений, идея миссии расплывается. И вечная проблема для каждого христианина и для каждого христианского поколения — найти собственную «модальность» миссии, распознать путь, который предназначил им Бог для осуществления их миссионерского призвания. Каждый человек уникален, и так же уникален путь к исполнению им своего призвания. Уникальна и каждая историческая ситуация, и так же уникальна в некотором роде и христианская миссия каждого поколения. Вот почему среди православных сегодня так много несогласий и противоречий. Каждый признает, что необходимо что–то делать, но нет пока согласия в том, что именно и как. И эти несогласия имеют прямое отношение к самой сути православной миссии в современном мире.
Прошлое и наше предание
В сложившейся ситуации нам следует прежде всего обратиться к прошлому — к нашему преданию, но не «археологически», не с невозможным, нереалистичным и бесполезным желанием просто «воссоздать» прошлое, а с стремлением уяснить замысел Церкви. Вся церковная история — в каком–то смысле история миссии, то есть отношения Церкви к миру и действия ее в нем. И, всматриваясь в прошлое, мы разглядим ритм, который, полагаю, можно определить как ритм кризисов и консолидаций.
Посмотрим, например, на книгу Деяний апостольских, самое раннее описание церковной жизни. Она начинается с почти идиллической картины первой общины в Иерусалиме. Церковь растет, люди к ней тянутся, она живет в мире. Трудности — такие, как случай с супругами, пытавшимися солгать и обмануть, — быстро разрешаются. А потом наступает кризис, возникший из радикальной перемены во внешнем культурном и духовном — контексте, в котором живет Церковь.
Неожиданно Церковь сталкивается с новыми проблемами, нарушающими ее первоначальную мирную жизнь. Встают вопросы о миссии к неевреям, об обрезании, проблемы, связанные с еврейским образом жизни, которые ранее даже не обсуждались. Это, другими словами, — кризис роста, всегда болезненный и трудный. Апостол Павел — носитель и символ кризиса — знал, что, не пройдя через него, Церковь останется незначительной иудейской сектой и никогда не бросит вызов всему миру, не станет вселенским «вопросительным знаком по отношению ко всему в мире сем, тем, чем она действительно стала после этого первого кризиса.
После этого начался период консолидации. С середины третьего века мы видим последовательные –усилия собрать, укрепить, организовать, определить жизнь Церкви, дать ей ясные и устойчивые принципы — апостольское преемство, апостольское учение, апостольские традиции, канон Священного Писания. Накануне обращения Константина Церковь уже существует как четкая организация, «привыкшая» к своей вселенской миссии, с отлаженным механизмом решения каждодневных проблем.
Но тут происходит новый кризис, на этот раз вызванный обращением императора и — через него — всего греко–римского общества. Империя, бывшая для Церкви символом антихриста, блудницей, новым Вавилоном, стала христианской. Мало того, она стала христианской вследствие прямого вмешательства Самого Христа, избравшего Константина на роль второго Павла». И снова вся церковная жизнь радикально меняется. Церковь не только обретает мир и безопасность, но и богатство и привилегии, блеск новых базилик, горы золота и серебра, политическую власть, новый социальный статус.
Епископов, только вчера находившихся в тюрьмах или в укрытиях, приглашают приехать в Никею за счет государства, осыпают почестями и подарками. Все это так ново, так неслыханно! Неудивительно, что это ведет к кризису в самом сознании Церкви.
Лучшее доказательство нового кризиса — великий монашеский исход четвертого века. В то время, когда христиане, казалось бы, могли наконец пользоваться и наслаждаться всей возможной властью, — лучшие из христиан, в огромных количествах, уходят в пустыни. Но важно отметить, что именно этот исход становится началом новой консолидации, творческого «приспособления» Церкви к новым условиям в мире. Ибо без монашеского исхода и брошенного монахами вызова Церковь подпала бы опасности слишком легко принять свой новый, привилегированный «статус» — статус государственной религии, отождествляющей себя с культурой, потерявшей силу своей эсхатологической молитвы «Да приидет Царствие Твое».
Именно монахи, сохранившие христианский максимализм и вносившие его в самую «ткань» империи, заложили основы «православного мира» с его внутренним и творческим напряжением между «небом» и «землей». Именно то, что христианский мир, несмотря на все свои недостатки и пороки, никогда не сводил человека ни к чему — будь то экономика, общество или культура, потому что всегда помнил вечное и божественное предназначение человека, всегда полагал своей главной ценностью Царство Божие, — и делало этот мир христианским. Этот мир знал, что человек — грешное существо, призванное к небесной славе, к чести вышнего звания.
Постхристианство
Наша сегодняшняя ситуация — тоже ситуация кризисная, и суть этого кризиса должна дать направление и смысл наших миссионерских действий. Основа кризиса заключается в том, что христианский мир, берущий начало с обращения Константина, и возникшая потом «симфония» между Церковью, с одной стороны, и обществом, государством и культурой — с другой, кончились.
Прошу вас не понять меня неправильно. Не христианству, не Церкви и не вере пришел конец, но миру, который, пусть временами номинально, относил всю свою жизнь ко Христу и имел своим высшим критерием христианскую веру. Все мечты о его восстановлении обречены.
Ибо даже если христиане смогли бы вновь получить власть в государствах и обществах, это не превратило бы автоматически эти общества и государства в «христианские». То, что случилось, произошло на гораздо более глубоком уровне.
Невозможно отрицать факт, что мы больше не живем в христианском мире. Мир, в котором мы живем, обладает собственным стилем и культурой, собственным этосом и, самое важное, собственным мировоззрением. И христиане все еще не определили и не сформулировали последовательно христианское отношение к этому миру и его мировоззрению и разделены в своих реакциях на него. Одни просто принимают это мировоззрение и капитулируют перед секуляризмом. другие же, чья нервная система не выдержала потрясения от перемен, в этой новой ситуации впадают в панику.
Если реакция первых понемногу подводит к исчезновению самой веры, то реакция последних угрожает нам превращением Православия в секту. Человек, чувствующий себя абсолютно комфортно в секулярном и нехристианском мире, вероятно, перестал быть христианином, по крайней мере в традиционном смысле этого слова. Но тот, кто одержим ненавистью к современному миру и страхом перед ним, также выпал из подлинной православной традиции. Ему нужна безопасность секты, уверенность в том, что в центре мирового падения хотя бы он лично спасен. В обоих подходах очень мало христианства и Православия. Одни забывают, что Царство Божие «не от мира сего», а другие, похоже, помнят, что «совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4:18).
Двоякая миссионерская перспектива
Если, как я уже сказал, сама суть настоящего кризиса должна делить нашу миссионерскую перспективу, то, я думаю, эта перспектива содержит две основополагающие реакции, ставит две неотложные задачи.
1. Мы должны сохранить любой ценой то, что многие сегодня презрительно называют христианским «институтом». Сегодня требуется смелость, чтобы защищать этот «институт» перед лицом сильного и антиинституционального настроения, проявляющегося как справа, так и слева. Иронический парадокс нашего времени: ультраконсерваторы объединяются с ультрарадикалами в стремлении подорвать основы этого «христианского института».
Ультраконсерваторы, постоянно измеряя и сравнивая «духовность» или «православие» епископов и юрисдикций, назначают себя судьями, устанавливают критерии и харизматически решают, кого они принимают, а кого отвергают. Иными словами, они берут на себя право принимать решения, которые принадлежат Церкви, и приходят к тому, что заменяют православное учение Церкви новой разновидностью донатизма или монтанизма, ересей, которые выросли из неправильно понятого и не на то направленного максимализма и которые именно из–за такого ложного максимализма было особенно трудно уничтожить.
Ультра радикалы же просто отвергают сам принцип «института», «организации», которая кажется им скучной и чуждой, и готовы пересмотреть и переоценить все в свете собственных предположительно «харизматических» интуиций. В обоих случаях мы видим общее глубоко ложное представление о Церкви, о связи в ней организационного и харизматического начал. И корни этого непонимания — прежде всего в отсутствии основной христианской добродетели: смирения.
Трудно, но необходимо говорить молодежи, которая стремится к максимализму, немедленным действиям и блестящим достижениям: «Ваш первый долг, первое духовное достижение состоит именно в принятии этой организации, и принятии на ее, а не на ваших условиях. Ваш долг состоит в том, чтобы стать — глубоко и смиренно — частью ее».
Ибо что такое «организация»? Это сам факт присутствия и непрерывности Церкви, всегда остающейся одной и той же, в мире сем, независимо от всех кризисов и перемен. Это гарантия того, что, независимо от появления или не появления пророков, святых или вождей, способных вдохновлять и вести нас, всегда есть и будет священник, стоящий у моей постели в смертный час и произносящий слова надежды, радости и победы, которые не он выдумал и которые он, может быть, даже сам не чувствует, но которые через него сохраняет Церковь. Это гарантия того, что каждое воскресенье некто — хороший, плохой или посредственный — будет обладать властью и долгом приносить Богу «Его от Его о всех и за вся» и так делать возможными все «харизмы» и все вдохновения.
2. Должен сохраняться «остаток»
[48] верных, способных действовать в том мире, в котором мы живем сегодня. И это вторая задача. Она может решаться за пределами неизменных границ «организации» И определяется конкретной ситуацией, в которой оказывается Церковь в любой определенный период своей истории. Если истинная функция организации состоит в том, чтобы поддерживать и всегда и везде являть и подавать неизменную сущность христианской веры и христианской жизни, то второе направление миссии имеет дело с конкретной ситуацией, с миром, какой он есть на данный момент. Повторяю: эта миссия — всегда задача «остатка».
Для меня ответ состоит в одном слове: движение. Сегодня, как было и иногда в прошлом, Церковь нуждается в динамической деятельности молодежи, в некоего рода «ордене», чтобы выполнить то, что организация в одиночку не может и не должна совершать. Если ядром такого движения станет в основном студенчество, то так произойдет именно потому, что студент по определению тот, чья жизнь все еще открыта и готова к действию.
Но ударение делается, конечно, не на «студенте», а на «движении». Студент, как и всякий член такого движения, — субъект и агент, а не объект. Иными словами, движение должно быть направлено на задачи, необходимые Церкви, а не на какие–либо конкретные «нужды студентов».
Обеты на сегодня
Я представляю себе некий образ такого движения и тех, кто будет в нем участвовать. Мне представляется своего рода новая форма монашества, монашества без целибата и без ухода в пустыню, но основанного на конкретных обетах. Я могу предложить три обета:
1. МОЛИТВА. Первый обет — придерживаться в жизни определенной духовной дисциплины, а именно — правила молитвы: попытки поддерживать уровень личной связи с Богом, то, что отцы называют «памятованием» о Нем. Сегодня модно обсуждать духовность и читать о ней книги. Но, сколь много бы ни знали мы о ней теоретически, она должна начинаться с простого и скромного решения, усилия и что труднее всего — регулярности. Ничего нет опаснее псевдодуховности, безошибочные признаки которой — самодовольство, гордыня, склонность к суждениям о духовности других и эмоциональность.
Сегодня миру нужно поколение мужчин и женщин, которые не только говорят о христианстве, но «живут» им. Раннее монашество было прежде всего нравилом молитвы. И нам необходимо именно это правило, такое правило, которому могут следовать все, а не только некоторые. Ибо воистину то, что мы говорим, сегодня значит все меньше и меньше. На людей производит впечатление то, какие мы, а это значит — вся сила нашей личности, нашего личного опыта, преданности, самоотверженности.
2. ПОСЛУШAНИЕ. Второй обет — обет послушания, и этого всего более не хватает сегодняшним христианам. Возможно, сами того не замечая, мы живем в климате радикального индивидуализма. Каждый создает для себя собственную версию «Православия», собственный идеал Церкви, собственный стиль жизни. И все же духовная литература утверждает послушание как условие всего духовного прогресса.
Однако здесь под послушанием я имею в виду нечто очень практическое. Это — послушание самому движению. Движение должно знать, на кого оно может рассчитывать. Это послyшание в малом, скромные труды, неромантическая рутина повседневной работы. Такое послушание противоположно не непослушанию, а истерическому индивидуализму. «Я» считаю, «Я» не считаю … Хватит «считать» И давайте делать! Ничего нельзя достичь без определенной степени организации, стратегии и послушания.
3. ПРИНЯТИЕ. Третий обет можно описать словами одного духовного писателя как «рыть собственную яму». Столь многие сегодня хотят делать что угодно, только не то, чего ждет от них Бог, ибо одна из самых больших духовных трудностей — принять или, может быть, даже понять намерения Бога в отношении себя. Очень показательно, что в аскетической литературе так часто звучат предупреждения против перемены места, против ухода из одних монастырей в поисках других, «лучших», против духа беспокойства, постоянных поисков лучших внешних условий. Опять скажу: сегодня нам необходимо «отнести» к Церкви наши жизни, наши профессии, то уникальное сочетание факторов, которое Бог дает нам для испытания, которое только мы сами можем выдержать или провалить.
Наши задачи
Нас могут спросить: «Каковы будут цели такого движения? Какова будет его миссия?»
Первая задача — помочь людям, и в первую очередь самим членами движения, понять и «жить» их православную веру. Мы все знаем, что сегодня существует реальный разрыв между православным идеалом Церкви — «соборности» литургической жизни — и реальностью. Должно быть место, ситуация, где этот идеал можно «вкусить», испытать, прожить, пусть даже частично и несовершенно. И здесь опыт других православных движений очень убедителен. Именно потому, что их члены познавали — на своих конференциях, сборах, кружках — радость и значение христианской жизни, они могли свидетельствовать об этой радости и призывать возвращаться в Церковь.
Вторую задачу нашей миссии можно назвать интеллектуальной. Мы живем в такое время и в такой ситуации, когда все, а не только профессиональные богословы, призваны знать и быть готовыми исповедать. Наше время — время великой идеологической борьбы. И наша Церковь потерпит поражение, если христиане не будут интересоваться содержанием своей веры и ее значением для всей жизни.
И, наконец, движение должно заботиться о тех нуждах Церкви, о которых епархия или приход по тем или иным причинам не заботится. Оно должно находить общий язык с молодежью, определять место и функцию Церкви в нашем мире, отвечать — творчески — на вызов современной культуры. И все это — наши задачи, потому что, будучи не от мира сего, мы находимся в мире сем, оставленные здесь для того, чтобы свидетельствовать и являть.
Конечно, для всего этого понадобится много времени. Но мы должны думать в понятиях «остатка», движения, служения. И если мы хотим быть полезными Церкви, мы должны начать с самих себя. Когда Бог дает что–либо, талант, Он хочет, чтобы мы его куда–нибудь вложили. Он ждет от нас служения.
И только так можно следовать за Христом.
Перевод с английского Елены Дорман
Можно ли верить, будучи цивилизованным?
Вы выбрали сегодняшнюю тему в виде вопроса: «Можно ли верить в Бога, будучи цивилизованным человеком?» И сделали это не без иронии. Я понимаю, что у вас был текст Достоевского, но даже если Достоевский сформулировал этот вопрос, то все равно в наши дни он звучит, во всяком случае для меня, иронически. Ибо есть нечто смешное, наивное, отдающее базаровскими лягушками в этом столько лет всплывающем на поверхность вопросе: «Можно ли верить в Бога?» И еще, может быть, более смешное и даже жалкое есть в попытках серьезно и объективно на этот вопрос ответить.
Недавно я прочел вышедшую книгу, в которой около двадцати чрезвычайно цивилизованных ученых — биологов, генетиков, психологов, социологов и так далее, многие из которых Нобелевские лауреаты, объясняют свой атеизм. «Есть ли Бог?» — «Нет!» — отвечают они и объясняют это чрезвычайно цивилизованно. Совершенно очевидно, что если бы даже по какой–нибудь случайности они здесь сегодня сидели, то вряд ли эти цивилизованные люди моментально сдались бы и сказали: «Можно, слава Богу, верить в Бога, и, мол, за это — мерси, вопрос решен».
Обычно верующие доказывают верующим, что можно верить в Бога, будучи цивилизованным, а неверующие доказывают неверующим, что нельзя верить в Бога, будучи цивилизованным, и такова судьба наших так называемых диалогов. Однако можно было бы издать, и, кажется, вскоре будет издана книга на эту тему, в которой столько же физиков, биологов, генетиков, психологов, социологов отвечают на этот вопрос утвердительно: «Можно верить в Бога», так что каждый останется на своих позициях, причем не забудьте, что и те, и другие знают аргументацию обратной стороны и не убеждаются ею. Поэтому, мне кажется, что речь идет о чем–то другом, более глубоком. О чем же? Я думаю, что речь идет или, может быть, должна идти не столько о противоположении цивилизации и религии, это была в сущности тема XIX в., а о противоположении веры и неверия внутри нашей цивилизации, которое, по моему убеждению, является специфической и, может быть, самой глубокой, самой знаменательной ее чертой. В том–то все и дело, что Нобелевские лауреаты делятся, так сказать, поровну — на одного неверующего генетика всегда можно найти верующего генетика. Вообще все респектабельно. И вера респектабельна. А наши старые лагеря и траншеи — наука, с одной стороны, и вера и религия — с другой, мне кажется, больше не существуют в чистом виде, как существовали они всего несколько десятилетий назад.
Я бы сказал даже, хотя мы все знаем о страшных гонениях на религию в некоторых частях нашего мира, в сущности и борьбы настоящей больше нет; борьбу с религией, как, например, в Советском Союзе, нельзя считать научно серьезной, это полицейское предприятие, и от такого типа борьбы тошнит даже цивилизованных западных коммунистов. Напротив, если чем–нибудь на глубине наша современная цивилизация характеризуется в этом плане, то, мне кажется, некоторой предельной вежливостью. Все мы помним, как почти на руках носили Тейяра де Шардена всякие неверующие ученые, а Ватикан даже основал особый секретариат для диалога с неверующими. И очень характерно, что почти ни один из корифеев от атеизма из упомянутой мною книги не выводит прямо своего неверия, своего атеизма из науки, — нет, все они очень далеки от недавнего триумфального «Наука доказала, что Бога нет!» Это твердит еще советская пропаганда, а на Западе не принято так грубо говорить, и многие из этих ученых признают возможность наличия какой–то непонятной для них «тайны в космосе».
Мне кажется еще более знаменательным, что почти таким же смиренно–елейно–вежливым тоном говорят и верующие в наши дни. Если цивилизованный атеист почти сожалеет о своем неверии, то верующий тоже как бы извиняется за свою веру, и нет у него более страстного желания или стремления, чем сделать ее более безобидной и приемлемой для своего неверующего коллеги. Не будет большим преувеличением сказать, что в нашей цивилизации, и я считаю это крайне примечательным в ней и, может быть, самым примечательным, неверие и вера все менее и менее отличаются друг от друга. На высотах нашей цивилизации они уже, в сущности, согласились, что у них одна и та же цель, и, как это ни странно, одни и те же способы достижения этой цели.
Вы, конечно, все знаете цель… Цель эта — счастье человечества на земле, как его ни понимать. О методах же спорят. В этих спорах участвуют верующие и неверующие с одинаковым энтузиазмом и восторгом. Поэтому, как теперь говорят, все «люди доброй воли», верующие и неверующие, могут работать одной дружной и счастливой семьей. Таков консенсус нашей цивилизации. Но этот консенсус и должен быть, по моему глубочайшему убеждению, предметом оценки и обсуждения со стороны нас, верующих, если таковыми мы дерзаем себя называть. Ибо настоящий вопрос не в том, совсем не в том, можно ли верить в Бога, будучи цивилизованным, поскольку наша цивилизация отвечает:
«Можно, сколько угодно можно, верьте себе на здоровье», — а в том, во что, собственно, превращается, во что уже превратилась эта вера внутри нашей цивилизации, о том, какую цену мы заплатили, сами того не сознавая, за то, чтобы верить в Бога, будучи цивилизованными?
Взлетов, удач, потрясающих достижений цивилизации оспаривать не приходится, и я уверен, что почти никто из нас, сидящих здесь, если он в здравом уме и твердой памяти, не захотел бы вернуться даже в самое романтизированное средневековье. Но если говорить с религиозной точки зрения, вряд ли можно оспаривать то, что постоянной доминантой в истории нашей современной цивилизации, отличительным ее свойством было с самого начала систематическое возвеличивание человека, — парадоксально, путем систематического умаления, урезывания самого понимания человека, интуиции его природы, призвания и замысла. В этом — специфический парадокс нашей цивилизации. С одной стороны, наш мир более, чем какой–нибудь другой мир, предшествовавший ему, можно назвать антропоцентрическим. С другой стороны, этот окончательно оказавшийся в центре человек — явление очень небольшого калибра. Попробую пояснить эту мысль.
Почти все цивилизации, предшествовавшие нашей, в сущности, смотрели вверх — на высшее, горнее и идеальное. И в этом высшем, горнем и идеальном видели меру и объяснение всего: мира, человека, жизни. Спор всегда шел только о том, как понимать это горнее и как жить им. Это могли быть очень горячие споры, но споры внутри того же смотрения вверх. Поэтому, несмотря на всю глубочайшую разницу между Афинами и Иерусалимом, между Библией и Элладой, христианство все же смогло в так называемый «отеческий век», век святых отцов, воплотить и выразить себя на языке, в категориях и формах эллинизма, создать христианский эллинизм. Поэтому, несмотря на радикальное отвержение язычества и языческой священности, Церковь смогла в час победы над язычеством выразить свою веру, свою надежду и свою любовь в символах дохристианской священности. И именно на этой почве, на этом общем устремлении вверх выросла та христианская цивилизация, которую сегодня принято развенчивать и обвинять во всех смертных грехах, от которой принято отрекаться, как от чего–то постыдного и изжитого, и которую, по всей вероятности, так ненавидят сегодня за то, что в самом сердце ее, как бы мы ее ни анализировали, как бы не сводили к тому или иному принципу, сияет высокий, такой неизреченной красоты и глубины образ человека — человека, пронизанного божественным Светом.
Для меня нет сомнения в том, что отречением от этого образа неизреченной Славы началась наша, пока что последняя по счету цивилизация. Началась с того, что в богословской аналогии следовало бы назвать вторым грехопадением. Христианское богословие открыло нам, что человек пал потому, что хотел стать как Бог, но без Бога, что он хотел удовлетвориться своей человечностью, а это значит урезать и ограничить в самом себе свою жажду абсолютного. Уже тогда, в раю, змей нашептал ему слова: «Человек есть мера всех вещей». Уже тогда, в раю, змей внушил ему, что смирение, в котором больше, чем в чем бы то ни было, раскрывается божественность человека, — это рабство, а вот гордость маленького человека — это свобода и царство. И по аналогии с этим первым грехопадением я говорю и о втором грехопадении, более страшном, ибо это второе грехопадение, этот отказ от образа неизреченной Славы, произошел после того, как Христос просиял в мире, уже после того, как раздались все слова, все молитвы, все гимны о подлинном небесном призвании человека.
Поль Азар в своей «Истории европейской мысли» хорошо показал, как именно с этого умаления, урезывания образа, призвания, жажды человека началось становление нового мира. У него есть замечательная глава, которая называется «Процесс христианства». Оказывается, процесс этот был связан не с тем, что наука что–то доказывает, но с отказом от христианского максимализма, сведением его к «простому счастью», «простому разуму», с отказом от свойственной христианской культуре жажды трансцендирования всего.
«Не будем искать того, чего искать невозможно, подальше от того, что звучало в мире, как соблазн для иудеев, а для эллинов — как безумие. Главное отрезать все то, что беспокоит человека, что зовет вверх — туда, куда ему совсем не хочется идти», ибо твари вверх идти не хочется. Для этого нужно, чтобы в ней воссияло сверхтварное и увлекло ее вверх. Таково свойство нашей цивилизации при всех ее потрясающих удачах–согласие с самого начала не смотреть выше определенного уровня, а по возможности смотреть вниз. Заметьте, что так это никто не называет, все думают, что они вверх смотрят, луна–то наверху. Поэтому многим кажется, что идя на луну, мы идем вверх, но это еще требует доказательств, что луна наверху, и что то, что находит на ней человек, есть обязательно высшее, а не то же самое, что мы находим в самом низу. Но, конечно, осталась и сквозь все развитие нашей цивилизации все время звучала великая тоска. Нельзя так просто отказаться от того замысла, что дан был человеку. Может быть, вся глубина, вся острота и вся единственность этой уникальной культуры XIX в. в том, что она пронизана тоской и светом, которые в ней остались. В этом ее единственность, она уже не христианская культура, но еще и не нехристианская, она вся в этой памяти какого–то небывалого видения, которое появилось в мире, которое приходится развенчивать и уступать, потому что оно оказалось иллюзорным, но без которого жить стало в этом мире страшно скучно. Повторяю, в этом, может быть, единственное значение великой культуры XIX в., распадающейся и разлагающейся на наших глазах. В ней была цельность тоски, цельность памяти, если не устремления, цельность этого знания о чуде при неверии в него.
Теперь мы можем вернуться к вопросу: «Может ли верить цивилизованный человек?» Да, может, и очень часто верит. Не надо думать, что неверие нарастает в нашу эпоху, это было бы, может быть, легче. Гораздо опаснее развитие внутри цивилизации, я бы не сказал — псевдоверы, скорее — маловерия. Он верит, но его нужно спросить, во что он верит? В кого он верит? Для чего он верит? Чем его христианство отличается от того, что и во всех религиях без исключения находил человек? Чтобы найти это, совсем не нужно христианство. Всякое почтенное язычество вполне хорошо удовлетворило бы нужду человека кому–то помолиться, кому–то поведать свою печаль, от кого–то получить убеждение, что жизнь имеет какую–то опору где–то. В конце концов, в какой–нибудь деревне, куда приезжал христианский епископ в IV в., давно уже люди верили в бога. Но эту веру надо было наполнить новым содержанием. И вот, спустя две тысячи лет, мы спрашиваем себя: «Да наполнилась ли эта вера новым содержанием?» Не вернулись ли мы, верующие, в этой цивилизации, очень гордой цивилизации, не вернулись ли мы к принципиальному минимализму? Мы бы хотели, чтобы нам дали право верить, и нам дают его, не всюду, но кое–где дают строить церкви и продолжать свою маленькую религиозную жизнь, не замечая никаких бурь и треволнений, царящих в мире.
Мы, православные, часто любим на экуменических съездах говорить: «Православие — это преображение мира и жизни», а на самом деле все ограничивается приходским чаем. Преображение жизни использутся для экспорта, этим хорошо непреображенного протестанта по голове тяпнуть. Ведь Христос пришел для того, чтобы создать внутри этого мира, в этой зоне, на этой земле очаг, на котором бы Его огонь никогда не погас, но всегда опалял. Как мы читаем в молитве перед причастием:
«Попали невещественным огнем грехи моя, и насытитися еже в Тебе наслаждения сподоби, да ликуя возвеличаю два пришествия Твоя». Красиво по–славянски молимся, вдумаемся — о чем! «Да ликуя возвеличаю два пришествия Твоя», чтобы сделать этот мир не уголком тихого и благополучного жития, а ареной борьбы, последним театром, в котором сжигается это тварное «ничто», и человек наполняется божественным Светом и восходит в Царство Небесное. Если богословы об этом и говорят в очень «гладких» книгах, то в церковной жизни Востока и Запада это почти выветрилось, это не составляет двигателя церковной жизни. Недавно в конфликте, который произошел в России из–за одного письма, все сразу возопили, что от всего надо охранять церковь. И церковь может стать идолом, и для охраны церкви можно предать огонь христианский.
Когда начинают жить земными идеалами и их называют небесными и христианскими, то небо, которое мы должны были воочию являть в наших земных цивилизациях, кажется очень маленьким и даже не очень нужным. Тогда понимаешь этого цивилизованного человека, который такой веры, собственно, и не хочет. Она ему совсем не нужна. Цивилизация спустилась вниз, и встречаются вера и неверие на каком–то низком уровне, и там даже готовы примириться и друг другу больше не мешать, установить общий календарь, общий порядок. Что нам сделать? Мы сделаем то–то и то–то… Мы освободим какую–то страну где–нибудь… Потом мы добьемся того, что все на земле будут сыты. Но только никогда не спрашивайте, для чего это нужно в конечном итоге, куда все это идет, где всему этому конец. Тут мы «экуменически» договорились не тревожить друг друга. Не будем тревожить неверующего каким–то «неотмирным» Царством Божиим, не будем тревожить верующего тем же Царством Божиим, вообще не будем никого тревожить. А тут мы спрашиваем: «Может ли верить цивилизованный человек?» Но, может, не стоит ему верить? Зачем ему советовать какие–то вещи? И наоборот, в этой цивилизации, в конечном итоге, мы находим такое разложение человечности, что, может быть, и не стоит стремиться к тому, чтобы верующий стал цивилизованным?
В этой деструктивной части моего доклада я хотел показать, что эти старые, от XIX в. унаследованные категории в общем не применимы к нашей теперешней ситуации. Речь идет о том, чтобы, во–первых, прочитать изнутри цивилизацию, понять, что в ней совершается; во–вторых, чтобы почувствовать снова, понять снова, если еще не сердцем, то хотя бы умом, что последние две тысячи лет означает или должно было бы означать–верить, ибо совсем не всякая вера хороша, совсем не все, что религиозно, обязательно хорошо. Надо почувствовать, что произвело христианство, какой замысел дало оно цивилизации тем, что обновило и изменило глубочайшим образом изнутри понятие веры. И поэтому надо ставить вопрос сегодня: как веришь, во что веришь? Я бы назвал содержание подлинной веры, ради Бога не поймите меня неправильно, Православием. Я имею в виду не сумму тех эмпирических явлений, черт, которые составляют Православие. Лично я считаю, что православная церковь глубочайшим образом больна на всех уровнях своей жизни. Всякий православный триумфализм мне абсолютно чужд.
Недавно мы переживали Страстную и Пасху, когда поется: «Да молчит всякая плоть человеческая, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет». В эти дни Сам Бог и Человек во Христе, сама тварь, в таинстве Воплощения, Воскресения и Пятидесятницы прославленная, входят в нас.
Нужно, чтобы снова засиял этот высокий замысел, чтобы снова человек не книжно, а всей своей жизнью, всей свой радостью сказал:
«Вот призвание человека в мире — богообщение, радость, мир и праведность в Духе Святом». Это и только это составляет смысл и глубину человеческой жизни.
Такой веры и ищет, в сущности, современный человек. Это цивилизация не могла забыть, из какого источника она выросла. Даже в ее отречении есть какой–то суд над той половинчатой верой, которую мы, верующие, представляем в мире.
Не будем слушать тех мрачных христианских апокалиптиков, которые зовут нас в несуществующие пустыни и высчитывают дату второго пришествия Христа.
Не будем идти за теми, которые предлагают красить внешность Церкви в цвета этого мира. Какой сейчас цвет, зеленый? — В зеленый крась! Красненький? — В красненький покрасим!
Очень может быть, что за этой волной модернизма, которая сейчас разливается в мире, очень скоро придет новая мода, мода консерватизма. Поэтому надо идти не к будущему и не к прошлому, ибо в том, что было, интересно только одно: «И Слово плоть бысть», а в том, что будет, интересно только одно: «И паки грядущаго со славою, судити живым и мертвым». Все остальное между этим прошлым и будущим, в сущности говоря, — тот образ мира, который проходит. Но если углубить нашу веру, то мы волей–неволей снова сослужим ту службу, которую только и может сослужить вера цивилизации — надстроить этот недостающий этаж — «горе' имеем сердца», которого сейчас так не достает. Человечество после христианства уже не может удовлетвориться никакой законченной цивилизацией, никакой «системой ценностей», ибо теперь она разлагается уже не снизу, а сверху. И мы, христиане, должны были стоять у этого входа в небо, ибо так и апостол называет нас: «Братья и святые, участники в небесном звании». Вот определение верующего человека — «участник в небесном звании»!
Несколькими сильными словами о. Александр задел сторонников «охранительного православия», и ему был поставлен вопрос, как относиться к церковной старине?
Ответ: Хотя я и очень люблю старину, но никогда не мог принять категорию старины в качестве абсолютной принадлежности религии. В религии важна не старина, а истина. То, что было истиной вчера, то истина сегодня, то будет истиной завтра. Мы никогда не должны быть Иванами, не помнящими родства своего; всякое разрушение традиции, всякие легкие от нее отходы, всякое отречение от нее есть всегда признак духовного заболевания нации и человека. У нас в Америке вышла книга «Вера наших отцов», где предлагается хранить веру отцов. Ну, а если вера отцов была неправильной верой? Так хранить ее? Храните иудаизм, если вы иудей; храните атеизм, если вы безбожник. На старину также направлена вера судящая, «различающая духов». Культ руин и развалин очень недавно появился — с романтизма, с христианской точки зрения, явления еретического. Человечество раньше не жило развалинами. Всегда, когда люди начинают жить развалинами, — это признак разваливаемости их самих. Поэтому я предлагаю не обзывать что–либо новшеством, а вникать, хорошо ли это, правильно ли это, соответствует ли это истине, нужно ли это нам, и так же относиться к старине. Христианство всегда направлено не на хронологию, а на сущность вещей. Иногда мы о чем–нибудь думаем, что это древнее церковное предание, а оно возникло в XIX в., а какой–нибудь модернизм может быть апостольским преданием. Поэтому нам нужны сейчас не эти крайние позиции, а кафоличность, цельность, полнота Церкви.
Далее о. Александру был сделан упрек, что он недостаточно сказал о том, что же есть «единое на потребу», и попросили его ответить.
Ответ: Почему мы не сделали съезд на эту тему, я бы целый доклад прочитал? Я надеялся, что все это знают, а если не знают, то надо начинать все сначала. В Евангелии на это дан абсолютно ясный ответ:
«Ищите прежде Царствия Божия, и остальное приложится вам». Вот, что есть «единое на потребу». Может возникнуть вопрос, что есть Царство Божие, и меня всегда удивляет, до какой степени мы мало на эту тему думаем. Царство Божие есть, конечно, то, для чего создан мир, то, для чего создан каждый человек, то, для чего существуют все культуры, все цивилизации. Это есть та полнота, которой Бог наполняет все во всем, когда Он действительно воцаряется окончательно в Своем творении. Это есть «единое на потребу». Теперь можно делать ударение на спасении. Человек имеет высокое предназначение. Наше современное христианство очень мало думает о спасении, очень много — об общественной помощи. Именно потому Царство Божие приходит к нам как спасение, что человек отказался от Царства Божия. Ушел от Него, отрекся, забыл о Нем, и поэтому спасение является нам в лице Иисуса Христа, Который нам открывает, что Царство Божие прежде всего в Нем Самом. Он — совершенный Бог в Человеке, совершенный Человек в Боге и «полнота Наполняющего все во всем». Царство Божие есть знание Бога, знание Истины, общение с Богом, радость о Боге, совершенное исполнение всего того, что в нас заложено Богом в даре жизни. Вот что есть «единое на потребу».
Теперь — почему называется «единое на потребу»? В этом мире Царство Божие заслонено тысячами разных идолов, разных вторичных ценностей, разных соблазнов, а Христос пришел именно для того, чтобы нам открыть главное, вокруг чего все остальное становится на свои места. Поэтому действительно нельзя в нашей жизни к этому «единому на потребу» обратиться, не отрекшись от многого, что его заслоняет, как отрицательного, так, очень часто, и положительного, но ставшего идолом.
Ничего в этом мире без аскезы сделать нельзя. Царство Божие усилием берется. Потому оно и нудится, что человек пал. Нам легче лежать, чем сидеть; сидеть, чем стоять. Я в прошлом году на этом же самом месте говорил о том, что крест — это не только вера в Голгофский крест, но то, что вошло в нашу жизнь как постоянное, ежеминутное распятие наших природных желаний, природных оценок, это тот предел, перед которым мы все время стоим.
О христианской любви
Мы так привыкли к словосочетанию «христианская любовь», мы столько раз слышали проповеди о ней и призывы к ней, что нам трудно бывает постичь вечную новизну, необычность того, что заключено в этих словах. На новизну эту указывает Сам Господь в Своей прощальной беседе с учениками: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» (Ин 13:34; здесь и далее жирный шрифт в цитатах принадлежит автору статьи). Но ведь о любви, о ценности и высоте любви мир знал и до Христа, и разве не в Ветхом Завете находим мы те две заповеди — о любви к Богу (Втор 6:5) и о любви к ближнему (Лев 19:18), про которые Господь сказал, что на них утверждаются закон и пророки (Мф 22:40)? И в чем же тогда новизна этой заповеди, новизна, притом не только в момент произнесения этих слов Спасителем, но и для всех времен, для всех людей, новизна, которая никогда не перестает быть новизной?
Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить один из основных признаков христианской любви, как он указан в Евангелии: «любите врагов ваших». Помним ли мы, что слова эти заключают в себе не иное что, как неслыханное требование любви к тем, кого мы как раз не любим? И потому они не перестают потрясать, пугать и, главное, судить нас. Правда, именно потому что заповедь эта неслыханно нова, мы часто подменяем ее нашим лукавым, человеческим истолкованием ее — мы говорим о терпении, об уважении к чужому мнению, о незлопамятстве и прощении. Но как бы ни были сами по себе велики все эти добродетели, даже совокупность их не есть еще любовь. И новую заповедь, возвещенную в Евангелии, мы поэтому все время подменяем старой — любовью к тем, кого мы уже и так по–человечески любим, любовью к родным, к друзьям, к единомышленникам. Но мы забываем при этом, что про эту — только природную, человеческую любовь в Евангелии сказано: «кто любит отца или мать <„.> сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф 10:37) и «кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер <…> тот не может быть Моим учеником» (Лк 14:26). А если придти ко Христу и означает исполнение Его заповедей, то, очевидно, христианская любовь не только есть простое усиление, распространение и «увенчание» любви природной, но коренным образом от нее отличается и даже противопоставляется ей. Она есть действительно новая любовь, подобной которой нет в этом мире.
Но как же возможно исполнение этой заповеди? Как полюбить тех, кого не любишь — не только врагов в прямом смысле слова, но и просто чужих, далеких, «не имеющих к нам отношения» людей, всех тех, с кем ежечасно нас сталкивает жизнь?
Ответить можно только одно. Да, эта заповедь была бы чудовищной и невозможной, если бы христианство состояло только в заповеди о любви. Но христианство есть не заповедь только, но и Откровение и дар любви. И только потому любовь и заповедана, что она — до заповеди — дарована нам. Только «Бог есть любовь».
Только Бог любит той любовью, о которой говорится в Евангелии. Человек не может так любить, потому что эта любовь есть Сам Бог, Его Божественная природа. И только в Боговоплощении, в соединении Бога и человека, то есть в Иисусе Христе, Сыне Божием и Сыне Человеческом эта Любовь Самого Бога, лучше же сказать — Сам Бог Любовь явлены и дарованы людям. В том новизна христианской любви, что в Новом Завете человек призван любить Божественной Любовью, ставшей любовью Богочеловеческой, любовью Христовой. Не в заповеди новизна христианской любви, а в том, что стало возможно исполнение заповеди. В соединении со Христом в Церкви, через Таинства Крещения и Причащения Телу и Крови Его, мы получаем в дар Его Любовь, причащаемся Его любви, и она живет и любит в нас. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим 5:5), и Христом заповедано нам пребывать в Нем и в Его любви: «пребудьте во Мне, и Я в вас <…> ибо без Меня не можете делать ничего <…> пребудьте в любви Моей» (Ин 15:4–5,9).
Пребыть во Христе — это значит быть в Церкви, которая есть жизнь Христова, сообщенная и дарованная людям, и которая поэтому живет любовью Христовой, пребывает в Его любви. Любовь Христова есть начало, содержание и цель жизни Церкви. Она есть, по существу, единственный, — ибо все остальные объемлющий — признак Церкви: «по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин 13:35). В любви — святость Церкви, потому что она «излилась в сердца наши Духом Святым». В любви — апостольство Церкви, потому что она всегда и всюду есть все тот же единый апостольский союз — «союзом любви связуемый». И «если я говорю языками человеческими и ангельскими <…> Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор 13:1—3). А потому только любовь всем этим признакам Церкви — святости, единству и апостольству сообщает действительность и значимость.
Но Церковь есть союз любви не только в том смысле, что в ней все любят друг друга, но прежде всего в том, что через эту любовь всех друг к другу она являет миру Христа и Его любовь, свидетельствует о Нем, любит мир и спасает его любовью Христовой. Она любит во Христе — это значит, что в Церкви Сам Христос любит мир и в нем «каждого из братьев сих меньших». В Церкви каждый таинственно получает силу всех любить «любовью Иисуса Христа» (Флп 1:8) и быть носителем этой любви в мире.
Этот дар любви преподается в Литургии, которая есть таинство любви. Мы должны понять, что в Церковь, на Литургию мы идем за любовью, за той новой Богочеловеческой любовью Самого Христа, которая даруется нам, когда мы собраны во имя Его. В церковь мы идем, чтобы Божественная любовь снова и снова «излилась в сердца наши», чтобы снова и снова «облечься в любовь» (Кол 3:14), чтобы всегда, составляя Тело Христово, вечно пребывать в любви Христа и ее являть миру. Через литургическое собрание исполняется Церковь, совершается наше приобщение ко Христу, к Его жизни, к Его любви, и составляем «мы многие — одно тело».
Но мы, слабые и грешные, можем только захотеть этой любви, приготовить себя к ее приятию. В древности поссорившиеся должны были помириться и простить друг друга прежде, чем принять участие в Литургии. Все человеческое должно быть исполнено, чтобы Бог мог воцариться в душе. Но только спросим себя: идем ли мы к Литургии за этой любовью Христовой, идем ли мы так, алчущие и жаждущие не утешения и помощи, а огня, сжигающего все наши слабости, всю нашу ограниченность и нищету и озаряющего нас новой любовью? Или боимся, что эта любовь действительно ослабит нашу ненависть к врагам, все наши «принципиальные» осуждения, расхождения и разделения? Не хотим ли мы слишком часто мира с теми, с кем мы уже в мире, любви к тем, кого мы уже любим, самоутверждения и самооправдания? Но если так, то мы и не получаем этого дара, позволяющего действительно обновить и вечно обновлять нашу жизнь, мы не выходим за пределы себя и не имеем действительного участия в Церкви.
Не забудем, что возглас «возлюбим друг друга» есть начальное действие Литургии верных, евхаристического священнодействия. Ибо Литургия есть таинство Нового Завета, Царства любви и мира. И только получив эту любовь, мы можем творить воспоминание Христа, быть причастниками плоти и крови, чаять Царства Божьего и жизни будущего века.
«Достигайте любви» — говорит Апостол (1 Кор 14:1). И где достичь ее, как не в том таинстве, в котором Сам Господь соединяет нас в Своей любви.
Обновление
По мере знакомства с громадным и непрерывно растущим потоком современной богословской литературы трудно не заметить, что основным (если не единственным) ее предметом является «мир». Основное содержание и направленность идеи обновления — будь то на уровне богословия (цель которого определяется как «переоценка традиционной христианской доктрины в свете нового самосознания современного человека»), на уровне апостольства или даже духовности — заключается в том, чтобы сделать христианство актуальным для мира, сознающим, в какую эпоху этот мир вступает, отзывающимся на его нужды, проблемы и тревоги, адекватным его мышлению.
При всем различии конкретных программ обновления, — а диапазон их колеблется от радикального пересмотра едва ли не всего, что есть в традиционном христианстве, в том числе и понятия Бога, до умеренного приспособления к потребностям нашего времени, — их общим знаменателем и действующим принципом остается не только небывало острая восприимчивость к миру, но и превращение его в буквально единственный критерий веры, жизни и действия Церкви. Если прежние христиане оценивали мир в понятиях Церкви, то сегодня верно как раз обратное: для многих христиан именно мир призван выносить суждение о Церкви. И даже в сознании тех, кто не приемлет всех крайностей идеи секуляризации в трактовке радикально настроенных богословов, понятие это, быть может, чаще всех других соединяется с понятием «обновления».
В этой статье ставится под сомнение не новое восприятие мира христианским сознанием, но то, в чем я вижу по меньшей мере опасную однобокость такого восприятия. Нимало не сомневаясь в насущной необходимости для Церкви иметь памятование о том, что она существует не ради себя, а ради мира и его спасения, я не уверен, однако, что все аспекты этого неизбежного обновления в отношениях Церкви и мира заслуживают равного внимания. Я подозреваю даже, что дело вообще начато «не с того конца». Говоря же о богослужении и молитве, мне хотелось бы не просто примешать малую толику благочестия в «здоровый» во всех остальных отношениях процесс, но выдвинуть на первый план то, что составляет, по моему убеждению, коренной вопрос всякого обновления. Православному христианину, каковым является и автор настоящей статьи, свойственно видеть проблему в иной перспективе, чем представителю западного христианства. Но нужно надеяться, что православная точка зрения здесь, как и всюду, поможет прояснить основные спорные вопросы.
2
Прежде всего спросим: что это за «мир», о котором столько говорят сегодня? Как ни странно, но при всем своем внимании к нему мы, кажется, упускаем из виду основную антиномию, заложенную в традиционно христианском понимании этого термина. Похоже, мы забыли, что в Новом Завете, да и во всем христианском Предании мир предстает как объект двух диаметрально противоположных отношений: подчеркнуто–выразительного приятия — да, и столь же выразительного отрицания — нет. "<…> Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного <…> не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.» (Ин. 3, 16—17); но вместе с тем: "<…> не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей <…>" (1 Ин. 2, 15). Текстов, подобных этим, можно привести ad libitum (сколько угодно); в них — вся история Церкви с присущей ей полярностью утверждения «христианского мира» и попечения о нем, с одной стороны, и отрицания и отказа от него во имя «единого на потребу» — с другой.
Итак, вопрос в том, ставит ли нас эта полярность перед простым выбором, иначе говоря — позволяет ли она выбрать одну из двух позиций — да или нет, исключив тем самым другую. Соблазн такой редукции всегда велик. Если в прежние времена существовала определенная традиция, видевшая в любом проявлении обращенности к миру признак измены и отступничества, то сегодня слышатся голоса, осуждающие любую форму выхода из мира (монашество, духовное созерцание и даже богослужение), как «неактуальную» и недостойную, и зовущие нас к безоговорочной капитуляции перед миром « его ценностями. Но в том–то и дело, что и Новый Завет, и христианское Предание не дозволяют нам ни выбора, ни редукции. Они одновременно и принимают, и отрицают мир, выдвигают да и нет как одну, а не две позиции, и парадокс этот неизбежно оказывается исходным пунктом христианского отношения к миру и любым формам его обновления.
Но парадокс ли это? Не забываем ли мы, что основной предмет внимания в христианстве не мир , но Царство Божие и что противоречивое по видимости мироотношение оказывается и богословски, и экзистенциально согласованным, когда его объект — мир — соотносится с центральным для христианства понятием Царства Божия? Да и нет предстают в таком случае как два аспекта, одинаково существенные и необходимые, одного и того же отношения. Ибо, с одной стороны, мир, который Бог создал и сделал хорошим, открывается нам как «вещество» Царства Божия, которое призвано наполниться содержанием и преобразиться так, чтобы Бог стал в конце концов все во всем .
Мир, как таковой, приемлем как Божий дар, как объект человеческой любви и заботы, ибо он принадлежит человеку, царю твари, Божию представителю во Вселенной, призванному наполнить землю. Мир, таким образом, есть «Таинство Царства»; он изначально ориентирован на Царство, и именно по этой причине Церковь осудила дуализм и манихейство как ереси. Но, с другой стороны, этот же мир, однажды став — и опять–таки через человека — самодостаточным и эгоцентричным, полагающим цель в себе, а не в Боге, однажды отвергшим онтологическую подчиненность Царству Божию или, другими словами, свое трансцендентное призвание и судьбу, открылся не просто как враждебный Богу, но как демонический и бессмысленный мир саморазрушения и смерти — «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» (1 Ин. 2, 16). Вот почему приятие истинного мира как «перехода в Царство» главным условием имеет отрицание и отказ от того, что в Новом Завете зовется «миром сим», любовь к которому и сама по себе грех, и источник всяческого греха.
Все это, конечно, «общее место». Но без возвращения к нему нельзя преодолеть ту невероятную путаницу, в которой мы оказались сегодня и которая, невзирая на все благие намерения, лишает мир — будь то даже мир современный, технократический, совершеннолетний и т. п. — сколько–нибудь ясного христианского смысла, так что мы, слыша призывы приносить на алтарь мира все самое дорогое для нас, до сих пор не знаем, ради чего он, собственно, существует и какова его конечная судьба.
Но здесь–то и подстерегает нас главная трудность. Отнесение мира к Царству Божию и попытка осмыслить наше действие в нем в свете Царства сразу вызывает вопрос: что есть Царство Божие? Не надеемся ли мы определить значение неизвестного путем простой замены его другим неизвестным? Если понятие «мир» высветляется понятием «Царство», то как осмыслить и принять Царство в качестве ultima ratio (последнего смысла) всякой нашей мысли и действия, движущей силы нашего обновления? «Да приидет Царствие Твое…» — от основания Церкви ни дня, ни даже часа не проходило без тысячекратного возношения этой молитвы. Но оставался ли ее смысл на протяжении веков равным себе? Подразумевает ли наша молитва одну и ту же реальность? Или еще проще: о чем мы молимся? И это не риторические вопросы. Каждому, кто имеет очи, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, должно быть ясно, что на протяжении всей человеческой истории с центральным для христианства понятием Царства Божия происходило нечто странное — понемногу теряя свое центральное значение, оно перестало быть и решающим критерием.
Первым, кто указал на этот процесс, был, если не ошибаюсь. Дом Грегори Дике, говоривший с известной долей преувеличения о «коллапсе» раннехристианской эсхатологии. Не случайно именно трактаты de novissimis (о последних временах) остаются наименее ясными и разработанными в догматическом отношении, а сама эсхатология приобрела дурную славу из–за того, что под сенью ее укрываются всевозможные секты апокалиптического толка. Не останавливаясь на причинах этого, можно утверждать, что идею, или, лучше сказать, опыт Царства Божия, — который всегда был главным опытом ранней Церкви, — постепенно заместила доктрина «последних времен» или «мира иного», сосредоточенная почти исключительно на индивидуальном спасении души.
А это, в свою очередь, вело к смещению и «распаду» христианского благочестия. Появились такие, кто ради души и ее спасения не только отвергал, но и не замечал мира, отказываясь видеть в нем что–либо, кроме «похоти плоти»; но нашлись и другие, во имя этого мира решительно не замечавшие (и хорошо, если не отвергавшие) «мир иной». По моему убеждению, кризис христианства заключается не в его мнимом безразличии к миру — ибо оно до известной степени всегда было «для иудеев соблазн, для эллинов же безумие», — но в том, что Царство Божие, как ценность всех ценностей, предмет его веры, надежды и любви, содержание его молитвы «Да приидет Царствие Твое!», — Царство это стало безразлично самим христианам. Поэтому, прежде, чем говорить о каком бы то ни было обновлении, нужно вернуться к вопросу: что есть Царство Божие? где и как пережить его в опыте так, чтобы оно дало силу нашей молитве и действию?
3
На этот вопрос Церковь — во всяком случае, ранняя — отвечала так: Царство Божие открывается и становится знаемым всякий раз, когда она, Церковь, собирается в восьмой день — день Господень, — чтобы есть и пить за трапезой Христовой в Его Царстве, возвещать Его смерть и исповедовать Его Воскресение, погружаться в новый зон Духа. Можно сказать, что уникальность, радикальная новизна новой христианской leitourgia была здесь, в этом вхождении в Царство, которое для мира все еще оставалось грядущим и чьим Таинством поистине была Церковь — начаток, предвосхищение и parousia (пришествие). И богослужение, особенно Евхаристия, было прежде всего переходом Церкви от земли на небо — актом, в котором она осуществляла себя, становясь тем, что она есть: вхождением, вознесением, причастием. Но — и это чрезвычайно важно! — именно эсхатологический (т. е. утверждающийся на Царстве и устремленный к нему) характер христианской литургии делал ее (в опыте и разумении ранней Церкви) источником христианского мироотношения, корнем и обоснованием ее миссии в мире.
На мой взгляд, одна из величайших трагедий церковной истории — трагедия, не отраженная школьными руководствами, — в том, что эсхатологический характер христианской leitourgia постепенно был забыт как в богословием, так и благочестием, втиснувшими ее в категории, чуждые ее первоначальному духу. Именно здесь следует искать главную причину вышеозначенного процесса — постепенного снижения идеи Царства Божия, ее подмены индивидуалистической и исключительно футуристической доктриной последних времен. Во всем послеотеческом богословии не было, кажется, ничего более однобокого и ущербного, чем трактовка таинств и богослужения вообще и Евхаристии в частности. Эта ущербность проявляется в двойном отрыве богослужения — от экклезиологии и от эсхатологии. Сначала произошел его отрыв от экклезиологии, т. е. от учения и опыта Церкви. Рассматриваемое в чисто рациональных и юридических категориях, сложившихся сперва на Западе, но позднее оказавших глубокое влияние и на богословскую мысль Востока, оно перестало мыслиться и восприниматься как средство исполнения Церкви, как locus Ecclesiae (основание Церкви) по преимуществу. В таинствах стали видеть «средства благодати» — действия, хоть и совершаемые несомненно в Церкви и Церковью, но направленные больше на индивидуальное освящение, чем созидание и исполнение Церкви.
За этим неизбежно последовал их отрыв от эсхатологии. Первоначальное осмысление и опыт богослужения как перехода из ветхого в новое, от мира сего в мир грядущий, шествия и восхождения к Царству замутилось и заместилось интерпретацией в понятиях культа (общественного и частного), основной целью которого было удовлетворение наших текущих религиозных нужд. Leitourgia — соборное шествие Церкви к ее исполнению, Таинству Царства Божия — свелась к культовым измерениям и категориям, среди которых центральное, если не исключительное, место приобрели категории «действенности , необходимости и действительности . о конце концов под стать этой ориентации сакраментального и литургического богословия сложилось столь же неэкклезиологически и неэсхатологически ориентированное благочестие. И если богослужение осталось сердцевиной и стержнем церковной жизни, а в некоторых отношениях почти единственным ее выражением, то оно вместе с тем перестало осознаваться как действие, обращающее нашу жизнь к трем непреложным реальностям христианской веры — миру. Церкви и Царству.
4
Теперь я могу высказать главную мысль — очень простую и, без сомнения, наивную с точки зрения иных многомудрых идеологов обновления. Если обновление требует последовательной ориентации, под которой я подразумеваю прежде всего богословие, то богословие это должно опираться на возрожденную христианскую эсхатологию. Ибо эсхатология — это не бегство от мира, как привыкли думать многие, а, напротив, важнейший источник и основание христианского учения о мире и о действии Церкви в мире. Относя мир, каждый миг его времени, каждую частичку его вещества и каждое проявление человеческой мысли, энергии и творчества к эсхатону — последней реальности Царства Божия, она сообщает им единственно подлинный смысл, истинную их «энтелехию» и, таким образом, делает возможным христианское действие, равно как и христианскую оценку этого действия. Но locus этого восстановления есть богослужение Церкви. Ведь эсхатология — не доктрина, не интеллектуальное построение, не раздел de novissimis, просто–напросто добавленный и увязанный с другими разделами школьной догматики, но измерение всей веры и всего богословия, тот дух, который пронизывает и являет миру всецелую мысль и жизнь Церкви. И истинная функция христианской leitourgia, как я пытался показать, именно в том, чтобы дать жизнь этому духу, открыть и сообщить тот эсхатон, без которого Церковь — всего лишь институт среди других человеческих институтов (хотя и с какими–то странными и вполне беспочвенными притязаниями), а христианская вера — беспомощная, если не смехотворная, попытка стяжать непостоянное уважение des savants et philosophes (ученых и философов), о коих говорил Паскаль.
И здесь нас могут спросить: «Но возможно ли это? Не сами ли вы утверждали, что эсхатологическое значение богослужения померкло и по причинам практического характера постепенно ушло из богословского поля зрения? Нельзя ли просто вернуться к опыту, которые был, судя по всему, особым благодатным даром Церкви времен ее детства?» На эти вопросы возможны два ответа.
Во–первых, никакие перемены в богословских трактовках или литургическом благочестии не могут коренным образом изменить природу и источник христианского богослужения. Не будь самоочевидного расхождения между определенными формами богословской мысли и литургического благочестия, с одной стороны, и самим богослужением, как оно сохранилось вопреки всем сдвигам и метаморфозам, — с другой, нельзя было бы говорить ни об истинном духе богослужения, ни о литургическом обновлении. Уникальное и поистине вдохновляющее значение литургического движения в том виде, как оно началось и развивалось за последние 50 лет, объясняется именно его прорывом к подлинному духу богослужения сквозь «надстройки», созданные позднейшими богословием и благочестием. Как писал один из пионеров этого движения: «Я несколько лет был священником и не знал значения Пасхи». Пасха была с ним все время, но нельзя пережить ее экзистенциальный смысл, оставаясь в рамках богословия, отрешенного от Пасхи. И важнейшая особенность этого движения в том, что новое обретение Пасхи оказалось не просто возвратом к прошлому, не только археологией , но ростком истинно нового видения Церкви и ее миссии в мире. Подтверждением этому служит вся летопись литургического движения. То, что сказано сейчас о Пасхе, верно и по отношению ко всему литургическому преданию Церкви. И все же хотелось бы особо выделить Пасху, поскольку именно новое открытие пасхального измерения и пасхальной основы богослужения, его изначальной природы как пути и перехода составляют самый главный итог литургического движения.
Какой бы аспект христианского культа мы ни изучали сегодня — чин посвящения. Евхаристию или богослужение времени, — для нас все очевиднее будет, что основной строй, или ordo, каждого из них, принцип, объясняющий их происхождение и развитие, заложен в самой их природе как актов перехода, как Таинств Царства Божия. Итак, литургическое обновление возможно и, в свою очередь, делает возможным обновленное богословие мира — как источник нового видения и нового опыта отношений Церкви и мира.
Еще раз напомню, что здесь подразумевается не просто интерес к богослужению, его духу и формам, но заинтересованность в нем как источнике нового видения и опыта Церкви и нового отношения к миру. Как мне уже доводилось писать в другом месте, «lex orandi необходимо раскрыть как lex credendi. Иными словами, новое открытие Евхаристии (и я добавил бы здесь — богослужения в целом) как Таинства Церкви есть новое открытие Церкви in actu (в действии), Церкви как Таинства Христа, Его парусии — пришествия и присутствия Царства грядущего <…> Это означает, что в жизни Церкви Евхаристия есть тот момент истины, который позволяет увидеть реальные объекты богословия — Бога, человека и мир»
[49].
5
Второй ответ обращает нас к другой реальности — молитве. Не вызывает сомнений, что молитва для отдельного христианина — то же, что богослужение для Церкви in corpore , и что не может быть христианской жизни без молитвы. Но — подчеркнем это — христианская молитва, как и христианская leitourgia (и в силу тех же причин), по сути своей есть молитва эсхатологическая — порыв к Царству Божию и опыт Царства. Если под молитвой разуметь не одно внешнее правило и практику, но в первую очередь внутреннюю устремленность человека к Богу — а таково, бесспорно, содержание всей христианской духовности, — то не может быть сомнения, что ее объектом и опытом окажутся «мир и радость о Духе Святом», в которых, согласно апостолу Павлу, заключена вся сущность Царства Божия. Когда преподобный Серафим Саровский, один из величайших православных святых и учителей духовной жизни, определяет христианскую жизнь как «стяжание Духа Святого», он всего лишь подводит итог неслыханно богатой духовной традиции, перекрывающей все историческое развитие, все капризы богословской «моды», ибо это верное, непреложное и светозарное свидетельство реальности Царства Божия, его трансцендентной имманентности и имманентной трансцендентности.
Но не странно ли, что нынешние дискуссии вокруг обновления так часто игнорируют это свидетельство, вернее, его неизменное отношение к самой идее обновления? Не сталкиваемся ли мы и здесь с результатом своеобразной богословской деформации, еще одного отсечения — на сей раз богословия от духовной жизни? И не ясно ли, что то же самое богословие, которое в своем победоносном интеллектуализме игнорирует богослужение как locus theologicus по преимуществу, должно ipso facto (вследствие этого) игнорировать и духовную жизнь? При таком подходе сведения о последней заключают в рамки особого школьно–богословского раздела, содержание которого определяется как мистицизм , и она, таким образом, уже не рассматривается как источник богословия.
Но сегодня мы видим, что богословие, даже если оно полностью сведено к самодостаточной рациональной структуре, на практике оказывается совершенно беззащитным перед всякого рода секулярными «философиями» и в конце концов усваивает их в качестве своего критерия и общего принципа. Оно в буквальном смысле отсекает себя от своих источников, от той реальности, которая только и может сделать слова о Боге theoprepeis, т. е. богоприличными. В этом смысле «обновление» может обернуться капитуляцией.
Наш вывод и здесь очень прост. Никакое обновление ни в одной области церковной жизни, — а проще говоря, в Церкви, как таковой, — невозможно, в первую очередь, без обновления духовного. И это не просто благочестивое воздыхание или призыв побольше молиться. Речь идет прежде всего о преодолении трагического разрыва между мыслью Церкви и опытом Царства Божия, который остается единственным источником, проводником и актуализацией этой мысли и единственно конечным обоснованием всякого христианского действия. И можно сказать (хоть это, по–видимому, и смутит многих христиан), что Церковь как институт, как доктрина и как действие не имеет самодовлеющего смысла. Ибо все эти ее проявления, взятые сами по себе, указывают на превосходящую их реальность, которую они представляют, описывают и взыскуют и которая, однако, исполняется лишь в новой жизни, в koinonia (причастии) Духа Святого. И этот опыт не «открывается заново» в богословских статьях и на богословских конференциях. Он всегда был, он и поныне здесь, среди нас, независимо от всех метаний богословия и коллективного благочестия. Это подлинно единственная и реальная непрерывность Церкви — то, чей приоритет перед всем остальным необходимо отстаивать в наш век, «одержимый» историей. В то время как богослужение, невзирая на все перетолкования и редукции, остается тем, чем оно было всегда, — переходом Церкви из status viae в status patriae (из земного странствия в небесное Отечество) и в качестве такового источником всей реальной жизни Церкви, — молитва (или жажда и алкание человеком Живого Бога и живой встречи с Ним) есть то, что сохраняет эту жизнь живой.
Собственно богослужение и молитва, как таковые, не могут быть «обновлением», ибо они больше и выше самой категории обновления. Но если мы и вправду нуждаемся в обновлении (в чем сегодня, похоже, уверены все), то нам предстоит заново открыть их как его источник и условие.
Освящение жизни
Мы обсудили освящение времени, теперь поговорим об освящении жизни Церковью. Освящение жизни — основной смысл и цель таинств, поэтому следует сказать несколько слов о самом понятии «таинство».
Хотя мы ограничиваем число таинств семью литургическими действиями, мы можем сказать, что весь подход к жизни в Православной Церкви сакраментален. Что это значит? Таинство — действие, которое преображает, так как преображение, изменение — истинная цель Божественного домостроительства. Бог не только спасает нас во Христе, не только прощает наши грехи, Он также изменяет нашу жизнь. Мы находим в празднике Преображения предельный смысл православной идеи спасения. Часто мы пользуемся словом «спасение» в смысле спасения от чего–либо. И таково первое значение этого слова–это спасение от греха, от смерти, от рабства миру сему. Но во Христе открывается второе значение слова «спасение» — преображение и изменение самой природы чего–либо.
Христос пришел дать новый смысл, новое назначение нашей жизни. Один из отцов Церкви сказал: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Это православное учение об обожении, учение об уподоблении Богу по благодати. И опыт святости в Церкви тех людей, которых мы называем святыми, — это путь именно такого внутреннего превращения. Конечное назначение всего существующего выражено словами Василия Великого: «Имамы Христа живуща в сердцах наших, и будем храм Святаго Твоего Духа». Эти слова–точка отправления для правильного понимания таинств. Таинства — это действия Церкви, которыми она преображает нашу жизнь. В этом смысле мы и будем говорить о каждом из них.
Мы разделим таинства на следующие группы: во–первых, два таинства, которые могут быть названы таинствами посвящения, так как ими начинается христианская жизнь: Крещение и Миропомазание. Затем таинство, которое, по словам св. Отцов, определяется как Таинство всех Таинств, в котором вся христианская жизнь находит свое исполнение: Божественная литургия, или Таинство Святой Евхаристии. Эти три таинства определяют нашу жизнь в Церкви. Крещение нас вводит в Церковь, Миропомазание дает нам дары, необходимые для жизни в Церкви, а Евхаристия делает нас членами народа Божьего.
Следующие два таинства — таинства исцеления. К сожалению, человек не сохраняет в полной чистоте новую жизнь, полученную в крещении. Он постоянно отпадает от нее, остается открытым греху и после того, как получил белую одежду непорочности, поэтому надо вновь и вновь восстанавливать его в том состоянии, которое он обрел во Христе.
Первое таинство — Елеосвящение — связано с физическими немощами человека, второе, таинство раскаяния и прощения, – таинство Покаяния. Духовное возрождение и физическое исцеление — таков смысл этих двух таинств. В следующем таинстве — Брака — Церковь уделяет особое внимание семье, тайне человеческой любви и деторождения, союзу людей в земном обществе. И, наконец, седьмое таинство — Рукоположения –дает Церкви епископов, священников и диаконов. Без их Богом установленного служения Церковь не могла бы исполнять себя как Тело Христово.
Дух и материя
Теперь постараемся понять, почему мы говорим о таинствах» как об освящении жизни. По — гречески «крещение» означает погружение в воду, и вода с самого начала была материальным компонентом этого таинства. Христос сказал: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3,5), поэтому мы прежде всего должны ответить на вопрос: почему вода? Иными словами, почему христианская жизнь и Церковь в этом случае зависят от материи? Но материя участвует почти во всех таинствах: вода в Крещении, миро в Миропомазании, елей в Елеосвящении. Христос исцелил слепого посредством материи, и когда мы читаем Евангелие и Библию открытыми глазами и осознаем отношение к материи, открывающееся в них, мы понимаем, что резкое противопоставление духовного материальному, как это принято в современном христианстве, не свойственно Священному Писанию. Бог сотворил материю, как и дух, Бог сотворил весь мир, и вся материя принадлежит Ему. И мы знаем из Библии, что все, что Он создал, «весьма хорошо» (Быт. 1, 31). Поэтому некоторая тенденция «презирать» все материальное, сводя религию только к духовному, есть тенденция ложная и нехристианская. Многие трагедии нашей христианской жизни, общественной и личной, могли бы разрешиться, если бы мы помнили, что Бог сотворил не одно духовное, но именно то поистине удивительное сочетание духа и материи, которое и есть наш мир. Настоящая перспектива, настоящая цель мира в том, чтобы все материальное одухотворялось, то есть приобретало духовное значение, а все духовное воплощалось. Именно так осуществилось Божественное спасение в Боге, ставшем Человеком: «И Слово стало плотию, и обитало с нами» (Ин. 1, 14). Бог Сам воспринял материальную жизнь, чтобы привести материю к Богу. Таким образом действительный грех не в том, что человек стал «материальным», так как он от начала создан из духа и плоти, но грех в том, что он забыл истинную связь между духом и материей и изменил ей. Разделяя их, человек стал рабом материи вместо того, чтобы быть ее хозяином и, одухотворив, привести ее к Богу. Вот почему наши таинства и духовны, и материальны: с елеем и водой, хлебом и вином как их «веществом». Вот почему таинства являют нам, как мы должны жить в этом мире и в чем наша христианская жизнь.
Крещение и миропомазание
«Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мк. 16, 6). Крещение — таинство нашего нового рождения во Христе, нашего включения в новое человечество. Естественный человек, хотя и создан Богом, согрешил, потерял свое сыновство, непосредственное знание Бога и отпал от общения с Ним. Во Христе человек восстановлен в своей «первоначальной красоте». Христос жил совершенной человеческой жизнью — при полном посвящении Богу в совершенном смирении и абсолютной любви. Он принял смерть, но на третий день воскрес из мертвых, ибо Его жизнь была сильнее смерти. В Нем Бог соединил Себя с человеком и со всеми, кто верит в Него как Сына Божия, как в Путь, Истину и Жизнь. Он дарует эту новую жизнь, благодать возрождения. Как видимый знак и средство преображения Он установил таинство крещения, чтобы основать новое общество, новый Народ — Церковь. Таким образом, в Крещении мы получаем власть новой жизни, которая нас делает членами Церкви. Все это выражено в литургии посвящения, состоящей из трех частей: приготовления (катехизации), Крещения и Миропомазания.
Приготовление
В ранней Церкви человек, который исповедовал свою веру во Христа и выражал желание присоединиться к Церкви, становился сначала оглашенным (тот, кто слушает, кого учат). Его наставляли в учении Церкви (Библии и Символу веры), в смысле ее богослужения, в законах ее жизни (этика). Он присутствовал на учительной части литургии (литургия оглашенных), но к сакраментальной части ее не допускался («Оглашеннии, изыдите…»). Тем временем вся Церковь за него молилась (молитвы и ектений об оглашенных). В наше время, когда большинство крестин совершается над младенцами, приготовление к крещению сохранилось только в форме предкрещалыюй службы. Она включает:
1) Три молитвы заклинания, т. е. Изгнания злых духов. Церковь учит, что человек стал рабом сатаны и его ангелов, которые духовно осквернили весь мир. Христос пришел, чтобы уничтожить их власть, и первым Его действием всегда было изгнание злых духов. Церковь имеет Христову власть избавлять людей от этого рабства, потому ее первое дело — освободить новое чадо Христово от сатанинской тирании.
2) Отрицание и осуждение сатаны новым христианином. За ребенка это теперь делают восприемники. Они обращаются лицом к западу (запад, в противоположность востоку, символ тьмы)и трижды торжественно отрицаются сатаны, всех его ангелов и его служения. Между Богом и Его врагами постоянная духовная борьба, и христианин свободно выбирает свою сторону.
3) Сочетание Христу. Восприемники поворачиваются к востоку (символу света) и трижды за младенца возглашают приятие (признание) Христа как Царя (т. е. Господина всей жизни) и Бога.
4) Чтение Символа веры (восприемники также читают его за младенца), что означает принятие всей веры, догматов и жизни Церкви — присяга верности Церкви.
5) Краткая молитва священника, в которой он просит Бога допустить оглашенного к Святому Просвещению Крещения.
Крещение
Таинство самого Крещения начинается с освящения воды. В Библии вода — символ суда (потоп) , очищения, т. е. прощения и жизни. В широком смысле вода — «первичная материя», корень и основа мира. Употребляя воду при крещении, Церковь как бы приготовляет новый мир для нового человека, или, скорее, новое отношение между материей и человеком. В грехе человек стал абсолютно зависеть от материи (пищи, воздуха), стал более материальным, чем духовным.
Таинство возрождения начинается с «очищения» материи, чтобы вновь сделать ее путем к Богу. Это общее значение употребления элементов материи в таинствах (вода, елей, хлеб, вино). Христианство имеет космическое измерение, потому что Божественное назначение человека, созданного Богом, было царствование над всем творением, подчинение всего космоса Богу. Освященная вода становится вновь инструментом Бога для спасения и искупления человека. Погружение крещаемого в воду означает осуждение на смерть ветхого в нем человека, суд над древним Адамом, затем смывание его грехов, Божественное прощение и, наконец, новое рождение, дар христианской жизни ему. Чин службы включает:
1) Торжественное начальное благословение:«Благословенно Царство Отца, Сына и Святаго Духа». Таинство Крещения действительно таинство Царства, потому что в нем человек становится жителем небес, другом святых, участником новой и бессмертной жизни в Духе Святом.
2) Великую Ектению с прошениями об освящении воды и преображении оглашенного, который будет в нее погружен.
3) Молитву освящения воды, провозглашающую истинную природу космоса как единого храма Божьего с одним конечным назначением –отражать Его славу и поклоняться Ему.
4) Помазание елеем радости и воды, и тела оглашенного. Елей — библейский символ исцеления (притча о добром самарянине), мира (оливковая ветвь после потопа) и радости (в древности елей был источником света). Христос исцеляет болезнь человека, примиряет его с Богом и наполняет его миром, «который превыше всякого ума» (Флп.4,7).
5) Троекратное погружение с сакраментальной формулой «Во Имя Отца. Аминь. Сына .Атинъ. Святого Духа. Аминь». Православная Церковь настаивает на погружении, потому что греческое слово (****** означает погружение, и погружение правильно выражает литургическое значение крещения — возрождение всего человека.
6) 31 псалом, радостную песнь прощения и возобновления жизни («Блажени, ихже оставишася беззакония…»).
7) Затем новокрещеный облекается в белую одежду, символ новизны и чистоты жизни, которую он получил в крещальной купели.
Миропомазание
Затем совершается таинство миропомазания. Оно состоит в помазании новопросвещенного (неофита) драгоценным миром, освященным патриархом и сохраняемым в каждой церкви на престоле. Это миро означает постоянное присутствие Святого Духа в Церкви. Он сошел на каждого апостола в день Пятидесятницы, и с тех пор Он приходит и пребывает на каждом человеке, который принимает Христа и становится членом Церкви. Священник помазует миром крестообразно лоб, глаза, ноздри, рот, грудь, руки и ноги крещенного, говоря каждый раз: «Печать дара Духа Святого». На Западе это таинство называется «конфирмацией». Можно было бы его назвать посвящением человека в члены Церкви. В крещении он получил новую жизнь и был введен в область Воплощения, новой природы. Теперь он получил свою собственную личность, личную жизнь, чтобы лично быть живым членом Тела, свидетелем Христа, сыном Бога, причастником «царского священства» Церкви.
Таинство Посвящения заканчивается торжественным крестным ходом вокруг купели. Священник держит крест, неофит в своем белом одеянии и его восприемники со свечами в руках обходят купель, и в это время хор поет: «Елицы во Христа креститеся, во Христа облекостеся. Аллилуия». Круг — символ вечности, верности, полноты. То, что совершено здесь, никогда не кончится, начинается жизнь вечная, приобщение, дружба с Богом дана навсегда.
В древней Церкви таинство Посвящения совершалось в пасхальную ночь. Тотчас по окончанию таинства новопосвященных вводили в храм, соединяли со всеми собравшимися и в первый раз они получали Святое Причастие в полноту их вхождения в Тело Христово. Таинства Крещения и Миропомазания понимались как ведущие к Евхаристии и Причащению. Еще и теперь службы Страстной субботы и Пасхи сохранили отзвук крестин (например, поется «Елицы во Христа…»). Хорошо было бы восстановить эту органическую литургическую связь между просвещением и Причастием, совершать Крещение перед литургией так, чтобы новокрещеные получали свое первое Причастие в присутствии всей Церкви в тот же день.
В настоящее время служба кончается чтением Апостола (Рим. 6,3–11), где содержится объяснение Крещения как участия в смерти и воскресении Христа, и Евангелия (Мф. 28, 16–20), в нем — повеление Христа крестить и Его обетование пребывать вечно с верующими в Него. Три последних обряда — смывание Святого Мира, преклонение головы и пострижение волос — прежде совершались на восьмой день после крещения, после того, как неофит провел целую неделю в храме, ежедневно причащаясь и слушая особое наставление, полагающееся после крещения. Смывание мира означает, что внешние знаки должны теперь стать самой сущностью жизни, исчезнуть как символ и стать реальностью.
Наклонение головы выражает его готовность следовать дисциплине Церкви, послушание не властям мира сего, а Единому Господу Иисусу Христу; пострижение волос указывает на жертвенный характер христианской жизни, требующей послушания, самоотвержения и готовности служить Богу всегда.
Покаяние и исцеление
Вторая группа таинств–Таинства Покаяния и Елеосвящения — касается исцеления. Мы знаем и испытываем ежедневно, что, несмотря на то, что мы введены в радость и мир Царства, наша жизнь большей частью остается темной и грешной. Мы постоянно отпадаем от той целостности, которая была нам дана в таинстве Крещения. Поэтому мы должны быть вновь и вновь исцелены, примирены с Богом, и Бог по милосердию Своему оставил Своей Церкви сакраментальные средства для такого исцеления.
Таинство Покаяния
Назначение таинства Покаяния — примирение человека с Богом в Церкви. Каждый грех действительно отделяет, или отлучает нас от новой жизни. Каждый раз, когда мы грешим, мы уже не во Христе. Каждый раз, когда мы грешим, мы изменяем своей природе, восстановленной Крещением и Миропомазанием. И только покаяние может нас вернуть в то состояние, которое мы потеряли. Таинство Покаяния никогда нельзя понимать как «магию», как разрешение, т. е. отпущение грехов, действительное само по себе, независимо от того, покаялся я или нет. Напротив, это таинство зависит от моего раскаяния. Покаяние — не простое перечисление грехов, «юридическая» операция, это прежде всего настоящий внутренний кризис совести. Образ истинного покаяния мы видим в Евангелии в притче о блудном сыне. Блудный сын вспомнил все, что он имел в отчем доме, и как много он потерял, и тогда он всем своим существом захотел вернуться. Поэтому не правы те, кто объясняет таинство Покаяния как некую объективную силу. «Разрешение от грехов», произносимое священником, конечно, действительно, но если грешник не кается искренне, то оно к нему не относится. Что Бог хочет от нас — это сокрушенное сердце человека, который бы сказал: «Я получил так много, помню ту белую одежду, которую получил в Крещении, и осознаю, как она теперь грязна».
Только когда нам грех по–настоящему отвратителен, только когда мы каемся, т. е. по–настоящему хотим измениться, разрешение действительно так, как это именно объявлено священником, что Бог принял кающегося, примирил его с Собой и Церковью, что блудный сын вернулся и принят Отцом. Таково православное понимание таинства Покаяния в отличие от католического юридического понимания. Во Христе Бог простил все грехи раз и навсегда, но это прощение относится ко мне, только если я всем сердцем желаю, жажду общения с Богом, жизни с Ним, восстановления во мне той радости и того мира, без которых для христианина ничего не имеет значения и интереса.
Таинство Елеосвящения
Как нам понимать это странное таинство? Человек — страдающее существо. Каждый из нас бывал в больнице. Каждый из нас, особенно священник, знает, когда он входит в больницу, что наш мир под личиной оптимизма — мир болезней и страданий. Мы часто стараемся забыть об этом, жить, как будто бы в мире нет ни страданий, ни смерти. На страницах наших журналов мы видим изображения великолепных мужчин и женщин, их красивые тела, всю картину мира, рисующую полное благоденствие. Но всякий знает, что реальная жизнь лучше видна в больнице и что страдания– ее неизбежное выражение. Тот самый человек, который был молодым, здоровым и счастливым и чья красота на фотографии нас поразила, теперь борется со страданием, отчаянием и смертью. Журнал лжет, а больница правдива и реальна. Страдание рано или поздно ожидает каждого из нас и объединяет всех в определении человека как страдающего существа. Потому таинство Исцеления, Божественный ответ на человеческие страдания, должно быть заботой не только священника, но и основным делом всей Церкви. Христос провел столько времени со страдающими, больными, искалеченными, которых приводили и приносили к Нему. Ибо Христос пришел, чтобы исцелить человека, освободить его от рабства греху и страданию.
Но было бы ошибкой понимать таинство Исцеления как совершение чудес. Мы, конечно, отнюдь не отрицаем возможности чуда. Когда Богу угодно совершить чудо, Он его совершает. Но даже Христос, когда к Нему приносили больного, часто говорил: «Прощаются тебе грехи твои», — и только тогда исцелял его. Почему? Потому что одно физическое исцеление может быть только «временным». На этом свете не может быть полного и постоянного исцеления. Поэтому, чтобы понять христианскую идею исцеления, надо опять мыслить в понятиях «преображения». Возьмем для примера двух людей, умирающих в одной больничной палате от одинаковой неизлечимой болезни. Для одного из них это страшное мучение, и это умирание может быть, и часто есть, последним поражением и последней уступкой тьме. С другим человеком может произойти как раз обратное. Те же боли и страдания могут стать для него началом постижения смысла жизни. Пока он был счастливым, катался на своей машине, курил сигары, вкусно ел, приобретал все больше денег и т. д., он никогда не думал о Боге. Никогда. Жизнь была забавой, весельем. А теперь Бог посетил его. Так в древности христиане называли болезнь: посещение. Иными словами, мы должны понять, что духовно мы так слабы, так материалистически настроены, так далеки от духовной жизни, что у Бога нет другого способа открыть нам — в чем истинная жизнь, как отняв эту поверхностную, бессмысленную, веселую жизнь. Итак, страдание может быть победой, настоящим преображением человека; и, как всякий священник может засвидетельствовать, именно в страданиях можно видеть красоту духовного рождения, возвращения человека к духовной действительности, в которой он был создан. Такова цель таинства Елеосвящения.
Прочтите молитвы и чтения, из которых оно состоит. Мы молимся о настоящем исцелении, полном выздоровлении человека, которого Бог посетил и который поэтому выздоровел, потому что он в общении с Богом. Это настоящая победа и настоящее преображение. Мы знаем, что этот мир никогда не будет миром без страданий, без болезней и больниц, но мы также знаем, что Христос говорит нам, что даже страдания могут стать победой Бога.
Христос умер, и поэтому смерть преображена, Христос страдал, и поэтому страдания преображены, Христос живет, и поэтому жизнь преображена. Таким образом, в таинстве Елеосвящения человеку дарована возможность победы во Христе, Который любит нас больше, чем кто–либо другой может любить, Который в Своей любви состраждет с нами, чтобы преодолеть власть страдания.
Наша христианская жизнь должна быть непрерывным преображением поражения в победу; и если так, то, конечно, Елеосвящение одно из великих Таинств Церкви.
Брак
Мы можем начать с вопроса: почему из многих состояний человеческой жизни Церковь избрала лишь одно — брак — и дала ему сакраментальное значение? Ответ на этот вопрос дается в самой службе бракосочетания. Во–первых, в ней мы находим двойной чин: первый мы называем обручением (обычно совершается в притворе и состоит из обмена кольцами), затем все идут в церковь, и происходит венчание. Краткий анализ соотношения этих двух чинов объяснит нам сакраментальное значение брака.
Обручение
Первая часть — обручение — соответствует браку, установленному Богом при сотворении мира. Брак существовал до Христа и существует вне Церкви. Он был установлен в раю и поэтому является частью структуры человеческой жизни. Можно не верить в Бога и не быть христианином, чтобы понимать, что брак должен быть основан на любви, что он соединяет двух людей, которые вступают в единую жизнь любви, взаимной поддержки и т. д. Другими словами, существует учение о «естественном» браке, и во время гражданской регистрации брака то, что говорит судья, почти не отличается от того, что говорит Церковь. Муж будет поддерживать жену, жена будет поддерживать мужа, вы обещаете вести общую жизнь, воспитывать ваших детей вы будете вместе. Все это Церковь всегда принимала, и обручение является христианским выражением того же самого. Кольца тоже существовали как символ брака до Христа. Кольцо — символ вечности, верности, чего–то драгоценного и не имеющего конца. И Церковь принимает и утверждает брак как нечто естественное. Когда мужчина встречает женщину и любит ее и женщина любит его, эта «любовная история» может иметь новые формы, но суть та же, потому что происходит то чудо, которое Бог поставил в центре мира от начала, — чудо любви. Когда среди стольких людей одно лицо становится единственным для меня и я становлюсь единственным для него, эта единственная любовь и есть та сущность, которая нас соединяет.
Но брак, как все остальное, принадлежит падшему миру, и вот здесь второй чин приобретает свое значение. Брак тоже поврежден грехом. Следовательно, как человек, его тело, вся материя и все в мире было отравлено и изменено, отошло от своего первоначального смысла, так все должно быть искуплено и преображено.
Венчание
По окончании обручения священник ведет жениха и невесту в церковь. Эта процессия, этот вход в храм очень значителен в богослужебном смысле, так как он открывает превращение брака из естественного в брак во Христе. Брак приобретает новый смысл, новое измерение. Это новое измерение есть Христос. Христос становится центром этого единения. В Нем брак приобретает вечное значение, становится путем к христианскому достижению Царства Божьего. Когда священник венчает их и обводит трижды вокруг аналоя, поются три песнопения, объясняющие тройной символизм венчания.
Венцы, прежде всего, указывают на царственную сущность брака. Браком человек восстанавливается как царь мира, он действительно становится царем, хотя и очень малого царства. У него будут дети, по милости Божией он будет иметь дом — центр истинной жизни любви, мира и радости. Вот почему Церковь называет семью–малой Церковью. Семья отражает небесное Отцовство Самого Бога. Этот мир был создан как семья Господня, и таинство Брака восстанавливает чистоту любви. Что мы помним из своего детства? Было ли оно хорошим или бедным, или плохим, мы всегда помним его, а это значит — помним дом, семью, родителей. Потом мы потеряли этот рай, и мир становится мрачным и холодным. В браке, дарованном Церковью, мы призваны создать христианскую семью, и это первое значение венцов.
Второе значение — венец мучеников. Падение семьи в наше время, рост числа разводов — все это происходит оттого, что человек не принимает брак как мученичество, которое требует терпения, выдержки, продвижения вместе по трудному, но в конце славному пути. Мы испорчены вульгарным мгновенным удовольствием, развлечениями. Но брак, как и сама жизнь, путешествие, и его цель, как и цель всей жизни, Царство Божие. Это требует роста, страдания, усилия и любви в самом глубоком смысле слова, а любовь неотделима от креста. Брак нельзя свести к физической любви, потому что наступит день, когда физическая красота увянет. Многое из того, что мы считаем частью брачной жизни, исчезает. Остается настоящая любовь, та, которая преодолевает смерть и дает нам предвкушение Царства Небесного. В этом смысле брак — мученичество. Только в Царстве Небесном брак будет совершенным. Поэтому третий смысл венцов — венцы Царства Божьего. Когда священник по окончании службы снимает венцы с мужа и жены, он молит Бога принять эти венцы Его Царствия. То, что на земле было лишь частичным, фрагментарным, там будет совершенным.
В ранней Церкви последним актом в венчании было причащение мужа и жены Тела и Крови Христовых в Святой Евхаристии. Общая чаша, из которой новобрачные теперь пьют, была тогда Евхаристической Чашей. Это был тот единственный дар, который мог сохранить их в христианской реальности и значении брака. То, что нас действительно соединяет, это не страсть, не привязанность или какие–то привычки. Что нас соединяет — это мистический брак Христа с Церковью. Это Тело и Кровь Христовы. Таково было христианское завершение брака в древности. Процессия, о которой я говорил, провожала жениха и невесту в Церковь, и там, в Евхаристии, они получали завершительную печать, и, выходя из храма, они знали, что должны свидетельствовать о Христе в своем браке, детях, в их воспитании. Всем этим они должны исполнить то, что им дано в начале, — вечное единение Христа и Церкви, Христа и человека. Христос — муж новой Церкви. Он любит ее, и хотя Церковь часто предает Его, Он любит ее. И каждый из нас предает Его, и все же Он всех нас любит. Это та любовь, которая, прощая, преображает, так же в браке, в этом мученичестве. Как мученики, т. е. свидетели Христа, мы растем вместе, чтобы создать в конце образ Божественной любви между Богом и человеком.
Рукоположение
Наконец, мы приходим к таинству Рукоположения, таинству, о котором некоторые люди думают, что оно касается только отдельных лиц. В действительности, рукоположение — это событие Церкви и для Церкви, т. е. для всех.
Что такое священство? Мы часто думаем о нем в связи с понятиями власти, авторитета, поучений, уважения. Но в чем именно сущность священства? Авторитет? Привилегии? Возможность стоять на несколько ступеней выше других? Нет. Настоящая сущность пастырства такова: если каждый человек должен найти Христа в своей жизни, если инженеры–христиане узнают в Церкви, что значит быть христианином–инженером, если христианин–писатель находит в Церкви понятие о христианском искусстве, если христианин–отец и христианка–мать находят в Церкви понимание родительских чувств, то в центре общины должен быть кто–то, который, как Христос, не имеет ничего своего, но в котором и через которого каждый может найти свой путь. Суть священства, по словам апостола Павла, для всех сделаться всем (1 Кор. 9, 22), т. е. быть Христом для всех. У Христа не было частной жизни. У Него не было времени для Себя. Он совершенно отдал Себя людям, и в этом самопожертвовании спас нас и стал нашим Господом, Учителем и Господином.
Конечно, на такое мы не способны! Но это тот идеал, который делает человека священником. Человек, который любит обсуждать службы, облачения, еще не священник. Настоящий священник тот, кто хотя бы раз в жизни почувствовал истинный смысл слов Христа: «Огонь пришел Я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся» (Лк. 12, 49). Священник, рукоположенный посреди Церкви за Божественной литургией, это тот, кто делает Христа присутствующим, кто «представляет» в самом реальном смысле Христову заботу, Христову любовь, Христово учение. Он тот, кто стоит среди всех и говорит: «Будем все во Христе». Священник сам составляет центр Церкви как единства и имеет власть преображать группу людей в Церковь, трапезу в Таинство, обряд или символ в действительность. Поэтому таинство Рукоположения касается не только посвящаемого, но всей Церкви.
Инициатива тут не человеческая, но Божья. Если мы верим в Святую Церковь, мы должны верить в священника. Его внешность, его поступки иногда такие человеческие, но все мы должны верить, что даже в его слабом голосе, в его человеческих слабостях проявляется сила Божья.
Все это лишь вступление к изучению таинств. Единственной целью было показать, что таинство — это преображающее действие, оно изменяет меня, простого человека, в христианина. Христианин тот, кто получил дар Духа Святого и поэтому способен сообщать новый смысл всему — событиям, отношениям, каждой минуте времени. Таинство превращает меня в апостола Христа. Мой мир может быть очень ограниченным, всего несколько человек, которых я ежедневно встречаю. Но в любых условиях Бог желает торжествовать, присутствовать. Когда мы выходим из храма, услышав последние слова: «С миром изыдем», — они могут для нас звучать как: «все кончилось, мы исполнили свой христианский долг». Хотя в действительности они должны звучать, когда мы выходим из храма и поем: «Видехом Свет Истины, прияхом Духа Небеснаго…», — как призыв к началу: «Мы видели свет Истины, получили Духа Небеснаго». Мы видели и получили для того, чтобы мы могли поступать как апостолы. Христос сказал им: «Вы же свидетели сему» (Лк. 24,48). Чему я свидетель? Я свидетель всего, что я видел, получил, что со мной произошло в Крещении. Я свидетель того, что Бог возлюбил меня, и значит, любит каждого, что Бог создал этот мир и, когда мир забыл Его, Он не забыл Свое творение. Он сошел на землю, Он страдал на Кресте, Он умер, Он воскрес из мертвых. Он возлюбил нас так, что даровал Духа Своего Святого. Все это Он дал нам как возможность, как обещание, как свободный дар. Всего этого я стал свидетелем в таинствах. Итак, когда я иду к людям, к тем, кто счастлив и кто страдает, к молодым и старым, я не приношу свои планы или мысли, но Самого Христа. Это и есть освящение жизни.
Основополагающий вопрос
Ибо время начаться суду с дома Божия. (1 Пет. 4, 17).
1
Собранные в этой книге статьи и наброски писались в течение последних двадцати с лишним лет в расчете на самых разных читателей — православных и инославных, — и чаще всего в виде отклика или размышлений ad hoc (по случаю): по поводу конкретных событий и явлений, имевших, как мне казалось тогда, жизненно важное значение для Православной Церкви. И если сегодня, несмотря на случайный и привременный характер этих membra disjecta (разрозненных частей), я все же решаюсь дать им «дополнительный шанс», то не столько ради высказанных или подразумеваемых в них ответов (быть может, кажущихся сегодня спорными и поверхностными), сколько ради самих вопросов, которые я постарался тогда сформулировать и которые — я убежден в этом — сегодня, как и двадцать лет назад, остаются насущными и актуальными.
Эти вопросы, как увидит читатель, затрагивают обширный круг тем: историю, богословие, литургию, канонический строй, экуменическое движение, миссию. Их внутренняя связь и единая перспектива определяются, как мне кажется, общим вопросом, из которого все они так или иначе вырастают и к которому в конечном счете возвращаются, — вопросом о судьбе Православной Церкви во второй половине XX столетия и в мире, радикально отличном от того, который сформировал наш менталитет, формы мышления и все наше бытие как православных христиан; в мире, который к тому же переживает глубочайший духовный кризис, год от года все сильнее выявляющий свой поистине глобальный масштаб. Я думаю, что этот основополагающий вопрос, само его содержание и актуальность коренятся в двух тенденциях, которые, будучи равно новыми и беспрецедентными в истории Православной Церкви, стали своего рода фокусом кризиса, поразившего ныне всю нашу церковную жизнь. Первая из них — захватывающе–трагическая цепь крушении прежних органических православных миров, которые всего несколько десятилетий назад мыслились природным и исконным «обиталищем» и средой Православной Церкви, и не только крушений, но и превращений их в объект жестокой атаки со стороны крайнего и тоталитарного секуляризма, враждебного религии, духовной природе и призванию человека. Вторая тенденция — стремительный рост православной диаспоры на Западе, которая, при всей случайности ее исторического происхождения, кладет конец прежнему замыканию православного мира Востоком, их традиционному отождествлению и, следовательно, знаменует начало новой судьбы этого мира — теперь уже на Западе и в контексте западной культуры.
Я думаю, что даже поверхностный анализ этих тенденций выявит их особое, поистине ключевое значение для православной культуры — как завершения одной эпохи и начало новой. То, чему положили конец эти тенденции, не было каким–то случайным или периферийным элементом церковной жизни — напротив, речь идет об органическом взаимосоответствии и взаимоинтеграции Церкви и общества, Церкви и культуры, о том образе жизни, сформированном и вскормленном Церковью, который до самого недавнего времени был существенным и фактически единственным образом отношения Православной Церкви к «миру». Несомненно, есть глубокое различие между трагической судьбой Церкви под властью тоталитарных и воинствующе–атеистических режимов Восточной Европы и ее внешним успехом на свободном и демократическом Западе. Это различие, однако, не должно затемнять для нас более глубокий смысл обеих тенденций, раскрывающий в них два измерения, два «выражения» одной и той же радикально новой и беспрецедентной ситуации — ситуации, которая характеризуется, во–первых, тем, что Православие утратило свой исторический дом, т. е. «православный мир», а во–вторых — его насильственным отторжением от «культуры», т. е. органического единства национальной и общественной жизни, и, в–третьих (последнее по счету, но не по значению обстоятельство) — его вынужденной встречей с Западом.
В самом деле, идеологические системы, именем которых Православие преследовалось на Востоке и весьма тонко, но не менее активно третировалось на Западе, не только имеют общее западное происхождение, но при всех их различиях и взаимной нетерпимости являют собой итог — кризис — западного духовного и интеллектуального развития и, без сомнения, плод все того же западного древа.
Основной смысл теперешнего кризиса заключается в том, что мир, где суждено жить Православной Церкви сегодня — будь то Восток или Запад — не является ныне ни ее родным, ни даже «нейтральным» по отношению к ней миром — более того, он стал миром, оспаривающим само ее существо и жизненные основы, — миром, вольно или невольно сводящим ее к тем ценностям, тем жизненным философиям и мировоззрениям, которые глубоко отличны, если не прямо противоположны ее видению и опыту Бога, человека и жизни. Это делает современный кризис куда более глубоким и необратимым, чем последовавший за падением Византии в 1453 г. Турецкое завоевание было политической и национальной катастрофой, но не концом и даже не надломом тогдашнего «православного мира», т. е. той культуры, того образа бытия и мировоззрения, которые объединяли ревесьма несовершенные — отношения «симфонии». Православные веками жили под турецким владычеством, но они жили в особом мире и сообразно своему жизненному укладу, который определялся религиозным мировоззрением. Ныне этому миру пришел конец; что же касается жизненного уклада, то он просто сметен культурой, не только чуждой Православию, но все заметнее удаляющейся теперь и от своих общехристнанских истоков.
Я прибегаю к слову кризис, которым сейчас, как известно, сильно злоупотребляют. Но если использовать его в первоначальном (и христианском) смысле, имея в виду суд, т. е. ситуацию выбора и решения, выявления воли Божией и мужественного ее приятия, то сегодняшнее положение Православной Церкви выглядит поистине критическим. Настоящая книга сложилась из раздумий и впечатлений, навеянных различными аспектами и измерениями этого кризиса. Она является попыткой (безусловно, спорной и несовершенной) увидеть не только истинный смысл кризиса, но и открывающуюся в нем волю Божию.
2
Беспокойство, сквозящее в каждой из собранных здесь статей, вызвано не столько кризисом, который я по причинам, рассмотренным в соответствующих местах книги, считаю потенциально благотворным для Православия, сколько другим обстоятельством.
Для Церкви всегда было благом Божие напоминание, что мир сей, даже называющий себя христианским, не в ладах с Христовым Евангелием и что «кризис» и порожденная им напряженность являются, помимо всего прочего, единственно нормальным модусом отношения Церкви к миру, и притом ко всякому миру. Гораздо большее беспокойство внушает мне отсутствие такого рода напряженности в нынешнем православном сознании и наша очевидная неспособность понять истинный смысл кризиса, повернуться к нему лицом и найти пути его преодоления.
Да, мы наблюдаем возрождение в Церкви той апокалиптической настроенности, которая периодически возникает на каждом зигзаге ее земного странствия и ознаменована ожиданием конца мира. Но Православная Церковь никогда не считала такое мироощущение выражением своей веры, своего понимания ее миссии в мире. Ибо христианская вера, при всем ее эсхатологизме, безусловно, не апокалиптична. Эсхатологизм Церкви означает, что она по самой природе своей принадлежит концу, последней реальности того мира, который «проходит», т. е. Царству Божию. Он означает, что с самого начала, от «последнего и великого» дня Пятидесятницы, она жила в «последних днях», во свете Царства, и что подлинная жизнь ее «скрыта со Христом в Боге». Это означает также, что само ведение конца и постоянная причастность ему, относящие Церковь к миру, образуют такое сопряжение «теперь» и «еще не», в котором заключается смысл ее пребывания в мире и, кроме того, единственный источник победы, победившей мир.
Напротив, апокалиптизм есть чистая ересь, ибо он означает отрицание христианской эсхатологии, замену ее манихейским дуализмом, отказ от того напряжения между бытием в мире и неотмирностью, которое определяет жизнь Церкви. Нашим новоявленным апокалиптикам невдомек, что, вопреки их собственным декларациям о верности истинному Православию, в духовном плане им гораздо ближе всякого рода экстремистские движения и секты, которыми изобилует панорама религиозной жизни современного Запада, чем кафоличность православной традиции с ее трезвением, свободой от экзальтации, страха и любого редукционизма. Их позиция типична для пораженцев, неспособных встретить кризис лицом к лицу, разглядеть его истинное значение и поэтому просто
раздавленных им и, подобно всем их предшественникам, замыкающихся в невротическом самочувствии лжеименного «избранного остатка».
А что же «большинство»? Что православный «истеблишмент» — иерархический, богословский? Именно здесь, поскольку речь идет не об отдельных сектантских заблуждениях, но о самой Церкви, дело выглядит куда серьезнее. «Истеблишменту» угодно просто игнорировать — сознательно или неосознанно — любые проявления кризиса. Кто–то однажды заметил полушутя, что наши греческие братья и доселе не ведают, что Константинополь взят турками и с тех пор зовется Стамбулом. Это замечание mutatis mutandis (с надлежащими изменениями) относится сегодня к подавляющему большинству православных, где бы они ни находились. Все воспринимается так, словно перечисленные нами перемены — всего лишь случайные явления, не имеющие сколько–нибудь заметного влияния на церковный «порядок вещей».
Наилучшим выражением и иллюстрацией такой позиции является своеобразная риторика, ставшая чуть ли не единственным официальным языком православного «истеблишмента», в которой смешались несокрушимый оптимизм, непременный триумфализм и прельстительное сознание своей непогрешимости. Всякий, кто не пользуется этим языком, кто отважно ставит вопросы и высказывает сомнения по поводу положения Церкви в стремительно меняющемся мире, обвиняется в нарушении церковного мира, в разжигании распрей и — ни много ни мало — в измене Православию. Основное назначение этой риторики определяется ее замечательной способностью устранять реальность, заменяемую вожделенной псевдореальностью, и тем самым попросту отметать вопросы, которые неизбежно ставит реальность истинная.
Так, если взять первую из двух главных вышеозначенных тенденций, т. е. крушение органического «православного мира» и преследование религии воинствующим атеизмом, то в «официальной» ее интерпретации она предстанет как временная победа «темных сил», за которой неизбежно последует скорое их поражение, когда изначально добрые, исполненные веры и ни в чем не повинные, а теперь еще и очищенные страданиями и украшенные сонмом мучеников православные народы с энтузиазмом устремятся назад — к вечным идеалам Православия и образу жизни, раз и навсегда сформировавшему их души. В качестве главных доказательств грядущего возрождения приводятся следующие факты: выживание Церкви как института даже при тоталитарных режимах, умножившаяся ревность верующих, которые заполняют храмы как никогда прежде, растущий интерес к религии молодежи и интеллигенции…
Что ж, эти факты сами по себе верны и вселяют надежду. Но оправдывают ли они подобную интерпретацию событий, с легкостью превращающую неслыханную трагедию в потенциальный триумф? Ведь ей недостает не только трезвой оценки основных фактов — мы не найдем здесь ни признания того, что выживание Церкви было оплачено ее беспримерной капитуляцией перед государством, безобразным угодничеством ее руководства и почти полным контролем над ее жизнью со стороны КГБ и различных его двойников; ни простого — если не единственного — объяснения переполненности храмов резким сокращением их количества (достаточно заметить, что на восьмимиллионное население Москвы приходится пятьдесят действующих храмов); ни констатации того, что религиозное пробуждение молодежи влечет ее не только к Православию, но в еще большей степени к сектантству, дзен–буддизму, астрологии и всем без исключения проявлениям темного религиозного эклектизма, который типичен для современного Запада.
Но прежде всего эта интерпретация оставляет без ответа исходный вопрос, заключающий в себе все остальные: «Почему и как все это произошло?» Как случилось, что «темные силы» секуляризма, материализма и атеизма, корни которых усматривают (и вполне обоснованно) на Западе, восторжествовали именно на Востоке? Почему «православные миры» выказали такую слабость и уязвимость? Почему, например, религиозное сопротивление было столь сильным в католической Польше и столь слабым сравнительно с ним в православных странах? Такие вопросы даже не поднимаются, ибо все они так или иначе намечают или подразумевают ревизию прошлого — того мифического золотого века, который остается критерием всех оценок, конечной целью всех возвратов, самым заветным чаянием не только на уровне сегодняшней официальной риторики, но и в куда более глубоких пластах православной ментальности. Поставить эти вопросы — значит обратиться к прошлому, подвергнуть его анализу и переоценке и в первую очередь выяснить, не взошли ли семена порчи, упадка и поистине трагического предательства по отношению к чему–то важнейшему в Православии, — не взошли ли они в православных мирах еще раньше, так что их последующая, явная для всех и в своем роде образцовая гибель стала неизбежной?
Еще того хуже, удивительная по своей слепоте и нечувствию реакция нашего «истеблишмента» на православную диаспору Запада. Наличие каких–либо серьезных проблем, вытекающих из врастания православных церквей в иную, во многом чуждую культуру, по меньшей мере игнорировалось. И в первую очередь это касается фундаментальной канонической и экклезиологической проблемы. То, что диаспора в церковном отношении выродилась в сосуществование на одних и тех же территориях, в одних и тех же городах примерно дюжины «национальных или этнических юрисдикции, подавляющее большинство православных считает совершенно нормальным явлением, выражающим самую сущность диаспоры, основное назначение которой (всем известное
и всеми гордо провозглашаемое) как раз и состоит в сохранении культурного наследия каждого из многочисленных православных миров.
Это относится и к более глубокой и вызывающей тревогу проблеме усиливающегося (хотя зачастую и неосознанного) подчинения православного сознания секуляристскому миропониманию и образу жизни. Ибо если что и делает такое подчинение неосознанным и неявным, то именно горячая преданность наследию, с помощью которого надеются сберечь и подтвердить православную идентичность. Православный истеблишмент и подавляющее большинство живущих на Западе православных не понимают, что наследие, сохранение которого вменяется всем в обязанность, не есть то единственное, что надлежит хранить и чем нужно жить, иными словами не есть то видение Бога, мира и человека, которое открывается в православной вере. Но ответить на вызов Запада побуждает нас не та богатая и многообразная в своей глубине христианская культура, которая вырастает из этого видения, а скорее убогая редукция ее наследия к немногим остаточным символам, которая создает иллюзию приверженности вере наших отцов и тем самым маскирует прогрессирующее подчинение «реальной жизни великой и истинно западной ереси нашей эпохи — секуляризму, подчинение не только нашей светской, но в такой же степени и церковной жизни, ее нежелание оставаться собой в том, что касается веры и богослужения, приходского управления и пастырского служения, религиозного обучения и миссии.
Все это официальная наша риторика опять–таки игнорирует в силу роковой неспособности сегодняшнего православного сознания разобраться в прошлом, изначальной путаницы понятий, затрагивающих истинное содержание и значение нашего «наследия», а значит, и само Предание. Если православные церкви не смогли разглядеть радикально новую ситуацию, в которой они живут, если они пребывают в неведении относительно бросающего им вызов нового мира, то это оттого, что сами они продолжают жить в мире, хоть уже и не существующем, но по–прежнему формирующем и определяющем православное сознание. В этом проявляется трагический номинализм, пронизывающий всю жизнь Церкви и препятствующий ей в исполнении ее насущной задачи — судить, оценивать, вдохновлять, изменять, преображать всю человеческую жизнь, создавать такое творческое напряжение между собой и миром, которое делает ее «солью земли». И именно эту проблему прошлого, его сегодняшнего воздействия и значения для нас я и рассматриваю — заведомо спорным и фрагментарным образом — в нескольких разделах настоящей книги.
3
Но с православной точки зрения проблема прошлого никогда не может быть только исторической и, следовательно, отданной в безраздельное ведение историков. Она неизбежно предполагает богословский подход, ибо именно с богословской точки зрения прошлое представляется проблемой — и не только сегодня, но и всегда. Почему? Да потому, что для Православия прошлое есть основное русло и носитель Предания — той непрерывности и того тождества Церкви во времени и пространстве, которое утверждает ее кафоличность, являет ее всегда одной и той же Церковью, одной и той же верой, одной и той же жизнью. Предание и прошлое никоим образом не идентичны, но первое дошло к нам через последнее, и потому истинное знание (т. е. понимание) Предания невозможно без знания (понимания) прошлого; и наоборот — настоящее знание (понимание) прошлого невозможно без послушания Преданию. Но здесь Церковь всегда подстерегают две опасности. Первая предполагает простую редукцию Предания к прошлому, т. е. такое их отождествление, в котором прошлое, как таковое,
становится и содержанием, и критерием Предания. Вторая опасность состоит в искусственном рассечении Предания и прошлого через их осмысление в терминах «настоящего». Из прошлого при таком подходе отбирают — и тем самым превращают в «предание» — только то, что произвольно оценивается как «приемлемое», «здоровое» и отвечающее злобе дня.
Одной из насущных задач богословия и богословского служения в Церкви всегда был поиск путей, позволяющих миновать и преодолеть эти опасности, обеспечить верное «прочтение» Предания, а значит, и лучшее понимание Церковью ее собственного прошлого. Отсюда и второй вопрос, с которым связана другая группа статей моей книги: как выполняет эту задачу наше богословие сегодня? Ответ на него требует кое–каких предварительных замечаний.
Нынешнее состояние православного богословия представляется мне двойственным. С одной стороны, нельзя отрицать, что в Православной Церкви произошло подлинное богословское возрождение, выразившееся прежде всего в возвращении богословской мысли к ее главному истоку — святоотеческому преданию. Этот «возврат к отцам» в значительной мере обусловил постепенное освобождение православного богословия из «западного плена», который веками навязывал Востоку интеллектуальные категории и навыки, чуждые православному Преданию. Целые пласты этого Предания, такие, к примеру, как паламизм, были буквально открыты заново, так что сегодняшнее изучение Православия немыслимо без обращения к исихазму, к традиции Филокалии и святоотеческому видению в целом. Огромное значение этого «ренессанса» очевидно. С другой стороны, трудно избавиться от ощущения беспрецедентного разрыва между нашим богословием и Церковью. Редко когда имело оно меньшее влияние на ее жизнь, будучи «богословием для богословов», чем в сегодняшней Православной Церкви. Часто говорилось, что «озападненное» богословие, изучаемое в XIX в. в православных семинариях — и притом
долгое время по–латыни! — было оторвано от Церкви. Это утверждение отчасти верно, если иметь в виду внутреннюю его отчужденность от истоков и, конечно, же от всего «этоса» восточного Предания. Но оно неверно, коль скоро отрицается всякое влияние этого богословия. Его отчужденность не мешала ему оказывать глубокое воздействие на Церковь, ее жизнь, благочестие, духовность и т. п. — и воздействие столь сильное, что оно и по сей день определяет для громадного большинства православных их отношение к Церкви и ее установлениям, дисциплине, культу и таинствам. Лучшее, хотя и весьма курьезное подтверждение тому являют собой сами защитники «озападненного» богословия из числа наших ультраконсерваторов.
В сравнении с ним влияние нашего теперешнего богословия, обоснованного святоотеческим учением, сохраняющего верность Преданию Отцов и Соборов, кажется весьма незначительным даже там, где оно признано и завоевывает все большее уважение. Со стороны это выглядит так, словно «реальная» Церковь не знает, что с ним делать, как применить его к своей «реальной» жизни. Какой бы аспект этой жизни мы ни взяли — будь то церковное управление, приходское устройство, богослужение, духовность и даже богословское образование — кажется, что всюду царят логика, традиции, рутина, которым нет дела до Предания — заново открытого, изучаемого в богословских школах и описанного в богословских сочинениях.
В чем причина? Сами богословы любят объяснять это противоречие, это повальное безразличие к их труду недостаточной образованностью клира, пресловутым «антиинтеллектуализмом» православных мирян и тому подобными явлениями, совершенно посторонними богословию, как таковому. Но объяснение это, будь оно даже верно относительно прошлого, не выдерживает критики в наши дни. С одной стороны, разрыв между богословием и жизнью типичен не только для старшего поколения духовенства, но и для епископов и священников, получивших богословское образование в новом (или старом?) «отеческом» ключе и, как правило, успевших лично потрудиться на ниве богословского образования. С другой стороны, постоянно растет число мирян, проявляющих живой интерес к учению Церкви и куда более сознательное, чем прежде, отношение к своей религии.
Поневоле приходится думать, что дело в самом богословии. В чем же именно? Я полагаю, в неспособности богословов явить должное значение, а следовательно, и силу, спасающую и преображающую силу истинно–православного Предания в контексте нашей теперешней ситуации, превратить его в непрестанное обличение, но вместе с тем и ответ той системе ценностей, тому мировоззрению и образу жизни, которые несет переживаемый нами духовный и интеллектуальный кризис. Одно дело — «заново открыть» Отцов, их учение и их видение, и совсем иное, куда более трудное — применить это видение к реальной, конкретной жизни, сформированной и обусловленной видением совершенно иного порядка. Но именно это применение всегда было и остается главной задачей богословия. Если же, согласно определению, оно и имеет дело с «прошлым», то лишь для того, чтобы претворять это прошлое, раскрывать Предание как всегда живое, всегда действующее, всегда «современное» в глубочайшем смысле этого слова. И лучший пример подают здесь сами Отцы, которые своим «богословствованием» очищали, преображали и христианизировали мир и культуру, столь же враждебные «юродству» евангельской проповеди, как и сегодняшний мир и сегодняшняя культура.
В выполнении этой задачи наше богословие, похоже, потерпело неудачу. И произошло это, как я подозреваю, потому, что в самой сокровенной и бессознательной глубине своей оно по–прежнему находится под влиянием двойной редукции — исторической и интеллектуальной, заимствованной у того самого Запада, с которым оно думало бороться и который намеревалось обличать. Под «исторической» редукцией я подразумеваю сведение богословия — или, скорее, его источников — к текстам, к «концептуальной» очевидности, доходящее до исключения живого опыта Церкви — того опыта, из которого исходит богословие Отцов, к которому оно обращено, свидетельство которого несет и без которого оно не может быть понято в его всецелом и поистине экзистенциальном смысле и значении.
Итак, «интеллектуальная» редукция, обращающаяся с Отцами так, как если бы они были «мыслителями», трудившимися с помощью некоего аппарата понятий и идей над созданием самодостаточных и самих себя объясняющих систем. Отсюда–превращение Отцов в «авторитеты», на которые следует ссылаться для формального подтверждения идеи, суждении и даже целых богословии, по своим корням и предпосылкам едва ли имеющих что–нибудь общее с православной верой. Имеются и учебники православного систематического богословия со ссылками и цитатами из Отцов буквально на каждой странице и при всем том демонстрирующие предельно западный и схоластический» тип богословия. То же можно сказать и о прочих аспектах и измерениях Предания в трактовке нашего богословия — экклезиологическом, духовном и пр. Формальное «новое открытие» и здесь, похоже, ведет в никуда — к некоей остаточной идее, «практическое приложение» которой никто и не думал обсуждать. Со стороны кажется, будто мы обнаружили нечто насущно–важное, драгоценное и недоумеваем, на что же его и употребить, как не на аналитическое рассмотрение в тиши академических башен из слоновой кости, среди всеобщего (хотя и почтительного) равнодушия.
Неудивительно, что «реальная» церковь, при всех ее внешних изъявлениях любви к богословию (нынче и в самом деле вошло в моду цитировать Отцов и «Добротолюбне», держать на полке книги по византологии), полностью игнорирует его в своей реальной жизни. И в первую очередь игнорирует его само духовенство, чье положение и роль в Церкви делают его особенно «реалистичным». Сплошь и рядом священники, писавшие в семинарии дипломное сочинение о прел. Максиме Исповеднике или о спорах по поводу тварной или нетварной» природы благодати, в своей повседневной пастырской работе обращаются к теории и практике психотерапии, основанной на совершенно ином видении человека, нежели то, какого держался прел. Максим и творцы православного учения о благодати. Но что еще удивительнее — они, как правило, не видят полной несовместимости этих двух подходов — догмы, которая содержится в богословских книгах, и практики, которую предлагает научно обоснованная мудрость «века сего».
Положение осложняет, но фактически ни в чем существенно не меняет новый всплеск религиозности, жгучего интереса к духовности и мистицизму, который, по–видимому, сменил явно исчерпавшие себя движения, вдохновлявшиеся идеями «смерти Бога», «секулярного христианства» и «социальной вовлеченности». Многие приветствовали этот всплеск как признак настоящего религиозного возрождения и окончательного упадка секуляризма. И с точки зрения поиска, в смысле «алкания и жажды» аутентичного религиозного опыта, это, быть может, и справедливо. Но нельзя не заметить, что на более глубоком уровне этот всплеск и этот опыт неизменно отзываются индивидуализмом, нарциссизмом и эгоцентризмом, которые суть религиозные эпифеномены все того же секуляризма и соприродного ему антропоцентризма. Священник, вчера еще сопоставляемый с величайшим идолом нашего общества — целителем, сегодня с готовностью примеряет к себе роль «старца», не замечая, что перемена названии и символов ничего не меняет в религиозной ситуации, как таковой.
Эта ситуация не изменится до тех пор, пока наше богословие не преодолеет своей исторической и интеллектуальной редукции и не обретет заново пастырского и сотериологического измерения и обоснования. Если же говорить о его действенности в наши дни, то оно, по словам одного из моих друзей, быть может, превосходно оснащено для борьбы с ересями, которые Церковь раз громила примерно 15 веков назад, но при этом совершенно бессильно не только победить, но даже выявить и наречь существующие на сей день и поистине душепагубные ереси, порождаемые современной секуляризованной культурой. Более того, оно, как ни странно, обеспечивает им алиби — и тем, что прикрывает их христианской терминологией и, vice versa (наоборот), тем, что вводит в свою собственную терминологию новые понятия и категории для их объяснения, а в особенности же — своими заверениями, что это не «ереси», а научно обоснованные методы и технические приемы, в качестве таковых не могущие–де идти вразрез с церковным учением.
Не следует путать: мы имеем в виду не снижение нашего богословия до дешевой и поверхностной «актуальности», не перевод христианского свидетельства на язык и понятия, доступные пресловутому «современному человеку. О печальных следствиях западной одержимости идеями актуальности и мифического современного человека» нечего и говорить. Упомянув о сотериологической мотивировке, я держал в уме одно уникальное качество святоотеческого богословия — его постоянную сосредоточенность на истине как спасающей и преображающей силе, на истине, которая подлинно есть дело жизни и смерти; отсюда и свойственное ему переживание всякого заблуждения как бесовской лжи, которая искажает и уродует жизнь, как таковую, приводя человека к духовному самоубийству и в буквальном смысле ввергая его в ад. Этот «экзистенциализм» Отцов, который не следует смешивать или отождествлять с современным философским экзистенциализмом, основан на том, что христианство всегда было для них не идеей или доктриной, каким оно представляется в иных патрологических изысканиях с их «святоотеческой идеей» или «святоотеческой доктриной» христианства, но прежде всего опытом, абсолютно уникальным и sui generis (своего рода) опытом Церкви или даже еще точнее — Церкви как. опыта.
Известно, что слово «опыт» имеет (особенно на Западе) резко психологический, индивидуалистический и субъективисюкий «привкус», который в глазах многих богословов обесценивает его как богословский термин, переводит в зыбкую сферу «религиозного опыта» — того, что называется le sentiment religieux (религиозное чувство). Вот почему, прибегая к нему для обозначения главного, хотя чаще всего подразумеваемого источника и определения именно отеческого — в отличие от «послеотеческого» — богословия, я называю этот опыт уникальным и опытом sui generis, т. е. таким, который как раз не может быть сведен к категориям «субъективного» и «объективного», индивидуального» и «группового». Это опыт Церкви как новой реальности, новой твари, новой жизни — иными словами, реальности не какого–то «мира иного», но твари и жизни, преображенных во Христе, введенных в познание Бога и общение с Ним и Его Вечным Царством. Вот опыт радикально новый, ибо он не от «мира сего», но от мира, чьим даром, свидетельством, непрестающим пребыванием и полнотой в «мире сем» является Церковь, — опыт, который был для Отцов самоочевидным истоком богословия, залогом самой его возможности как богословия, как «богоприличных» слов, т. е. адекватных Богу и, следовательно, всей реальности. Этот опыт — исток, но вместе с тем и цель, то горнее, о котором богословие приносит свое свидетельство, чью реальность, спасающую и преображающую силу оно возвещает, провозглашает, раскрывает и защищает; то, вне чего богословие Отцов не может быть услышано в своем
истинном значении и «отчуждается» до внешнего и формального авторитета в виде цитат или идей, подлежащих «обсуждению».
Эта коренная связь и взаимозависимость богословия Отцов и опыта Церкви часто игнорируются, ибо, как уже не раз было замечено. Отцы не «богословствовали» о Церкви. Похоже, их вовсе не интересовала экклезиология в нашем современном понимании — как богословская дисциплина, видящая в Церкви объект изучения и исследования и ставящая своей целью разработку законченного, систематического учения о ней. Причина в том, что Церковь для Отцов никогда не «объект», но всегда «субъект» богословия, та реальность, которая позволяет ему познать Бога и в Нем — человека и мир, познать Путь, Истину и Жизнь, а значит, истину обо всем. Возникновение экклезиологии как отдельной богословской дисциплины есть плод сомнения, нужды в оправдании, которое неизбежно и вполне «нормально» в богословии, осознающем себя как оправдание христианской веры — рациональное или философское, юридическое или практическое — и которое, как нам теперь слишком хорошо известно, неизменно ведет нас (будучи само в том укоренено) к осмыслению Церкви, ее веры и жизни в терминах мира и различных его «философий», увлечений и нужд, а в результате к окончательной капитуляции перед этим миром. Но богословская demarche (образ действия) Отцов — совсем иное дело.
Согласно Отцам, правильно познать мир (т. е. человека, общество, природу, жизнь) в его предельном значении и его «бедах», а тем самым «воздействовать» на него можно лишь через опыт и в опыте Церкви. Без сомнения, они тоже заимствуют у мира, в котором живут и частью которого являются, категории его философии и культуры. Более того, в большинстве случаев они пользуются языком «своего времени» куда свободнее и последовательнее, чем мы языком нашей «современности». Но в их устах он меняет смысл, сама его семантика преобразуется, делаясь орудием христианской мысли и действия. Напротив, современное богословие сплошь да рядом умудряется исказить даже библейский и святоотеческий язык, нагружая его идеями совершенно чуждыми (если не враждебными) христианской вере и мироотношению.
Итак, я убежден, что «отчуждение» богословия от реальной Церкви и ее реальной жизни начинается с его отхода от опыта Церкви и от Церкви как опыта. Под этим я понимаю прежде всего (но не только) литургический опыт, ту lex orandi (закон молитвы), которая есть сущий дар и выражение церковного опыта, то единственное, что преодолевает границы прошлого, настоящего и будущего, актуализируя Предание в жизни, полноте и силе. Это не значит, что я ратую за литургическую редукцию богословия. Отцы не богословствовали о литургии, как не богословствовали они и о Церкви. Литургия, как жизнь, как «таинство» Церкви была не «объектом», а источником их богословия, ибо она — явление Истины, той полноты, от которой «глаголют уста». Укорененное в опыте Церкви как неба на земле, богословие Отцов свободно от «мира сего», и потому оно может обратиться к нему, «опознать» его и изменить. Оторванное от этого опыта, сегодняшнее богословие видится мне пребывающим в постоянном кризисе неравенства себе, в поиске своих собственных основ, предпосылок и методов, в обосновании своей «законности», и оттого не имееющим влияния ни на Церковь, ни на мир.
То, в чем нуждается сегодняшний мир, — не просто идеи и даже не просто «религия». И то и другое он имеет в избытке, ибо, как ни странно, секуляризм, эта великая ересь нашего времени, оказался могучим генератором не только идей и идеологий, но еще и «религиозности». Широко известен факт, что самое «секуляризованное» общество нашего времени — американское — есть вместе с тем и самое религиозное, поистине одержимое религией, как ни одно из прежних. Но эта «религиозность», подобно враждующим идеологиям, целиком обусловлена и определена секуляристским опытом и видением мира, не исключая и тех случаев, когда она проповедует и предлагает бегство в «духовность» или «утопию». Итак, мир нуждается прежде всего в новом опыте, самого мира, самой жизни в ее личном и социальном, космическом и эсхатологическом измерениях.
Откровение, дарование и источник этого опыта есть Церковь в ее православном понимании и «переживании». Этот опыт наше богословие и должно «заново открыть» как свой собственный источник и открыть настолько, чтобы он стал его свидетельством, его языком в Церкви и мире.
4
Таков главный тезис, прямо или косвенно определяющий содержание собранных в этой книге заметок. И если я, в очевидном противоречии с ним, нередко обращаюсь к проблемам «внешней» экклезиологии, — к соборам, каноническому праву, литургической практике и пр., то делаю это в глубоком убеждении, что каждая попытка заново раскрыть истинный опыт Церкви требует обязательного удаления главной помехи, которая закрывает к нему доступ, затемняя и искажая его. Этой помехой является номинализм, к которому наша Церковь, судя по всему, настолько привыкла, что он в силу разных практических причин сам стал частью нашего предания.
Под номинализмом я понимаю особого рода отрыв форм церковной жизни от их содержания, от той реальности, чье присутствие, силу и значение они должны выражать, и, как следствие такого отрыва, превращение этих форм в самоцель, когда само назначение Церкви видится в сохранении древних, веками освященных и «прекрасных» форм, независимых от реальности, на которую они указывают. Такой отрыв, такой номинализм и в самом деле пронизывает всю церковную жизнь. В канонической сфере он отражается в номинализме епископских титулов, которые, с точки зрения древней Церкви, имели громадный смысл как обозначение ее места внутри вполне конкретного и реального мира, куда она послана. Но какой конкретной реальности соответствуют высокопарные именования, украшающие титулы наших патриархов, архиепископов и епископов («Новый Рим», «Весь Восток», «Папа и Судия Вселенной»), или названия давно не существующих городов и стран, на епископские кафедры которых (тоже давно исчезнувшие) можно–де избирать, рукополагать, а при необходимости и перемещать?
Или, наоборот, что означает «реальный» титул, относящийся к реальному местоположению (например, «епископ Нью–Йоркский»), когда он прилагается к юрисдикции над отдельной этнической группой или, точнее, народом в изгнании, т. е. людьми, явно не идентифицирующими себя ни с каким местоположением? О подобном и даже еще более откровенном номинализме в литургической жизни (номинализме, не допускающем, например, как неактуальную, саму мысль об исконной связи вечернего богослужения с реальным вечером и, следовательно, всего богослужения времени с реальным временем) я уже писал в другом месте и повторяться не буду.
Трагедия в том, что этот номинализм воспринимается как нормальное явление, как» «выражение» самого Православия. Нам говорят, что все это: титулы, обряды, обычаи, церемонии — суть символические изображения; что в совокупности своей они являют тот богатый символизм, которым православные должны гордиться. Но при этом забывается и упускается из виду единственно важный вопрос: символические изображения чего? Речь идет не о православной приверженности форме, которая ни в коей
мере не «случайна», ибо берет начало в самом глубоком и свойственном именно Православию опыте Церкви как настоящей эпифании, как откровения и приобщения к той реальности, которая дана нам в символах именно потому, что она не от мира сего. Я говорю о радикальном искажении символа, о прогрессирующем его отделении от этой, равно как, по сути дела, и от всякой иной реальности. И именно потому, что символический реализм занимает такое существенное место в христианской вере, не должно быть места в Церкви никакому символическому номинализму. Однажды допущенный в любом, самом незначительном, проявлении ее жизни он рано или поздно подчинит себе всю эту жизнь целиком, превращая ее — страшно сказать! — в игру. Вот почему у православного богословия нет более неотложной задачи, чем низложение отовсюду угрожающего нам номинализма и утверждение подлинного опыта Церкви.
О чуде
Из «Воскресных бесед по Радио «Свобода»» (№№ 1262 и 1263).
I
Одно из самых больших недоразумений между верующими и неверующими заключается в подходе и тех и других к чуду. Верующие очень любят ссылаться на чудеса, и создается впечатление, что вся их вера и основана–то только на «чудесах», на сверхъестественных явлениях. Верующие не понимают, что эти настойчивые ссылки на чудеса, эти рассказы о львах, роющих могилы для святых отшельников, о чудесных вмешательствах потустороннего в повседневную жизнь, о снах и видениях, — это все очень часто, вместо того чтобы убедить неверующих и привлечь их к вере, наоборот, раздражает их и настраивает против веры. Действительно, если бы в мире было столько видимых чудес — повсеместно, постоянно, ежедневно — как это выходит у некоторых верующих и в определенной религиозной литературе, то просто непонятно, как все еще существуют неверующие…
А с другой стороны, со стороны неверующих, это упорное отрицание чего бы то ни было «чудесного», неизменное желание не признавать, не видеть, не чувствовать, пускай и непонятных разуму, но несомненных прорывов в жизнь несказанного, необъяснимого, к одной таблице умножения несводимого, — также свидетельствует о какой–то страшной духовной слепоте и узости.
И вот создались и стоят, один против другого, два лагеря — одинаково упрямых, одинаково непримиримых. Одни твердят, когда нужно и не нужно: чудо, сверхъестественное нарушение законов природы. Другие в ответ: никаких чудес, все да конца объяснимо, прозрачно разуму, рационально. И вот очевидно, что и те и другие, и верующие и неверующие, просто забыли, а, может быть, никогда и не знали, что вопрос о чуде в христианстве во всяком случае совсем не так прост, и никак нельзя свести его к простой дилемме: либо естественное — либо сверхъестественное, либо законы природы — либо их нарушение. Вот почему и необходимо начать обсуждение вопроса о чуде с христианского его понимания и восприятия. И тут сразу же приходится напоминать, что Евангелие отрицает чудо как «причину веры», как доказательство бытия Божиего. О Христе сказано, что в одном месте Он не смог совершить чудес из–за неверия людей. И, таким образом, как бы мы ни определяли чудо, для христиан не вера от чуда, а чудо от веры.
Но и это еще не все, так как в том–то и все дело, что сама сущность христианства отрицает чудо как основу религии, как «сердцевину» религии. Действительно, о чем учит, что провозглашает христианство? Что Христос — Сын Божий, Бог, ставший человеком, принявший на Себя нашу человеческую природу. А это исключает всякое привлечение людей к Богу путем «сверхъестественных» доводов и доказательств, так как очевидно, что если бы Христос хотел заставить людей верить в Себя, то, будучи Богом, Он это и сделал бы при помощи чудес. Но нет — в памяти Церкви, в памяти человечества Христос остался прежде всего в образе нищего, гонимого, бездомного человека. Христос уставал, плакал, страдал, был искушаем. В ночь предания на смерть Он молил Отца Своего не дать вкусить Ему отчаяния смерти. И когда Христос совершил величайшее из всех чудес — воскрес из мертвых — то ни ученики, ни женщины, пришедшие ко гробу, не узнавали Его иначе как верой, каким–то внутренним, таинственным, а не нашим «объективным» знанием. В конце все бросают Христа, все отрекаются от Него, и Христос умирает на Кресте. И потому, когда начинается распространение веры в Христа, приятие Христа как Бога, Спасителя, Учителя, то начинается оно не с «доказательств» от чуда, а с приятия Христа как раз в этом человеческом, смиренном образе. Ведь именно тогда, когда Сам Христос, идя на смерть, говорит: «Душа моя скорбит смертельно», когда умирает на Кресте, именно тогда распинавший Его римский сотник замечает: «Воистину человек этот — Сын Божий…»
Всего этого достаточно, чтобы утверждать: нет, не чудо, не чудо, понимаемое как некое непонятное, видимое нарушение самых элементарных, самых абсолютных законов природы, не чудо как некий Божественный фокус, производимый для того чтобы люди поверили в Бога, — не это и не такое чудо составляет сердцевину христианского восприятия, христианского понимания чуда. Так как, повторяю, — те, кто «принимают» Христа, принимают Его не из–за чудес, а по любви, принимают Его и следуют за Ним прежде всего сердцем. И именно такого приятия хочет и ищет Сам Христос. «Если любите Меня, заповеди Мои соблюдаете…» Если любите Меня…
А вместе с тем Евангелие действительно полно чудес: чудесных исцелений, воскрешения мертвых, видений и тому подобного. Как же согласовать эту несомненную «чудесность» христианской веры с отрицанием ею чуда как простого доказательства? Об этом мы будем говорить в следующей нашей беседе. Однако уже сейчас скажем, что тайна чуда в христианском его понимании неотделима от тайны свободы, а это значит от христианского же понимания места человека в мире, места его в природе — и по отношению к природе, и к ее так называемым законам.
Вот к этой тайне, радостной и, скажу, чудесной, мы и вернемся в следующий раз…
II
В прошлой моей беседе я говорил, что не чудо и не доказательство от чуда стоят в центре христианской веры, как это иногда может показаться со слов и из писаний верующих. Я говорил, что одним из главных грехов самих верующих против своей веры является это частое низведение религии до уровня сверхъестественных явлений, нарушающих законы природы и тем самым якобы доказывающих и существование Бога, и истинность христианской религии. Я напоминал, что в Евангелии сказано, как в некоторых местах Христос не смог совершить чудес именно из–за неверия людей, чем подтверждается христианское учение о том, что не вера от чуда, а чудо от веры.
Перейдем теперь к другой установке — к той, что характеризует неверующих, и которая, увы, часто вызвана безудержными рассказами самих верующих о чудесах. Эта установка состоит в радикальном отрицании чуда как чего–то невозможного и в попытках так или иначе развенчать, объяснить, снизить те таинственные и необъяснимые явления, которые верующие называют «чудом». Если в первом случае мы имеем некую измену самих христиан духу христианства, то во втором перед нами не меньшая узость, слепота, непонимание и упрямство. Но прежде всего нужно понять обе эти установки в их глубоких психологических корнях.
Если верующий так часто и так много говорит о чуде и чудесном, то это не потому, что сама его вера обязательно зависит от этих чудес, а потому, что чудо представляется ему наилучшим доказательством для неверующего. О сути веры, о блаженной наполненности его души, о любви и радости, открываемых ею, так трудно говорить. И вот верующий с самыми, так сказать, лучшими намерениями пытается перевести этот опыт на язык, представляющийся ему более «объективным», более способным разрушить скепсис, неверие неверующего. И он часто не понимает, что вредит сам себе и вере, которую защищает, ибо он делает это от избытка любви и ревности о Боге.
Неверующий же, со своей стороны, если он так упрямо и настойчиво отвергает даже очевидные чудеса, тоже делает это не от каких–то отрицательных чувств, а потому что он также что–то защищает. Что же? Да вот эти самые «законы природы», о нарушении которых так любят вещать поборники и защитники чудес. Тут сказывается даже своеобразное уважение к религии, ибо если, как говорят верующие, Бог создал законы природы, почему и зачем их все время «нарушать»? Если верующий видит и хочет «доказать» прежде всего всемогущество Божие, Бога как Бога, то неверующий с таким же рвением защищает тот незыблемый и по–своему тоже чудесный и даже необъяснимый порядок и строй жизни и вселенной, вне которого все становится хаосом и произволом. И человек с такой установкой сознания не придет к вере от «чудес», ибо они представляются ему не только ненужными, но снижающими понятие о религии. «Если это» религия, если это вера, — как бы говорит такой человек, — то и оставайтесь при ней, она не для меня».
Так вот, может быть, настоящее разрешение этого многовекового недоразумения состояло бы в том прежде всего, чтобы от этого бесплодного спора о чуде перейти сначала к попытке понять, о чем говорит христианство, о чем говорит Евангелие, когда говорит о чуде. Все как бы сговорились определять чудо как нарушение законов природы и спорить о том, возможно оно или невозможно. А что если христианское чудо — это совсем не нарушение законов природы, что если оно — высшее, предельное исполнение этого закона, что между ним и этими пресловутыми «законами» нет противоречия, которое видят и те, кто хочет чудес, и те, кто отвергает их? Да, это трудно доказать, ибо речь здесь идет о чем–то, что можно скорее почувствовать, увидеть, воспринять сердцем, чем доказать. И это так потому, что такое понимание чуда укоренено прежде всего в восприятии как чудесного самой жизни, самого мира — а это значит, в первую очередь, и вот этих самых «законов природы».
Сам закон природы открывается и воспринимается как какое–то необъяснимое в своей глубине, в своей мудрости чудо. И не этот ли опыт как раз имели в виду те великие ученые, те открыватели законов природы, которые ближе и глубже других вникли в тайны природы. Таков, во всяком случае, был опыт Эйнштейна и Пастера; таков, совсем недавний, опыт великого французского палеонтолога и антрополога Тейяра де Шардена. Но если так, если сам мир, если сама жизнь есть чудо, в которую никогда не устанет вникать, которой никогда не перестанет удивляться и восхищаться человек, и чем больше он постигает его, тем сильнее, — то тогда граница между «чудом» религиозным и этим общим ощущением чудесного как бы стирается. Ибо отличие религиозного чуда от этой всемирной чудесности только в одном: это чудо есть плод любви, а любовь есть самый таинственный, самый неизученный, но, пожалуй, и самый глубокий из всех законов природы.
Христос творил чудеса. И никогда — для того чтобы «доказать» Свою Божественность или заставить людей поверить в Себя. Но всегда потому, что любил, жалел, сострадал, страдания и нужды людей воспринимал Своими нуждами, Своим страданием. Между тем все, что мы знаем о любви, весь наш опыт ее, сколь бы он ни был ограничен, — указывает на ее потрясающую, действительно чудесную силу и возможности. В любви становится возможным то, что по–человечески кажется невозможным. В любви человек преодолевает свою естественную ограниченность и открывает еще один — высший — закон природы, который обычно остается скрытым от него. В любви узнает он, таким образом, ключ ко всем законам природы, последнюю их подчиненность человеку, его духу, его царственному достоинству. Чудеса без любви — обман и самообман, и их действительно нужно и можно отвергнуть. Но любовь есть чудо, и это чудо открывает нам чудесные возможности, не увидеть, не признать которые — значит ничего не увидеть и не понять на земле.
Православное богослужение
Введение
Цель всего религиозного преподавания в Православной Церкви — введение ребенка (или взрослого) в Церковь, в ее жизнь — жизнь благодати общения с Богом, любви, единения и духовного пути к вечному спасению, ибо таковы основные цели Церкви.
Церковь как жизнь и благодать воплощается в своем богослужении. Греческое слово для обозначения богослужения — ******* — литургия означает больше, чем просто молитва. Оно означает общее действие, в котором каждый принимает активное участие, является участником, а не только «присутствующим». Это действие по сущности одновременно и общее, и личное. Общее оно потому, что единением и верою участников оно реализует и исполняет сущность Церкви, то есть присутствие Христа посреди верующих в Него. А личное, поскольку эта реальность каждый раз обращена ко мне, дана мне для моего личного вразумления, для моего возрастания в благодати. Итак, в богослужении я активный «строитель» Церкви — а быть им мой христианский долг, — и меня же Церковь благодетельствует, так как все сокровища Церкви предлагаются мне как Божественный дар.
Следовательно, литургическое обучение и состоит в том, чтобы объяснить, как все в богослужении касается нас как Церкви Божией, делает нас живым Телом Христовым и относится ко мне как к живому члену этого Тела. Основная задача литургического обучения в том, чтобы показать, как, участвуя в литургии, общей и официальной службе Церкви, мы можем стать свидетелями Христа в нашей частной и общественной жизни, ответственными членами Церкви, христианами в полном смысле этого слова. Понимание богослужения должно привести к усвоению христианских догматов, к христианской жизни.
Литургия Церкви состоит из молитв, чтения, обрядов, пения. Другими словами, в ней существует порядок, структура, в которой различные элементы связаны друг с другом, и только в этом соотношении раскрывается их истинное значение. Каждую службу можно сравнить со зданием, в котором все части функциональны. Чтобы понять действие и смысл каждой части, надо сначала понять все в целом. Слишком часто в нашем религиозном преподавании службы не объясняются, а только описываются как ряд обрядов и молитв. Внутренняя необходимость, которая все эти элементы связывает и приводит в порядок, в службу, не объясняется. Есть люди, которые знают службы так хорошо, что могут и служить и петь их, при этом не понимая их смысла. Литургическое служение становится в таком случае слепым выполнением бессмысленных предписаний, что несовместимо с определением молитвы, данным Самим Иисусом Христом: «поклоняться в духе и истине» (Ин. 4, 24). Для понимания богослужения Церкви требуется духовное и интеллектуальное усилие. Изучением различных элементов службы, общего порядка и структуры мы постигаем смысл службы. Правила, предписания, устав надо понимать как врата, ведущие нас в чудесную реальность новой жизни во Христе.
При описании православных служб часто употребляются выражения «торжественные», «красивые» и т. п., но мы должны помнить, что ни торжественность, ни красота сами по себе не цель службы. И красота, и торжественность могут быть ложными, это случается, когда они становятся самоцелью, теряют связь со смыслом богослужения. Служба по существу является духовной и должна быть таковой на практике. Слишком много наших церквей как будто отражают человеческую гордость и самодовольство сильнее, чем небесную красоту Царства Божия. Нам необходимо вновь обрести истинный дух богослужения, который есть смирение, благоговение, страх Божий, сознание своего недостоинства и предстояния перед Самим Богом. Вот что означают слова: «С верой, благоговением и страхом Божиим».
Литургия Церкви может изучаться в следующем порядке:
1. Литургия посвящения: таинства Крещения и Миропомазания, посредством которых мы вступаем в Церковь и становимся ее членами.
2. Божественная литургия, или Евхаристия — самый центр всей церковной жизни, таинство присутствия Христа среди нас и Его общения с нами. Это основное таинство Церкви, так как ничего в Церкви не может быть достигнуто без причастия Христу в Евхаристии.
3. Литургия времени, то есть те службы, в которых Церковь освящает время, в котором мы живем и действуем, преображая его во время нашего спасения.
4. Освящение жизни, то есть таинства и службы, относящиеся ко всем подробностям нашей жизни, помогающие нам жить христианской жизнью, причастной ко Христу, полной Его Духом и посвященной Его спасительной цели. Это таинства целительные — Покаяние и Елеосвящение, таинство Брака, различные обряды (молитвы, благословения) и, наконец, богослужение христианской смерти.
Церковь учит нас различать таинства и не сакраментальные службы. Таинство (|*****-***) — богослужение, во время которого Дух Святой совершает определенную перемену или преобразование, имеющее значение для всей Церкви и признаваемое и принятое всей Церковью. Таинств семь, и, хотя мы будем каждое из них разбирать в дальнейшем, краткое определение мы дадим здесь:
1. Таинство Евхаристии есть «Таинство таинств», в котором Церковь видимая преображается в Церковь — Тело Христово, новый народ Божий, Храм Духа Святого. Это совершается жертвенной и евхаристической трапезой, установленной Самим Христом, на которой вся Церковь приносит Богу, во имя Христа, Жертву хваления, вспоминая Смерть и Воскресение Господа. И принимая пресуществление Хлеба и Вина, нашего приношения и воспоминания, в Тело и Кровь Христовы, Церковь причащается Ими в совершенном единении с Ним.
2. Таинство Крещения: литургическое действие троекратного погружения в воду, которое преобразует человека в «новое творение», разрешает все грехи его и соединяет в новую жизнь со Христом.
3. Таинство Миропомазания, в котором человек посвящается в христианина. Он получает дар Духа Святого, делающего его членом Церкви, которая «род избранный, царственное священство, народ святой» (1 Пет. 2, 9). Он вводится в жизнь Духа Святого и становится гражданином Царства Небесного.
4. Таинство Рукоположения, в котором Дух Святой изменяет деятельность христианина в Церкви, сообщая ему дары Духа Святого, необходимые для просвещения Церкви в пастырском служении, власть совершать таинства, способность учительствовать.
5. Таинство Брака, в котором два члена Церкви становятся одним телом, новой «единицей»в Теле Христовом, получают благословение умножаться и возрастать в совершенном единении любви.
6. Таинство Покаяния: в нем христианин, чьи грехи увели его от жизни во Христе, примиряется с Церковью — после покаяния — и снова принимается в полное общение и участие в ее жизни.
7. Таинство Елеосвящения (соборование): в нем болящему члену Церкви подается сила исцеления, духовного или физического.
В не сакраментальных богослужениях надо различать службы литургические и не литургические. Литургическими мы называем те службы, которые совершаются от имени всей Церкви, которые имеют «субъектом» Церковь, даже если присутствуют только два или три человека. Они относятся к официальному культу Церкви, например, вечерня, утреня, праздничные службы и т. д. Они «кафоличны» и «универсальны» в своем масштабе и значении — даже если касаются одного члена Церкви (похороны, присоединение к Православию и т. д.). Что касается не литургических служб — их главное отличие в том, что их масштабы ограничены, они не относятся ко всей Церкви (например, монастырское повечерие).
Порядок служб указан в церковных богослужебных книгах. Хотя не все в литургической традиции Церкви в одинаковой степени важно, тем не менее отдельные лица не имеют права изменять порядок служб или вносить изменения в принятые формы богослужения. Это право и долг иерархии — сохранять чистоту литургической жизни, охранять ее от всего, что могло бы затемнить ее или что не соответствует ее вечному назначению.
Основные элементы литургического богослужения
Все литургические службы при различии их специального содержания и назначения имеют некоторые общие для них элементы. Краткое изучение этих общих литургических форм должно непременно предшествовать изучению каждой службы или цикла служб.
Язык богослужения: язык Библии
Православная Церковь употребляет много языков в своем богослужении (греческий, церковнославянский, английский и т. д.) и все же имеет основной литургический язык. Это язык Священного Писания, Библии. Чтобы понять литургию, недостаточно просто перевести ее на «понятный» язык, надо еще изучить ее библейскую форму и содержание, то есть образы, сравнения, ссылки, вообще всю систему выражений, взятых прямо или косвенно из Библии. Этот библейский характер христианского богослужения объясняется, во–первых, тем фактом, что первые христиане были иудеями и, естественно, употребляли формы и выражения иудейского культа, прямым продолжением которого является христианское богослужение. Во–вторых, великие христианские писатели, которые писали литургические песнопения и молитвы, были глубоко укоренены в Библии, видели в ней источник всей христианской мысли и учения. Естественно, они писали языком, к которому привыкли. Таким образом, Библия является ключом к пониманию богослужения, точно так же как и богослужение — живое толкование Библии. Вместе они образуют два главных основания церковной жизни.
Использование Библии в качестве литургического языка Церкви, то есть как выражение ее богослужения, молитвы и поклонения, возможно тремя способами:
1. Во–первых, сами библейские тексты составляют важную часть всех служб: паремии (чтения пророчеств из Ветхого Завета, из Нового Завета, чтение Евангелия и Апостола), песнопения (песни из Ветхого Завета: «Величит душа моя Господа», «Ныне отпущаеши» и другие), наконец, псалмодия. Псалтырь — литургическая книга в своей полноте. Отдельные стихи, или несколько стихов прокимена, или целые псалмы входят в ткань всех служб и являются важнейшим выражением церковной молитвы. Отцы Церкви и создатели литургических текстов знали Псалтырь наизусть и считали ее боговдохновенным выражением всего богослужения.
2. Кроме того, в службах употребляются библейские слова и выражения на еврейском языке или в переводе. Вот самые важные:
Аминь — «да будет так» — торжественное признание и принятие верующими действительности, правды и силы того, что сотворил Бог и «доныне делает». На каждую молитву, каждый возглас, каждое литургическое действие народ отвечает: «Аминь», как бы ставя свою печать; и справедливо будет сказать, что только христианин имеет право говорить «аминь», то есть получать и делать своим то, что Бог дает ему в Церкви.
«Аллилуия» — в вольном переводе: «Здесь Господь, хвалите (славьте) Его» — радостное восклицание тех, кто видит и испытывает присутствие Божие, одно из ключевых слов службы, потому что оно открывает нам самую суть молитвы: поставить нас пред Богом.
«Благословенно» — основная библейская формула поклонения, которая употребляется во всех службах как их начало и открытие. Мы возвещаем, что Бог и торжество Его воли и намерений–предельная цель всех наших желаний, начало нашего богослужения.
К подобным словам принадлежат выражения: «Свят, Свят, Свят», «Бог Господь и явися нам» и многие другие, которые в Ветхом Завете выражали ожидание Израилем искупления, а теперь выражают веру Церкви, что во Христе все надежды и пророчества исполнились.
3. Наконец, все песнопения и молитвы в богослужении полны образами, символами и выражениями, взятыми из Библии, которые для своего понимания требуют знания Священного Писания. Когда, например, Матерь Божию сравнивают с «Купиной Неопалимой» или с кадилом, храмом, горой и т. д., эти сравнения требуют не только фактического знания Писания, но и символического и богословского понимания их значений. Такие слова или понятия, как «свет», «тьма», «утро», «день Господень» или символы веры, елея, вина и т. д., должны восприниматься в их библейском значении, если мы хотим понять их литургическое употребление.
Основные обряды
Литургия — священное действие, то есть ряд движений и обрядов, не только чтений и молитв. Община, как и отдельные люди, молится и поклоняется Богу не только словами, по и в некоторых телесных движениях: коленопреклонения, воздеяния рук, поклоны, земные поклоны, прикладывание к иконам и т. д. — религиозные обряды, старые, как самое человечество. Они были приняты в христианское богослужение как прямые и естественные выражения разнообразных религиозных состояний человека. К этому надо прибавить еще несколько основных обрядов, которые встречаются во всех богослужениях:
1. Каждение, то есть возжигание ладана. Сначала христиане протестовали против этого обряда, который существовал еще в Иерусалимском храме, из–за его связи с язычеством. В Римской Империи христиане преследовались за отказ возжигать ладан перед изображением императора, таким образом отрицая его божественность, но позже каждение было принято Церковью. Это естественный символ религии, ее преображающей силы (ладан становится благовонием) и поклонения (дым восходит вверх). В христианском богослужении каждение предписывается или как приготовление и освящение (каждение алтаря перед приношением), или как выражение благоговения (каждение икон и молящихся, т. к. каждый человек носит образ Божий и высокое призвание к святости).
2. Процессии и входы. Все литургические службы построены по образу процессии, то есть движения вперед, указывая таким образом на динамическую сущность христианского богослужения. Процессия символизирует и являет движение человека к Богу и Бога к человеку, движение всей истории спасения, которая оканчивается в Царстве Небесном. Например, в литургии: вхождение священника в алтарь (движение человека), его приношение даров для Евхаристии (приношение жертвы), затем выход с Чашей (Бог приближается к людям, приходит к нам) и т. д.
3. Свет и тьма. Кроме обычая зажигать свечу перед иконами, существуют литургические обряды, связанные со светом. Свеча дается новокрещенным, новобрачным, священнослужители имеют свечи в руках в определенные торжественные моменты службы, также и все собравшиеся во время отпевания. Литургические правила предписывают в некоторые моменты полное освещение Церкви, в другие — затемнение. Все это — выражение в обрядах важнейшего христианского противопоставления света и тьмы, святости и греховности, радости и горя, смерти и воскресения. Свет всегда олицетворяет Христа («Я — Свет миру»), просвещение, которое Он нам принес: познание истинного Бога, возможность достичь Его, дар общения с Ним.
4. Крестное знамение. Это простое действие — главный знак христианского благословения, выражающий веру Церкви в спасительную силу Креста Господня.
5. Стояние, сидение, коленопреклонение, земной поклон. Весь человек, то есть и душа и тело, принимает участие в молитве, потому что весь человек был воспринят Сыном Божиим в Его Воплощении и должен быть искуплен для Бога и Его Царствия. Поэтому различные положения тела в молитве имеют литургическое значение, являются выражением нашего поклонения. Стояние — это основное положение во время службы («станем добре»), так как во Христе мы были искуплены и возвращены к своему истинному состоянию, восстановлены из греховной смерти и от подчинения животной, греховной части нашей природы. Потому Церковь запрещает всякие другие положения (коленопреклонения, поклоны) в день Господень, когда мы вспоминаем Христово Воскресение и созерцаем славу нового творения. Коленопреклонение и поклоны принадлежат покаянным дням литургического года (пост), но также предписываются в некоторых случаях как обряды поклонения (перед Крестом, в алтаре и т. д.). Сидеть полагается только во время поучительных частей службы (чтение паремий, пророчеств, во время проповеди), но Евангелие всегда слушают стоя.
Литургические формулы
Есть несколько литургических формул, которые встречаются во всех службах и выражают несколько основных реалий христианского богослужения. Самые важные следующие:
1. «Мир всем: и духови твоему». Этот короткий диалог между священнослужителем и молящимися всегда предшествует главным действиям в каждой службе (чтению Евангелия, Евхаристическому канону, Причастию и т. д.). Все, что мы получаем в Церкви, стало возможным благодаря миру между Богом и людьми, который Христос установил и исполнил. В Нем мы в мире с Богом, поэтому это провозглашение и дарование мира составляет важную часть христианской литургии.
2. «Главы ваша Господеви приклоните» — призыв к подчинению Богу, к приятию Его как Бога и Господа.
3. Ектений и прошения. Ектенья — это определенный ряд прошений или призываний к молитве, возглашенных диаконом (или священником) . Ектенья — одна из основных форм литургической молитвы, свойственная почти всем службам. В Православной Церкви употребляются четыре типа ектений.
(1) Великая ектенья, с которой обычно начинается богослужение. Ее прошения говорят о всех нуждах Церкви, мира, общины и каждого отдельного человека и составляют, таким образом, Молитву Церкви. Она начинается словами: «Миром Господу помолимся».
(2) Малая Ектенья — сокращенная великая ектенья.
(3) Сугубая ектенья: молящиеся на каждое прошение отвечают троекратно: «Господи, помилуй!», ее прошения касаются более подробно нужд прихода.
(4) Просительная ектенья, в которой мы просим («Господа просим» — «подай, Господи») исполнить наши основные нужды. Эта ектенья обычно бывает в конце службы. К этим ектеньям надо добавить те, которые употребляются в особых службах или в особые моменты службы, например, об оглашенных, при освящении воды, заупокойные и т. д. Литургический смысл и важность ектений состоит в том, что благодаря им поддерживается совместный характер молитв, богослужение приобретает диалогическую структуру.
4. «Премудрость» — этот возглас обычно подчеркивает важный момент службы, обычно предшествует чтению Священного Писания.
5. «Вонмем» – призыв быть особенно внимательными и сосредоточенными перед чтением Священного Писания
Богослужебные тексты
Кроме текстов, взятых непосредственно из Библии (паремии, псалмы, песнопения и т. д.), мы находим в богослужениях два основных типа текстов: молитвы и песнопения. Молитвы обычно читаются или возглашаются епископом или священником и являются центром или вершиной каждого литургического действия. Они выражают смысл всей службы (молитвы на вечерни и утрени) или, когда речь идет о таинствах, совершают и выполняют тайнодействие (великая Евхаристическая молитва Божественной литургии, разрешительная молитва таинства покаяния и т. д.). Песнопения составляют музыкальную часть богослужения. Церковь считает пение важным выражением нашего поклонения («Пою Богу моему, дондеже есмь») и предписывает большое разнообразие песен для каждой службы.
Основными гимнографическими типами или формами являются:
1. Тропарь — короткая песнь, выражающая главную тему празднуемого события (праздник, день святого и т. д.) и прославляющая его. Например, пасхальный тропарь: «Христос воскресе из мертвых» или тропарь Воздвижения Креста: «Спаси, Господи, люди Твоя».
2. Кондак–то же, что тропарь, разница лишь в их историческом развитии. Кондак был прежде длинной литургической поэмой из 24 икосов; постепенно он вышел из богослужебного употребления, сохранившись только в виде короткой песни, исполняемой на утрени (после 6–й песни канона), за литургией и на часах. У каждого праздника есть свой тропарь и кондак.
3. Стихира — принадлежит к разряду песнопений, которые поются в определенные моменты службы, например, стихиры после псалма«Господи, воззвах» на вечерне, на утрени — стихиры на «Хвалите» и т. д.
4. Канон — большая гимнографическая форма; состоит из 9 песен, включающих по несколько тропарей. Существуют каноны на каждый день года, которые поются на утрени, например, пасхальный канон: «Воскресения день», рождественский: «Христос рождается, славите».
Всего существует восемь основных мелодий, или гласов для богослужебного пения, так что каждое песнопение исполняется на определенный глас (например, «Царю Небесный» — на 6–й глас, рождественский тропарь: «Рождество Твое, Христе Боже» — на 4–й, пасхальный канон — на 1–й и т. д.). Указание гласа всегда стоит перед текстом. Кроме того, каждая неделя имеет свой глас, так что восемь недель образуют «гимногра–фический» цикл. В структуре богослужебного года отсчет циклов начинается со дня Пятидесятницы.
Святой Храм
Место богослужения называется храмом. Двойное значение слова «Церковь», означающее и христианскую общину, и дом, в котором она поклоняется Богу, уже само указывает на функцию и природу православного храма — быть местом литургии, местом, где община верующих являет себя Церковью Божией, духовным Храмом. Православная архитектура имеет поэтому литургический смысл, свою символику, которая дополняет символику богослужения. У нее была длинная история развития, и она существует у различных народов в большом разнообразии форм. Но общая и центральная идея та, что храм — это небо на земле, место, где нашим участием в литургии Церкви мы входим в общение с грядущим веком, с Царствием Божиим.
Храм обыкновенно разделен на три части:
1. Притвор, передняя часть, теоретически в центре него должна стоять крещальная купель. Таинство Крещения открывает новокрещенному двери в Церковь, вводит его в полноту Церкви. Поэтому Крещение прежде происходило в притворе, и затем новый член Церкви торжественной процессией вводился в Церковь.
2. Центральная часть храма — это место собрания всех верующих, сама церковь. Церковь здесь собирается в единении веры, надежды и любви, чтобы прославлять Господа, слушать Его поучения, принимать Его дары, чтобы вразумляться, освящаться и обновляться в благодати Духа Святого. Иконы святых на стенах, свечи и все остальные украшения имеют одно значение — единение Церкви земной с Церковью Небесной, или, вернее, их тождество. Собранные в храме, мы — видимая часть, видимое выражение всей Церкви, глава которой–Христос, а Матерь Божья, пророки, апостолы, мученики и святые — члены, как и мы. Мы вместе с ними образуем одно Тело, мы подняты на новую высоту, на высоту Церкви в славе –Тело Христово. Вот почему Церковь приглашает нас войти во храм «с верой, благоговением и страхом Божиим». По той же причине древняя Церковь не позволяла присутствовать на службах никому, кроме верных, то есть тех, кто уже верой и крещением включены в небесную реальность Церкви (ср. на литургии: «Оглашенные, изыдите»). Войти в Церковь, быть вместе со святыми — самый великий дар и честь, поэтому храм — это место, где мы поистине приняты в Царствие Божие.
3. Алтарь — место престола. Престол — мистический центр церкви. Он изображает (являет, реализует, раскрывает нам — таково действительное значение литургического изображения): а) Престол Божий, к которому Христос вознес нас Своим славным Вознесением, которому мы вместе с Ним предстоим в вечном поклонении; б) Божественную трапезу, к которой нас призвал Христос и где Он вечно раздает пищу бессмертия и жизни вечной; в) Его Жертвенник, где совершается Его полное приношение Богу и нам.
Все три части храма украшены иконами (изображениями Христа и святых). Слово «украшение» не вполне подходит, т. к. иконы больше, чем «украшение» или «искусство». Они имеют священное и литургическое назначение, они свидетельствуют о нашем реальном общении, единении с «небом» — духовным и прославленным состоянием Церкви. Поэтому иконы больше, чем образы. По учению Православной Церкви, те, кого они изображают, действительно духовно присутствуют, они — духовная реальность, а не просто символ. Иконография — искусство сакраментальное, в котором видимое открывает невидимое. Это искусство имеет свои правила, или «канон», особый метод и технику письма, которые вырабатывались веками для выражения преображенной действительности. Сегодня люди вновь стремятся открыть истинное значение икон, постичь настоящее иконографическое искусство. Но еще много надо сделать, чтобы убрать из наших церквей приторные и сентиментальные изображения, которые ничего не имеют общего с православным пониманием иконы.
Православный храм по своей форме, структуре и украшениям предназначен для литургии. «Материальный» храм должен помогать в построении духовного храма — Церкви Божией. Но, как и все другое, он никогда не может стать самоцелью.
Священник и приход
В православном учении о Церкви (и, следовательно, богослужении, которое есть священнодействие и выражение Церкви) духовенство и миряне не могут быть противопоставлены друг другу, но не могут и смешиваться. Вся Церковь — это миряне, народ Божий, каждый в ней прежде всего член церковного тела, активный участник в общей жизни. Но внутри церковного народа существует порядок служений, Богом установленный для правильной жизни Церкви, для сохранения единства, для верности ее Божественному назначению. Основное служение — священство, которое продолжает в Церкви священническое служение Самого Христа в трех его аспектах: священства (Христос — Первосвященник, Который принес Себя в жертву Отцу за спасение всех), учительства (Христос — Учитель, учащий нас заповедям новой жизни) и пастырства (Христос — Добрый Пастырь, знающий Своих овец и называющий каждую по имени). Единственное в своем роде священство Христа продолжено в Церкви священной иерархией, которая существует и действует в трех служениях — епископа, священника и диакона. Полнота священства принадлежит епископу, который есть глава Церкви. Он разделяет свои священнические обязанности с пресвитерами, которых он посвящает, чтобы они были его помощниками в управлении Церковью и возглавляли отдельные приходы. Епископу и священникам помогают диаконы, которые не могут совершать таинств, но их назначение — поддерживать живую связь между иерархией и народом. Это иерархическое построение, или порядок в Церкви выражается в ее богослужении, каждый член участвует в нем согласно своему призванию. Вся Церковь совершает литургию, и в этом общем деле каждый имеет свое назначение. Епископу (или священнику) подобает возглавлять народ, приносить Богу молитву Церкви и преподавать народу Божественную благодать, учение и дары Божий. При совершении литургии он являет видимую икону Иисуса Христа — Который как Человек стоит перед Богом, объединяя и представляя Собой всех нас, и Который как Бог дает нам Божественные дары прощения, благодать Духа Святого и пищу бессмертия. Поэтому не может быть литургии и никакой службы Церкви без священника, так как это именно его обязанность изменять или преображать земное и человеческое собрание в Церковь Божию, продолжая в ней посредническое служение Христа. И не может быть литургии без народа, общины, так как это их молитвы и приношения священник приносит Богу, и для того он получил благодать Христова священства, чтобы преображать общину в Тело Христово.
Таким образом, молящаяся Церковь действительно представляет (являет, актуализирует) Христа: Главу и Тело, Божество и Человечество, Дар и Принятие. Православная Церковь в своем богослужении и не клерикальна, то есть духовенство — не единственный активный элемент при . пассивном народе, и не эгалитарна, что означало бы смешение священства и народа, при их равноправии. По учению Церкви, гармония всех служений при их единстве и различии, их активное содействие под руководством и при поддержке иерархии — по образу богослужения — необходимы для благостояния Церкви, для ее «полноты во Христе».
Этот порядок, то есть функция священника по отношению к народу церковному, выражен в его церковном облачении. Совершая главное богослужение — Божественную литургию, священник надевает.
1. Стихарь — белое одеяние, которое делает его представителем каждого верующего, так как при крещении каждый был облачен в белую одежду нового творения и новой жизни: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся».
2. Епитрахиль — орарь, который покрывает шею и плечи как знак его священнического и пастырского служения. Христос, Пастырь Добрый, принял на Себя нашу человеческую природу, принял заботу о каждой отдельной овце, принес Себя за грехи всего мира.
3. Епиманикии, или поручи — знак того, что руки священника не ему принадлежат, но Христу. Он будет благословлять, а мы будем принимать благословение Христово, он будет приносить наши хлеб и вино, но это будет Христос, Единый Приносящий; он будет раздавать Дары, но это Христос будет питать нас Своим Телом и Своей Кровью.
4. Пояс — знак послушания, готовности, подчинения. Не он избрал Христа, а Христос избрал его и доверил ему Свое Собственное служение. У священника нет собственного авторитета, ни собственной власти, он все делает именем Христа.
5. Фелонь — облачение, покрывающее всего человека, как поток благодати, радости, мира и красоты, нового космоса, Царства Божьего, дарованного нам Христом, которым Он нас облек — нагих в наших грехах и болезнях.
К этим облачениям епископ прибавляет «омофор» — широкий орарь — символ его высшей власти в Церкви. У диакона облачение то же: стихарь, поручи и узкий орарь, который он поднимает при возглашении ектений, приглашая всех поднимать взор ввысь, чтобы молиться Богу в вышних.
Божественная литургия
Святые Отцы называли Божественную Евхаристию «Таинством всех Таинств» и «Таинством Церкви». Она — поистине сердцевина всей жизни Церкви, средство и выражение ее сущности как Тела Христова. Христос Сам учредил ее на Тайной Вечери, сказав: «Сие творите в Мое воспоминание». Так что Евхаристия есть Память о Христе. Но только изучая отдельные части службы Евхаристии, мы можем понять неисчерпаемую глубину и значение этого «воспоминания». В Православной Церкви совершаются два чина литургии: Божественная литургия св. Иоанна Златоуста и Божественная литургия св. Василия Великого. Последняя совершается только десять раз в году: в сочельники Рождества Христова и Крещения, в пять воскресений Великого Поста, в четверг и субботу Страстной Седмицы и в день памяти Василия Великого 1 (14) января. В древности существовало много чинов литургии (св. Иакова Иерусалимского, св. Марка Александрийского и др.). У всех в основном тот же порядок, та же форма, которая восходит к временам апостольским и к самой Тайной Вечере. Различие, в сущности, только в тексте молитв. Божественная литургия состоит из трех основных частей: Проскомидия (приготовление), Литургия оглашенных и Литургия верных.
Проскомидия
Чин проскомидии в его современной форме не входит в состав самой литургии, так как совершается до службы и одними священнослужителями. В древней Церкви, однако, этот чин совершался непосредственно перед Великим входом, что сохранилось при архиерейском служении. Проскомидия состоит в расположении Евхаристического хлеба в символическом порядке на дискосе, вливании вина в Чашу и поминовении всех чинов святых вместе с живыми и умершими членами Церкви. Смысл чина — показать, что вся Церковь представлена со Христом на дискосе, в центре которого Агнец Божий.
Литургия оглашенных
Божественная литургия начинается с так называемой Литургии оглашенных, потому что в древности на ней разрешалось присутствовать оглашенным, то есть готовящимся к Св. Крещению. Ее можно также назвать литургией Евангелия или литургией Слова, так как она главным образом состоит из чтения Священного Писания: посланий, Евангелия и их объяснения в проповеди. По слову святых Отцов, причастие Слову Божию предшествует причастию Святых Тела и Крови Христовых, и то, и другое — это наше приобщение ко Христу.
Ранние христиане обычно называли первую часть Литургии собранием. Важно осознать, что это собрание, схождение верующих, составляющих одно тело, действительно начало или даже необходимое условие для литургии, общего служения Церкви. Самое слово «Церковь» означает «собрание» *******, и Православная Церковь всегда подчеркивала в своих канонах и литургических правилах этот соборный и общий характер литургии как священнодействия всего Тела, требующего присутствия и активного участия всех членов. Так называемые «частные» литургии чужды духу Православия, потому что Литургия всегда *******, общая служба Церкви. «Частные» литургии были введены в практику под западным и униатским влиянием и не имеют оправдания в нашей традиции. Когда каноны запрещают служение больше одной литургии одним священником на одном престоле, они подчеркивают именно назначение Евхаристии как Таинства единения, истинного выражения и устроения Церкви. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело — так и Христос» (1 Кор. 12,12). Таким образом, приход христиан в церковь является первым и необходимым литургическим действием, началом движения, которое приведет нас к Трапезе Господней, в Святая Святых. Собранные вместе, мы больше, чем группа слабых грешных христиан, ибо таково первое чудо литургии, что этой группе дана власть быть Церковью, в полноте представлять ее на этом месте и в это время, являть ее истинную жизнь как жизнь Христа.
Благословенно Царство
Когда Церковь собралась, священник начинает службу торжественным возгласом: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа». Царство Божие — истинная «тема» Евхаристии, потому что в ней реальность этого Царства, которое будет явлено и сообщено нам в совершении таинства Евхаристии. И благословение указывает и провозглашает направление и конечную цель движения, которое теперь начинается, той мистической процессии, которая уже в пути. Мы уже оставили мир со всеми его земными заботами и поднимаемся, следуя за Христом в Его вечном движении из этого мира к Своему Отцу. «Аминь», — отвечает собрание, выражая свое приятие этой цели, свое участие в этом шествии.
Великая Ектенья
Начинается Великая Ектенья, которая, как было выше сказано, является началом общей молитвы Церкви. В ее прошениях мы находим порядок молитвы, истинно христианскую «иерархию ценностей»:
«Миром Господу помолимся…» Молитва Церкви — новая молитва, ставшая возможной благодаря тому миру, которого Христос достиг в Своем созерцании. Он — наш тир (Еф. 2, 14), и мы молимся в Нем в чудесной уверенности, что наша молитва, благодаря Ему, принята Богом.
«О свышнем тире и спасении душ наших…» Этот мир не может дать того мира; он — дар свыше. Получить мир — первая и самая значительная цель вместе со спасением наших душ. Прежде чем молиться о чем–либо другом, мы должны молиться о самом главном для каждого христианина — о вечном спасении.
«О тире всего тира, благосостоянии святых Божиих Церквей и соединении всех…». Мы просим, чтобы мир Христов был везде, чтобы Церкви были верны своей миссии — проповедовать Христа и осуществлять Его присутствие в мире и чтобы плодом этой миссии было бы единение всех в Истине и Любви.
«О святом храме сем, и с верою, благоговением и страхом Божиим входящим в онъ…» Мы молимся за эту общину, которая здесь, на этом месте должна явить Христа и Его благодать, быть свидетелем Его Царствия, и о том, чтобы членам ее был дан правильный дух молитвы.
«…и о Господине нашем, Преосвященнейшем… честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве и людях…» Мы молимся за тех, кого Бог поставил вести и наставлять Церковь, и о гармонии всего тела.
«О богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея…» Христиане — и граждане неба, и ответственные члены человеческого общества. Они законопослушны по отношению к властям, но лишь поскольку эта лояльность совместима с их главным послушанием ко Христу. Они должны свидетельствовать в любом обществе и молиться, чтобы руководил ими Христос — Единый Господь неба и земли.
«О граде сет…» «Вы соль земли» (Мф. 5, 13), — сказал Христос Своим ученикам. Христианство налагает ответственность на человека. Живя в этом городе, мы духовно ответственны за него.
«О благорастворении воздухов и изобилии плодов земных…» Молитва Церкви обнимает весь мир, включая всю природу: «Господня земля и исполнение ея вселенная» (Пс. 23,1).
«О плавающих, путешествующих… плененных и о спасении их…» Церковь вспоминает всех, кто в затруднениях, больных и плененных. Она должна явить и исполнить Христову любовь и Его заповедь: «Я был голоден, и вы накормили Меня, Я был болен и в темнице, и вы посетили Меня» (Мф. 23,35–36). Христос отождествляет Себя со всяким, кто страдает, и «проверка» христианской общины заключается в том, ставит она или нет помощь ближнему в центр своей жизни.
«О избавитися нам от всякой скорби, гнева и нужды…» Мы молимся о нашей собственной спокойной жизни в этом мире и о Божественной помощи во всех наших делах.
«Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию». Последнее прошение помогает осознать, что «без Меня вы ничего не можете делать…» (Ин. 15, 5). Вера открывает нам, как мы полностью зависим от благодати Божией, от Его помощи и милосердия.
«Пресвятую, пречистую, преблагословенную Владычицу Нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим». Замечательное заключение нашей молитвы — подтверждение нашего единства в Церкви с Церковью Небесной, чудесная возможность отдать Христу себя, друг друга и всю нашу жизнь.
С помощью Великой Ектений мы научаемся молиться вместе с Церковью, ее молитву воспринимать как свою, молиться с ней как одно целое. Необходимо каждому христианину понять, что он приходит в Церковь не для индивидуальной, частной, отдельной молитвы, но чтобы быть поистине включенным в молитву Христа.
Антифоны и Вход
За Великой Ектенией следуют три антифона и три молитвы. Антифон — это псалом или песнь, которая поется поочередно двумя хорами, или двумя частями верующих. Особые антифоны исполняются в специальные дни, времена года, праздники. Их общий смысл –радостная хвала. Первое желание Церкви, собранной для встречи с Господом, — радость, и радость выражена в хвале! После каждого антифона священник читает молитву. В первой молитве он исповедует непостижимую славу и могущество Бога, Который дал нам возможность знать Его и служить Ему. Во второй молитве он свидетельствует, что это собрание Его людей и Его достояние. В третьей молитве он просит Бога даровать нам в этом веке, т. е. в этой жизни, познание Истины, а в грядущем веке — жизнь вечную.
После молитвы и хвалы — Вход. В общем движении службы мы теперь делаем решительный шаг вперед: собранные на земле, как человеческая община, мы теперь приближаемся к Престолу Божию, в Его непостижимое присутствие. В современном богослужении мистическое значение Входа затемнено, так как священнослужитель уже стоял перед престолом, и Вход — только круговая процессия из алтаря и обратно в алтарь. Только при архиерейском служении Вход сохраняет свое первоначальное значение, так как архиерей, который до сих пор стоял среди молящихся, в первый раз приближается теперь к престолу. Таким и был первоначальный обряд, потому что он означает именно движение вперед и вверх. Вся литургия — шествие Церкви вслед за Вознесением Христа (ср. Евр. 9). Христос возносит нас в Своем славном Вознесении к Своему Отцу; Он входит в Небесное Святилище, и мы входим с Ним и стоим перед славой Престола Божия. Священнослужители одни совершают вход, но так как священник возглавляет собрание молящихся, то духовно все собрание входит с ним и в нем стоит перед престолом.
Мы вошли в святилище, мы стоим перед Богом, мы готовимся слышать Его Слово (Евангелие несут в процессии), принести в жертву нашу жизнь и принять пищу нового Бытия. И подтверждая восхождение Церкви к Богу, хор поет гимн: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный. ..», который ангелы вечно воспевают у Престола Небесного. Священнослужитель, прочитав «Трисвятое», проходит к Горнему месту и оттуда обращается лицом к народу, указывая этим, что теперь Бог смотрит на нас, предстоит нам и мы — в Его «высоком и святом» месте.
Литургия Слова
Теперь вершина службы достигнута. Бог будет говорить с нами, нам вновь будет дано Его вечное Слово, и мы воспримем Его. «Литургия Слова», которая начинается после входа, включает:
1. Возглас: «Мир всем».
2. Пение прокимена — стихов из псалма, заключающих в себе общую тему чтений из Священного Писания.
3. Чтение Апостола.
4. Пение «Аллилуйя» и каждение.
5. Чтение Евангелия диаконом.
6. Проповедь священника.
Таким образом, все члены Церкви принимают участие в литургии Слова (миряне, диаконы, священники). Текст Священного Писания дается всей Церкви, но его толкование — особый «дар поучения» — принадлежит священнику. Литургическая проповедь, которую отцы Церкви считали важной и неотъемлемой частью Евхаристии, главное выражение учительной миссии в Церкви. Ею нельзя пренебрегать (потому что, повторяем, проповедь — органическая часть приготовления к сакраментальной части Евхаристии) , нельзя отклониться от ее единственной цели: донести народу Слово Божие, которым Церковь живет и растет. Также ошибочно говорить проповедь после Евхаристии, она по существу принадлежит к первой поучительной части службы и дополняет чтение Священного Писания.
Литургия оглашенных оканчивается сугубой ектенией, молитвой «прилежного моления», молитвами об оглашенных и возгласом: «Оглашенные, изыдите».
Сугубая Ектенья
Сугубая Ектенья и ее заключительная молитва («сугубое прошение») отличается от Великой Ектений; ее назначение — молиться о фактических и непосредственных нуждах общины. В Великой Ектений молящийся призван молиться с Церковью, сочетая свои нужды с нуждами Церкви. Здесь же Церковь молится с каждым в отдельности, упоминая различные нужды каждого и предлагая свою материнскую заботу. Любая человеческая нужда может быть здесь высказана; в конце проповеди священник может объявить об этих особых нуждах (болезнь члена прихода, или «серебряная» свадьба, или выпускной акт в школе и т. д.) и просит принять участие в молитвах о них. Эта Ектенья должна выражать единение, солидарность и взаимную заботу всех членов прихода.
Молитвы об оглашенных
Молитвы об оглашенных напоминают нам золотое время в истории Церкви, когда миссия, т. е. обращение ко Христу неверующих, считалась необходимой задачей Церкви. «Итак, идите, научите все народы» (Мф. 28, 19). Эти молитвы — упрек нашим приходам, неподвижным, закрытым и «эгоцентричным» общинам, равнодушным не только к общей миссии Церкви в мире, но даже к общим интересам Церкви, ко всему, что не относится к прямым интересам прихода. Православные христиане слишком много думают о «делах» (постройка, вложение капиталов и т. д.) и недостаточно о миссии (об участии каждой общины в общем деле Церкви).
Изгнание оглашенных — последнее действие — торжественное напоминание о высоком призвании, огромной привилегии быть в числе верных, тех, кто благодатью Крещения и Миропомазания запечатлены как члены Тела Христова и как таковые допущены к участию в великом таинстве Тела и Крови Христовых.
Литургия верных
Литургия верных начинается непосредственно после удаления оглашенных (в древности вслед за этим следовало удаление отлученных, которые временно не были допущены до Св. Причастия) с двух молитв верных, в которых священник просит Бога сделать общину достойной приносить Святую Жертву: «Сотвори ны достойны быти». В это время он раскрывает Антиминс на Престоле, означая приготовление к Тайной Вечери, Антиминс («вместо стола») — знак единения каждой общины со своим епископом. На нем стоит подпись епископа, который дает его священнику и приходу как разрешение совершать таинство. Церковь не является сетью свободно «объединенных» приходов, она — органическая общность жизни, веры и любви. А епископ — основа и блюститель этого единства. По словам св. Игнатия Антиохийского, ничего в Церкви не должно совершаться без епископа, без его разрешения и благословения. «Без епископа никто не делай ничего, относящегося до Церкви. Только та Евхаристия должна почитаться истинною, которая совершается епископом или тем, кому он сам предоставит это. Где будет епископ, там должен быть и народ, так же, как где Иисус Христос, там и кафолическая Церковь» (Посл. к Смирн., 8 гл.). Имея священный сан, священник также является представителем епископа в приходе, и антиминс–знак того, что и священник, и приход находятся под юрисдикцией епископа и через него — в живой апостольской преемственности и единстве Церкви.
Приношение
Херувимская песнь, каждение престола и молящихся, перенос евхаристических даров на престол (Великий Вход) составляют первое основное движение Евхаристии: Анафору, которая есть жертвенный акт Церкви, приносящей Богу в жертву нашу жизнь. Мы часто говорим о жертве Христа, но так легко забываем, что жертва Христа требует и предполагает нашу собственную жертву, или вернее, наше приобщение к жертве Христа, так как мы Его Тело и причастники Его Жизни. Жертва есть естественное движение любви, которая есть дар отдачи себя, отречения от себя ради другого. Когда я кого–нибудь люблю, моя жизнь в том, кого я люблю. Я отдаю мою жизнь ему — свободно, радостно — и эта отдача становится самим смыслом моей жизни.
Тайна Святой Троицы — тайна совершенной и абсолютной жертвы, потому что это тайна Абсолютной Любви. Бог есть Троица, потому что Бог есть Любовь. Вся Сущность Отца предвечно сообщается Сыну, и вся Жизнь Сына — в обладании Сущностью Отца как Своей Собственной, как Совершенного Образа Отца. И, наконец, это взаимная жертва совершенной любви, это вечный Дар Отца Сыну, истинный Дух Божий, Дух Жизни, Любви, Совершенства, Красоты, всей неистощимой глубины Божественной Сущности. Тайна Святой Троицы необходима для правильного понимания Евхаристии, и в первую очередь ее жертвенного свойства. Бог так возлюбил мир, что отдал (пожертвовал) Своего Сына нам, чтобы привести нас снова к Себе. Сын Божий так возлюбил Своего Отца, что отдал Ему Себя. Вся Его жизнь была совершенным, абсолютным, жертвенным движением. Он совершил его как Бого–Че–ловек, не только по Своему Божеству, но и по Своему Человечеству, Которое Он воспринял по Своей Божественной любви к нам. В Себе Он восстановил человеческую жизнь в ее совершенстве, как жертву любви к Богу, жертву не из–за страха, не из–за какой–либо «выгоды», но по любви. И, наконец, эту совершенную жизнь как любовь, и поэтому как жертву, Он дал всем, кто принимает Его и верит в Него, восстанавливая в них изначальные взаимоотношения с Богом. Поэтому жизнь Церкви, будучи Его жизнью в нас и нашей жизнью в Нем, всегда жертвенна, она — вечное движение любви к Богу. И основное состояние, и основное действие Церкви, которая есть восстановленное Христом новое человечество, это Евхаристия — акт любви, благодарности и жертвы.
Теперь мы можем понять на этой первой стадии евхаристического движения, что Хлеб и Вино в анафоре обозначают нас, т. е. всю нашу жизнь, все наше существование, весь мир, сотворенный Богом для нас.
Они наша пища, но пища, которая дает нам жизнь, становится нашим телом. Принося его в жертву Богу, мы указываем, что наша жизнь «отдана» Ему, что мы следуем за Христом, нашей Главой, по Его пути абсолютной любви и жертвы. Еще раз подчеркиваем — наша жертва в Евхаристии не отлична от жертвы Христовой, это не новая жертва. Христос пожертвовал Собой, и Его жертва — полная и совершенная — не требует новой жертвы. Но в том именно значение нашего евхаристического приношения, что в нем нам дана бесценная возможность «вхождения» в жертву Христову, причащение Его единственной Жертве Себя Богу. Другими словами: Его единственная и совершенная Жертва сделала возможным для нас — Церкви, Его тела — быть восстановленными и вновь принятыми в полноту истинной человечности: в жертву хвалы и любви. Тот, кто не понял жертвенного характера Евхаристии, кто пришел получить, а не дать, не воспринял самого духа Церкви, которая прежде всего есть приятие Христовой жертвы и участие в ней.
Таким образом, в процессии приношения сама наша жизнь приносится к престолу, предложенная Богу в действии любви и поклонения. Поистине «Царь царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным» (Песнопение Великой Субботы). Это Его Вход, как Священника и Жертвы; и в Нем и с Ним мы тоже на дискосе, как члены Его Тела, причастники Его Человечества. «Всякое ныне житейское отложим попечение», — поет хор, и, действительно, разве не все наши попечения и заботы восприняты в этой единственной и предельной заботе, которая преображает всю нашу жизнь, в этом пути любви, который приводит нас к Источнику, Подателю и Содержанию Жизни?
«Да потянет Господь Бог всех вас во Царствии Своем…», — говорит священник, подходя к Престолу с Дарами. Любовь, которую Христос излил «в сердца наши» (Рим. 5,5), естественно выражается в обоюдной любви между христианами. Царствие Божие в совершенном единении, «чтобы они были едино, как и мы» (Ин. 17, 11). Итак, нет другого пути приближения к Богу, чем любовь. Он помнит нас, если мы помним друг друга. Безразлично, сколько верующих, приносящих эту Евхаристию, это всегда вся Церковь — единство веры и любви, которая приносит и приносима, и это органическое единение Церкви выражается в поминании при Великом Входе.
Священник ставит Дары на престол, читает молитву приношения, прося Бога принять эту жертву, и покрывает дискос и чашу воздухом. Как значение жизни и жертвы Христа были сокрыты от сил и властей мира сего, так и наша истинная жизнь — та, которую мы приняли от Христа, — остается скрытой, явной только для верных, до пришествия Христа в Его славе. Так как молитва приношения, как и все другие молитвы священнослужителя, теперь читается «тайно» (в прошлом они читались громко), за Великим Входом следует просительная ектенья.
Исповедание веры и любви
Поскольку жертва Церкви — жертва любви, путь анафоры закончен и «запечатлен» целованием Мира: «возлюбит друг друга, да единомыслием исповемы: Отца и Сынa и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную». В древности поцелуй Мира передавался от предстоятеля каждому члену собрания, который передавал его следующему. Теперь только священники, когда они сослужат, целуются с приветствием: «Христос посреди нас, и есть, и будет!»
Выразив наше единение в любви, мы провозглашаем наше единение в вере в Символе Веры.
Единение Церкви — не частичное, ограниченное, человеческое единение (национальное, социальное, эмоциональное и т. д.). Это единство Истины, свыше явленной, полной, абсолютной Истины. Тот, кто ее не признает, не принадлежит Церкви, потому что он предпочел истине что–то другое. Он ослепил себя и остается рабом «старой жизни» с ее ошибками, мраком и грехами. Символ Веры — исповедание этой истины и ее критерий.
Благодарение
Теперь движение, которое началось с начального «Благословенно Царство», привело нас к высшей точке, к самой Евхаристии, в которой земное будет воспринято Божественным, преображено в Божественное и возвращено нам для нашего причастия к Божественному, для участия в Царствии Божием. «Станет добре, станет со страхом…»
Сначала происходит диалог между священником и народом: «Благодать Господа Нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и причастие Святаго Духа будет со всеми вами. — И со Духом Твоим». Весь путь спасения есть благодать Христова, соединяющая нас с любовью Отца, это любовь Отца, изливающая на нас Духа Святого–новую, обильную, вечную жизнь.
«Горе имеем сердца. — Имамы ко Господу». Мы непрерывно следовали вверх по пути Вознесения. И теперь мы здесь: вне времени, вне мира, во славе нового «зона» в непостижимом присутствии Бога. Мы можем совершить теперь только одно, единственное и последнее действие: «Благодарит Господа — Евхаристисомен!»
Когда человек стоит перед Богом, когда он принят Им, когда его грехи прощены и к нему возвратилась его первоначальная красота, Евхаристия — благодарение, поклонение, молитва — поистине предельное и полное выражение всего его существа. Человек был создан для Евхаристии –для чистой любви к Богу, ради Бога, для признания Бога как содержания всей его жизни, как Цель его целей, как Ответ на все вопросы, Смысл всех его желаний, Объект всего его знания, Исполнение его силы и его жажды любви. Евхаристия — явление небес, образ Божий в нас. Но в грехе человек потерял эту чистую Евхаристию. Он направил свою жизнь, свою любовь, свои заботы к другому, он стал неспособен к Евхаристии, то есть благодарению, ибо таково состояние человека в раю.
Но Евхаристия была восстановлена Христом. Вся Его жизнь была евхаристичной, состоящей из любви и поклонения, полностью посвященной Богу. Он принес Себя Отцу — полную, совершенную и чистую Евхаристию, единственную достойную Бога. Нет другой Евхаристии, кроме Христовой, и нет другой Евхаристии, чем Христос. Она дана нам, мы соединены с ней, она стала нашей Евхаристией, потому что мы Его Тело, мы «от Его костей и плоти». Он воспринял наше человеческое естество и принес Свою Евхаристию за всех и для всех, делая нас — грешных и недостойных — ее причастниками.
Поэтому когда вся Церковь отвечает: «Достойно и праведно есть…», когда священник начинает великую Евхаристическую молитву словами всеобщего и всеобъемлющего благодарения: «Достойно и праведно Тя пети. Тя благословити, Тя хвалити, Тя благодарити, Тебе покл–нятися на всяком тесте владычествия Твоего», — это Евхаристия Христа, и это Христос–Евхаристия, которую мы приносим Богу, потому что только в Нем это действие непорочности и причастия Богу становится нашим. И мы можем соединиться с Ним в Его Евхаристию, принести Его как нашу Евхаристию, потому что в Своей любви к нам Он отождествил Себя с нами, с Церковью. «Ты бо ecu Бог неизречен, недоведом». Бог есть абсолютное существо, и «религия» начинается с того, чтобы безусловно предаться Ему, то есть принять, воспринять Его как Сущего, Единого, от Которого все происходит и Который, однако, остается непостижимым, вне рационального понимания, всецело Другим. Мы можем рациональным путем вывести необходимость существования Бога, мы можем создать философскую идею Бога, но все это еще не «религия». Только когда мы таинственным образом постигаем в глубине своего сознания непонятным, но действительным чувством некую Реальность, Которая наполняет нас страхом, радостью и трепетом, и мы тотчас понимаем это как Священное и имеющее Власть (т. е. совершенное, прекрасное и доброе), не понимая и не определяя, что это, только тогда начинается наше «религиозное сознание». Это главное в религиозном опыте, это источник и основание веры, которую мы исповедуем в начале Евхаристической молитвы — «Яко Ты ecu Бог».
«Ты от небытия в бытие нас привел ecu»… Следующий непосредственный религиозный опыт: мы сотворены, мы чувствуем и ощущаем свою полную зависимость от Бога! Творение не только Божественный акт в прошлом, но догмат, которому мы должны верить. Наша постоянная связь с Богом — это тоже состояние. Быть сотворенным значит, что мы получает наше бытие от Бога каждое мгновение всей нашей жизни. Бог Сущий, но мы сотворены «из ничего», мы не имеем иного права на существование, кроме свободной воли Божьей и Его Любви. Потому творение — вторая причина нашего благодарения. Мы благодарим Его за Его любовь, которая нас создала, дала нам жизнь, сделала нас способными наслаждаться ею. Одной фразой мы охватываем целую жизнь, со всеми ее бесконечными возможностями, мы смотрим на мир глазами Адама — созданного из земли и поставленного в Рай Царем Творения. Одной фразой вся тварь благодарит Единого, Который пожелал, чтобы она существовала.
«И отпадшия возставил ecu паки!»… Трагедия человека, сказавшего «нет» своему Создателю, скорбь греха, отвергнутой любви, мрака, страдания и ненависти, наполняющие удивительное творение Божие, оскорбление Жизни Подателя — это все заключено в слове отпадшие… Мы отпали от Бога и посему — от истинной жизни, от радости и общения — в ад смерти, извращения, разлуки, в войну всех против всех. Но Бог поднял нас вновь и восстановил нас. И это единое слово охватывает всю историю спасения, медленного, терпеливого действия Божественной Любви, готовящей возвращение блудного сына к его отцу. Избрание Авраама, обещание спасения, египетское рабство, исход, завет, закон, пророки, болезненное и бесконечное просветление сознания и его воспитание приготовляют к последнему Событию — вторжению в историю Царствия Божия в Лице Христа, Сына Божия, Который «нас ради и нашего ради спасения» становится Сыном Человеческим, восстановлению человека в его первоначальной красоте и свободе, победе над грехом и смертью и прощению.
«И не отступил ecu, вся творя, дондеже нас на Небо возвел ecu и Царство Твое даровал ecu будущее»… Это восстановление больше, чем прощение. Христос, Новый Адам, не только восстановил в нас первого Адама, но соединил нашу человеческую природу со Своей Божественной и, преобразив и прославив ее, вознес ее на Небо. И в день Пятидесятницы Он даровал людям новую жизнь Царства Божьего, то есть познание Бога, общение с Богом, участие в новом эоне. То, что для этого мира является только еще будущим, грядущим Царствием, дано Церкви как самая сущность ее жизни: *****, присутствие Бога.
«О сих всех благодарим Тя… о всех, ихже вемы и ихже не вемы, явленных и неявленных благодеяниях, бывших на нас. Благодарит Тя и о службе сей, юже от рук наших прияти изволил ecu…» Другими словами, мы благодарим Бога за все, за всю жизнь, которую мы теперь понимаем как милость: дар любви, дар Спасения. Особенно благодарим за эту литургию, благодаря которой все это — Царство, Вознесение, Причастие — снова и снова осуществляются и даются нам.
«Аще и предстоят Тебе тысящи Архангелов и тьмы Ангелов… победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще: Свят, Свят, Свят…» Это гимн, который ангелы вечно воспевают перед престолом Бога (Ис. 6, 3). Это пение во время Евхаристической молитвы означает небесный характер Евхаристии и то, что Церковь вознеслась со Христом и приносит Его Евхаристию в вечности Его Царствия. Мы поем ангельскую песнь, потому что мы стоим с ангелами, а ангелы знаменуют небо, присутствие Бога и Его неизреченной славы. Теперь служба достигла своей предельно высокой точки: всеобщего Вознесения, полноты принятия Церкви в небесное Святилище. Путь приношения и поклонения совершен.
Евхаристия Христа привела нас на небо, так как мы следовали за Ним в Его совершенной любви, в Его хождении к Своему Отцу. Но теперь, когда мы стоим в радостном присутствии Бога, мы ничего не можем Ему принести — только Христа, Приношение всех приношений и Евхаристию всех благодарений. Он дал нам возможность вновь получить Евхаристию как самое важное в наших отношениях с Богом и наполнил ее совершенным содержанием — Самим Собой, Совершенным Богочеловеком, Совершенной и Абсолютной Жертвой. Евхаристия Христа таким образом исполняется во Христе как Евхаристия. Он — Тот, Кто приносит и Кого приносят… Евхаристическая молитва после торжественного воспевания «Свят, Свят, Свят» становится теперь воспоминанием о Христе, о Его пришествии (Иже пришед…) и исполнении в Нем всего назначения Спасения (…и все еже о нас смотрение исполнив…). Его Жизнь, Его Смерть, Его Воскресение — один жертвенный путь любви, посвящения Себя Отцу и людям, и в этом неисчерпаемое содержание нашего воспоминания. Все это — наша Евхаристия, которую мы являем Богу, вспоминаем перед Ним.
Далее мы подходим к последней ночи, к последней вечери Христа «с теми, кого Он возлюбил до конца». В ту ночь, когда
Он был предан или, вернее,
предал Себя для жизни мира [50]. Он установил акт, обряд, знамение, в котором Его единственная и всеобъемлющая Евхаристия — Его Собственная совершенная жизнь, Его совершенная победа — будет вечно дана нам, станет нашей, как наша жизнь в Нем. На торжественной пасхальной вечери, которая по ветхозаветной традиции уже была
поминовением — Божественного Агнца, символа чистой, невинной жертвы, Он взял хлеб и дал Своим ученикам со словами:
«Сие есть Тело Мое», и чашу:
«Пейте от нея вcu, сия есть Кровь Моя…», и наконец:
«Сие творите в Мое воспоминание». И это означает: «То, что Я совершил Один, теперь отдаю вам — совершенную Евхаристию Моей жизни, Мою человеческую природу, обоженную до конца. Пища, которую мы сейчас вместе вкушаем в единении любви, пусть станет вашей частью в Моем Теле и в Моей Крови, в Моей Жертве, в Моей Победе» … Пища всегда дар, потому что это дар жизни, а любая жизнь от Бога. Пища всегда особенно сакраментальна, так как нашим причастием ей она превращается в наше тело и кровь, в жизнь. Теперь, когда это Таинство исполнено, оно приобретает новый, высший смысл. Оно становится даром Новой Жизни, той жизни, которой Христос
достиг лично и которую, в Своей любви к нам, Он дает нам. Не может быть жизни без пищи, и не может быть
новой жизни без
новой пищи, и эта
новая жизнь — жизнь Христа — и есть Сам Христос, Который становится Даром — даром пищи. «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе Жизни» (Ин. 6, 53).
До сих пор движение Евхаристии было направлено от нас к Богу. Это было движение нашего жертвоприношения. В материи хлеба и вина мы приносили себя Богу, жертвуя свою жизнь Ему. Но с самого начала это приношение было Евхаристией Христа, Иерея и Главы нового человечества, таким образом Христос является нашим приношением. Хлеб и вино — символы нашей жизни и, следовательно, нашего духовного жертвоприношения самих себя Богу — были также символами Его Приношения, Его Евхаристии Богу. Мы соединились со Христом в Его единственном Вознесении на Небо, мы были причастниками Его Евхаристии, будучи Его Церковью, Его Телом и Его народом. Теперь благодаря Ему и в Нем наше приношение принято. Того, Кого мы принесли в жертву — Христа, мы теперь получаем: Христа. Мы отдали свою жизнь Ему и теперь получаем Его жизнь как дар. Мы себя соединили со Христом, а теперь Он соединяет Себя с нами. Евхаристия теперь движется в новом направлении: теперь знак нашей любви к Богу становится реальностью Его любви к нам. Бог во Христе отдает Себя нам, делая нас участниками Его Царствия.
Освящение
Знаком этого принятия и совершения является освящение. Путь Евхаристического восхождения заканчивается возношением Св. Даров священником: «Твоя от Твоих Тебя приносяще…», и молитвой эпиклезиса (Призывания Святого Духа), в которой мы молим Бога ниспослать Духа Своего Святого и сотворить «хлеб сей честным Телом Христа Твоего» и вино в Чаше «честною Кровью Христа Твоего», пресуществляя их: «Преложив Духом Твоим Святым».
Дух Святой исполняет действие Божие, вернее, Он воплощает это Действие. Он –Любовь, Жизнь, Полнота. Его сошествие в Пятидесятницу означает исполнение, окончание и достижение всей истории Спасения, ее совершение. В Его пришествии спасительное дело Христа сообщается нам как Божественный Дар. Пятидесятница — начало в этом мире Царствия Божия, нового века. Церковь живет Духом Святым, в ее жизни все достигается даром Духа Святого, который исходит от Бога, пребывает в Сыне, от которого мы получаем откровение о Сыне как о нашем Спасителе и об Отце как о нашем Отце. Его совершительное действие в Евхаристии, в пресуществлении нашей Евхаристии в Дар Христа нам (отсюда в Православии особое отношение к эпиклезе, к призыванию Святого Духа) означает, что Евхаристия принята в Царствии Божием, в новом веке Духа Святого.
Пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы происходит на небесном Престоле в Царстве Божьем, которое вые времени и «законов» мира сего. Само пресуществление — плод Вознесения Христова и участия Церкви в Его Вознесении, в Его новой жизни. Все попытки «объяснить», что происходит в Евхаристии, в терминах материи и «превращений» (западная доктрина транссубстанции–преложения, к сожалению, иногда выдаваемая за православную) или в категориях времени («точный момент пресуществления») не достаточны, тщетны именно потому, что они применяют к Евхаристии категории «мира сего», между тем как самая сущность Евхаристии вне этих категорий, но вводит нас в измерения и понятия нового века. Пресуществление происходит не по некоей чудотворной власти, оставленной Христом некоторым людям (священникам), которые поэтому могут совершать чудо, а потому что мы, Церковь, находимся во Христе, т. е. в Его Жертве Любви, Вознесении на всем Его пути к обожествлению и пресуществлению Своей Человечности Своей Божественной природой. Другими словами, потому что мы — в Его Евхаристии и приносим Его как нашу Евхаристию Богу. И когда мы так поступаем, как Он нам повелел, мы, Церковь, приняты там, куда Он вошел. И когда мы приняты, «да ядите и пиете за трапезою в Царстве Моем» (Лк. 22, 30). Так как Царство Небесное — Он Сам, Божественная Жизнь, дарованная нам за этой небесной трапезой, мы принимаем Его как новую пищу нашей новой жизни. Поэтому тайна Евхаристического пресуществления — это тайна самой Церкви, принадлежащей новой жизни и новому веку в Духе Святом. Для мира сего, для которого Царство Божие еще должно прийти, для его «объективных категорий» хлеб остается хлебом, и вино — вином. Но в чудесной, преображенной реальности Царства — открытой и явленной в Церкви — они поистине и абсолютно истинное Тело, и истинная Кровь Христовы.
Ходатайственные молитвы
Теперь мы стоим перед Дарами в совершенной радости Божьего присутствия и готовимся к последнему действию Божественной Литургии — принятию Даров в причастии. Тем не менее, остается последнее и необходимое — ходатайство. Христос вечно ходатайствует за весь мир. Он Сам Заступничество и Ходатайство. Причащаясь Ему, мы, следовательно, тоже полны той же любовью и как Его Церковь принимаем Его служение — ходатайство. Оно обнимает все творение. Стоя перед Агнцем Божьим, Который берет на Себя грехи всего мира, мы прежде всего вспоминаем Матерь Божью, св. Иоанна Крестителя, апостолов, мучеников и святых — бесчисленных свидетелей новой жизни во Христе. Мы ходатайствуем за них не потому, что они в этом нуждаются, но потому, что Христос, Которому мы молимся, — их Жизнь, их Священник и их Слава. Церковь не разделена на земную и небесную, она одно Тело, и все, что она делает, она делает от имени всей Церкви и для всей Церкви. Так что молитва — не только акт искупления, но и прославления Бога, «Дивного во Святых Своих», и общения со святыми. Мы начинаем свою молитву поминанием Божьей Матери и святых, потому что присутствие Христа — также их присутствие, и Евхаристия — высшее откровение об общении со святыми, о единстве и взаимной зависимости всех членов Тела Христова.
Затем мы молимся об усопших членах Церкви, «о всякой праведной душе, скончавшейся в вере»
[51]. Как далеки от истинного православного духа те, кто считает необходимым как можно чаще служить «частные заупокойные литургии» об упокоении отдельных лиц, как будто может быть что–нибудь частное во всеобъемлющей Евхаристии! Пора нам отдать себе отчет, что молитва за умерших должна быть включенной в Евхаристию Церкви, а не наоборот: в подчинении Евхаристии личным потребностям отдельных людей. Мы хотим свою литургию для своих нужд… Какое глубокое и трагическое непонимание литургии, а также настоящих нужд тех, за кого хотим молиться! Ему или ей в их
нынешнем состоянии смерти, разлуки и грусти особенно нужно вновь и вновь быть принятыми в ту единственную Евхаристию Церкви, в единение любви, которое и есть основа их участия, их принадлежности к истинной жизни Церкви. И это достижимо в Евхаристии, которая являет. Церковь в новом веке, в новой жизни. Евхаристия переходит безнадежную грань между живыми и мертвыми, потому что она выше грани между настоящим веком и веком грядущим. Ибо все «умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» (Кол. 3, 3); с другой стороны, мы все
живем, потому что жизнь Христа нам дарована в Церкви. Усопшие члены Церкви — не только «объекты» наших молитв, но по своей принадлежности к Церкви они живут в Евхаристии, они молятся, они участвуют в литургии. Наконец, никто не может «заказать» (или купить!) Литургию, так как Единый, Кто повелевает — Христос, и он
приказал Церкви приносить Евхаристию как приношение Всего Тела и всегда
«за всех и за вся». Итак, хотя мы и нуждаемся в литургии для поминовения «всех и вся», но единственная действительная цель ее — объединение «всех и вся» в любви Божией.
«О Святей, Соборней и Апостольстей Церкви… о Богохранимой стране нашей, властех и воинстве ея…»: за всех людей, о всех нуждах и обстояниях. Прочтите в литургии св. Василия Великого просительную молитву, и вы поймете значение ходатайства: дар Божественной любви, которая дает нам понять, хотя бы на несколько минут, молитву Христову, любовь Христову. Мы понимаем, что настоящий грех и корень всякого греха — в эгоизме, и литургия, захватывая нас в своем движении жертвенной любви, открывает нам, что истинная религия кроме всего дает эту новую удивительную возможность заступаться и молиться за других, за всех. В этом смысле Евхаристия поистине жертва, приносимая за всех и за вся, и молитва заступления — ее логическое и необходимое заключение.
«Во первых потяни, Господи, великого Господина… право правящих Слово Твоея истины».
«Церковь в епископе и епископ в Церкви», по слову св. Киприана Карфагенского, и когда мы молимся за епископа о действительном благосостоянии Церкви, о ее стоянии в божественной истине, о том, чтобы Церковь была бы Церковью присутствия Божия, Его исцеляющей Силы, Его Любви, Его Правды. И не была бы, как это часто бывает, эгоистической, эгоцентричной общиной, защищающей свои человеческие интересы вместо божественного назначения, для которого она существует. Церковь так легко становится учреждением, бюрократией, фондом для сбора денег, национальностью, общественным объединением, и это все искушения, уклонения, извращения той Истины, которая одна должна быть критерием, мерой, авторитетом для Церкви. Как часто люди, «алчущие и жаждущие правды», не видят Христа в Церкви, а видят в ней только человеческую гордыню, заносчивость, самолюбие и «духа мира сего». Все это Евхаристия судит и осуждает. Мы не можем быть причастниками трапезы Господней, мы не можем предстоять пред Престолом Его присутствия, приносить Богу в жертву нашу жизнь, похвалу и поклонение, мы не можем быть Церковью, если мы не осудили в себе духа «князя мира сего». Иначе то, что мы принимаем, послужит не к нашему спасению, но к осуждению. В христианстве нет волшебства, и спасает не принадлежность к Церкви, но принятие Духа Христова, и этот Дух осудит не только отдельных лиц, но собрания, приходы, епархии. Приход как человеческое учреждение легко может заместить Христа чем–нибудь другим — духом мирского успеха, человеческой гордостью и «достижениями» человеческого разума. Искушение всегда рядом; оно искушает. И тогда тот, чей священный долг всегда проповедовать Слово Истины, обязан напомнить приходу об искушениях, должен осудить во имя Христа все, что не совместимо с Духом Христовым. Именно о даровании духовенству смелости, мудрости, любви и верности мы молимся в этой молитве.
«И даждь нам едиными усты и единем сердцем славити и воспевати пречестное и великолепное Имя Твое…» Единые уста, единое сердце, одно искупленное человечество, восстановленное в любви и познании Бога, — такова конечная цель литургии, плод Евхаристии: «И да будут милости Великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами…» Этим заканчивается «второе движение», когда Бог отдает Себя нам в Своем непостижимом милосердии. Евхаристическая молитва закончена, и мы подходим теперь к исполнению всего, что Евхаристия явила нам, к Причащению, то есть к нашему причастию в реальности.
Причащение
Собственно, причащение включает (1) приготовительную, тайную молитву, (2) молитву Господню, (3) возношение Св. Даров, (4) раздробление Св. Хлеба, (5) вливание «теплоты» (т. е. горячей воды) в Чашу, (6) причащение духовенства, (7) причащение мирян.
(1) Приготовительная тайная молитва: «Тебе предлагаем живот наш весь и надежду». В обеих литургиях — св. Иоанна Златоуста и св. Василия Великого — эта молитва подчеркивает, что причастие Тела и Крови Христовых — цель нашей жизни и надежда; с другой стороны, в ней выражается страх, что мы можем причаститься недостойно, причастие будет нам «во осуждение». Мы молимся о том, чтобы причастием «имамы Христа живуща в сердцах наших и будем Храм Святаго Твоего Духа». Эта молитва выражает главную мысль всей литургии, вновь ставит нас перед значением этого Таинства, на этот раз обращая особое внимание на личный характер восприятия Тайны, на ответственность, которую она накладывает на причащающихся ей.
Нам как Церкви Божией было дано и велено «творить» все это, совершать таинство Христова Присутствия и Царства Божьего. Хотя как люди, образующие Церковь, как личности и как человеческая община мы — грешные, земные, ограниченные, недостойные люди. Мы знали это до Евхаристии (см. молитвы синаксиса и молитвы верных), и мы вспоминаем это теперь, когда стоим перед Агнцем Божиим, Который берет на Себя грехи мира. Более чем когда–либо мы сознаем необходимость нашего искупления, исцеления, очищения, будучи во славе Христова присутствия.
Церковь всегда подчеркивала важность личного приготовления к причастию (см. молитвы перед причастием), так как каждому причастнику необходимо увидеть и оценить себя, всю свою жизнь, подходя к Таинству. Этим приготовлением не следует пренебрегать; об этом нам напоминает молитва перед причастием: «да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Тайн, но во исцеление души и тела».
(2) Молитва Господня «Отче наш» является приготовлением к Причастию в самом глубоком смысле этого слова. Какие бы человеческие усилия мы ни делали, какова бы ни была степень нашей личной подготовленности и очищения, ничто, абсолютно ничто не может нас сделать достойными Причастия, т. е. действительно готовыми к приятию Св. Даров. Тот, кто подходит к Причастию с сознанием своей правоты, не понимает духа литургии и всей церковной жизни. Никто не может уничтожить пропасть между Творцом и творением, между абсолютным совершенством Бога и тварной жизнью человека, ничто и никто, кроме Того, Кто, будучи Богом, стал Человеком и в Самом Себе соединил две природы. Молитва, которую Он дал Своим ученикам, — одновременно выражение и плод этого единственного и спасительного действия Христа. Это Его молитва, ибо Он — Единородный Сын Отца. И Он дал нам ее, потому что Он Себя Самого отдал нам. И в Нет Его Отец стал нашит Отцом, и мы можем обращаться к Нему словами Его Сына. Поэтому мы молимся: «И сподоби нас, Владыко, со дерзновением не осужденно сме–ти призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца и гла–голати…». Молитва Господня — молитва Церкви и народа Божьего, Им искупленного. В ранней Церкви она никогда не сообщалась некрещенным, и даже текст ее сохранялся в тайне. Эта молитва — дар новой молитвы во Христе, выражение наших собственных отношений с Богом. Этот дар — наша единственная дверь к Причастию, единственная основа для нашего участия в святом и поэтому наше главное приготовление к Причастию. В той мере, в какой мы восприняли эту молитву, сделали ее своей, мы готовы к Причащению. Это мера нашего единения со Христом, нашего бытия в Нем.
«Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя…» Осмыслить все, что утверждается в этих торжественных словах, осознать абсолютную сосредоточенность всей нашей жизни в Боге, высказанную в них, принять волю Христа как свою — такова цель нашей жизни во Христе и жизни Христа в нас, условие нашего участия в Его Чаше. Личная подготовка ведет нас к пониманию этого последнего приготовления, и молитва Господня является завершением Евхаристической молитвы, преображая нас в причастников Насущного хлеба.
(3) «Мир всем», — говорит священнослужитель и затем: «Главы ваша Господеви преклоните». Причастие, как и вся жизнь Церкви, — плод мира, достигнутого Христом. Преклонение главы — самый простой, хотя и значительный акт поклонения, выражение самого послушания. Мы причащаемся в послушании и по послушанию. Мы не имеем права на Причастие. Оно превышает все наши желания и возможности. Это свободный дар Бога, и мы должны получить повеление принять его. Очень распространено ложное благочестие, из–за которого люди отказываются от Причастия по причине своего недостоинства. Встречаются священники, которые открыто учат, что миряне не должны «слишком часто» причащаться, минимум «раз в год». Это даже иногда считается православной традицией. Но это ложное благочестие и ложное смирение. В действительности это — человеческая гордыня. Ибо когда человек решает, как часто он должен причащаться Тела и Крови Христовых, он ставит себя как бы мерой и Божественных Даров, и своего достоинства. Это лукавое толкование слов апостола Павла: «Да испытывает же себя человек» (1 Кор. 11, 28). Апостол Павел не сказал: «Да испытывает себя, и если он недоволен собой, пусть воздержится от Причастия». Он имел в виду как раз обратное: Причастие стало нашей пищей, и мы должны жить достойно его, чтобы оно не стало нам в осуждение. Но мы не свободны от этого осуждения, поэтому единственный правильный, традиционный и действительно православный подход к Причастию — это послушание, и это так хорошо и просто выражено в наших приготовительных молитвах: «несть достоин, Владыко Господи, да внидеши под кров души моея, но понеже хощеши Ты, яко Человеколюбец жити во мне, дерзая, приступаю: Ты повелеваеши…». Здесь послушание Богу в Церкви, а Церковь повелевает совершать Евхаристию, и будет большим шагом вперед в нашем понимании Церкви, когда мы поймем, что «евхаристический индивидуализм», который превратил девяносто процентов наших литургий в Евхаристию без причащающихся, — результат извращенного благочестия и ложного смирения.
Когда мы стоим с преклоненными головами, священник читает молитву, в которой он просит Бога даровать плоды Причастия каждому по его нужде (в литургии св. Иоанна Златоуста). «Преклоньшия Тебе своя главы благослови, освяти, соблюди, утверди» (литургия св. Василия Великого) . Каждое причащение — и конец нашего движения к Богу, и начало нашей обновленной жизни, начало нового пути во времени, в котором мы нуждаемся в Христовом присутствии для руководства и освящения этого пути. В другой молитве он просит Христа: «Вонми, Господи Иисусе Христе. .. зде нам невидимо пребываяй. И сподоби державною Твоею рукою преподати нам Пречистое Тело Твое и честную Кровь, и нами — всем людем…». Священник берет в свои руки Божественный хлеб и, поднимая Его, говорит: «Святая Святым». Этот древний обряд — первоначальная форма призыва к Причастию, она точно и кратко выражает антиномию, сверхъестественную природу Причастия. Она запрещает всякому, кто не свят, приобщаться Божественной Святости. Но никто не свят, кроме Святого, и хор отвечает: «Един Свят, Един Господь, Иисус Христос». И все же приидите и приимите, потому что Он нас освятил Своей святостью, сделал нас Своим святым народом. Снова и снова тайна Евхаристии открывается как тайна Церкви — тайна Тела Христова, в Котором мы вечно становимся тем, чем призваны быть.
(4) В первые века Церковь называла всю Евхаристическую службу «преломлением хлеба», потому что этот обряд был центральным в литургической службе. Значение понятно: один и тот же хлеб, который дается многим, — это Единый Христос, ставший жизнью многих, соединяя их в Себе Самом. «Нас же всех, от единаго Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единаго Духа Святаго причастие» (литургия св. Василия Великого, молитва по пресуществлении Св. Даров). Затем священник, преломляя хлеб, говорит: «Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда ядомый и никогда же иждиваемый, но причащающиеся освящаяй». Это единственный источник жизни, который всех приводит к ней и возвещает единство всех людей с одним Главой — Христом.
(5) Взяв одну частицу Св. Хлеба, священник опускает Ее в Св. Чашу, что означает наше причастие Тела и Крови Воскресшего Христа, и вливает в Чашу «теплоту», т. е. горячую воду. Этот обряд византийской литургии является тем же символом жизни.
(6) Теперь все готово для последнего акта Евхаристии — Причащения. Подчеркнем снова, что в ранней Церкви этот акт поистине был совершением всей службы, запечатлением Евхаристии, нашим приношением, жертвою и благо дарением через участие в ней общины. Поэтому только отлученные не причащались и должны были оставлять Евхаристическое собрание вместе с оглашенными. Святые Дары получала вся Церковь, Они преображали ее в Тело Христово. Мы здесь не можем входить в объяснение того, почему и когда общецерковное литургическое понимание Причастия было заменено индивидуалистическим пониманием, как и когда община верующих стала «непричащающейся» общиной и почему идея участия, центральная в учении отцов Церкви, была заменена идеей присутствия. Это потребовало бы отдельного исследования. Но одно ясно: где бы и когда бы ни возникало духовное возрождение, оно всегда рождалось и вело к «жажде и голоду» реального участия в Таинстве Христова Присутствия. Мы можем только молиться о том, чтобы в теперешнем кризисе, глубоко поразившем и Церковь, и мир, православные христиане увидели в этом истинный центр всей христианской жизни, источник и условие возрождения Церкви.
«Во оставление грехов и в жизнь вечную…», — говорит священник, преподавая Дары себе и верующим. Здесь мы находим два главных аспекта, два действия этого Причастия: прощение, принятие вновь в общение с Богом, допущение падшего человека в Божественную любовь — и затем дар вечной жизни, царствия, полноты «нового века». Эти две основные нужды человека исполнены без меры, удовлетворены Богом. Христос вводит мою жизнь в Свою и Свою жизнь в мою, наполняя меня Своей любовью к Отцу и ко всем Своим братьям.
В этом кратком очерке невозможно даже суммировать то, что говорили отцы Церкви и святые про свой опыт Причастия, даже упомянуть все чудесные плоды этого причастия Христу. По крайней мере, укажем на наиболее важные направления размышлений о причастии и усилий следовать учению Церкви. Причастие дается, во–первых, во оставление грехов, и поэтому оно таинство примирения, осуществленного Христом Своей Жертвой и навеки дарованного верующим в Него. Таким образом, Причастие является основной пищей христианина, укрепляющей его духовную жизнь, исцеляющей его болезни, утверждающей веру, делающей его способным вести истинную христианскую жизнь в этом мире. Наконец, Причастие — «знак жизни вечной», ожидание радости, мира и полноты Царствия, предвкушение его Света. Причастие одновременно и соучастие в страданиях Христа, выражение нашей готовности воспринять Его «путь жизни», и участие в Его победе и торжестве. Оно — жертвенная трапеза и радостный пир. Его Тело сломано, и Кровь пролита, и причащаясь Ими, мы принимаем Его Крест. Но «Крестом радость вошла в мир», и эта радость — наша, когда мы за Его трапезой. Причастие дается мне лично для того, чтобы сделать меня «членом Христа», чтобы соединить меня со всеми, кто принимает Его, чтобы раскрыть мне Церковь как единение любви. Оно соединяет меня со Христом, и через Него я в общении со всей Церковью. Это таинство прощения, единения и любви, таинство Царства.
Сначала причащается духовенство, потом миряне. В современной практике духовенство–епископы, священники и диаконы — причащаются в алтаре отдельно Тела и Крови. Миряне получают Св. Дары у царских врат из лжицы после того, как священник вложил Частицы Агнца в Чашу. Священник призывает верующих, говоря: «Со страхом Божиим и верою приступите», и причастники подходят к Божественной трапезе один за другим, скрестив руки на груди. И вновь шествие — ответ на Божественное веление и приглашение.
После Причастия начинается последняя часть литургии, значение которой можно определить как возвращение Церкви с небес на землю, из Царства Божьего во время, пространство и историю. Но возвращаемся мы совершенно иными, чем были, когда начинали путь к Евхаристии. Мы изменились: «Видехом Свет истинный, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную…». Это песнопение мы поем после того, как священник поставит Чашу на Престол и благословит нас: «Спаси люди Твоя и благослови достояние Твое». Мы пришли в Церковь как его народ, но мы были раненые, усталые, земные, грешные. За прошедшую неделю мы испытали тяготы искушения, мы узнали, как мы слабы, как безнадежно привязаны к жизни «мира сего». Но мы пришли с любовью, и надеждой, и верой в милосердие Божье. Мы пришли жаждущие и голодные, бедные и несчастные, и Христос принял нас, принял приношение нашей несчастной жизни и ввел нас в Свою Божественную Славу и сделал нас участниками Своей Божественной Жизни. «Видехом Свет истинный…» На время мы отложили «всякое житейское попечение» и дали Христу ввести нас в Его Вознесении к Своему Царству в Своей Евхаристии. От нас ничего не требовалось, кроме желания присоединиться к Нему в Его Вознесении и смиренного принятия Его искупающей любви. И Он ободрил и утешил нас, Он сделал нас свидетелями того, что Он приготовил для нас, Он изменил наше зрение, так что мы увидели небо и землю, полными Его Славы. Он насытил нас пищей бессмертия, мы были на вечном пиру Его Царствия, мы вкусили радости и покоя в Духе Святом: «Мы приняли Духа Небесного…». А теперь время возвращается. Время мира сего еще не окончилось. Час нашего перехода к Отцу всей жизни еще не настал. И Христос посылает нас обратно как свидетелей того, что мы видели, чтобы возвещать Его Царство и продолжать Его дело. Мы не должны бояться: мы — Его народ и Его наследие; Он в нас и мы в Нем. Мы вернемся в мир, зная, что Он рядом.
Священник поднимает Чашу и возглашает: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков». Он благословляет нас Чашей, знаменуя и уверяя в том, что воскресший Господь с нами ныне, всегда и навечно.
«Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи», — отвечает Церковь, — «соблюди нас во Твоей Святыне». Сохрани нас в грядущие дни в этом чудесном состоянии святости и освящения. Теперь, когда мы возвращаемся в ежедневную жизнь, даруй нам силу изменить ее.
Следует короткая ектенья и молитва благодарности за полученные Дары: «Исправи наш путь, утверди во страхе Твоем вся, соблюди наш живот, утверди наша стопы…». Возвращение совершилось, когда священник выходит из алтаря со словами: «С миром изыдем!», присоединяется к молящимся и читает заамвонную молитву. Как в начале литургии вход священника в алтарь и восхождение к Святому Престолу (горнему месту) выражали евхаристическое движение вверх, так и теперь возвращение к верующим выражает уход, возвращение Церкви в мир. Это также означает, что евхаристическое движение священника окончено. Исполняя Священство Христово, священник вел нас к небесному Престолу, и с этого Престола он сделал нас причастниками Царствия. Он должен был исполнить и осуществить вечное посредничество Христа.
Благодаря Его человечеству мы поднимаемся до небес, а по Божеству Его Бог приходит к нам. Теперь все это совершено. Приняв Тело и Кровь Христовы, увидев Свет Истины и став причастниками Святого Духа, мы действительно Его люди и Его достояние. Священнику у Престола больше нечего делать, потому что Церковь сама стала Престолом Бога и Ковчегом Его Славы. Поэтому священник присоединяется к народу и ведет его как пастырь и учитель обратно в мир для исполнения христианской миссии.
Когда мы готовы с миром изыти, то есть во Христе и со Христом, мы просим в последней молитве о том, чтобы сохранилась полнота Церкви, чтобы Евхаристия, принесенная нами и которой мы причащались и которая снова явила полноту Христова присутствия и жизни в Церкви, была соблюдена и сохранена неповрежденной до тех пор, пока мы вместе вновь не придем как Церковь и в послушании Господу Церкви вновь не начнем восхождения в Его Царство, которое достигнет Своего свершения в Пришествии Христа во Славе.
Нет лучшего заключения для этого краткого изучения Божественной литургии, чем молитва св. Василия Великого, читаемая священником при потреблении Св. Даров: «Исполнися и совершися, елико по нашей силе, Христе, Боже наш, Твоего смотрения таинство; имеет бо смерти Твоея память, видехом Воскресения Твоего образ, наполнихомся безконечныя Твоея пищи, еяже и в будущем веце сподобитися благоволи, благодатию безначального Твоего Отца, и Святаго, и Благаго, и Животворящего Твоего Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».
И когда мы выходим из церкви и вновь вступаем в нашу повседневную жизнь, Евхаристия остается с нами как наша тайная радость и уверенность, источник вдохновения и возрастания, победы, преодолевающей зло, Присутствие, которое делает всю нашу жизнь жизнью во Христе.
Православный мир: прошлое и настоящее
1
НЕСМОТРЯ на экуменические контакты христианского Востока и христианского Запада, насчитывающие уже более полувека, несмотря на официально признанный их «диалог», я склонен думать, что западным христианам по–прежнему очень трудно понять Православие — не столько догматические определения и учение Восточной Церкви, сколько то основное миропонимание и тот опыт, что стоят за ними, образуя их живой, «экзистенциальный» контекст. То же самое, безусловно, можно сказать и об отношении православных христиан к западному опыту, но с одной существенной оговоркой. В то время как «Запад» — если понимать под этим термином некие интеллектуальные категории, определенный этнический и культурный склад — так или иначе стал универсальным понятием, опыт христианского «Востока» отнюдь не является бесспорным достоянием западной цивилизации и до сих пор остается в глазах западного человека чем–то чуждым и весьма экзотическим. Эта неспособность Запада постичь что бы то ни было «православное», не сводя его к своим, т. е. западным, категориям, не выражая его в своих понятиях и (что бывает всего чаще) не искажая его внутреннего смысла, является для нас, православных христиан, одним из самых болезненных аспектов экуменических встреч.
Я начал с этого печального наблюдения не только потому, что искренность и открытость являются непременным условием всякого настоящего экуменического диалога, но и в силу того, что это главное наше затруднение нигде не выступает так отчетливо, как при обсуждении самых жгучих проблем взаимоотношений Церкви и мира, Церкви и государства, Церкви и общества. Ведь и среди православных многие усвоили типично западную дихотомию «веры и благочестия» и «практической жизни и деятельности» — в наивном убеждении, что все спорные моменты экуменизма лежат в догматической плоскости, тогда как область «жизни» или «практического» христианства не сулит ему никаких затруднений. Уверенный в глубокой ошибочности и поверхностности этого взгляда, я тем не менее хорошо понимаю, как трудно объяснить, почему недавние заявления по этим вопросам и Второго Ватиканского Собора, и ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Упсале, и богословов «секулярного христианства», несмотря на всю их несхожесть и некоторые вполне приемлемые для нас суждения, в целом принадлежат ориентации, которая глубоко чужда православному сознанию и едва ли имеет что–нибудь общее с православным опытом.
Наше затруднение усугубляется еще одним обстоятельством, в котором западный христианин склонен видеть дополнительный признак несостоятельности Православия. Он может спросить, и, пожалуй, не без оснований: «А следует ли считать случайностью, что 90% православных христиан в настоящее время живут в тоталитарных и непримиримо атеистических обществах? Не проявляется ли здесь некая ущербность православного мироотношения? И можно ли в таком случае говорить о каком бы то ни было вкладе Православия в напряженные поиски новых (или обновленных) форм христианского действия и вовлеченности в мир?»
Объяснить православный опыт, равно как и дать ответ на все эти вопросы, нелегко. И все же такой ответ необходим — и не ради «апологии» Православия, а потому, что в нем может раскрыться иная перспектива, иной ряд ценностей, которые, надо думать, все еще имеют некоторое касательство к проблемам, волнующим всех современных христиан. Именно сейчас, когда кризис всех христианских «устоев» достиг небывалого масштаба, а преодоление его требует поистине титанических усилий, в том числе переосмысления и переоценки многих, вчера еще бесспорных, суждений, православное видение мира и государства (равно как и восприятие их Православной Церковью) могло бы оказаться плодотворным.
ВСЕ ИСТОРИКИ, вероятно, согласятся с тем, что долгая и чаще трагическая, чем идиллическая, история взаимоотношений Церкви и государства имела три основных этапа: открытый и острый конфликт вначале, затем примирение, переросшее в органический союз Церкви и христианского государства, и, наконец, — уже в нашу, «послехристианскую» эпоху — разрыв, который привел либо к более или менее мирному и легальному взаиморазмежеванию, либо к новой серии кофликтов. И хотя эти этапы в основных чертах оказались общими и для Востока и для Запада, их оценки здесь и там, равно как и испробованные (и в прошлом, и в настоящем) пути, без сомнения, глубоко различны. Вот почему нашей первой задачей будет краткая характеристика восточного опыта — в той мере, в какой он отличен от западного.
О конфликте ранней Церкви и Римской империи написано столько, что вряд ли есть нужда в подробном пересказе событий. И все же один аспект этой темы, связанный не с фактами, а с их интерпретацией, настоятельно требует нашего внимания, ибо от него в конечном счете зависит понимание всей истории и самых основ взаимоотношения Церкви и внешнего мира. «Неприятие» Империи первыми христианами нередко связывалось с их эсхатологическим мировоззрением, с ожиданием близкого пришествия. Согласно этому мнению, именно православная эсхатология сформировала мироотрицающий облик Церкви, удерживая ее от всякого участия и активного действия в мире. И наоборот, последующее примирение с миром, государством, обществом и культурой и новое позитивное отношение к ним безоговорочно приписываются радикальному перевороту, настоящему резкому изменению в христианском мировоззрении, постепенному его освобождению от эсхатологической одержимости ранней эпохи.
На мой взгляд, это мнение неверно по двум причинам. Неверно, во–первых, отождествление раннехристианской эсхатологии с обычным «мироотрицанием» и, во–вторых, утверждение, что эсхатология эта должна быть отброшена (что фактически произошло) или по крайней мере радикально преобразована в «позитивное» христианское отношение к миру и его важнейшим элементам — государству, культуре и т. п. Камень преткновения здесь само понятие эсхатологии — столь же популярное, сколь и превратно толкуемое. На мой взгляд, в современом богословии нет области более запутанной, чем область эсхатологии. Это объясняется — хотя и не оправдывается — тем, что христианское богословие с течением времени утратило свое эсхатологическое измерение. Разумеется, все школьные руководства по богословию всегда включали в себя главу (или на худой конец приложение),которую мы условно назовем «О последних временах» , содержащую всевозможную информацию о конце света и о том, что за ним последует. Чего там нельзя найти — это эсхатологии в качестве особого измерения и, так сказать, коэффициента всего богословствования в целом, который определяет христианскую веру как ее постоянный живой стимул и движущая сила. И вот, когда сперва историки, а затем и богословы заново открыли для себя громадную роль эсхатологии в мировоззрении первых христиан, они либо отбросили ее как всецело «минувшее», как некий преходящий феноменологический признак древней Церкви, не имеющий никакого значения для нашего «научного» богословия, либо принялись перетолковывать и «транспонировать» ее согласно своему пониманию современных «нужд». Отсюда и парадокс нынешней ситуации: все как будто признают громадную важность эсхатологии — и для древности, и для нашего времени, — но никак не могут согласиться относительно того, чем она была для Церкви в прошлом и чем должна быть сегодня.
Ответ на этот ключевой вопрос, даже самый поверхностный, явно выходит за рамки настоящей статьи. Но постольку, поскольку он в огромной степени определяет наш подход к проблеме «Церковь и мир», необходимо хотя бы вкратце определить роль эсхатологии в формировании восточного опыта.
Сразу же замечу, что эсхатология, в свете которой ранняя Церковь рассматривала и оценивала все сущее в мире, — это отнюдь не негативный, а глубоко позитивный опыт, не отрицание мира, а специфический способ его рассмотрения и переживания. Ибо основное ее содержание и область касательства — не мир, а Царство Божие; она не столько «против мира», сколько в «преддверии Царства» — ив этом ее отличие от эсхатологии последующих времен. Царство Божие — возвещенное, пришедшее и дарованное Христом и во Христе, — лежит в основе веры первых христиан, и не только как то, чему еще предстоит быть, но как уже пришедшее, ставшее настоящим и имеющее быть в конце. Оно пришло во Христе, в Его воплощении, смерти, Воскресении, восхождении на небеса и в том, что явилось итогом этих событий, — в сошествии Святого Духа в «последний и великий» день Пятидесятницы. Оно пришло теперь и пребывает в Церкви, в «экклесии» — в собрании тех, кто, умерев во Христе через Крещение, отныне будет «ходить в новой жизни», участвовать в «радости и мире Духа Святого'', возлежать за трапезой Христовой в Его Царстве. И оно же будет в конце, когда Христос, исполнив Свои обетования, «наполнит Собою все».
Итак, опыт Царства Божия, а не просто доктрина о последних временах, — опыт, обоснованный самоисполнением Церкви в Евхаристии, Дне Господнем, на котором зиждется вся вера и жизнь ранней Церкви, опыт, дающий ключ к раннехристианскому восприятию мира и его «компонентов» — времени, природы, общества, государства и пр. — и тем самым объясняющий антиномичность этого восприятия, где решительное да миру сопряжено с не менее решительным нет. В свете Царства мир раскрывается и переживается, с одной стороны, как сущий при конце — и не только потому, что уже явлено и возвещено Царство, которое есть конец всех вещей, но еще и потому, что «мир сей», отвергший и предавший на смерть Христа — Жизнь и Свет всякой жизни, — обрек на смерть и себя, как мир, чья краса и образ «проходят», ибо Царство Божие — «не от мира сего». Вот в чем смысл христианского нет миру.
С первого своего дня христианство возвещает кончину мира и призывает всех верующих во Христа и жаждущих приобщиться Его Царства, «умереть с Ним», дабы истинная их жизнь была «сокрыта со Христом в Боге»; и вместе с тем оно возвещает искупление и спасение мира во Христе. Это значит, что для верующих во Христа и соединившихся с Ним тот же мир — его время и материя, его жизнь и самая смерть — становится «средством» приобщения к Царству Божию, таинством, т. е. образом его явления и пребывания среди людей. «Все — ваше, а вы Христовы». И здесь — христианское да миру, ликующее подтверждение того, что «небеса и земля исполнены Славы Божией».
В свое время я пытался показать, как антиномическое сопряжение «да» и «нет» образовало самую основу, первоначальныйстрой христианской литургии и в, частности то, каким образом «День Господень» или, по выражению Отцов, «первый и восьмой» — чисто христианское установление, — с самого начала далекий от того, чтобы служить простым замещением еврейской субботы (каковое значение приписано ему позднейшим благочестием), включил все человеческое время в перспективу Царства, претворил его в восхождение к «невечернему дню» и тем самым наполнил каждый его миг смыслом и ответственностью ; каким образом Евхаристия, изначально являясь таинством Царства, таинством Христовой парусин (т. е. Его пришествия и пребывания с нами), относит весь космос к эсхатологической полноте, — иными словами, показать, что основоположный литургический опыт исхода из «мира сего» (Христос приходит «дверем заключенным») был осмыслен не в категориях спиритуалистического или апокалиптического «бегства», а как отправная точка, как истинное основание христианской миссии и действия в мире, ибо этот опыт позволяет увидеть мир во Христе. Ввиду невозможности воспроизвести здесь весь ход моих расуждений, осмелюсь лишь констатировать — в той мере, в какой это для меня очевидно, — что раннехристианская эсхатология, не будучи отрицанием мира, заложила основу мировоззрения, подразумевающего позитивное отношение к миру вообще и к государству в частности.
РАЗУМЕЕТСЯ, государство — всецело «от мира сего». Оно принадлежит к тому уровню реальности, который в свете Царства оказывается преходящим. Это не значит, что оно есть зло, или нечто безразличное в нравственном отношении, либо враг, с которым борются, либо то, чем пренебрегают ради «духовных ценностей». Напротив, именно опыт Царства разъясняет христианам истинный смысл и ценность государства. Грехопадение означает разрыв «мира сего» с Богом и обретение им того псевдосмысла и той псевдоценности, которые по сути своей являются бесовскими, ибо диавол есть «лжец и отец лжи». Искупить мир и то, что в мире, — значит включить их в перспективу Царства Божия, как главной их уели, и сделать проницаемыми для этого Царства, как Его знак, средство и «орудие».
Эсхатологическое мировоззрение древней Церкви никогда не было «статичным». Оно никогда не знало разделения вещей на благие и злые от природы. Все сущее есть благо по самой своей сути — как Божие творение; злым и бесовским делает его лишь удаление от Бога и превращение в идола, т. е. в самоцель. Как и все в мире, государство может подпасть власти «князя мира сего» и превратиться в орудие бесовской лжи и подмены. И оно же, как и все в мире, может выполнять позитивную функцию, если его главной ценностью или пределом окажется Царство Божие. Как неотъемлемая часть «мира сего», оно несет в себе знамение конца и «Царства Божия не наследует». Но его позитивная и подлинно христианская функция состоит в осознании своего предела, в полном отказе от попыток стать самоцелью, абсолютной ценностью — одним словом, в его подчинении себя единственной абсолютной цели — Царству Божию. Хорошо известно, что преступление, в котором обвиняли христиан и за которое их лишали права на жизнь (не должно вам быть ), с юридической точки зрения заключалось в нежелании почтить императора титулом Kyrios (Господь). Они не осуждали, не отрицали, не восставали против других «несовершенств» Римской империи — будь то, говоря языком современности, социальная несправедливость (рабство), колониализм (императорский — насаждавшийся в противовес сенатскому — режим провинциального управления) или империализм (экспансионистское ущемление других государств и народов). Но их протест и неизменный отказ наречь императора божественным именем «Господь» был направлен несравненно глубже, ибо в нем раз и навсегда отвергалась самозваная божественность государства, его притязания быть абсолютной ценностью, божественной «самоцелью». И потому этот протест заключал в себе не только отрицание, но и утверждение. А утверждал он прежде всего нисхождение в мир и в историю Единого Господа Иисуса Христа. Слова одного их древнейших христианских гимнов — «Ты Един Господь» по своему значению бесконечно превосходят абстрактную веру в Божественный Промысел или Божественное попечение о мире извне, на расстоянии. Они означали, что Царство Божие стало решающим фактором нашего «здесь и теперь», т. е. мировой жизни и истории, что человеческая история разворачивается отныне под знаком времени, понимаемого как особая эпоха— прямого Божественного вмешательства во время и жизнь. Здесь основа экклезиологии — того учения о Церкви, которое включает в свое поле зрения и ставит в особую перспективу весь космос и всю историю.
Далее это отрицание утверждало, что и само государство подлежит ведению Единого Господа Иисуса Христа. В подлинно глубоком смысле оно отвергало «отделение» Церкви от государства — не в «институтивном», или «юридическом», плане (каковой в конечном счете только и признается на Западе), но в плане утверждения их общей перспективы, соотнесенности с одной и той же целью. Ограниченное своей принадлежностью «миру сему», государство тем не менее способно отражать идеал Царства, жить им и усердно служить Господу всей Вселенной. Сочинения ранних христиан поражают нас небывалой свободой и от космического, и от исторического «пессимизма». Они излучают радость, ожидание космической победы Христа. Мы не найдем в них никакого стремления ограничить Церковь чисто «духовной» сферой, отгородить ее от мира с его скорбями. Христиане, конечно, знали про себя, что они третий род. У себя дома они были как в изгнании, а в изгнании — как дома, но не становились от этого ни индифферентными, ни «нейтральными», ни пессимистами. Ибо изгнание считалось дорогой к Царству, а Царство это явлено было не вне, а посреди мира — как его истинный смысл, искупление и спасение.
И наконец, это христианское «отрицание» провозглашало и утверждало истину как реальную силу и «образ присутствия» Царства в «мире сем», как критерии и неприятия и утверждения этого мира, как источник истинного милосердия и справедливости, но прежде всего как критерий, дающий человеку способность «испытывать духов — от Бога ли они?» Вопрос Пилата (и в его лице всей Римской империи): «Что есть истина?» — действительно подразумевал различие и дистанцию между истиной и властью; кроме того, он был косвенным отрицанием человеческой способности познать истину и руководствоваться ею. Отсюда — абсолютизация власти и обожествление кесаря. Вопрошая: «Что есть истина?», Пилат считал это понятие относительным и потому требовал безусловного послушания императору. «Власть есть истина» — вот смысл его требования. Христиане же утверждали в ответ, что истина есть власть. Именно таков смысл христианского мученичества , той мученической крови, потоки которой в конце концов смели самого грозного и опасного идола.
Таким образом, раннехристианская эсхатология — по крайней мере, в моем мнении — была не столько «отрицанием» государства, сколько фактическим утверждением основополагающих принципов будущей исторической эпохи — эпохи «христианского государства». Но утверждала она их лишь постольку, поскольку сердцевиной ее «мировоззрения» был опыт Царства Божия.
СОВЕРШЕННО ИНАЧЕ оценивали это «мировоззрение» западные историки и богословы, видевшие в нем лишь специфическую особенность идеологии древней общины, сменившуюся затем примирительным отношением к миру, а со временем и вовсе сгладившуюся под влиянием жизни. Это различие далеко не случайно. В нем проявилась коренная противоположность двух видений христианского мира, параллельно развивавшихся на Западе и Востоке. По моему убеждению, христианский Восток, если не всегда в реальности, то в теории, т. е. на уровне общего видения и подхода, удержал эсхатологическую перспективу древней Церкви и поставил ее во главу своего мироотношения, в то время как христианский Запад уже в раннюю эпоху заменил ее совсем иным видением, которое, с учетом его основного мотива и контекста, можно определить как «юридическое».
В самом деле, разве не типично для западного церковного развития, что отношения между Церковью и государством изначально мыслились, обсуждались и определились почти сплошь в юридических, т. е. правовых, терминах — как отношения между двумя институтами, двумя силами, двумя властями? И разве можно отрицать, что такие исторические явления, как борьба средневекового папства против императоров, Лютерово учение о двух царствах и новейшие теории отделения Церкви от государства при всех своих специальных отличиях принадлежат в конечном счете одному и тому же идеологическому уровню, ибо их основной предпосылкой является юридическое понимание проблемы? Более того, этот юридизм так укоренился в западном экклезиологическом сознании, что почти все историки Запада, занятые продумыванием и построением иных, незападных моделей церковно–государственых отношений, так или иначе сводят их к «правовым» категориям. Например, редкий из них, говоря о византийской модели, не назовет ее «цезарепапистской», видя в ней всего лишь пример подчинения священноначалия императорской власти. В действительности же, иной, незападный тип церковно–государственных отношений — и по своей природе и жизненным проявлениям отнюдь не всецело юридический — не только мог существовать, но и на самом деле существовал, будучи укоренен в мировоззрении, которое мы назвали «эсхатологическим». Мы говорим о восточном, или византийском, типе. И если первоначальный спор между Церковью и Империей был не юридическим, а «эсхатологическим» — спором не о правах и обязанностях, не о свободе совести или отправления культа, а о решающем значении для судеб мира одной Личности, одного События, одной Общины, — то и последующее примирение Церкви и государства с точки зрения восточного сознания, а лучше сказать — подсознания, не могло иметь никакой иной почвы. Этой почвой оказалась эсхатологическая преемственность, определявшая, на мой взгляд, исходный пункт и область касательства всего восточного опыта. Исторические противоречия, трагедии и неудачи этого опыта никоим образом не должны замалчиваться или умаляться. Но их нельзя понять вне породившей их почвы. Определить этот опыт хотя бы в самых общих чертах — наша следующая задача.
НУЖНО НАЧАТЬ не с законодательных актов, а с события, заложившего духовный и психологический фундамент византийской «теократии» и ее продолжения в других православных землях, — с захватывающе эффектного обращения императора Константина. Мы не спрашиваем, что же «на самом деле» произошло с Константином в тот таинственный полдень или как он сам осознал и впоследствии объяснил это. Уникальность и поистине решающее значение этого события в том, что византийско–христианская традиция осмыслила его как самоочевидное и достаточное основание для примирения Церкви с Империей, или, если пользоваться византийской терминологией, для их «симфонии».
Одна из самых выразительных среди множества разнообразных формул этого осмысления содержится в византийском богослужении — в том «имперском» цикле праздников и молитвословий, неизменной темой которого является Константинове видение Креста и его последствия для Церкви и всей державы. Именно здесь, в усиленном подчеркивании избрания Константина «от Бога, а не от человек», видна преемственная связь византийского опыта с ранним «эсхатологическим» отношением Церкви к Империи. «Подобно Павлу, ты был призван не от людей…» — вот что, согласно восточной традиции, стало решающим фактором обращения Константина. Он был призван Самим Христом, даже без посредства Церкви, и избран не как «человек вообще», а именно как император; поэтому избрание Константина стало поворотным моментом его судьбы как венценосца, а его признание Христа — залогом победы над врагами. Таким образом, в его лице и сама Империя получила призвание принять Христа и стать Его «державой». Но это означало также, что в лице своего императора она признала своим «Господином» Господа неба и земли и оказалась под державой Его Царства. Так, от начала союз Церкви и государства основывался не на «договоре», сделке или соглашении, не на детальном определении взаимных прав и обязанностей, а на вере.
Богу «не ставят условий»; Бог Сам избрал Константина и на его примере показал, что Империя тоже часть Божественного «достояния». С точки зрения Церкви, этот акт веры, устанавливающий новое отношение к Империи, не только никоим образом не противоречил старому, но был прямым его развитием.
Противопоставляя себя Империи, Церковь делала это не по политическим или социальным мотивам, не из верности какой–то особой концепции государства, но лишь во имя Христа, Которого Бог поставил Господом всякой твари. Другими словами, она противостояла бесовскому злоупотреблению государством со стороны «князя мира сего», и самый ее отказ признать императора «Господом» подразумевал, как мы сказали выше, позитивное отношение к государству, веру в то, что Мессия может быть принят «всем домом Израилевым». Окруженная греко–римским миром, Церковь никогда не расставалась с надеждой увидеть этот мир верующим во Христа и Его Царство. Интересно, что ереси, с которыми она постоянно воевала, возникли отнюдь не из безудержно–оптимистического мировоззрения — то были ереси дуализма, докетизма, эскапизма — словом, всех разновидностей пессимизма.
Обращение Константина и радостно–доверительное отношение Церкви к этому событию не было ни отступлением от веры, ни изменой ее эсхатологическому содержанию. Используя ныне забытый или искаженный, но совершенно незаменимый и органичный в языке древней Церкви термин, можно сказать, что обращение императора и Империи было актом «экзорцизма». Сила Креста — главного оружия Церкви против демонов — освобождала Империю от власти «князя века сего». Сокрушая идолов, Крест делал империю «открытой» для Царства, давал ей силу служить Царству и быть его орудием. Но Империя при этом (что необходимо помнить) нимало не трансформировалась в Царство Божие. Своеобразие раннехристианской эсхатологии в том, что она, имея опыт Царства Божия как имманентного фактора в жизни «мира сего», всегда утверждала абсолютную трансцендентность этого Царства. В «мире сем» постоянно присутствует мир, который «грядет», но какая–либо трансформация или «эволюция» первого в последний немыслима.
Лучшим свидетельством тому, что это различие переживалось во всей своей силе и позже, является крещение самого Константина, последовавшее лишь на смертном одре, примерно через 25 лет после обращения. Его смерть, пришедшаяся на день Пятидесятницы, стала кончиной не императора, а неофита, облеченного в белую крещальную одежду. Позже такое же символическое значение приобрела монашеская тонзура, выстригавшаяся в предсмертный час на голове его преемников. Империя могла быть «христианской», т. е. служить Царству, видеть в нем свою высшую ценность, но не могла сама стать Царством, которое хоть и присутствует в «мире сем», но в своем трансцендентном значении — как суд, цель и полнота — всегда остается Царством «не от мира сего».
ВСЕ СКАЗАННОЕ необходимо иметь в виду для уразумения смысла византийской «симфонии». Каковы бы ни были мотивы Константиновой политики в отношении Церкви, — а они, без сомнения, менялись и усложнялись в зависимости от вариаций имперского государственного интереса и были весьма многообразны — Церковь, как мы уже заметили, не требовала ни формально–юридических гарантий, ни соглашений, но с радостью вручила себя попечению и покровительству того, кто от Самого Христа был избран и поставлен слугой Его Царства.
Следует объяснить, почему я использую здесь слово « «вручила». Без сомнения, верно, что византийская Церковь пожертвовала своей «независимостью» — в юридическом значении этого термина. В административно–институтивном отношении она действительно слилась с Империей, дабы вкупе с ней образовать один государственно–церковный организм, и признала за императором право управлять ею. Говоря языком канонического права, «административная структура Церкви» следовала за имперской, что фактически означало некоторую субстанциальную трансформацию церковных институтов на всех уровнях — локальном, региональном и «вселенском». Проанализировать эту трансформацию здесь нет возможности, но, конечно, дело не ограничилось изменением терминологии (о котором говорит появление в церковно–языковом обиходе таких сугубо гражданских терминов, как «диоцез», «епархия», «экзархат» и т. д.). Блестящее возвышение дотоле безвестного епископа Константинопольского до положения «вселенского» (т. е. «имперского») первоиерарха Второй Вселенский Собор недвусмысленно оправдывал тем, что кафедра его «пребывает во граде царя и синклита». Лишь император мог созывать вселенские соборы; он издавал распоряжения, касавшиеся церковной дисциплины и благосостояния Церкви; он назначал епископов, и формула такого назначения вошла даже в чин епископской хиротонии.
Примеры такой «капитуляции» Церкви можно умножать сколько угодно, и все они окажутся в глазах западных историков надежным доказательством византийского «цезарепапизма», т. е. полного порабощения Церкви государством и утраты ею своей «независимости». На самом деле здесь ясно видна зависимость их самих от юридической концепции церковно–государственных отношений, не позволяющей верно оценить смысл византийского варианта этих отношений, увидеть его в собственном свете, т. е. в согласии с собственными предпосылками. Они не сознают, что для византийской Церкви — именно вследствие ее эсхатологического миропонимания, позволявшего ей принять обращение Константина, проблема отношений с Империей лежала совсем в иной плоскости, в которой она, Церковь, — можно утверждать это со всей объективностью — не только сохраняла то, в чем сама видела свою независимость, но (обратимся еще раз к западной терминологии) фактически «доминировала» над Империей.
Чтобы объяснить это, сделаем примечание экклезиологического характера. Одной из причин частого непонимания и превратного истолкования Западом византийской «симфонии» всегда было его удивительное безразличие к православному богословию вообще и к православной экклезиологии, т. е. учению о Церкви, в частности. Для нас очень важно понять различие между западным и восточным подходом к институтивному, или юрисднкционному, аспекту бытия Церкви во всей его полноте. В то время как на Западе этот аспект в течение долгого времени — и по причинам, о которых здесь нет времени распространяться, — заслонял собою всю экклезиоло–гию, на Востоке он не только никогда не считался центральным, но и самый подход к нему был совершенно иным. Здесь Церковь изначально рассматривалась не как «власть» или «юрисдикция», но как сакраментальный организм, назначение и цель которого — являть, провозвещать и сообщать Царство Божие как Истину, Благодать и Богообщение и в этом исполнять себя, Церковь, как Тело Христово и Храм Святого Духа. Церковь — это, несомненно, и «учреждение», но по природе своей не юридическое, а сакраментальное.
Иными словами, Церковь–учреждение существует лишь для того, чтобы служить восхождению от «мира сего» к миру «грядущему», — служить в качестве символа, постоянно наполняющегося живым содержанием, в качестве «средства» всегда быть тем, что она есть. Имея такое же существеное значение для Церкви, как символ и таинство, учреждение, однако, нетождественно Церкви. Как учреждение Церковь принадлежит «миру сему»; как «исполнение» она — от «мира грядущего». Исполнение невозможно без учреждения. Но это совсем не значит, что исполнение и учреждение в Церкви разделены, ибо учреждение всемерно способствует тому, чтобы исполнение стало возможным и «грядущее» явилось бы как «сущее». И как исполнение невозможно без учреждения, так и учреждение всем смыслом своим обязано тому, что оно исполняет. И потому видимая, институтивная структура Церкви — епископат, канонический строй и пр. есть структура не власти, а присутствия. Она существует затем, чтобы гарантировать полноту этого присутствия и его непрерывность в пространстве и времени, его «равенство себе» всегда и всюду. И наконец, отсюда следует (и это нужно особенно подчеркнуть), что Церковь не ищет в этом мире никакой власти и не имеет никаких «земных» интересов, за которые ей подобало бы бороться. Ей принадлежит весь мир, всякое творение, ибо они принадлежат Христу, Господу всей твари, и составляют, таким образом, объект ее миссии. Но она не обладает ими как своей «собственностью», ибо ее миссия лишь в том, чтобы являть и представлять, т. е. делать присутствующим в этом мире Царство «не от мира сего», ради которого «те, кто обладает, должны быть как необладающие».
Итак, с восточнохристианской точки зрения отношение Церкви к миру по самой природе своей не могло быть юридическим и, следовательно, выраженным в юридических терминах. В видимой же, институтейной. Церкви могут быть и по необходимости бывают «юридические лица» — епархии, приходы, монастыри и пр. Но, как таковые, они «от мира сего», и в соответствии с их отношением к государству или обществу живут по земным законам и принципам — постольку, поскольку это не мешает Церкви выполнять главную ее миссию. Если Церковь «пребывает» в нехристианском государстве, она, как мы знаем, не требует для себя ничего, кроме возможности «быть собой», т. е. проповедовать и исповедовать Христа, Единого Господа, и Его Царство, нести спасение всем и всюду. Но если это государство христианское, т. е. по своему определению приемлющее ее «шкалу ценностей», ее эсхатологическую веру, то ничто не мешает Церкви возложить на него управление ее земной жизнью, заботу и попечение о ее повседневных нуждах. И эти позиции не противоречат друг другу, как укорененные в одной и той же «эсхатологической» экклезиологии, в одном и том же опыте Церкви.
В свете этого разъяснения можно понять, почему основой церковно–государственных отношений в Византии был не юридический принцип, а идея Истины. В юридическом отношении Церковь (еще раз повторим) действительно «вручила» себя государству и не добивалась от него какой бы то ни было «независимости». Но — ив этом «но» вся суть дела! — единственным и непреложным условием такого «вручения» было приятие Империей веры Церкви, т. е. «общего» с Церковью видения Бога, мира и истории — того видения, которое мы и назвали Истиной. Это была Истина, выраженная в вероучительных формулах, в глубоко сакраментальном строе церковной жизни, в богослужении и — последний по счету, но не по значению признак, о котором мы еще скажем подробнее, — в той свободе оставить ради Царства человеческий социум «мира сего», которая дана каждому христианину и гарантирует Церкви реальную независимость и возможность выполнять свою миссию.
До тех пор пока Империя признавала над собой суд Христов и рассматривала себя в единственно важной для Церкви перспективе — перспективе Царства Божия, Церковь не видела причин требовать от нее какой–либо «юридической» независимости и охотно отдавала бразды церковного управления и церковной политики в руки императора. Печься о Церкви, служить ее земным «прибежищем» — вот в чем видели на Востоке главное призвание христианской Империи и признак того, что она и в самом деле христианская.
Уникальная и подлинно ключевая роль такого осмысления Истины совершенно выпадает из поля зрения западных историков с их идеей византийского «цезарепапизма». Можно без всякого преувеличения сказать, что «капитуляция» Церкви не только была обусловлена верностью Империи Истине, но и сама в свою очередь обусловила «победу» Церкви и даже «капитуляцию» Империи перед ней. Всякий раз, когда государство «налагало руку» на Истину, пытаясь приспособить ее к своим политическим нуждам, Церковь — по крайней мере в лице лучших ее представителей — возвышала протестующий глас, а при необходимости и запечатлевала свое несогласие с властью свидетельством крови. И в конечном итоге именно Империя, а не Церковь «капитулировала», приняв условия и требования последней.
С этой точки зрения великие догматические споры — от арианского до иконоборческого, — почти непрерывно возмущавшие жизнь Византии с IV по IX в., можно рассматривать как перманентный кризис церковно–государственных отношений и одновременно как постепенное очищение византийской «симфонии», усиление и углубление того видения христианской Империи, которое было усвоено Церковью после обращения Константина. И на этом уровне подлинная история Церкви делалась и подлинное ее сознание выражалось не церковным большинством (всегда слабым), не епископами и клириками (всегда готовыми на компромисс с государством ради временных выгод и привилегий), но такими мужами, как Афанасий Александрийский, как три великих каппадокийца, Иоанн Златоуст, Максим Исповедник и многие, многие другие. И, что важнее всего, именно их мученичество в конце концов восторжествовало; именно они были канонизированы как носители православного духа не только Церковью, но и Империей; именно их «Истина» рано или поздно победила и была принята всем византийским миром.
Подтверждением того, что усилия этих мучеников и исповедников не пропали даром, что византийское сознание медленно, но верно освобождалось от языческой раздвоенности предшествующих веков — словом, подтверждением того, что Церковь последовательно проводила свое видение, свою идею христианского государства, может служить законодательство Византии. Ни кодекс Феодосия, ни кодекс Юстиниана не свободны от идей и предрассудков древнеязыческой «теократии». Воспринятое и покровительствуемое государством христианство оставалось в его глазах «онтологически» подчиненным Империи, как символ и орудие ее «победы», как божественная санкция ее существования. С чисто правовой точки зрения христианская религия заняла место прежнего государственного язычества, и даже Сам Христос мыслился в этом контексте чуть ли не «служителем» Империи. Но с IX в., судя и по документу под названием «Эпанагога», и по более поздней иконографии императоров, положение существенно изменилось. Сохранились изображения, где сам василевс, преклоняя колени перед Христом Пантократором, повергал к Его стопам посвященную Ему державу. Император — по крайней мере на официально–знаковом уровне — знал лишь одну цель и одну обязанность: служить Христу и быть Его «обиталищем». Разумеется, эта победа — результат долгой борьбы за Истину, плод христианского мученичества, устранившего былую раздвоенность языческой «теократии» и «экзорцирующей» ее нечистые элементы. Сама концепция «Православия», ставшая к концу ранневизантийской эпохи определяющим элементом общественного сознания и в силу этого основой всех византийских «законоуложений», фактически была прямым результататом этой долгой борьбы и наиболее прочным ее итогом.
Все сказанное выше относится, конечно, к области общего видения и теории. В реальной жизни теория не раз терпела неудачу и столь же часто предавалась. Здесь незачем вспоминать историю этих неудач, которую мы найдем в любой книге по византологии. Я не ставил своей задачей ни апологию, ни «идеализацию» Византии. Всякий, кто знаком с любой из моих работ, должен признать, что я далек от какой бы то ни было идеализации. Главная же моя мысль заключается в следующем. Видеть в истории византийского христианства всего лишь частный случай «цезарепапизма» и сводить ее к обычной «капитуляции» Церкви перед государством, значит не только исказить самоочевидную историческую истину, но и окончательно закрыть для себя перспективу, позволяющую почувствовать дух и психологический «настрой» того общества и того мира, который на протяжении всего своего более чем тысячелетнего существования был христианским не только в теории, но и по сути.
МЫ ГОВОРИЛИ о «теории». Обратимся теперь к «сути. В каком смысле и до какой степени она может быть названа «христианской»? Ответ зависит от того, что мы разумеем под словом «христианский» — постольку, поскольку именно различное его понимание вызывает раскол в сердцах и умах современных христиан. И потому единственно объективный подход предполагает оценку византийского общества и его опыта в свете их собственных критериев и предпосылок — такую оценку, которая позволила бы судить, сколь актуальна для нас та или другая сторона этого опыта.
Как мы видели, термин «христианская» в применении к Империи означал для византийца, что она приняла известную «истину», вполне определенное видение мира и истории. В том, что Империя и в самом деле приняла это видение, мы уже могли убедиться. Но возникает и другой вопрос: прилагала ли она это видение к жизни и жила ли в согласии с ним? И где доказательство, что православная интерпретация обращения Константина — не наивно–благочестивый домысел и Церковь не стала жертвой обмана со стороны ее партнера по «симфонии»?
В поисках доказательства обратимся к явлению, которое имело для восточного «опыта» государства столь же решающее значение, как и обращение первого христианского императора. Таким явлением было монашество, точнее, его место и функция в византийском мировоззрении, усвоенное им едва ли не с первых шагов. Здесь, как и применительно к обращению Константина, речь пойдет не о содержании монашеской духовности, как таковой, а о том, каким образом монашеский идеал был воспринят византийской традицией.
Все более или менее «радикальные» теории происхождения монашества, выдвинутые либеральными историками XIX в., можно считать устаревшими и опровергнутыми. В последнее время авторы нескольких первоклассных исследований выявили несомненную внутреннюю связь раннего монашеского идеала с духовным укладом первоначальной Церкви. Для нас наиболее существенно то, что эта связь (несмотря на многие различия) выражала единое эсхатологическое мировоззрение, единую веру, сконцентрированную в опыте, чаянии и предвосхищении Царства Божия. Разница была в «ситуации», не в «сути». Первая христианская община, как отметил Хойсси, на фоне языческого окружения, в котором она жила, сама во многих отношениях выглядела «монашеской». Чтобы выйти из мира, не было нужды покидать его физически. Что же касается монашеских «исхода» и «отшельничества» , то в них нужно видеть реакцию все того же христианского максимализма на духовную опасность, каковую таило в себе «примирение» Церкви с миром, и прежде всего на самую реальную угрозу номинализации и «облегчения» христианской жизни. Необходимо отметить — как одно из основных измерений всего восточного «опыта» — почти парадоксальное приятие монашества Империей, а Империи — монашеством.
С другой стороны, монашество при всем своем максимализме и мироотрешенности не осуждало и не отрицало самый принцип «христианизации» мира, начатый обращением Константина. Напротив, монахи, ведя духовную брань, «оставляли мир» в известном смысле ради самого же христианского мира, чтобы сохранить «мартирию», т. е. свидетельство о Царстве Божием, которым этот мир спасен. «Что Церковь? В каком состоянии Империя?» — вот первые вопросы, которые преподобная Мария Египетская, величайшая героиня византийской духовной письменности, задает монаху, встретившемуся ее в пустыне после сорока лет полного уединения. И это вовсе не риторические вопросы. В отличие от некоторых быстро сошедших с исторической сцены радикальных и квазиманихейских течений, классической монашеской традиции совершенно чужд всякий утопизм, милениаризм и тому подобные сектантские умонастроения; ничем не напоминает она и более поздние секты, с фанатическим упорством отвергающие государство. Вчитываясь в тексты, впоследствии запечатлевшие эту традицию (например, византийское «Добротолюбие»), не устаешь поражаться ее взвешенности, свободе от всякого рода передержек или «радикализма». Мир, от которого отреклись монашествующие, это то, от чего должен отречься всякий христианин — и монах и мирянин, ибо он, этот мир, в нынешнем своем состоянии есть самоцель, «идол», заявляющий свои права на всего человека. В основе отречения лежала все та же изначально–христианская антиномия: в мире, но не от мира. И однако, это отречение, эта постоянная борьба нацелены не против «плоти и крови» мира, но против сил тьмы, разлучивших творение с Творцом. Они суть орудия освобождения и восстановления, а не отрицания или разрушения.
Каждый, кто всерьез изучал восточнохристианскую мистику, отмечает ее позитивный, радостный и, так сказать, «космический» дух — тот самый дух, что всего лишь столетие назад так дивно просиял в простом русском монахе, преподобном Серафиме Саровском. И вот этот–то дух, эта «радость и мир о Духе Святом» на протяжении веков привлекали в монастыри многие миллионы паломников, жаждавших еще «в мире сем» вкусить неизреченной красоты и благ «мира грядущего». Таким образом, монашество находилось в преемственной связи с тем же эсхатологическим мировоззрением, носителями которого были апостол Павел и первые христиане, боровшиеся против обожествления государства, но вместе с тем молившиеся об императоре и о «предержащих властях».
Еще показательнее отношение к монашеству самого императорского государства и олицетворяемого им общества. Народившийся вслед за обращением Константина христианский мир не только не отверг монашеское движение, но, как ни странно, сделал монашеский идеал, монашескую «шкалу ценностей» центром всей своей жизни и самосознания. В самом деле, «пустыня», прежде считавшаяся безлюдной окраиной «обитаемого мира», в виде бесчисленных монастырей и обителей внедряется в деловые кварталы крупнейших городов и с тех пор служит местом духовного окормления и поощрения к подвигу. Монахи–пустынножители стали «героями» всего общества, а их vitae (жития) — «бестселлерами» византийской народной литературы. Монастырское богослужение, монастырское благочестие насытили и преобразили всю литургическую жизнь той Церкви, которая — можно без преувеличения сказать — «вручила» себя монашеству, как в свое время (хотя и в ином смысле) Империи.
Таким образом, монашество было «канонизировано» государственно–церковным организмом как органическая часть и выражение Истины, лежавшей, как мы уже видели, в самом основании византийской «симфонии». И нет, наверное, лучшего подтверждения этому факту, чем символически–монашеская тонзура, которой украшали себя на пороге смерти византийские императоры. Этот обычай раскрывает истинную иерархию ценностей, принятую Империей, ее всецелую подчиненность трансцендентному Царству Божию — тому Царству, которого она, сама будучи от «мира сего», не наследовала, но чьим орудием и служительницей в этом мире имела возможность быть, — Царству, требовавшему от своих наследников решительного оставления всего «земного».
Мое настойчивое стремление видеть в монашестве важнейшее обнаружение византийского мира как мира христианского может показаться странным и недостаточно обоснованным. Но мысль, которую я пытаюсь при этом выразить, очень проста. Это «приятие» монашества Империей означало в действительности признание высшей свободы — разумеется, не в сегодняшнем формальном значении этого слова, но в смысле трансцендентности человеческого удела и призвания, принадлежности человека Богу и Царству Божию, а не чему бы то ни было «от мира сего». Не случайно императоры–иконоборцы — провозвестники секулярной государственности и культуры — восставали не только и не столько против иконопочитания, но едва ли не в первую очередь против монашества. Они хорошо сознавали, что его влияние в христианском обществе направлено именно на утверждение трансцендентной свободы человека от государства, на сохранение эсхатологического мироотношения, делавшего мир христианским. Иконоборцы потерпели поражение — как и все, кто хотел перевернуть традиционную «иерархию ценностей» христианского Востока. Вот почему мы можем сказать, что Империя, несмотря на бесчисленные ее неудачи, жила в согласии с девизом, начертанным по приказу Юстиниана на престоле константинопольской Софии: «Твоя от Твоих Тебе приносят Юстиниан и Феодора».
ПОЛЯРИЗАЦИЯ Империи и «пустыни», равно как и «перманентная» напряженность в их отношениях, — таково должно быть адекватное определение византийского духовного мира и того исторического контекста, который делал его христианским. И итогом этой напряженности, самым осязаемым результатом христианского круга обучения стали цивилизация и культура, заново открываемые сегодня в их истинной глубине и значении. Эта культура при всей ее ограниченности может быть названа христианской не только по имени, но и по сути. То был плод, принесенный Церковью в «мире сем». Заметим, что интерес Запада к византийской цивилизации имеет сравнительно недавнее происхождение, ибо слишком затянувшийся там период культурно–психологического эгоцентризма мешал разглядеть в ней не просто экзотический и даже по–своему пленительный мир, но и нечто иное.
И лишь сегодня, благодаря усилиям небольшой группы византологов, различные аспекты византийского опыта: искусство, общественная мысль, социальная и политическая организация и т. п. — начинают исподволь проникать в западный curriculum . Несмотря на полную невозможность предложить здесь даже самый поверхностный очерк или анализ этой культуры, хотелось бы все же выделить три ее аспекта, прямо связанные с нашей темой.
Выше я уже говорил об особой концепции Истины как краеугольном камне теории и практики церковно–государственных отношений в Византии. Но эта концепция — не простой набор сухих ученых формулировок или «символических» текстов. Она пронизывала собой всю жизнь византийского общества, составляя ее сущностно–христианский «коэффициент». Не случайно византийский период церковной истории совпадает с эпохой Отцов — уникальной и поистине непревзойденной попыткой человеческого «логоса» войти в «Логос Истины» и при содействии (синергии) благодати обрести «богоприличные» слова. То, что с чисто формальной точки зрения виделось как синтез Афин и Иерусалима, эллинизма и христианства, на более глубоком уровне означало постепенную и творческую трансформацию самого человеческого разума, созидание новых фундаментальных форм мышления — и не только для богословия (в узко–специальном значении этого слова), но и для всего интеллектуального поприща человека в целом. Для византийского сознания христианство было откровением не только Божественной Истины, но и «адекватности» ей самого человека, — откровением его онтологической способности воспринять, познать, усвоить эту Истину и претворить ее в жизнь. Великие богословские споры эпохи Отцов никогда не были «абстрактными» и чисто «интеллектуальными», но всегда — сотериологическими и экзистенциальными в самом высоком значении этих определений, ибо они затрагивали природу человека, смысл его жизни и цель его praxis .
Экзистенциальный характер отеческого богословия, его убежденность в том, что Истина всегда есть жизнь, отсутствие в нем всякого подразделения на «теоретическое» и «практическое» — все это не худо бы вспомнить в наши дни, когда многие христиане поклоняются «практике» как некоей самоценности, не имеющей никакого отношения к «теории», — т. е. к всестороннему видению Бога, человека и мира. Когда православные богословы нашего времени настаивают на «возврате к Отцам» (и этот призыв по большей части звучит как глас, вопиющий в пустыне они зовут именно к такому видению, а не к повторению формул, произвольно выхваченных из святоотеческого контекста. Вслед за отцами они утверждают, что «все это» в конечном итоге зависит от Истины, т. е. от знания, осмысленного как жизнь и преображение. Современному человеку — даже христианину — бесконечные византийские споры об «ипостазированном» могут казаться классическим примером «неактуальности». Но именно в этих спорах, в стремлении «усвоить» великую богочеловеческую тайну православный Восток усваивал корни и предпосылки подлинно христианского «гуманизма» и миросозерцания. Видеть в этом лишь бесполезный с точки зрения наших сегодняшних проблем и нужд груз — значит, не замечать бед современного христианства.
Следующий аспект, тесно связанный с первым, но вместе с тем имеющий самостоятельное значение, предполагает запечатление, воплощение все той же Истины как Красоты — иначе говоря, литургическое выражение византийской цивилизации. Но «литургия» здесь означает больше, чем богослужение или культ, как таковые. Она поистине путь жизни, где «сакральное» и «мирское» неразлучны и вся жизнь мыслится как продолжение, «развитие» того, что было явлено и сообщено в литургии. Ибо подлинная цель богослужения в том, чтобы являть Царство Божие, приобщать человека небесной Красоте, Истине и Благу, дабы его жизнь, сколь возможно, протекала в свете этого уникального опыта. Всякий, кто посетит константинопольскую Софию даже в нынешнем, «кенотическом» ее облике, может прикоснуться к тому опыту и видению, из которых она возникла и которые призвана была сообщать. Это и в самом деле то Небо на земле, то Присутствие, что превосходит всякий человеческий опыт и все человеческие категории, относит их к себе, раскрывает мир как Космос, где небо и земля воистину исполнены божественной славы. Пасхальный, доксологический, «преображающий» и вместе с тем глубоко покаянный характер византийской литургии, которая как бы втягивает в себя храмовую архитектуру и песнопения, время, пространство и движение, и имеет целью включить в свой ритм и сферу всего человека, а через него и весь мир — все это делает ее больше, чем «культом». Это — опыт мира «грядущего», явленного в «мире сем». Он объемлет все творение целиком — вещество, звук, цвет — и преображает его в таинственном восхождении и вознесении во славе присутствия Божия.
Покидая храм, православные христиане поют: «Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго», — и, по замыслу, именно в этом свете, в этом приобщении Духу нам надлежит воздействовать и на самую жизнь, преображая ее, по слову русского религиозного мыслителя, в «литургию за стенами храма». Именно потому, что в тайне литургии нам впервые дано было увидеть новое творение и приобщиться ему, мы и можем стать служителями этой тайны в «мире сем». Взирая с точки зрения восточного «опыта» на современный литургический хаос, хочется сказать, что не литургию нужно «приспосабливать» к миру, но, напротив, сам мир должен быть заново открыт в этом уникальном литургическом опыте — в его свете, истине, красоте и силе, и открыт как место, «приспособленное» для христианского действия.
И наконец, третий аспект византийско–христианской культуры следует назвать «аскетическим». Человеческий грех и отчуждение от Бога как коренной недуг «мира сего», узкий путь спасения — вот основные компоненты религиозного опыта, всесторонне определявшие жизнь византийского общества. Это было, как я уже сказал, «монашеское» общество — в том смысле, что монашеский идеал воспринимался им как самоочевидная норма и критерий христианской жизни. Отмеченный нами доксологический характер богопочитания не только не исключает, но, наоборот, подразумевает как предварительное условие глубоко покаянный его акцент: «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду в онь». Но было бы ошибкой, как мы уже говорили, видеть в аскетическом и покаянном настроении проявление страха и пессимизма.
Мы правильно поймем этот аспект, подходя к нему с точки зрения главной цели христианской аскезы, т. е. соотнося его с центральной для восточной духовности темой теозиса — обожения человека благодатью Духа Святого. Ибо поистине не было более высокой идеи человека, чем та, которой в конечном итоге жило и которой измеряло себя византийское общество. Аскетизм считался здесь «искусством искусств». В Нём видели путь, возводящий человека к его истинной природе и призванию, к вечному. И если современный христианин отвергает этот путь, как «антигуманный» и «антиобщественный», как эскапизм, то потому лишь, что при всем своем настойчивом стремлении быть «человеком–ради–других», т. е. служить «человеку» и «человечеству», он донельзя равнодушен к вопросу: а какому человеку и во имя какого его предназначения следует служить? Ведь абстрактные понятия «свобода» и «освобождение» задолго до своего превращения в расхожие словечки вошли — в очень конкретном, очень высоком и истинно «трудном» для сегодняшнего восприятия наполнении — в самое сердце целой цивилизации как обозначение ее конечного стремления и цели.
Да, в византийском обществе, которое по нашим, современным меркам было скорее авторитарным, чем демократическим, и слыхом не слыхивало ни о каких гражданских свободах и правах, было много несправедливостей и жестокостей. Византия, безусловно, не решила всех своих политических, экономических, социальных и даже этнических проблем. Но это общество — если пользоваться центральным для современной интерпретации этих проблем понятием — не знало «отчуждения», и не знало именно в силу общего для всех его сочленов видения человека, человеческой природы и назначения — того видения, которое, несмотря на все несовершенства этого общества, скрепляло его в одно тело. Ибо, согласно этому видению, нет большего равенства, чем равенство призванных к «почести горнего звания». Это видение сообщалось день за днем, неделю за неделей в литургии — общем и согласном торжестве Царства Божия и человеческой причастности ему.
Всестороннее — и, увы, сильно запоздавшее! — изучение социальной структуры византийского общества, более пристальный анализ византийского законодательства, новый взгляд на византийские учреждения — одним словом, новая оценка, основанная на достоверных выводах науки, без сомнения, покажет, что Византия — как впоследствии и другие православные государства — при всей видимой жесткости ее социальной и политической системы знала и чувство спаянности, и крепость межличностных связей, и дух человеколюбия, и постоянную открытость всецелому человеческому опыту — словом, все то, что так редко встречается в истории человечества. Разумеется, и там богатые оставались богатыми, а бедные — еще чаще — бедными. Но в самой сердцевине византийского опыта как вдохновляющий идеал стоял образ не богача, но нищего. Простое знакомство с заупокойными песнопениями Иоанна Дамаскина и с богородичной гимнографией погружает нас в глубочайший и даже в обыденной жизни византийца никогда не иссыхавший до конца поток сострадания и участия, милосердия и братолюбия. То было, несомненно, доиндустриальное и, следовательно, «аграрное» и «примитивное» общество. Но могут ли эти характеристики обесценить заложенные в нем принципы и идеалы как «неадекватные» нашим сегодняшним нуждам? Напротив, следовало бы выяснить: а не разрушили пришедшие им на смену принципы и идеалы что–то наиглавнейшее в человеке и не они ли истинные виновники сегодняшнего его «отчуждения»? В любом случае, я глубоко убежден, что нет никаких причин пренебрегать опытом, который, как видно из всего сказанного, может оказаться и поучительным и вдохновляющим.
ПОСТОЧНЫИ «ОПЫТ» ни в коей мере не пресекся с гибелью Византийской империи в 1453 г. Он имел продолжение и творческое развитие у стран и народов, которые приняли из византийских рук христианство, а с ним и византийский «теократический» идеал. И это продолжение с особой ясностью проявилось в самосознании новых христианских наций, в котором те отождествляли себя с собственными своими Константинами, чей основополагающий опыт обращения был воспринят как дело Божественного Промысла и избрания. Первый христианский «каган» Болгарии Борис, креститель Киевской Руси Владимир, покровитель православной Сербии Савва — каждый из них в памяти своего народа остался его «отцом во Христе», живым символом его посвящения Христову делу в мире.
Мы найдем здесь и ту же философию истории, т. е. укорененную в той же «эсхатологической» перспективе, которая относит целые народы и царства к Церкви не в силу юридических «соглашений», но по общей их с ней «отнесенности» к высшему Царству. Несмотря на соблазнительную возможность объяснить большинство этих фактов «политическими мотивами», для историка наших дней куда важнее их постепенное превращение в национальный миф, их интерпретация в национальном самосознании — словом, все то, что является решающим фактором образования души православной нации.
Турецкое завоевание положило безвременный конец теократическим мечтам южных славян, и потому самой значительной и творчески богатой главой в истории послевизантийского православного мира естественным образом стал русский опыт. Ограничимся лишь несколькими замечаниями по поводу этой главы.
Мусульманское иго, на много веков изолировавшее и лишившее свободы православный мир, толкало его на специфический путь «внеисторического» выживания, так или иначе подразумевавшего отказ от истории, которая, как мы знаем, стояла в центре византийско–теократического сознания. Чувство вселенской миссии, космического и исторического призвания Церкви, ее динамических отношений с «миром сим» и ответственности за него — все это исчезло (если не на уровне догматического знания, то по крайней мере в «психологическом» переживании), а на смену ему явился своеобразный внеисторический «квиетизм», в котором и православные и инославные постепенно навыкли видеть «сущность» Православия.
Не замечая громадных политических и культурных изменений, стремительной трансформации почти всех элементов «мира сего», православные долгое время жили, а некоторые и поныне живут в призрачном, символическом и абсолютно «статичном» мире, в столь же статичной, сколь и ирреальной «Империи». Древняя эсхатология, давшая жизнь этому миру и всем своим содержанием «открытая» для истории и Божественного действия в ней, оказалась «перевернутой», сориентированной уже не на настоящее и будущее, а на некую особую «ситуацию» в прошлом, а потому и утратившей свой смысл. Бывшие политические и церковные центры империи: Константинополь, Александрия, Антиохия, — превратившиеся в столицы нехристианских государств или глухие восточные деревеньки, все еще удерживают былые громкие титулы и как ни в чем не бывало отстаивают свои древние «права», словно не «преходят» и время, и естество, и самый «образ мира сего», словно Божественный замысел и Божественная воля раз и навсегда осуществились в одном–единственном обществе, одном–единственном государстве и одной единственной культуре. Приходится признать, что православные историки и богословы, по–видимому, не вполне еще осознали всю глубину этой метаморфозы восточнохристианского сознания, трагического разрушения того, что составляло самый его стержень. Уяснить причину этой метаморфозы — значит понять уникальное значение и всю важность «русской главы».
Во всем православном мире лишь Россия избежала изоляции и исторического «кенозиса» — неизбежных следствий турецкого завоевания и господства. Ее политическая независимость и территориальный рост, с одной стороны, и падение Византии, равно как и претендовавших на ее наследие эфемерных православных «империй», — с другой, порождали новое историческое сознание, выдвигали новые проблемы, формировавшие, в свою очередь, русскую культуру. И в конечном счете именно этот исторический «вызов» привел Россию к творческому переосмыслению исходного византийского опыта. Но это переосмысление вряд ли могло осуществиться без другого «вызова» — на сей раз со стороны Запада. Войти в поле зрения Церкви и ее миссии, стать предметом отнесения к ключевому «опыту» Царства Божия история могла лишь через восстановление вселенского сознания и видения, через возврат в то, что, собственно, и есть история. Насильственный и радикальный поворот России на «западный» путь при Петре Великом вынуждал русское сознание к поискам аутентичности, к решительной переоценке как «западного», так и «восточного» исторического и религиозного опытов, встретившихся теперь внутри одной культуры. И именно из этого поиска, из трагической его глубины и неотвратимо сопутствующих ему страданий шаг за шагом возникало то видение, та духовная и интеллектуальная перспектива, которая пронизывает и объединяет русскую культуру XIX в. при всей пестроте и по противоположности многих ее проявлений — и которая определяет то, что Бердяев называл «русской Идеей».
Нет единодушия ни по поводу содержания этой идеи, ни относительно ее значения для православного богословия. Исследователи русской истории и культуры, богословы и философы спорят и толкуют ее всяк на свой лад. Для одних она была творческим развитием православного сознания, для других — пагубным уходом от византийской модели. Никто, впрочем, не отрицает, что Россия в начале нынешнего столетия — накануне крушения империи — переживала небывалый и многообещающий духовный подъем (в том числе и возрождение богословской мысли). Вопрос об общей ориентации этого процесса вставал неоднократно. А ориентация эта как раз и подразумевала синтез эсхатологии и истории, вторичное включение «мира сего» — его энергии, творчества и культуры — в перспективу Царства Божия.
Как бы мы ни оценивали все известные до сих пор ответы, но поднятые этим движением проблемы, весь его пафос и целеустремленность снова возвращают нас вспять, к исходной точке христианского опыта мира, с его антиномическим сопряжением да» и «нет». Светозарная пасхальная духовность преподобного Серафима Саровского, антиномичный и профетический мир произведений Достоевского, отважные прозрения русских религиозных мыслителей, грезы русских поэтов — каждый из этих компонентов «русской идеи» можно и должно изучать, оценивать и интерпретировать порознь. Но, собранные воедино, все они безошибочно отражают и являют общее видение, ставят перед нами все те же «конечные вопросы» — о Боге и мире, о Царстве Божием и истории. В этом смысле русский духовный феномен куда ближе подлинно восточной и подлинно византийской традиции, ее эсхатологическим корням и пафосу, чем псевдоконсерватизм тех, кто мыслит мир Византии и святоотеческого богословия замкнутым, жестким и самодостаточным «миром в себе», а задачу сегодняшних христиан ограничивает механическим воспроизведением внешних форм и археологической каталогизацией. Эта преемственная связь подтверждается фактами. Именно в России после нескольких веков насильственного «вколачивания» ее в западные формы православное богословие заново обрело свои подлинные истоки: святоотеческую мысль, литургическое предание, мистический реализм, духовное созезцание. He случайно на Востоке, как, впрочем, и на Западе, сейчас все больше и больше жаждущих и взыскующих аутентичного христианского видения, в котором вечная и трансцендентная истина оказывается «созвучной» и нашему времени, и находящих его в этом русском «источнике».
Но как все же быть с вопросом, которым мы начали статью? Как быть с историческим крушением этого «восточного мира», его катастрофической метаморфозой в бастион атеизма и материализма, государственного тоталитаризма и подавления всякой свободы? Нет ли и впрямь какой–то изначальной ущербности в самом «мировоззрении», которым жил этот мир и которое, как мы старались показать, было его духовным стержнем? В поисках ответа мы наталкиваемся на давнее и в настоящее время, пожалуй, особенно упорное непонимание Востока Западом, как всегда коренящееся в фатальной неспособности понять восточную реальность с точки зрения иного, незападного сознания. Ведь именно Запад, а не Восток (во всяком случае, не русские) отождествляет Россию и коммунизм, Россию и советскую политическую систему и отстаивает такое отождествление как основную предпосылку всех своих контактов с коммунистическим миром. В самой России задолго до революционного взрыва он был пророчески предсказан, а затем истолкован и осмыслен как явление преимущественно западного происхождения, как результат отречения России — в лице и имперской бюрократии, и «интеллигенции» — от собственных исторических и духовных основ и как результат раболепства перед чуждыми идеями и «видениями». «Именно здесь проявляется поистине непостижимая слепота Запада и всех его «экспертов» и «аналитиков». По–видимому, им не дано понять, что нет ничего более чуждого «Востоку» , чем тот психологический, интеллектуальный и эмоциональный тип личности, к которому принадлежали Ленин и Троцкий; что именно большевики явили миру самый законченный пример оторванности от корней и традиций; что движущей силой большевизма была и остается громадная и прямо–таки иррациональная ненависть к тому, что они называли «Россией». Будь эти «эксперты» получше знакомы с русским языком, они обнаружили бы, что даже «русская», с позволения сказать, речь советского официального мира глубоко отчуждена от русской культуры и звучит как топорный перевод искусственных и потому не имеющих эквивалента конструкций.
Все вышесказанное не следует понимать как попытку возложить на Запад главную ответственность за крушение России, а ее выставить невинной жертвой западного «заговора». Гибель прежней России есть следствие русского греха, и Россия должна держать за него ответ сама. Я утверждаю лишь, что это был грех против упомянутой нами «русской идеи», а никак не естественный ее итог или порождение. Грех же — и это необходимо понять — состоял прежде всего в некритическом усвоении «западной», а не «восточной» идеи. То было усвоение специфически западной эсхатологии, т. е. эсхатологии без предела, — усвоение западного идеала царства, т. е. царства без царя, где человек сведен к сплошной материи, к общественно–историческим проявлениям, а его духовный и интеллектуальный горизонт замкнут «миром сим». Эта редукция человека — его непрерывно углубляющееся отчуждение от своей божественной и трансцендентной судьбы — началась на Западе со времен Ренессанса, продолжалась в эпоху Просвещения и достигла апогея в энтузиастическом утопизме XIX в., всецело проникнутом духом «мира сего». И, как свидетельствуют факты, именно эта редукция стала объектом острой критики со стороны наиболее самобытных и глубоких русских мыслителей от Чаадаева до Достоевского. С другой стороны, та же редукция всячески приветствовалась «западничающей» русской либеральной интеллигенцией. Последняя, как верно определил ее Бердяев, «занималась не политикой, а спасением человека без Бога» , в чем и состояло всегда главное содержание западного секуляризма, засасывающего нынешних христиан Запада. Пришло время понять, что российская революция и выросший из нее лжемессианистский тоталитаризм были победой западной идеи на русской почве, доведением до абсурда западной мечты, буквальным применением к России западных программ.
В том, что эта идея «имела успех» на «Востоке», а не на «Западе», в России, а не в Западной Европе, сказалось действие многих факторов, одним из которых было изначальное восприятие революции многими русскими людьми как исполнения «эсхатологических» народных чаяний и интерпретация ими «западной» идеи в «восточных» понятиях — и все это вопреки той удивительной, буквально обезоруживающей искренности, с которой сами большевики последовательно и упорно отметали подобную интерпретацию. Александр Блок, самый прославленный поэт русского «серебряного века», в своей знаменитой поэме «Двенадцать» изобразил Христа во главе отряда красногвардейцев, шагающих сквозь метель и снег, кровь и убийства. Но если в России это заблуждение сменилось скорым и трагическим прозрением, то на Западе — и это чрезвычайно важно! — оно сохранялось еще долго (а во многих отношениях сохраняется и по сей день), мешая разглядеть нынешнюю русскую действительность в ее истинном свете. Осознав всю глубину той духовной лжи, которую он невольно выдал за истину, Блок изнемог от отчаяния и перед смертью умолял жену уничтожить все экземпляры поэмы. Есенин и Маяковский, каждый на свой лад разделившие вину Блока, покончили с собой. В своих «Размышлениях о русской революции» Бердяев уже в 1924 г. разоблачил последнюю, как совершенно чуждую русской традиции, утверждая, что «Россия стала тем, чем она никогда не была прежде…». Тем не менее миф о специфически «русских» (и хорошо еще, если не «православных»!) корнях и подпочве советской реальности остается на Западе генеральной предпосылкой всех подступов к проблеме «русского коммунизма» и самих контактов с предполагаемыми его адептами. Основной же факт, которого в силу своего интеллектуального априоризма упорно не замечает Запад, есть неприятие советского коммунизма подавляющим большинством русского народа, а значит, и самой Россией. Непреложность этого факта, подкрепляемого множеством печатных и иных свидетельств, столь очевидна, что непробиваемая слепота Запада вызывает в памяти евангельские слова: «Если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лк. 16, 31). Как это ни парадоксально, но христиане Запада, торжественно и со всей свойственной им обстоятельностью готовящиеся к «диалогу» с марксистами, будут, пожалуй, горько разочарованы, узнав, что никаких «марксистов» за железным занавесом не осталось.
Вот почему надо отбросить, как явно нелепое, истолкование русской «катастрофы» в категориях того западного «опыта», который мы пытались описать выше. Судьба России — одно из явлений величайшего кризиса западной цивилизации, который не только не закончился, но лишь вступает в решающую фазу. В самой же России под обломками этого духовного крушения различается новое и творческое стремление ко второму обретению «русской идеи» вкупе с питающими и образующими ее православными истоками. Возвращение «западничающей» русской интеллигенции на свою духовную родину, начавшееся еще до революции, но ограничившееся тогда проповедью нескольких новых «пророков», ныне стало важным, хотя и всячески замалчиваемым фактором жизни России. Неопровержимым доказательством тому служит творчество Солженицына и других русских писателей, обширный поток «самиздата», вновь пробудившаяся тяга к русской религиозной мысли и множество других знамений, равно как и относящееся к реальности иного уровня — поистине чудесное, невзирая на полувековые гонения, выживание Русской Православной Церкви. Все это едва ли дает право с пренебрежением отбросить восточный опыт или назвать его «несостоятельным».
ОДНОИ из самых бесспорных примет наших дней нужно признать неспособность современного сознания мыслить будущие судьбы человечества в категориях «христианского государства». Секуляризация мира, т. е. разрыв его не только с Церковью, но и с религиозным мировоззрением, как таковым, стала фактом, а значит, и самоочевидной предпосылкой всякого христианского размышления и прогноза относительно этого мира.
Именно в трактовке и оценке этой секуляризации, в самой реакции на нее словом и делом христианский Запад и христианский Восток — каждый сообразно своему опыту — пришли к более или менее разным выводам. Уяснение этого различия, обмен суждениями, восстановление (если оно возможно) общего христианского видения мира и христианского действия в нем — вот что могло бы стать одной из важнейших «экуменических» задач дня.
С православной точки зрения, западных христиан все больше и больше увлекают (если не обуревают) мир, общество, история и т. п. Эта увлеченность может быть «радикальной» или «умеренной», «революционной» или «эволюционной», но все ее разновидности сходятся в убеждении, что пришло время переориентировать Церковь на мир, его нужды и проблемы. Отсюда и усвоение если не «секуляризма», как такового, то по крайней мере термина «секулярный» в качестве само собой разумеющегося и однозначного определения христианской мысли и христианского действия, внутренней мотивировки и критерия всякого христианского «обновления».
Такое единодушие — постольку, поскольку оно все больше определяет атмосферу экуменического движения, — буквально навязывается теперь и Православию, и именно здесь может возникнуть очаг новой экуменической тревоги, хотя ни «западные», ни «восточные» пока еще не осознали это в полной мере: «западные» в силу убеждения, что именно их категории, их стиль богословствования универсальны по самому факту своего существования; «восточные» же потому, что они за малым исключением в богословском плане безмолвны, а в экуменическом — пассивны.
Но за безмолвием и пассивностью большинства православных стоит неизбывное ощущение глубокой неправды всей этой не то увлеченности, не то одержимости (с православной же точки зрения вернее последнее) «миром» и его проблемами. Это ощущение еще не нашло адекватного выражения в богословских терминах, богословской интерпретации и обоснования. Реакция православного мира, как не раз бывало и раньше, колеблется между резким осуждением западного мироотношения, которое искажает и затемняет православное видение, сводя его к псевдоапокалиптическому отвержению мира, и поиском компромисса, который, как всякий компромисс, лишь усугубляет противоречия. Настала пора переработать «ощущение» в более детализированную и конструктивную критику, которая немыслима без соотнесения нынешнего западного пути с восточным «опытом» во всей его целостности.
Приступая к сравнительному описанию двух «опытов», мы с самого начала определили их как юридический и эсхатологический и при этом заметили, что юридический опыт воплотился в западную модель церковно–государственных отношений в том виде, в каком она сложилась после обращения Константина и примирения Церкви с Империей. Сейчас нужно подчеркнуть, что этот юридический подход не ограничивался государством, но предполагал куда более широкое, фактически универсальное, мировоззрение, которое с точки зрения «восточных», можно определить как не–эсхатологическое.
Средневековый западный синтез основывался на постепенном изживании раннехристианской концепции Царства Божия — разумеется, не самого термина, но его первоначального смысла, предполагающего антиномичное пребывание в «мире сем» «мира грядущего», а вместе с тем учитывающего и заложенное в этой антиномии напряжение. Именно эта антиномичность и особая напряженность святоотеческого переживания тайны утрачиваются в западном понимании веры, в западной интуиции Бога и Творения, в теологии таинств, в учении об освящении, в экклезиологии и сотериологии Запада. Если все прежние споры православного Востока и латинского Запада — о filioque, о первородном грехе, о тварной природе благодати, о сущности и энергиях, о чистилище и даже о папстве — невзирая на мнимую их «неактуальность», перевести в экзистенциальную плоскость и рассмотреть со стороны «практической» ценности, то мы ясно увидим, что с точки зрения восточного сознания общим их знаменателем окажется западное отвержение тайны, т. е. сопряжения — больше в мистическом и экзистенциальном, чем рациональном, синтезе — абсолютной трансцендентности Бога и Его реального присутствия. Но ведь эта тайна и есть тайна Царства Божия, тайна веры и благочестия Церкви, которые укоренены в опыте пребывания здесь и теперь того, что еще должно явиться; в приобщении через «мир сей» Тому, Кто всегда «в вышних», в подлинной причастности «радости и миру в Духе Святом».
По причинам, которые мы не можем сейчас рассматривать, Запад рационализировал тайну, т. е. лишил ее антиномической, или эсхатологической, глубины. Вследствие этого важнейшее для раннехристианского сознания напряжение между «нынешним» и «грядущим», «ветхим» и «новым» заместилось вневременным по существу своему различием между «натуральным» и «сверхъестественным», «природой» и «благодатью». Со временем же и сама благодать, во имя окончательного утверждения абсолютной трансцендентности Бога стала рассматриваться не как Божественное присутствие, а как тварное орудие (medium). Эсхатология, таким образом, стала всецело «футуристической», а Царство Бо–жие — той реальностью, что лишь «грядет», но не опознается уже «теперь» как новая жизнь в Духе Святом, как реальное предвосхищение новой твари. В этом новом теологическом обрамлении «мир сей» уже не воспринимается как «преходящий», как «конец», который должен быть преобразован в «начало», как реальность, позволяющая прикоснуться к Царству Божию. Он, этот мир, жаждет обрести свой собственный, стабильный, чуть ли не самодостаточный смысл, имеющий, правда, Божественную санкцию (causa prima, analogia entis), но в то же время стремящийся стать автономным объектом познания и осмысления.
При всей своей отнесенности к «миру сему» западный средневековый синтез основывался на отчуждении христианской мысли от ее эсхатологического истока, точнее, на ее собственной секуляризации.
Итак, еще до формального «освобождения» мира от гегемонии и контроля Церкви, до его «секуляризации» в узком значении слова, западный «мир» был секуляризован самой христианской мыслью. В раннехристианском мировоззрении «мир сей» не тождествен миру «секуляр–ному». В своем отпадении и бунте против Бога он мог быть миром недугующим, достойным осуждения и умирающим; находясь во власти «князя мира сего», он мог впасть в ослепление, подвергнуться растлению и порче, но он никогда не был миром «автономным». Термин «мир сей» обозначает состояние, а не природу, и именно по этой причине он является местом эсхатологического напряжения между «ветхим» и «новым» и может быть пережит во Христе как преображенная «новая тварь». Эсхатология, таким образом, есть самый способ отношения Христа к миру, Его присутствия и действия в нем. Отрекаясь от этой эсхатологической перспективы, Запад фактически отверг всякую возможность реальной «интерпретации» Церкви и мира, или, говоря богословским языком, реального освящения мира. А единственной альтернативой этому мироощущению стало мирощущение юридическое. В соответствии с ним Церковь может доминировать в мире и править им, как это было в средневековом обществе, может быть и отделена от него в законодательном порядке, как это случилось и до сих пор случается в новейшее время. В обеих ситуациях мир, как таковой, остается «секулярным».
С этой точки зрения «секуляризация», начавшаяся в эпоху Ренессанса и непрерывно совершающая на протяжении всей «современности», была на самом деле «второй» секуляризацией или, лучше сказать, естественнным и неизбежным результатом первой. Дело в том, что мир, в котором средневековая Церковь политически и интеллектуально доминировала, был миром «секулярным». Обе ее претензии — в политическом плане быть выше государства, а в интеллектуальном — источником знания, превосходящего человеческий разум, — были по сути своей юридическими, т. е. внешними относительно природы того общества, в котором она хотела первенствовать. Секуляризация изменила соотношение сил, но не смысл их отношения. «Мир» (т. е. государство, общество, культура) все решительнее отвергал внешнее подчинение авторитету Церкви, ее высшую «юрисдикцию» над собой, но не «христианскую» идею государства, культуры и пр. Каким бы мятежным и преступным ни было это отвержение в глазах Церкви, свыкшейся с ролью носительницы божественной «власти», само по себе оно вовсе не говорило о радикальном изменении западного мировоззрения, как такового. И в этой связи Реформация с ее радикально «секулярным» пониманием мира на самом деле куда ближе средневековому синтезу, чем посттридентскому католичеству с его запоздалой борьбой за власть и авторитет.
Из всего сказанного следует, что подлинная новизна духовной ситуации современного Запада заключается не в «секуляризации» (если понимать последнюю как автономию мира от власти Церкви или даже как автономию культуры от «религиозных ценностей»). Как ни парадоксально, эта новизна состоит в усвоении (сравнительно недавнем) христианским Западом или, по крайней мере западным богословием такой ориентации, которую можно назвать секулярной эсхатологией современного секулярного мира. Это и вправду новый факт, отразивший всю богословскую и экуменическую ситуацию Запада. Мы определили ее как парадоксальную, ибо западная Церковь во имя мирского «строя и лада» фактически отказалась от своего эсхатологического мировоззрения, заменив его незыблемыми и абсолютными нормами и осмыслив «мир сей» как удобоопределимый универсум с четко обозначенным и замкнутым горизонтом. Человеку же в виде награды за соблюдение, т. е. ненарушение, этого «строя и лада» обещано спасение в «мире ином». В той мере, в какой человек берег этот «строй», т. е. поддерживал необходимый баланс между своим «мирским» и «религиозным» долгом, он был «в ладу» с Богом, Церковью и миром.
Такое решение не давало, однако, желанного результата. Самым ироническим, но вместе с тем, пожалуй, и трагическим зигзагом всей «христианской» истории было странное перемещение эсхатологического мировоззрения из Церкви в светскую культуру. Именно христианская вера «заразила» человеческий разум определенным видением и переживанием космоса и времени, материи и истории, сделала «мир» понятием и опытом, соотнесенным с Царством Божиим, а человека поставила перед своего рода «невозможной возможностью». И именно западная Церковь отвергла это видение и заменила его такой моделью универсума, где не было места истории и движению, исторически уникальному и неудержимому, динамичному и беспокойному духу. Но изгнанный из Церкви вирус этого видения не только не погиб, но мало–помалу переродился в дух побуждения к «секуляризации», т. е. к освобождению мира от Церкви. Начиная от среденевековых сект и всякого рода «обновлений», на протяжении всего Ренессанса и эпохи Просвещения, во времена рационализма, романтизма и социально–политических утопий идея Царства всегда стояла в центре секу–лярного сознания, но то было царство, — и здесь корень всей трагедии! — все более отделяющееся от своего Царя и отождествляющее себя с «миром сим», как таковым. Секуляризованная эсхатология, вера в непременное осуществление всех чаяний и стремлений человечества, в «историю», «справедливость», «свободу» и другие ложные абсолюты — вот чем была и до сих пор остается се–кулярная вера секулярного человека, которая непостижимым образом перемалывает и преодолевает все более или менее регулярно сотрясающие ее приступы пессимизма и усталости.
Похоже, что западные христиане — католики и протестанты не просто усвоили эту «секуляризованную эсхатологию», но приняли ее на всех ее условиях, т. е. в качестве критерия христианской веры и христианского действия, в том числе и всякого «обновления» христианства, как надежное обрамление и бесспорное содержание христианской эсхатологии. После нескольких веков почти полного забвения «эсхатология» снова становится модной темой западного богословия. Однако мода эта диктуется не интересом к ранней эсхатологии, где предел не мир, но трансцендентное Царство Божие, а поисками общего языка с секулярным миром. Даже там, где видны усилия сберечь идеал этого Царства, его осознают лишь как «горизонт надежды», а не как главную реальность христианского опыта. Погоня за «соответствием» духу времени, «вовлеченность» в самые невероятные попытки отыскать у Христа признаки социального или политического «радикализма», вдохновенное «переосмысление» христианства в категориях секулярных утопических идеологий — все это позволяет думать, что христианский Запад, однажды допустив «секуляризацию» мира во имя абсолютной трансцендетности Бога, готов теперь пожертвовать и «трансцендентным» содержанием христианства.
В СВЕТЕ всех предыдущих утверждений едва ли нужно говорить, что восточному христианству такая перспектива кажется совершенно чуждой. Верно, что усиливающееся порабощение Запада «секуляризованной идеологией» до сих пор не встретило согласного и внятного отзыва православных, если не считать таковым общее настроение тревоги и озабоченности. И цель настоящей статьи — хотя бы в общих чертах показать, что корни этой озабоченности не в пресловутом «безразличии» к миру и его проблемам (том самом безразличии, которое на Западе любят выводить из «литургического», «сакраментального» и «созерцательного» характера Православия), но в совершенно ином мировоззрении, ином опыте и ином видении этого мира. Мы называем его «эсхатологическим», но отнюдь не в том смысле, какой вкладывает в это определение, находящееся под сильным воздействием Запада послеотеческое богословие. Это эсхатологическое мировоззрение обретается в целостном опыте Церкви, и прежде всего в ее литургическом опыте, равно как и в ее неповрежденном Предании. Именно здесь — подлинные истоки и живое содержание святоотеческой мысли, в отрыве от которых нельзя уяснить истинное ее значение.
Суть этого мировоззрения отражается простой формулой: целиком пребывая в мире, будучи в различных отношениях полезной ему, выполняя свою историческую, вселенскую и прочие функции, Церковь и каждый отдельный христианин вместе с тем должны быть совершенно не от мира. В этом «не» нет, однако, ничего негативного и ничего общего с бегством от мира, презрением к нему, квиетизмом и т. п. — словом, с тем, что можно назвать «спиритуалистическим» безразличием. По своему наполнению оно глубоко позитивно, ибо означает причастность Царству Божию — духовной реальности, уже возвещенной Духом Святым, данной теперь и вместе с тем грядущей. Знамением и таинством такой реальности и является Церковь, пребывающая «в этом зоне». Вне этой реальности все сущее в мире не имеет конечного смысла и ценности. Именно здесь находится то, в чем христианский активист Запада усматривает причину восточной «неотмирности» — «литургической», «сакраментальной», «созерцательной» и т. п., и что на самом деле есть главное условие всякого истинного открытия мира, источник настоящего богословия христианского действия и вовлеченности.
В этом контексте совершенно неуместен вопрос о практическом значении возврата к эсхатологическому мировоззрению, т. е. о том, насколько способно оно «содействовать» решению «животрепещущих» мировых проблем. Главная мысль нашего рассуждения — в том, что вне этого опыта невозможно опознать ни одно проявление подлинно христианской мысли и действия. До тех пор пока Церковь пленена миром и его идеологиями, пока она воспринимает все «проблемы» человечества в их секулярной и мирской постановке, нам не выйти из порочного круга. Прежде чем «оперировать» понятием «Царства Божия», следует очистить его от всякого «утилитаризма». И как только мы, по слову литургического гимна, «всякое <…> житейское отложим попечение», мир и все его проблемы откроются нам как предмет христианской любви, как поприще христианской миссии и действия.
Но по крайней мере одну мысль можно и нужно высказать. На «секуляризованную эсхатологию» современного мира христианам дано ответить лишь новым обретением своей эсхатологии. В самом деле, не является ли исступленная приверженность христианского Запада к этой «секуляризованной эсхатологии» оборотной стороной трагического непонимания и ложной интерпретации эсхатологии подлинной? Пока христиане в своем горячем стремлении к «актуальности» переносят акцент с «трансцендентного» на «имманентное», в мире усиливается жажда того, что могло бы трансцендироватъ жизнь, т. е. наполнить ее высшим смыслом и содержанием. За дешевым или романтически наивным бунтом против «систем» и «истеблишмента», за риторической «революцией» и «освобождением» стоит не только глубокая тоска по абсолюту, но и тяга к причастности и реальному обладанию им. А за «юридическим» проглядывает тоска человека наших дней по «эсхатологическому», т. е. по Царству Божию. Но разве не о нас сказано: «Видехом Свет истинный, прияхом Духа Небеснаго»? И кто, кроме Церкви, может насытить эту жажду, наречь Царя и провозгласить Царство?
Рождественское богослужение Православной Церкви
Рождественский цикл
Празднование Рождества Христова (25 декабря) начинается с подготовительного периода. За сорок дней до празднования события рождения нашего Господа мы начинаем Рождественский пост, очищая душу и тело для того, чтобы должным образом войти в праздник и участвовать в великой духовной реальности Христова пришествия. Время поста не представляет собой особого литургического периода, подобно Великому посту; Рождественский пост имеет скорее «аскетическую», чем «литургическую» природу. Однако, период Рождественского поста отражается в церковной жизни рядом литургических особенностей, которые указывают на грядущий праздник.
Тема приближающегося Рождества в богослужениях сорокадневного подготовительного периода появляется постепенно. В начале поста — 15 ноября — ни в одном из песнопений еще не упоминается о Рождестве, затем, пять дней спустя, накануне празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы, в девяти ирмосах рождественского канона мы слышим первое извещение о приближающемся событии: «Христос раждается, славите!»
С этими словами что–то изменяется в нашей жизни, в самом воздухе, которым мы дышим, во всем строе церковной жизни. Мы как будто чувствуем где–то вдали первый свет самой великой радости из всех возможных — пришествия Бога в Свой мир! Церковь возвещает таким образом приход Христа, воплощение Бога, Его вхождение в мир для спасения мира. Далее, в два воскресенья перед Рождеством, Церковь вспоминает Праотцев и Отцев: пророков и святых Ветхого Завета, которые подготовили пришествие Христа, претворив историю в ожидание спасения и восстановления человечества Богом. Наконец, 20 декабря Церковь начинает предпразднство Рождества, литургическая структура которого подобна Страстной седмице перед Пасхой — потому что с рождения Сына Божия в виде Младенца началось Его спасительное служение ради нашего спасения, которое далее приведет к завершающей крестной жертве.
Навечерие
24 декабря, в Навечерие Рождества, совершаются следующие богослужения:
1) Часы,
2) Вечерня и
3) Божественная литургия св. Василия Великого.
Появляясь в конце предпразднства и всего поста в целом, Часы соединяют в себе все темы праздника для того, чтобы торжественно возвестить их в последний раз. В специальных для каждого Часа псалмах, гимнах и библейских чтениях провозглашается радость и сила Христова пришествия. Это — последнее размышление о вселенском значении Рождества, о решающих и радикальных переменах, которые оно принесло всему творению.
Вечерня, которая обычно следует за часами, непосредственно начинает празднование, потому что, как мы знаем, литургический день начинается с вечера. Тон праздника задается пятью стихирами на «Господи воззвах…» Они — поистине взрыв радости о даре Христова воплощения, которое совершилось ныне. Восемь библейских чтений показывают, что Христос явился исполнением всех пророчеств, что Его Царство — Царство «всех веков», что вся человеческая история обретает в Нем свой смысл, а центром Его прихода в мир была вся вселенная.
Литургия св. Василия Великого, которая следует за Вечерней, в прошлом была крещальной литургией, за которой катехумены (готовящиеся ко Крещению) принимали Крещение, Миропомазание и становились членами Церкви — Тела Христова. Двойная радость праздника — для новокрещеных и прочих членов Церкви — выражена в прокимне дня:
Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя. Проси от Мене, и дам Ти языки достояние Твое, и одержание Твое концы земли.
В конце службы священник выносит на середину храма зажженную свечу и в окружении прихожан запевает тропарь и кондак праздника:
Рождество Твое, Христе Боже наш,
Возсия мирови свет разума.
В нем бо звездам служащии звездою учахуся
Тебе кланятися, Солнцу правды,
И Тебе ведети с высоты Востока.
Господи, слава Тебе!
Всенощное бдение и Литургия
Поскольку праздничная Вечерня уже была отслужена, Всенощное бдение начинается с Великого повечерия и радостного возгласа пророка Исаии: «С нами Бог!» Утреня совершается по чину великих праздников. На ней впервые полностью поется канон «Христос раждается…» — один из самых красивых канонов в православном богослужении. Во время пения канона верующие прикладываются к иконе Рождества Христова. Далее следуют стихиры на Хвалитех, в которых радостно соединяется вся праздничная тематика:
Веселитеся, праведнии,
Небеса, радуйтеся,
Взыграйте, горы, Христу рождшуся!
Дева сидит, херувимом подобящися,
Носящи в недрех Бога Слова воплощенна;
Пастырие Рожденному дивятся,
Волсви Владыце дары приносят,
Ангели воспевающе глаголют:
Непостижиме Господи, слава Тебе!
Заключает празднование Рождества Христова непосредственно Литургия дня с ее праздничными антифонами, которые возвещают:
Жезл силы послет Ти Господь от Сиона, и господствуй посреде врагов Твоих. С Тобою начало в день силы Твоея во светлостех святых Твоих.
Попразднство
На следующий день совершается празднование Собора Пресвятой Богородицы. Соединяя рождественские гимны с песнопениями, прославляющими Матерь Божию, Церковь указывает на Марию как на того человека, благодаря которому стало возможным Боговоплощение. Человечество Христа — конкретно и исторически — есть то человечество, которое Он воспринял от Марии. Его Тело — это прежде всего Ее тело, Его жизнь — это Ее жизнь. Праздник Собора Пресвятой Богородицы, вероятно, является в христианской традиции наиболее древним праздником в честь Девы Марии, началом Ее церковного почитания.
Шесть дней попразднства продолжаются до 31 декабря и завершают рождественский период. В течение этих дней на богослужениях Церковь повторяет гимны и песнопения, прославляющие воплощение Христа, напоминая, что источник и основание нашего спасения можно отыскать только в Том, Кто, будучи предвечным Богом, ради нас пришел в мир и родился как маленький Младенец.
Перевод с английского священника Андрея Дудченко, 2001.
Русское богословие 1920–1972
Эта статья была подготовлена в 1967 году в качестве Седьмой Ежегодной Библиографической Лекции на Объединенном богословском семинаре в Ричмонде, штат Вайоминг. Она было издана ротаторным способом в 1969 и переиздается здесь (St. Vladimir’s Theological Quarterly) в пересмотренной форме с разрешения Объединенного богословского семинара.
Исторический фон
Пока нет целостных исследований послепатристического периода в истории православного богословия. Однако, кажется, существует общее согласие относительно значения его развития, которое было сформировано и определено двумя главными факторами: исчезновением старых центров, а поэтому и старой традиции богословского исследования, следствием чего стало долгое «западное пленение» православной богословской мысли. Падение Византия вызвало глубокий богословский кризис, который, в некотором смысле, не был полностью разрешен и не преодолен даже сегодня, и который непосредственно составляет постоянную тему православного богословия. Хотя не следует преувеличивать культурный «мрак» Турецкого периода, невозможно отрицать, что в богословии имели место глубокие изменения, определившие его судьбу с тех пор. Отсутствие высших богословских школ вынудило православных студентов искать богословское обучение на Западе. Обученные в римско–католических и протестантских университетах, эти богословы сознательно или подсознательно использовали богословские категории, терминологию и формы аргументации, чуждые традиции их собственной Церкви; православное религиозное мышление подверглось тому, что современный русский богослов, отец Георгий Флоровский, назвал псевдоморфоза.»
[52] И хотя эти обученные на Западе богословы остались, с несколькими исключениями, преданными православию, имела место радикальная перемена в самом этосе и стиле богословия; и возникла богословская традиция и, позже, богословские школы, которые были отчуждены от традиционных форм православного благочестия и духовности. Поэтому история современного православного богословия в целом может быть описана, как долгий опыт преодоления этого «отчуждения», восстановления его независимости от западных образцов и возвращения к его собственным оригинальным источникам.
Именно на этом общем фоне можно понять сложность и особенности русского богословского развития. Россия вступила в Византийское религиозно–политическое «Содружество наций» в конце десятого века, и Русская церковь оставалась в формальной зависимости от Константинополя до середины пятнадцатого столетия. Этот формирующий период был описан как " Русский Византизм ": Киевская Русь, при всех ее культурных и религиозных достижениях, не шла дальше простой ассимиляции византийского наследия в славянском, кирилло–мефодиевском переводе. Если некоторые историки и обнаруживают уже в этой ранней стадии определенные специфически–русские акценты и духовные направления
[53] , то принадлежат они более сфере благочестия в целом, чем богословской рефлексии. Однако, в тринадцатом столетии, нормальное развитие этого Русского Византизма было прервано монгольским завоеванием, породившим тенденцию политического, церковного и духовного отчуждения России от Византии. Перемещение политического и церковного центра из Киева в Москву, развитие национального объединения вокруг этого нового центра, падение Константинополя — все вело к изоляции Русской церкви от православного Востока и развитию нового ощущения самодостаточности, которое часто принимало форму мессианского ровозглашения того, что Москва — Третий Рим — является последним «фокусом» и центром Православия. К тому же, отсутствие любой устойчивой традиции богословского обучения (Московская Русь не имела никаких организованных богословских школ до восьмидесятых годов семнадцатого столетия), вызванный этим значительный акцент на внешних формах, (как, например, литургическое благочестие, лишенное богословской рефлексии), и растущая зависимость церкви от государства, сделали Россию, открытой и уязвимой к новым западным влияниям. Московский период (пятнадцатый–семнадцатый века) таким образом характеризуется, с одной стороны, постоянным усилием, чтобы достигнуть окончательного оформления специфически «Русского Православия» и, с другой стороны, столь же постоянным притоком западных идей и форм мысли, с которыми русская церковь не могла интеллектуально и богословски справиться.
Поэтому, есть ирония в том факте, что учреждение богословского образования на твердых и постоянных основаниях было делом царя Петра Великого, чьи административные и церковные реформы отметили в начале восемнадцатого столетия радикальную «вестернизацию» всей русской жизни. Директивно открывая церковные школы во всех епархиях и формулируя их первый учебный план, Петр установил принципы системы богословского образования которые, с некоторыми модификациями и преобразованиями, продолжались до коммунистической революции 1917 года. Система включала три уровня: высший (богословская академия), средний (семинария), и элементарный (духовное училище). В конце девятнадцатого столетия в России существовали четыре духовные академии (в Киеве, Москве, Санкт–Петербурге, и Казани), пятьдесят восемь семинарий, и сто пятьдесят восемь духовных училищ.
Новая богословская школа не была исключением внутри глубоко ориентированной на Запад культуры нового русского общества. Фактически она была создана и укомплектована почти исключительно импортированными выпускниками богословской академии Киева, основанной в начале шестнадцатого столетия, когда Киев и юго–западная Россия были под польским контролем, и вскоре ставшей главным центром латинской и схоластической трансформации православного богословия, крайним выражением последующего «западного пленения». Это киевское влияние определило путь русского «академического» богословия. Не только латынь стала больше чем на сто лет его языком, по самой сути в течение долгого времени это было «западное» богословие (Г. Флоровский), отражающее почти каждую стадию западного — католического и протестантского — богословского развития и существующее как богословская «суперструктура», глубоко отчужденная от живого опыта и предания Церкви.
Однако, как ни парадоксально, эта «вестернизация» русской богословской мысли, впервые после разрыва с византийской традицией вызвала новые поиски своей православной идентичности и привела к подлинному возрождению православного богословия. Интеллектуальная дисциплина и метод, приобретенные в школе, творческое участие в великих духовных достижениях западной культуры, новое чувство истории — все это постепенно освободили православных богословов от простой зависимости от Запада и помогло им в их попытках восстановить собственно православную богословскую перспективу. Новый интерес к истории Церкви и Отцам Церкви (фактически полный перевод их писаний был выполнен в богословских академиях), к литургии и духовности, вел, в своем развитии, к догматическому возрождению. К концу девятнадцатого столетия, русское академическое богословие стояло на своих собственных ногах, как в качественном отношении (Гарнак изучил русский язык, чтобы прочитать монографию о Феодорите Киррском), так и в смысле внутренней независимости. В то же самое время, и при воздействии того же самого творческого столкновения с Западом, имело место замечательное возрождение религиозных интересов вне узкой структуры профессионального богословия, бросая ему вызов новым пониманием и новым подходом к его собственным проблемам. Действительно, крайне существенно, что человек подобный А.С. Хомякову — духовному отцу и главному вдохновителю русской " религиозной философий» — " смог… оказать огромное влияние на пути русского богословия " (Г. Флоровский). И, наконец, иперский период в итории русской церкви явил замечательное возрождение монашества, которое, начиная с киевского периода, всегда фокусировало и вдохновляло большинство живых и духовных сил России.
Таким образом, в конце этого долгого развития, в России в последних десятилетиях этого века возник «религиозный Ренессанс», историю и значение которого только начинают изучать
[54] . Русское богословие входило в многообещающий творческий период.
Нынешнее положение
Революция 1917 означала трагический — но, благодарение Богу, не полный — перерыв этого процесса. В то время как в России начались долгие и насильственные преследования, сделавшие всю богословскую работу фактически невозможной
[55] , значительное число тех, кто играл ведущую роль в дореволюционном «Ренессансе», оказались в изгнании и таким образом получили два или три десятилетия свободы для творческой работы. Центр богословской работы переместился тогда из России в русскую диаспору. Некоторые богословы обеих традиций — «академической» и «свободной» — были приглашены преподавать на православных богословских факультетах Белграда, Софии, Бухареста, и Варшавы. В 1925 центр высшего богословского образования был основан в Париже, ставшем столицей русской эмиграции. Там, в течение больше чем сорока лет, блестящая группа ученых, имевших самые разные истоки, преуспевала в поддержании, несмотря на трудные материальные условия, очень высокого уровня богословской работы и замечательной продуктивности
[56] . После Второй мировой войны группа профессоров Свято–Сергиевского института присоединилась к профессорам Cвято–Владимирской семинарии в Нью–Йорке (основанный в 1937). Свято–Сергиевский институт издал двенадцать томов Православной мысли. Другое важное богословское и философское периодическое издание, Путь, редактировалось в Париже Н.А. Бердяевым и Б.П. Вышеславцевым (шестьдесят один выпуск, 1925–40). С 1953 года профессура Свято–Владимирской семинарии издавала St. Vladimir's Seminary Quarterly (по–английски). Таким образом, богословская работа, ставшая невозможной в России, не только смогла продолжаться в изгнании, но было обучено новое поколение богословов, способное воспринять традиции их преподавателей. С 1944 года в результате некоторого «потепления» в церковно–государственных отношениях, в СССР был вновь открыт ряд богословских школ, и начались первые попытки возобновления богословских исследований и даже публикации академических работ
[57] . Этому возрождению, однако, серьезно препятствовала, если не полностью прервала, новая волна преследований, которая началась в 1959 году; и условия, снова, стали крайне шаткими
[58] .
Священное Писание
По нескольким причинам библейские исследования представляют самую слабую область в современном русском богословии. Перед русской революцией, свободное обсуждение проблем, вытекающих из критического и исторического подхода к Библии подвергалось жестокой цензуре, если не полностью запрещалось в официальном академическом богословии. Уверен, одаренные библейские ученые были; и, как отмечал А.В. Карташов: " Качественно… академическая продукция русских богословских школ в библейской области было на уровне мировой науки. Наши ученые, однако, volensnolens (волей–неволей) хранили осторожно молчание о критической революции, которая имела место на Западе.»
[59] После 1917 года никакие исследования в СССР стали невозможны, и, к сожалению, среди тех, кто уехали из страны, очень немногие богословы была специалистами в библейских дисциплинах. Это, однако, — не единственное объяснение дефицита в библейской области. На более глубоком уровне, можно сказать, что православное богословие никогда не чувствовало себя «дома» в современной библейской науке и не принимало, как свою собственную, библейскую проблему, сформулированную в ходе западного богословского развития. Незатронутое Реформацией с его акцентом на Sola Scriptura (только Писание), православное богословие скорее неявно, чем явно, отвергает изоляцию Священного писания в закрытой и самодостаточной области изучения, и в то же время твердо придерживается библейских корней и «измерений» каждой богословской дисциплины: догматики, экклезиологии, нравственного богословия
[60] . Это, конечно, не означает, что возрождение и углубление библейской науки является невозможным или нежелательным в будущем; но можно предсказать, что такое возрождение будет состоять, прежде всего, в глубоком пересмотре и переоценке — в православных богословских категориях — самых исходных предпосылок западного библеизма. Попытка в этом направлении была сделана А.В. Карташовым, профессорам Ветхого Завета в Свято–Сергиевском институте (+1960) в его эссе «Библейская Критика Ветхого Завета (Париж: 1947, по–русски)
[61] , в котором он попытался обосновать критический подход к библейскому тексту, исходя из богословских следствий халкедонского догмата о двух природах во Христе. Нужно добавить, что эссе столкнулось с глубокой неприятием со стороны нескольких православных боголовов, но все же не вызвало нкаких существенных дебатов. Помимо этой одинокой попытки пересмотреть православное библейское богословие, появлялись тут и там интересные, но все же маргинальные исследования специальных вопросов. Н.Н. Глубоковский, ветеран Cанкт–Петербургской духовной академии, в изгнании преподававший в Софийском университете в Болгарии (+ 1937), издал две монографии — о Cвятом апостоле Луке и о соотношении между Евангелием и Апостольскими постановлениями
[62] . C. Безобразов, профессор Нового Завета в Cвято–Сергиевском институте (+ 1965), убежденный сторонник «form–criticism» (формальной критики), применил ее принципы в своей французской монографии об «Иоанновой Пятидесятнице» и других работах
[63] . А. Князев, унаследовавший кафедру Ветхого Завета в Cвято–Сергиевском институте после профессора Карташева, осуществил некоторые интересные разыскания библейских корней Мариологии
[64] . Русское богословие, очевидно, все еще ждет реального «обновления» «Библейского Отдела».
Догматическое богословие
Более значительным было развитие в области догматического богословия, и именно здесь можно ясно различать две главные тенденции или направления, связь и борьба которых составляют главную тему современного русского богословия. Было бы неточно назвать одну тенденцию «консервативной», а другую «либеральной», хотя оба термина иногда используются обеими сторонами. Представители обеих тенденций действительно объединены в их критике «западного пленения» русского богословия, в их желании снова укоренить богословие в традиционных источниках: Отцы, литургия, живой духовный опыт Церкви. Но в пределах этого единства, острое расхождение выражено в двух основных позициях. Для одной группы, критическому анализу подлежит все богословское прошлое, включая патристический период, хотя на ином, чем в западном богословии уровне. Православное богословие должно держаться его патристической основы, но должно также идти «далее» Отцов, чтобы ответить на новую ситуацию, созданную столетиями философского развития. И в этом новом синтезе или реконструкции, западная философская традиция (источник и мать русской «религиозной философии» девятнадцатого и двадцатого столетий), скорее чем греческая, должна снабдить богословие его конептуальной структурой. Таким образо сделана попытка «преобразования» богословия в новом «ключе», и это преобразование рассматривается как специфическая задача и призвание русского богословия. Этому направлению противостоит другое, в котором главный акцент стоит на " возвращении к Отцам». Трагедия православного богословского развития рассматривается здесь в прямом смысле, как отход богословской мысли от самого духа и метода Отцов, и никакая реконструкция или новый синтез не мыслятся вне творческого восстановление этого духа. «Стиль патристического века не может быть оставлен. Это — единственное решение для современного богословия. Нет никого другого, современного, языка, который может объединить Церковь.»
[65] Следовательно акцент на постоянной и вечной ценности греческих категорий для православной богословской мысли. «Русская богословская мысль," пишет Г. Флоровский, один из главных представителей этого направления, «должна пройти строгую школу христианского эллинизма… Эллинизм в Церкви стал вечным, вошел в ее структуру как вечная категория христианского существования.»
[66] Таким образом, расхождение касается основного вопроса о самой богословской ориентации, о самом духе и задаче современного русского богословия. Нужно добавить, однако, что, ни одно из этих двух направлений не было организовано в строгую «школу» и что большое разнообразие акцентов существовало в пределах каждого из них.
Наиболее типичный и «завершенный» представитель первого направления был Сергий Булгаков, профессор догматики в Свято–Сергиевском институте (+ 1944). Сын священника, он разделил «блуждания» русской интеллигенции и возвратился в церковь через марксизм и идеализм. Всю жизнь он строил богословскую систему, сосредоточенную на концепции Божественной Мудрости или Софии, которая была введена в русскую релииозную мысль Вл. Соловьевым
[67] и позже развита П.А. Флоренским
[68] . Его монументальная работа включает книги фактически по всем главным областям систематического богословия: христологии
[69] , пневматологии
[70] , экклезиологии и эсхатологии
[71] , Мариологии
[72] , ангелам
[73] , иконам
[74] , таинствам
[75] . Она встретила, однако, сильную оппозицию и формальные обвинения в ереси, и была осуждена в некоторых частях Русской церкви. Противоречие конечно не устранено, и только будущее и более беспристрастные исследования могут показать сколь многое из системы о. Булгакова останется неотъемлемой частью православного богословского развития. За исключением Л. Зандера
[76] , Булгаков не оставил после себя учеников. Другие представители этого направления (хотя не обязательно софиологии) работали главным образом в иных богословских областях. Нужно упомянуть имена В. Зеньковского
[77] , Б. Вышеславцева
[78] , и Н. Бердяева
[79] , разделявших это общее богословское направление, даже если они резко не соглашались по конкретным проблемам.
Наиболее видный богослов второго направления, бесспорно, Георгий Флоровский, многолетний профессор патрологии в Свято–Сергиевском институте (1925–48), позже декан Свято–Владимирской семинарии (1948–55), профессор Богословской школы Гарварда (1955–64), и теперь — Принстонского университета. Он имел решающее влияние на более молодое поколение православных богословов, как русских, так и нерусских, и также играл ведущую роль в формировании православной позиции в экуменическом движении
[80] . Хотя его главные достижения принадлежат областям патристики, истории, экуменической мысли (см. Ecumenical Theology, infra), он написал несколько важных догматических эссе относительно творения
[81] , искупления
[82] , Святого Духа
[83] и богословской антропологии
[84] . Того же самого патристического вдохновения — работы Владимира Лосского, преподававшего в Свято–Дионисиевском институт в Париже и в Сорбонне; его книга по мистическому богословию Восточной Церкви стала классикой на Западе
[85] , другие эссе издаются после его преждевременной смерти в 1958
[86] . Сергей Верховской, профессор догматики, сначала в Свято–Сергиевском институте (1944–45) и теперь в Свято–Владимирской семинарии, разделяет тоже общее направление, хотя с менее «историческим» и более «систематическим» и философским вдохновением. Его изданные работы включает одну книгу и несколько важных богословских эссе
[87] .
Экклезиология
Много факторов делают экклезиологию одной из центральных тем современного русского богословия: «переоткрытие» церкви в ее мистическо–сакраментальной сущности русской религиозной мыслью в девятнадцатом столетии, в особенности, А.С Хомяковым
[88] ; исчезновение православной империи, чья самоидентификация с Церковью мешала богословам обрести более глубокое понимание природы Церкви; новое и беспрецедентное явление православной диаспоры, дающей «экзистенциальное» измерение таким проблемам как единство, юрисдикция, национализм; и, наконец, экуменическое столкновение с неправославным Западом с его новым акцентом на экклезиологической теме. Общим направлением этой обновленной экклезиологической работы была попытка выйти за формальные и часто слишком юридические или «институциональные» определения Церкви и восстановить глубокие сакраментальные источники ее жизни и структур. Наиболее радикалым, последовательным, и поэтому дискуссионным образцом такой экклезиологии (которую он называет «евхаристической») был Николай Афанасьев (+ 1966), профессор канонического права и истории Церкви в Свято–Сергиевском институте. В ряде эссе и статей он развивал идею относительно Церкви, чья «форма» должна быть найдена в ее эсхатологическом выявлении в Евхаристическом собрании
[89] . Существенный вклад был сделан Георгием Флоровским, особенно в вопросах об апостольской преемственности и непрерывности
[90] ; авторами симпозиума по проблемам епископской власти (первенства апостола Петра)
[91] ; и, в более формальных вопросах и каноническом праве Александром Боголеповым
[92] .
Патристика
В православном богословии учение Отцов всегда принималось как главное воплощение Предания, и поэтому как живой критерий для богословской работы. В действительности, однако, патристическое наследие было в течение долгого времени, если не полностью игнорируемо, то сокращено до минимума, и что более важно, использовалось в пределах структуры богословских категорий и определений, едва адекватных духу Отцов непосредственно. Настоящая «революция», а не просто возрождение, началась около 1840 года, и ее значение было хорошо сформулировано в богословском докладе Священному синоду. «Русские богословы, " — писал его автор, Н. Казанцев, " станут независимы от латинских, немецких, французских и английских богословов в тот день, когда они смогут читать Отцов по–русски»
[93] . Первые кафедры патрологии были созданы в 1841 году, и с тех пор устойчивый поток переводов патристических текстов
[94] и монографий по патристическому богословию сделали Россию одним из лидеров в изучении патристики. Эта традиция выжила и после 1920. Два тома Георгия Флоровского о Восточных Отцах
[95] и Византийских Отцах
[96] были провозглашены шедеврами исторического и богословского анализа «патристической мысли». Восстановлением другого важного основания было реальное переоткрытие паламитского богословия — византийского движения четырнадцатого столетия, главным богословским апологетом которого был Cвятитель Григорий Палама (+ 1359). Хотя учение Паламы было «канонизировано» Церковью почти немедленно после его смерти, «ориентированное на Запад» православное богословие Турецкого периода едва упоминало его имя. Благодаря Василию Кривошеину
[97] и К.Керну
[98] , появилось не только первоклассное описание паламизма, но и повторное включение его в православное богословское творчество
[99] . Много более технических или специальных исследований было издано, и за границей и в СССР
[100] . Исследование Василия Кривошеина о Симеоне Новом Богослове составляет существенное крупное достижение в нашем знании великой византийской мистики
[101] .
Духовность и аскетика
Имперский или синодальный период в истории русской Церкви (восемнадцатое–девятнадцатое столетия) был отмечен глубоким возрождением монашества. Оно оказало влияние далеко за пределами монастырей и было источником возобновленного интереса к православной духовной традиции среди русской интеллигенции. Академическая и детальная история русского монашества и его возобновления в восемнадцатом–девятнадцатом столетиях дана в работах Игоря Смолича
[102] и Сергия Четверикова
[103] . Николай Арсеньев
[104] , Надежда Городецкая
[105] и некоторые другие
[106] написали множество превосходных исследований о его воздействии на русское общество и культуру. Наиболее важные представители собственно духовной литературы — Иоанн Шаховской (с 1951 Архиепископ Сан–Франциско)
[107] , Александр Ельчанинов
[108] , Петр Иванов
[109] , Софроний Сахаров и Антоний Блум
[110] .
Литургика
Изучение богослужения с богословской, исторической и «рубрицистической» точки зрения, является результатом литургического движения, которое глубоко проникало жизнь всех христианских церквей в течение последнего полустолетия. И это так и для православной церкви, несмотря на то, что литургическая жизнь и литургическое благочестие всегда занимали в ней центральное место. До 1917 г. русские богословские школы дали несколько первоклассных исторических исследований византийской литургии; но только после революции этот исторический и археологический интерес привел к более глубокому богословскому интересу к смыслу богослужения и его отношения к другим богословским дисциплинам. В одной всесторонней работе Киприана Керна, профессора литургики в Свято–Сергиевском институте (+ 1960)
[111] и нескольких интересных эссе
[112] было выполнено исследование Евхаристии, дневного и недельного круга богослужения
[113] , эортологии (изучение праздников)
[114] и, наконец, обще вопросы, имеющие отношение к самой задаче и методу литургического богословия
[115] . Работа, выполненная за сорок лет, без сомнения составит основу всего дальнейшего литургического изучения.
Агиология
Рассматриваемое 45–летие явило глубокое преобразование и обновление агиологии — изучения святых и традиционных типов святости. В течение столетий жития святых, популярные, как форма церковного благочестия (половина православной литургической гимнографии посвящена святым), были фактически исключены из любого серьезного исторического и богословского исследования. Большое изменение имело место главным образом под влиянием Георгия Федотова, настоящего пионера новой русской агиологии. Он применил — очень оригинальным и творческим способом — достижения западной агиологии к изучению русских святых и создал стиль, которому следовали некоторые другие работники в этой области. Его собственная изданная работа включает эссе и монографии об отдельных святых, и русских и западных
[116] ; статьи по методологии
[117] ; и два тома по истории русского благочестия, киевского и московского
[118] , которые составляют выдающийся вклад в наше знание духовных аспектов жизни древней Руси. Хотя никакая формальная школа не была создана Федотовым, фактически любая ценная работа в этой области носит знак его влияния
[119] , неоторые интересные статьи о русских святых были изданы в Журнале Московской патриархии
[120] .
Церковная история и история мысли
Русское богословие всегда было склонно к истории; не удивительно поэтому, что даже когда отсутствовали условия для исторического исследования, русские богословы и ученые продолжали спрашивать и отвечать на исторические вопросы. Это чувство истории еще более обострилось большой национальной и духовной катастрофой революции. В области более обычной церковной истории монументальные синтетические работы А. Карташева
[121] и И. Смолича
[122] долго останутся непревзойденным в глубине их видения и широте эрудиции. Но работы, которым действительно можно отдать первое место за последние сорок лет — два общих обзора русского религиозного и духовного развития Георгия Флоровского и Василия Зеньковского. Своими поучительными Путями русского богословия
[123] Флоровский выражал упомянутый выше тезис, что главная трагедия русского богословского развития была в его отклонении от византийского христианского наследства и его западном «блуждании». В своей Истории русской философии
[124] Зеньковский в известном смысле защищал противоположную точку зрения. Не ограниченный религиозными темами, его тезис представляет русскую философию оригинальной главой в истории христианской мысли. Обе книги абсолютно обязательны для всех изучающих русское православие. Ценная работа была выполнена также Николаем Зерновым
[125] , создавшим первый общий обзор «религиозного Ренессанса» первых десятилетий двадцатого столетия. Другие более специальные и частные аспекты и церковной истории, и истории православной мысли были рассмотрены в нескольких книгах и эссе
[126] .
Нравственное богословие, социальная этика, богословие культуры
Если официальное или академическое богословие девятнадцатого столетия было силою обстоятельств ограничено в возможности применить теорию к существующей социальной и политической ситуации, такое исследование живого и «прикладного» православия, было, изначально, одним из главных источников более свободной «религиозной философии». Славянофилы во главе с Хомяковым, Владимир Соловьев, и малоизвестный и все же очень оригинальный мыслитель Николай Федоров (перечислим только некоторых) были глубоко заинтересованы не только в истине (умопостигаемой и теоретической), но также и в правде (имеющей смысл справедливости и, вообще, живой и прикладной правды)
[127] . Многие православные мслители еще до революции возвратившиеся в Церковь от марксизма и традиции революционной интеллигенции, сохранили ревность их прежнего мировоззрения в социальных вопросах
[128] . Эта традиция и беспокойство, углубленные и сделавшиеся даже более острыми, благодаря опыту революции, были сохранены в русской богословской мысли 1920–65 гг. Это выражалось, в первую очередь, в новом интересе к проблемам этики и нравственного богословия. Наиболее существенный вклад здесь был сделан Н.А. Бердяевым
[129] и Б.П. Вышеславцевым
[130] . Впервые в истории русского богословия женщины, брак, и семья стали объектами систематического изучения
[131] , но несомненно главный акцент был сделан на общей области социальной этики. Почти каждый богослов сделал свой вклад здесь, и хотя диапазон подходов и мнений был очень широк, это глубокое беспокойство относительно «воцерковления жизни» (воцерковление жизни — одно из наиболее популярных выражений более поздней русской религиозной мысли), вероятно, останется важной пионерской главой в области, в которой православный Восток ранее не сумел выразить своего мнения
[132]. Наконец, проблемы культуры, особенно искусства в его отношении к Церкви, также получили новую и иногда чрезвычайно оригинальную трактовку
[133] .
Православие и экуменическое движение
Не удивительно, конечно, что экуменическая проблема занимает важное место в русском богословии последнего полустолетия. Это были годы больших, и, во многих отношениях, неожиданных столкновений православной церкви с христианским Западом в пределах структуры экуменического движения. История этого столкновения, сначала его «предэкуменической» стадии, и затем его развития в Вере и Устройстве, Жизни и Труде, и Всемирном Совете Церквей, была написана Г. Флоровским
[134] и Н. Зерновым
[135] . Даже самый общий анализ всех книг, брошюр, и статей, изданных русскими православными богословами с 1920 г. потребовал бы отдельного эссе. Нужно подчеркнуть, однако, — что параллельно богословской поляризации, упомянутой выше, современное русское богословие приняло два различных подхода к самому явлению экуменического движения и к характеру православного участия в нем. С одной стороны, мы находим богословов, сознающих экуменическое движение, в некотором смысле, онтологически новым явлением в христианской истории, требующим глубокого переосмысления и переоценки православной экклезиологии, сформированной до «экуменической» эры. Характерные имена здесь — Сергий Булгаков
[136], Лев Зандер
[137] , Николай Зернов
[138] и Павел Евдокимов
[139] . Этой тенденции противостоят те, кто, не отрицая потребности в экуменическом диалоге и защищая необходимость православного участия в экуменическом движении, отклоняют самую возможность любого экклезиологического пересмотра или регулирования, и кто рассматривают экуменическое движение главным образом как возможность православного свидетельства Западу. Эта тенденция находит свое наиболее ясное выражение в работах Флоровского
[140] . В течение долгого времени, экуменическая работа была ограничена почти исключительно русскими богословами диаспоры. Отношение церкви в СССР было открыто отрицательным
[141] ; но, с тех пор, массовое вступление церквей из–за «железного занавеса» во Всемирный Совет Церквей в Нью–Дели в 1961 г. и новые контакты с Ватиканом, подвергли это отношение радикальной перемене — и за экуменическим развитием следят и его анализируют, довольно сочувственно
[142] . Ситуация однако остается во многих отношениях запутанной; и официальное членство православных церквей в экуменических советах и деятельности далеко не означает православного согласия по экуменической проблеме
[143] , Второй Ватиканский Собор пока вызвал только фрагментарные и осторожные комментарии и несколько предложений, оздействие коорых на богословскую мысль слишком рано пытаться оценить
[144].
Заключительные замечания
В конце этого краткого и, во многом неполного, обзора, нужно сделать следующие замечания:
1. Я был вынужден опустить все философское развитие последних лет. Но русская философия, особенно в ее «религиозно–философском» направлении, глубоко связана с богословскими проблемами, и резкое западное различие между философией и богословием несколько неадекватно в применении к русской духовной традиции. С другой стороны, внесение сюда в список только наиболее важных философских работ таких ведущих христианских философов как С.Л. Франк
[145] , Н.О. Лосский
[146] , Н.А. Бердяев
[147] , и В.В. Зеньковский
[148] «растворило бы» специфический богословский акцент в этой статье.
2. Данная статья, показывая дефицит богословских публикаций в СССР, может создать впечатление, что среди русских, живущих при коммунизме, не велики богословские и духовные интересы. Истинно, однако, противоположное утверждение
[149] . Недавнее свидетельство выявило реальные «жажду и голод» живого богословия. Книги православных (и неправославных) богословов, живущих на Западе, тайно циркулируют, иногда в форме ротапринтов. Там существуют частные круги изучения и обсуждения вне богословских школ, иногда обвиняемых в заключении компромисса с советским «бюрократическим аппаратом». Лучшим свидетельством уровня и качества богословского возрождения является, однако, Открытое Письмо, посланное несколько лет назад двумя молодыми русскими священниками Патриарху, в котором они призывали иерархию к большей независимости от государства
[150] . В то время как давление атеистического правительства усиливается положение Церкви остается трагическим
[151] , более молодое поколение православных становится все более своенравным — и гласным — и представляет огромную надежду для будущего православного богословия.
3. После Второй Мировой Войны, кажется, имеет место новое явление: «достигает совершеннолетия» православная диаспора на Западе, и особенно в Америке. Оставаясь все еще разделенными по национальным «юрисдикционным» линиям (поддерживаемыми главным образом «церквями–матерями», чей недостаток понимания американской ситуации и, следовательно, истинных потребностей православных здесь просто удивителен)
[152] , американские дети православных иммигрантов имеют тенденцию преодолевать узкие националистические границы, особенно в области православного религиозного образования
[153] и богословия
[154] . Если, в начале этого столетия, православные книги по–английски, французски, и немецки были предназначены прежде всего для неправославной «экуменической» аудитории, то сегодня определенное количество такой православной богословской литературы написано для самих православных. Некоторый очень существенный богословский вклад были сделан авторами, обратившимися в православную веру из других конфессий, чья мысль, выходит за пределы таких категорий как «русский» и «грек»
[155] . Православные богословы различных национальных традиций, имевшие обыкновение встречать друг друга почти исключительно на экуменических конференциях, стремятся находить новые пути сотрудничества
[156] . Несколько богословских школ диаспоры «пан–православны» по самой своей структуре. Все это может означать обещание новой и плодотворной главы в истории православного богословия, которое в прошлом страдало прежде всего от недостатка внутренней связи и сотрудничества.
Но, безотносительно к будущим потребностям и возможностям, можно не сомневаться, что за последние сорок лет русское богословие показало, несмотря на все трагедии и трудности, большую живучесть и творческий потенциал. Его значение при экуменическом столкновении с христианским Западом едва ли может быть преувеличено. Хотя слишком рано подводить итоги, что обещает оно для будущего развития православной церкви, к истории православной мысли вообще и русской культуры в частности уже была добавлена важная глава.
St. Vladimir’s Theological Quarterly, Vol. 16, No. 4, 1972, pp. 172–194
Светлая печаль
Для многих, если не для большинства православных христиан Пост состоит из ограниченного количества формальных, большей частью отрицательных правил: воздержание от скоромной пищи (мяса, молочного, яиц), танцев, может быть, и кинематографа.
Мы до такой степени удалены от настоящего духа Церкви, что нам иногда почти невозможно понять, что в Посте есть что–то другое, без чего все эти правила теряют большую часть своего значения. Это что–то другое можно лучше всего определить как некую атмосферу, настроение, прежде всего состояние духа, ума и души, которое в течение семи недель наполняет собой всю нашу жизнь.
Надо подчеркнуть, что цель Поста заключается не в том, чтобы принуждать нас к известным формальным обязательствам, но в том, чтобы смягчить наше сердце так, дабы оно могло воспринять духовные реальности, ощутить скрытую до тех пор жажду общения с Богом.
Эта постная атмосфера, это единственное состояние духа создается главным образом богослужениями, различными изменениями, введенными в этот период Поста в литургическую жизнь. Если рассматривать в отдельности эти изменения, они могут показаться непонятными рубриками, формальными правилами, которые надо формально исполнять; но взятые в целом они открывают и сообщают нам самую сущность Поста, показывают, заставляют почувствовать ту светлую печаль, в которой подлинный дух и дар Поста.
Без преувеличения можно сказать, что у святых Отцов, духовных писателей и создателей песнопений Постной Триоди, которые мало–помалу разработали общую структуру постных богослужений, придали Литургии Преждеосвященных Даров эту особую, свойственную ей красоту, было одинаковое, единое понимание человеческой души. Они действительно знают духовное искусство покаяния, и каждый год в течение Поста они дают всем, кто имеет уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть, возможность воспользоваться их знанием.
Общее впечатление, как я уже сказал, это настроение светлой печали. Я уверен, что человек, входящий в церковь во время великопостного богослужения, имеющий только ограниченное понятие о богослужениях, почти сразу поймет, что означает это с виду противоречивое выражение. С одной стороны, действительно известная тихая печаль преобладает во всем богослужении; облачения — темные, служба — длиннее обычного, более монотонная, почти без движений. Чтение и пение чередуются, но как будто ничего не происходит. Через определенные промежутки времени священник выходит из алтаря и читает одну и ту же короткую молитву, и после каждого прошения этой молитвы все присутствующие в церкви кладут земной поклон. И так в течение долгого времени мы стоим в этом единообразии молитвы, в этой тихой печали.
Но в конце мы сознаем, что эта продолжительная и единообразная служба необходима для того, чтобы мы почувствовали тайну и сперва незаметное действие в нашем сердце этого богослужения. Мало–помалу мы начинаем понимать или, скорее, чувствовать, что эта печаль действительно светлая, что какое–то таинственное преображение начинает совершаться в нас.
Как будто мы попадаем в такое место, куда не достигают шум и суета жизни, улицы, всего того, что обычно наполняет наши дни и даже ночи, — место, где вся эта суета не имеет над нами власти. Все, что казалось таким важным и наполняло нашу душу, то состояние тревоги, которое стало почти нашей второй природой, куда–то исчезает, и мы начинаем испытывать освобождение, чувствуем себя легкими и счастливыми.
Это не то шумное, поверхностное счастье, которое приходит и уходит двадцать раз в день, такое хрупкое и непостоянное; это — глубокое счастье, которое происходит не от одной определенной причины, но оттого, что душа наша, по словам Достоевского, прикоснулась «к иному миру». И прикоснулась она к тому, что полно света, мира, радости и невыразимой надежды.
Мы понимаем тогда, почему службы должны быть длинными и как будто монотонными. Мы понимаем, что совершенно невозможно перейти из нормального состояния нашей души, наполненной суетой, спешкой, заботами, в тот иной мир без того, чтобы сперва успокоиться, восстановить в себе известную степень внутренней устойчивости.
Вот почему те, которые думают о церковных службах только как о каких–то обязательствах, которые всегда спрашивают о «минимальных требованиях» («Как часто мы должны ходить в церковь?», «Как часто мы должны молиться?»), никогда не смогут понять настоящего значения богослужений, переносящих нас в иной мир — в присутствие Самого Бога! — но переносят они нас туда не сразу, а медленно, благодаря нашей падшей природе, потерявшей способность естественно входить в этот иной мир.
И вот когда мы испытываем это таинственное освобождение, легкость и мир, печальное однообразие богослужения приобретает новый смысл, оно преображено; оно освещено внутренней красотой, как ранним лучом солнца, который начинает освещать вершину горы, когда внизу, в долине, еще темно. Этот свет и скрытая радость исходят из частого пения «Аллилуйя», от общего настроения великопостных богослужений. То, что казалось сперва однообразием, превращается теперь в мир; то, что сперва звучало печалью, воспринимается теперь как самые первые движения души, возвращающейся к утерянной глубине. Это то, что возвещает нам каждое утро первый стих великопостного «Аллилуйя»: От нощи утренюет дух мой к Тебе, Боже, зане свет повеления Твоя.
Печальный свет: печаль моего изгнания, растраченной жизни; свет Божьего присутствия и прощения, радость возродившейся любви к Богу и мир возвращения в Дом Отца. Таково настроение великопостного богослужения; таково его первое соприкосновение с моей душой.
Свобода в Церкви
1
Получив приглашение подготовить сообщение на тему «Свобода в Церкви», я подумал сперва, что из всех возможных докладов именно этот следовало бы поручить не православному, а кому–нибудь из западных христиан. Ибо горячие споры по поводу свободы и авторитета — это специфически западные споры и даже, можно сказать, своего рода крест Запада на пути его интеллектуального и духовного развития. Православный Восток не принимал в них деятельного участия — отчасти потому, что в период наибольшего их обострения — во времена Реформации и Контрреформации — пути Востока и Запада окончательно разошлись; отчасти потому, что самая суть этих споров, как мы увидим, осталась чужда духовной и интеллектуальной традиции Православия. Стоит ли, думалось мне, встревать в дискуссию по проблеме, которая является, так сказать, «чисто западной»? Но, поразмыслив, я все же решил принять предложение, и именно по той самой причине, какой хотел сначала мотивировать свой отказ. Как знать, не поможет ли сама свобода от западных форм и установок мышления если не решить проблему, то по крайней мере указать иной, приемлемый для христианского сознания путь ее решения?
Попытку подойти к решению этого вопроса, взглянуть на проблему свободы в Церкви с принципиально иной, чем традиционно–западная, точки зрения, я и осмеливаюсь со всем возможным для меня смирением предложить в настоящем докладе.
Первый мой вопрос связан с самой формулировкой проблемы, как отражает ее наш заголовок «Свобода в Церкви». Сразу же бросается в глаза заложенная в ней дихотомия: предлог «в» наводит на мысль, что «свобода» и «Церковь» — различные понятия, которые могут сопрягаться, но даже и в сопряженном и взаимопримиренном состоянии остаются вполне чуждыми друг другу. Пути и методы этого сопряжения могут, в свою очередь, различаться в зависимости от того, что выдвинуто на первый план — свобода или Церковь. Можно высказываться за большую свободу, подчиняя ее тем не менее Церкви; можно принимать Церковь, подчиняя ее свободе. В обоих случаях, однако, свобода и Церковь мыслятся и остаются противоположными понятиями, и проблема в том, чтобы найти оптимальную форму их соотнесения и сбалансирования. И такова была — по крайней мере до нынешнего времени — западная формулировка проблемы в двух основных ее конфессиональных редакциях: католическая (с упором на Церковь) и протестантская (с упором на свободу).
Но, быть может, самая первая задача богословского исследования заключается именно в том, чтобы оспорить и пересмотреть главные предпосылки этой формулы. Не явились ли они итогом того специфического развития — духовного, богословского, церковного, — в ходе которого свободу стали мыслить и определять в понятиях авторитета, а другими словами, видеть в них, «взаимообосновывающие» элементы и равно необходимые полюса некоей сущностной дихотомии? Свобода понимается здесь как некое отношение к авторитету, и ее определение, как и переживание, зависит в конечном счете от определения соответствующего авторитета, ибо без этого авторитета она лишается всякого смысла. Какую толику свободы готов уделить данный конкретный авторитет тем, кто ему подчинен? — вот, на мой взгляд, предельно упрощенный конечный вопрос, к которому сводится проблема при такой ее постановке. И определяется ли эта свобода как свобода ОТ (власти, контроля, руководства, авторитетных мнений) или как свобода ДЛЯ (самовыражения, богословствования, действия и т. п.), по–прежнему зависит от понятия и определения авторитета и в решающем смысле обусловлено им.
Но дихотомия эта, коль скоро мы хотим увидеть проблему свободы и Церкви в истинном свете, должна быть поставлена под сомнение и отвергнута. А отвергнуть ее необходимо потому, что это на самом деле саморазрушительная дихотомия. Доведенная до своего логического предела, она обращает в ничто те самые понятия, которые предполагала обосновать и определить. И если Церковь–институт осознает это крайне медленно и все еще мечтает об оптимистическом компромиссе, при котором некоторая разумная свобода не оспаривает и не подрывает некий разумный авторитет (благодаря санкционированному тем же авторитетом размежеванию их сфер), трагическая диалектика свободы, прочерчивающая реальныи духовный путь так называемого «христианского мира» и, в свою очередь, обусловленная трагедией свободы в Церкви, призвана развенчать эти грезы и заранее осудить их.
От времен Сен–Жюста, с его теорией вынужденного цареубийства, через Ницше и Достоевского до Бердяева, Камю, Сартра и творцов богословия «смерти Бога» человечеству открывается все та же фундаментальная истина: если свобода как понятие и опыт утверждена и определена через понятие и опыт авторитета, то такая свобода окончательно реализует себя лишь в «убийстве», в уничтожении самого авторитета. «Этот человек должен либо царствовать, либо умереть!» — восклицал Сен–Жюст, указывая на короля, а Ницше, вкупе с эпигонами утверждавший, что Богу должно умереть, если человеку суждено быть свободным, делал лишь очередной и последний шаг. Как совершенно точно заметил Жозеф де Местр, человек, однажды вкусивший яда свободы, не может остановиться на полпути и до тех пор, пока жив авторитет, нет и свободы. В абсолютных понятиях формула: «Чем больше свободы, тем меньше авторитета» — не отличается от другой: «Чем больше авторитета, тем меньше свободы». Ибо свобода отвергает не ту или иную меру, а сам принцип авторитета: какова бы ни была его мера, он неизбежно подрывает и разрушает свободу. И вот, всеблагой Царь «умер», и Ницше предпочитает «грядущую ночь, и еще большую ночь» безбожного мира этому источнику и санкции всякого авторитета.
Но неумолимая логика всей дихотомии «свободы–авторитета» такова, что свобода, в интересах самореализации уничтожающая авторитет, уничтожает и самое себя. И происходит это не потому, что свобода вне своей противоположности и борьбы с ней остается пустой и бессмысленной формой, но и потому еще, что она не может по–настоящему осуществиться, покуда жив последний авторитет, имя которому — смерть. Вечной заслугой Достоевского остается образ Кириллова в «Бесах», являющий нам неизбежную связь крайней, беспредельной свободы и самоубийства: «Кто смеет убить себя, тот Бог».
Итак, чтобы стать Богом, необходимо убить себя. И не случайно Томас Альтицер, один из самых глубоких и последовательных представителей богословия «смерти Бога», восторженно рекомендует Кириллова как положительного героя и восхваляет Достоевского, якобы запечатлевшего в нем «современный образ Христа»
[157]. «Какое удивительное совпадение, — — пишет он, — что Достоевский <…> в своем изображении Кириллова предвосхитил радикально–современное осмысление образа Христа»
[158]. С неменьшей симпатией цитирует он и писателя, для которого высшая победа жизни проявляется в ее произволении умереть.
Такова, повторяю, неизбежная логика свободы — в той мере, в какой ее определяют через соотнесение с авторитетом, т. е. в понятиях границы. Настоящей же свободой она не станет до тех пор, пока не перейдет в отрицание, а под конец и в уничтожение последней границы. И именно в силу этой онтологической зависимости от авторитета она по его уничтожении уничтожает и себя. Есть ли выход из этого тупика, и каковы предпосылки христианского богословия свободы?
2
Именно здесь, как мне кажется, можно рассчитывать на помощь православного Предания. Я не утверждаю, разумеется, что православный Восток всегда и с одинаковым успехом выстаивал против дихотомии свободы и авторитета. Всякий, кто хоть немного знаком с тем, что я писал о своей Церкви, признает меня неповинным в какой бы то ни было романтической идеализации ее прошлого. Но сейчас мы говорим не о ее исторических грехах и уклонениях, а о православном принципе (в том же смысле, в каком говорит о протестантском принципе Пауль Тиллих), и нельзя отрицать, что одним из основных его элементов является отказ от свободы, понимаемой и определяемой в понятиях авторитета. Этот отказ стоит в центре православной критики Запада — и римо–католичества, и протестантизма; и если я упомянул об этой критике здесь, то не в интересах межконфессиональной полемики, а в надежде, что она поможет уразуметь положительное содержание православного учения о свободе в Церкви.
В своем эссе «О западных вероисповеданиях» великий русский богослов–мирянин А. С. Хомяков писал: "«Церковь — авторитет», сказал Гизо в одном из замечательнейших своих сочинений, а один из его критиков, приводя эти слова, подтверждает их; при этом ни тот ни другой не подозревают, сколько в них неправды и богохульства… Нет: Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос, ибо авторитет есть нечто для нас внешнее»
[159]. Для Хомякова изначальной трагедией Запада, превзошедшей его внутреннюю схизму и даже вызвавшей ее, было отождествление Церкви с тем, что было чуждо ее природе, — с внешним и вещественным авторитетом. Это сделало неизбежным бунт против авторитета, — бунт который не мог преодолеть границы того, что он отрицал. В итоге произошла замена одного внешнего авторитета другим. «Вдохновенная Богом Церковь, — писал он, — для западного христианина сделалась чем–то внешним, каким–то прорицательным авторитетом, авторитетом как бы вещественным; она обратила человека себе в раба и вследствие этого нажила себе в нем судью»
[160].
Я цитирую эти горькие слова лишь потому, что они могут подвести нас к подлинной диалектике свободы, и исходя из убеждения, что соблазн внешнего, или вещественного, авторитета есть на самом деле всеобщий соблазн. Главный же вывод Хомякова (отразившего и сформулировавшего, как можно было бы показать и на других примерах, экклезиологическую позицию всего православного Востока) заключается в следующем: источник такого авторитета — не Церковь с ее богочеловеческой природой, не боговдохновенная жизнь, но то, что в Новом Завете и церковном Предании названо «миром сим», т. е. падшим состоянием человека.
Сам принцип авторитета как чего–то внешнего для человека есть, таким образом, результат падения, плод его отчуждения от истинной жизни. Но тогда и свобода, которую этот авторитет утверждает как область своей компетенции и как своего непременного двойника, есть тоже «падшая», негативная свобода, свобода противостояния и бунтарства, а не та онтологическая свобода, в которой человек был создан и от которой он отлучил себя в своем грехопадении. На самом деле это псевдосвобода, ибо в своей борьбе против одного внешнего авторитета она обусловлена и подчинена другому авторитету, который рано или поздно поработит ее. Иначе и быть не может, ибо негативная свобода, рожденная бунтом и протестом, не имеет собственного позитивного содержания и независимо от нового содержания, приобретенного в этом бунте, неизбежно становится новым «авторитетом» и очередной причиной все того же бесконечного процесса.
Согласно Хомякову, главная трагедия западного христианства в том, что оно в качестве своего основания и образующего начала усвоило принцип авторитета, который сам по себе есть принцип падшего мира, и это неизбежно привело его к противоположному принципу — принципу падшей «свободы». В ткань церковной жизни вплелось не просто чуждое, но и прямо враждебное ей начало. Таким образом, проблема свободы в Церкви получила в корне неверную постановку, и это закрыло пути правильного ее решения. Ибо Церковь не есть механическое соединение ограниченного авторитета и ограниченной свободы, цель которого — предотвратить безудержный и взаимоупраздняющий рост обоих начал. Церковь не есть авторитет, и потому нет свободы в Церкви, но сама Церковь есть свобода. Не может быть никакой органической связи между падшей свободой человека и Церковью как свободой, потому что вне Церкви нет истинной свободы, но лишь бессмысленная борьба друг друга уничтожающих авторитетов. Вот почему дихотомию свободы и Церкви нельзя разрешить, прилагая к Церкви абстрактное и «естественное» понятие свободы. Куда вернее говорить о mysterion (тайне) Церкви и увидеть Церковь как тайну свободы. Ибо отправной точкой богословия свободы на самом деле является экклезиология.
3
Если в качестве богословской дисциплины и на путях систематического исследования экклезиология до сих пор не сумела раскрыть церковную жизнь как тайну и дар свободы, то виной всему один из величайших ее недостатков — пренебрежение действием в Церкви Духа Святого. По причинам, которые невозможно проанализировать здесь даже вкратце (и некоторые из них напрямую связаны с тем, что мы говорили относительно привнесения «авторитета» в Церковь), учение о Духе Святом оказалось во многом оторванным от учения о Церкви.
«Ив Духа Святого — Церковь», — такова наиболее ранняя форма третьего члена Символа веры, объединявшая и, можно сказать, отождествлявшая Дух Святой с Церковью. Но с течением времени этот член был изменен. Если систематическое богословие в разделе De Deo uno et trino (О Боге едином и троичном) говорило о Духе Святом с должным пиететом и вниманием, то раздел De Ecclesia (о Церкви) усваивал ему без всякого преувеличения подчиненное положение. Поначалу осмысленный как сама жизнь Церкви, Он постепенно стал рассматриваться как санкция и гарантия. Там, где в качестве образующего принципа Церкви получал преобладание «авторитет», Дух Святой оказывался гарантией этого «авторитета»; там, где делали упор на «свободу» в ущерб «авторитету», Он превращался в гарантию этой «свободы». А получив четко определенную «функцию» в Церкви, Он стал доступен н «измерению». «Не мерою дает Бог Духа», — говорит евангелист (Ин. 3, 34). Богословие же упорно пыталось измерить Его. Дар Пятидесятницы осмыслили как своего рода «капитал благодати», который следует тратить весьма осмотрительно. Неудивительно, что Дух Святой не только как источник, но и как само содержание той свободы, которая есть Церковь — Дух Святой как дар и исполнение свободы, а лучше сказать, сама свобода — этот Дух был забыт.
Единственная цель нашего наброска — по возможности определить будущую задачу богословия. В этих кратких заметках, разумеется, нельзя сколько–нибудь адекватно очертить пути, способные привести нас, с помощью иного, непредубежденного взгляда на православную пневматологию, к новому видению Церкви как свободы. Могу сказать лишь, что первым шагом здесь, по моему убеждению, будет куда более пристальное внимание к самой Ипостаси Святого Духа, как Она раскрывается в Священном Писании и в духовном Предании Церкви. Мы должны заново обрести видение и опыт Духа Святого. Это прежде всего библейское видение Его как ruah — ветра, который «дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Ин. 3, 8), а также святоотеческое Его видение как ипостасной жизни Отца, а значит — и самой Всесвятой Троицы. Вот что пишет профессор С. Верховской: «Быть духом чего–либо — значит быть живым выражением его содержания, его динамической энергии. Святой Дух часто описывается в Библии как Сила, и явления Духа — всегда явления Божественной, жизненной, творческой силы. Во многих именах Духа Святого мы находим одну и ту же мысль. Он — Свет, как живое и зиждительное обнаружение Премудрости Божией. Если Сын — Премудрость и Истина, то Дух этой Премудрости есть Дух Святой; в Нем или, лучше сказать, через Него вся Премудрость и всецелая Истина Сына открывается как жизнь»
[161].
Здесь мы сталкиваемся с глубинной интуицией, общей всему православному Преданию в его восприятии Духа Святого: Он — Жизнь Бога, что на языке нашей темы означает ипостасную Свободу Бога.
В контексте интересующей нас проблемы эта интуиция сводится к следующему: вне Духа Святого, вне Его причастия Бог не может быть признан подлинным авторитетом, авторитетом всех авторитетов, а потому не может быть и никакой свободы, кроме свободы бунта — свободы Кириллова. И не только Бог, но, по сути дела, вся тварная реальность, все бытие вне Духа Святого превращается в авторитет — внешний, посторонний человеку принудительный порядок — отвратительный «мир объективности» Бердяева. В роли авторитета могут выступать «истина», «справедливость», «порядок», «равенство» и т. е. — все ценности падшего «мира сего», включая и право на неограниченную свободу — пустой и бессмысленный принцип выбора ради выбора и несогласия ради несогласия, право, которое ведет в никуда. Но главной функцией Духа Святого как раз и является упразднение авторитетов, — точнее, их преодоление, и Он достигает этого упразднением всего внешнего, что лежит в основе «авторитета» и самого «мира сего» как падшего мира.
Истинное назначение Духа Святого — связывать и соединять, но не по образу «объективной» связи, а через откровение и обнаружение сокровенной внутренности всего сущего, через восстановление и претворение «объекта» в субъект ( оно в 1ы, если воспользоваться терминологией Мартина Бубера). И совершается это не извне — как санкция или гарантия — не как дело авторитета, но изнутри, ибо Сам Он — внутренность всего сущего, жизнь жизни, дар Бытия. Он — и неповторимость, и аромат каждой и всех вещей, и свет вечности в каждом мгновении времени, и отблеск Божественной красоты на вконец обезображенном лице человека. Он — и свобода, и содержание свободы, а лучше сказать, преодоление трагического противоречия между свободой как вечной возможностью вечного выбора (и, следовательно, как вечно самоуничтожающимся вакуумом) и свободой как полнотой обладания, полнотой жизни — того противоречия, в котором одна свобода неизбежно становится отрицанием другой.
Свобода свободна. Она свободна от рабства авторитету, но также и от рабства себе, и свободна потому, что не является ни отрицанием, ни утверждением чего–либо внешнего, в обоих случаях непременно оказывающегося «авторитетом». Это — Присутствие; не абстрактный или формальный принцип, но Личность, Которая есть самый Смысл, сама Радость, сама Красота, сама Полнота, сама Истина, сама Жизнь всякой жизни — та Личность, которой мы обладаем, имея ведение, любовь и общение; Личность, пребывающая не «вне» нас, но в нас — как свет, любовь и истина, как наша причастность всему.
Такое видение Духа Святого есть также опыт Церкви. Традиционный взгляд на богословие, разумеется, не отрицает этого опыта, но не признает его источником богословия, — тем, что называется locus theologicus (богословская область). Сторонники его воздвигают средостение между богословием как рациональной структурой и наукой, с одной стороны, — и мистицизмом — с другой, относя последний к специально–религиозным категориям и внебогословским феноменам. Но в восточнохристианском Предании всякое подлинное богословие мистично я по необходимости, и по определению. Это означает, что оно не состоит во власти индивидуальных и иррациональных «видений» и «опытов», но оказывается возможным лишь в опыте Церкви, где узнает себя как причастие Святого Духа.
Паламитский спор о «тварной» или «нетварной» природе света, открывающегося мистическому опыту исихастов, был, помимо всего прочего, спором о природе, точнее, о предмете богословия, который есть Истина. Является ли Истина богословия рациональным выводом из «данных» и «утверждений» его источников? Иными словами, не зиждется ли она на внешнем авторитете, не провозглашена ли она истиной a priori и не возведена ли этим сама в «авторитет»? Или она прежде всего описание опыта, того опыта Церкви, без которого все эти «данные и утверждения, даже объективно верные и состоятельные, все же не являются Истиной? Ибо Истина, познание которой, согласно Евангелию, делает нас свободными, — это, без сомнения, не «объективная истина, и, конечно, не авторитет, ведь в противном случае опять вступит в силу все та же безнадежная диалектика свободы.
Истина есть присутствие Духа Святого, созидающее в нас «орган» Истины и тем самым претворяющее Истину как «объект» в «субъект». Кто не имеет Духа, тот не знает истины и поневоле подменяет ее «авторитетом» и «гарантией». «Где найдем мы гарантию против ошибки?» — вопрошал Хомяков и сам же отвечал: «Всякий, кто ищет гарантии Духа вне надежды и веры, уже рационалист. Для него и Церковь также немыслима, поскольку он уже в самом духе своем погружен в сомнение»
[162].
Вот почему решающее значение здесь приобретает опыт святых, которые названы в одном богослужебном тексте «провидцами» Духа. Преподобный Серафим Саровский, русский святой XIX столетия и один из последних великих представителей православной духовной традиции, говорит: «Когда Дух Божий снисходит к человеку и осеняет его полнотою Своего наития, тогда душа человеческая преисполняется неизреченною радостию, ибо Дух Божий радостотворит все, к чему бы Он ни прикоснулся». Здесь мы находим совершенный и экзистенциальный, а не рациональный итог учения о Духе Святом, Его действии в Церкви и самой Его природе, которая есть свобода. И только это учение освободит нас от всех ложных дихотомий и приведет к истинному пониманию Церкви и свободы.
4
Теперь мы вправе перейти к практическим выводам. «И (верую) в Духа Святого — Церковь». Церковь есть присутствие и действие Духа Святого. А это означает, что Церковь есть свобода. Другими словами, свобода — это не часть, не элемент внутренней жизни Церкви, находящийся в определенном отношении к другому элементу — авторитету и сосуществующий с ним. Будучи присутствием. Храмом Духа Святого, Церковь есть та реальность, где дихотомия авторитета и свободы упраздняется, а точнее, постоянно преодолевается и побеждается, и эта неизменная победа есть сама жизнь Церкви, торжество причастия над отчуждением и внешностью. Но Церковь — и это крайне важно — есть свобода именно потому, что она есть и всецелое послушание Богу.
Это послушание, однако, не плод капитуляции свободы перед «окончательным» и предельно «объективным» авторитетом, т. е. признанным как бесспорный и незыблемый и, стало быть, как конец свободы. Оно, как ни парадоксально, является полнотой свободы. Ибо высший дар Духа Святого не замкнутое в себе «состояние», не просто «радость» или «мир», а опять–таки Личность — Иисус Христос. Это и мое обладание Христом, и я в обладании Христа; это моя любовь ко Христу и Его любовь ко мне; это моя вера во Христа и Его вера в меня; это «Христос во мне» и «я во Христе». Христос же есть послушание: «быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2, 8). Его послушание выражало не «субординацию», не подчинение свободы авторитету, но всецелое Его единство с Отцом, само Его Божество. Ибо Его послушание не просто свободно (ведь и всякая свобода может подчиниться добровольно), но оно — само выражение, само существо его свободы. И, если Христос — дар Духа Святого, если Христос — Жизнь Церкви, тогда сущность этой жизни — послушание: не Христу, но Христову послушанию. И это поистине Божественное послушание, ибо оно выше дихотомии свободы и авторитета, как происходящее не от несовершенства, но от полноты жизни, открывшейся во Христе.
Все сказанное означает, что свобода проявляется в Церкви как послушание всех всем во Христе, ибо Христос — единственный. Кто Духом Святым живет во всецелом общении с Богом. Нет ни «высших», ни «низших». У того, кто учит, нет никакого «авторитета», но есть дар Духа Святого. И тот, кто приемлет учение, приемлет его лишь постольку, поскольку имеет дар Духа Святого, Который открывает ему это учение не как «авторитет», но как Истина. И молитвы Церкви — не о «санкциях» и «гарантиях», но о Духе Святом, ибо Он может прийти и вселиться в нас, чтобы претворить в то живое единство, где послушание всех всем неизменно открывается как единственно подлинная свобода.
И именно отсюда можно и должно начать изучение «феноменологии» свободы в Церкви. В мою задачу входило наметить — и то лишь очень бегло — нечто вроде prolegomena (введения) к такому изучению; показать — заведомо неадекватным образом, — что тайна Бога как Пресвятой Троицы сокрыта в благодати Господа нашего Иисуса Христа, в любви Бога и Отца, в причастии Святого Духа. И тайна эта начинает открываться и сообщаться нам, когда тот же самый человек скажет о себе: «Doulos lesou Christou — раб Иисуса Христа», а затем, обращаясь ко всем и каждому из нас: «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос» (Гад. 5, 1).
Святая святым
Некоторые замечания о причащении Святых Тайн[163]
Печатается по изданию Alexander Shmemann. Great Lent. — Crestwood, New York, St. Vladimir's Seminary Press, 1990. Перевод В. Прокопченко.
1. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ВОПРОС
Возникшие в нашей Церкви вопросы и споры — о более частом причащении, о связи таинства причащения с таинством покаяния, о сущности и смысле исповеди — признак не слабости или упадка, но жизни и пробуждения. Уже нельзя более игнорировать тот факт, что среди православных людей пробуждается интерес к
главному, возникает жажда жизни более духовной. Уже за одно это можно благодарить Бога. И если некоторым может показаться, что это «кризис» (а ведь всякое вопрошание, всякое углубление духовного сознания по существу и есть кризис), то это, можно сказать, кризис добрый и своевременный. Поэтому было бы крайне неправильно, да и невозможно, пытаться споры эти разрешить в одном, так сказать, административном порядке — указами и инструкциями. Ибо перед нами — духовный вопрос, касающийся всех сторон нашей жизни и, я хотел бы добавить, самой судьбы Православия в нашем весьма проблематичном «современном» мiре. Только духовно незрячий и совершенно равнодушный человек будет отрицать, что при всех, главным образом внешних и материальных, успехах нашей Церкви изнутри угрожает глубочайшая опасность —
секуляризм. Что такое секуляризм? В статье, опубликованной несколько лет назад
[164], я попытался определить его как:
…мiровоззрение и соответствующий ему образ жизни, при котором не только основные стороны человеческого существования — такие как семья, работа, образование, наука, искусство и т. п. — не только не связаны с верой и не укоренены в ней, но отрицается и сама необходимость или даже возможность подобной связи. Мiрская сфера жизни при этом мыслится как автономная, т. е. руководимая своими собственными ценностями и принципами, отличными от религиозных. Секуляризм в той или иной мере присущ всем современным цивилизациям, но внушающая нам беспокойство американская его особенность состоит в том, что в Америке секуляризм не полностью антирелигиозен или атеистичен, но, напротив, включает в себя определенный взгляд на религию и может быть назван «религиозным». Это настолько же «философия религии», насколько и «философия жизни». Даже открыто антирелигиозные общества, такие как Советская Россия или красный Китай, не могут быть названы секулярными! Религия там — враг, подлежащий ликвидации, и все компромиссы с ней должны быть в лучшем случае временными. Но характерной особенностью американской культуры и образа жизни есть то, что они одновременно принимают религию как нечто важное для человека и отрицают ее как цельное мiровоззрение, формирующее всю человеческую жизнь.
Американский «секулярист» может быть вполне «религиозным» человеком, преданным своей церкви, регулярно молящимся, посещающим богослужения и щедрым на пожертвования. Он торжественно обвенчается в церкви, освятит свой дом, исполнит религиозные обязанности — и все с вполне искренней верой. Но все это ни в коей мере не отменяет того очевидного факта, что его понимание всех аспектов жизни — брака, семьи, дома, работы и, наконец, самих его религиозных обязанностей — проистекает не из веры, которую он исповедует в Церкви, — веры в Воплощение, Смерть и Воскресение Христа, Сына Божьего, ставшего Сыном Человеческим, — но из своего рода «философии жизни», то есть идей и убеждений, которые фактически не имеют ничего общего с этим вероучением, если не прямо враждебны ему. Достаточно лишь перечислить некоторые основные «ценности» нашей культуры — успех, безопасность, общественное положение, конкуренция, выгода, престиж, честолюбие — чтобы понять, насколько они противоречат самому духу Евангелия…
Но означает ли это, что такой религиозный секулярист непременно циник, лицемер или шизофреник? Вовсе нет. Это показывает лишь то, что его собственное понимание религии укоренено в секулярном мiровоззрении, а не наоборот. В не–секулярном обществе — единственном типе общества, который Православие знало в прошлом, — религия и ее ценности составляли высший критерий всей жизни, посредством которого человек, общество и культура оценивали сами себя, даже если они то и дело отступали от него. Они могли жить, руководствуясь такими же земными побуждениями, но при этом религия постоянно обличала их, даже если она присутствовала лишь пассивно. Так «образ жизни» мог и не быть религиозным, несмотря на то, что «философия жизни» оставалась, несомненно, религиозной. В секуляризированном же обществе совсем наоборот: «образ жизни» включает религию, тогда как «философия жизни» исключает ее.
Понятно, что принятие секуляризма означает радикальное изменение самой сущности религии. Она может сохранять все свои внешние и традиционные формы, однако изнутри это уже другая религия. Если секуляризм и «благоприятствует» религии, поставляя ее на почетное место в общественной жизни, то делает так только потому, что она сама становится частью обмiрщенного мiровоззрения, санкционирует его ценности и помогает их достигнуть. И действительно, в отношении религии никакое другое слово не употребляется секуляризмом чаще, чем слово
помощь. Она «помогает» принадлежать к той или иной религиозной группе, отождествлять себя с какой–нибудь религиозной традицией, быть активным в Церкви, в молитве; короче говоря, она помогает «быть религиозным». А раз религия
помогает, раз она такой полезный фактор в личной и социальной жизни, то и ей самой следует оказать
помощь. Этим объясняется чрезвычайный успех религии в Америке, о котором свидетельствует статистика. Секуляризм принимает религию, но на своих собственных условиях; он определяет для нее своего рода функцию, и, если только религия принимает и исполняет эту функцию, она получает взамен честь и престиж. «Америка, — пишет В. Герберг, — кажется самой религиозной и, в то же время, самой секулярной среди всех народов… Любая сторона современной религиозной жизни отражает этот парадокс: всепроникающий секуляризм на фоне растущей религиозности…»
[165]2. «БЕЗРЕЛИГИОЗНАЯ РЕЛИГИЯ»
Этот американский секуляризм, который многие православные ошибочно и наивно отождествляют с «американским образом жизни», является источником глубокого духовного кризиса Православия. И нигде этот кризис не проявляется с такой очевидностью, как в странной «безрелигиозной религии», которая, кажется, насквозь пропитала жизнь нашей Церкви. Сведение Церкви к материальным, организационным и социальным заботам и хлопотам в ущерб религиозному и духовному; одержимость имуществом, деньгами, борьба приходов за какие–то свои «права» против епископов и вообще духовенства, воспринимаемых как внешняя «угроза»; равнодушие к миссионерским, образовательным и благотворительным нуждам Церкви; пассивное, а иногда даже активное сопротивление всяким попыткам углубить духовную и литургическую жизнь, сделать ее менее «номинальной» и более подлинной; отождествление религии с национальным фольклором и обычаями; эгоцентризм и фактическая изолированность множества наших приходов, отсутствие заинтересованности в живых нуждах всей Церкви в ее миссии в Америке — все это обнаруживает такую глубокую расцерковленность сознания, такое обмiрщение, что действительно становится страшно за будущее нашей Церкви, чьи предстоятели и члены, по–видимому, равно не сознают подлинных размеров и глубины этого кризиса.
Между тем именно это обмiрщение церковного общества приводит к тому, что очень многие, в особенности молодежь, просто уходят из Церкви, в которой им никто не открывает, в чем состоит ее истинная сущность и жизнь, что означает быть ее членом; где едва ли можно услышать призыв умножать внутренние духовные усилия; в которой настоящая духовная жизнь подменяется некоторым формальным минимумом (посещение богослужений, причащение раз в году, кое–какой пост и воздержание от развлечений), тогда как внешнее и материальное приобретает все больший вес.
И все это происходит тогда, когда мы, православные, призваны начать новую жизнь, когда нам дается возможность (которой лишены многие братья и сестры нашей Церкви–Матери) возрастать, быть свободными не только на словах, но и на деле, наполнить духовным содержанием нашу церковную жизнь, осуществить все то, чего, увы, не могут осуществить наши братья, живущие в страшных условиях откровенно атеистических и тоталитарных режимов. Разве не трагично, что все эти дары и возможности осознаются и принимаются так мало (если это вообще происходит), что сама организация наших церквей, тот дух и интересы, которые в них преобладают, исключают возможность питать и поддерживать подлинную религиозную жизнь?
3. ПОЧЕМУ ТАИНСТВА?
Если эти заметки я начал с общих размышлений о современном состоянии Церкви, то лишь потому, что я глубочайшим образом убежден, что вновь возникший интерес к Таинствам, к сакраментальной дисциплине и практике вызван именно этим кризисом, имеет к нему самое непосредственное отношение. Я убежден, что вопрос участия мiрян в Таинствах является поистине ключевым вопросом нашей церковной жизни, от разрешения которого буквально зависит будущее самой нашей Церкви, ее подлинное возрождение или быстрое угасание.
Я также убежден, что там, где Евхаристия и Причастие снова стали, по выражению покойного отца Сергия Четверикова, «средоточием христианской жизни»
[166], все эти вышеупомянутые трагические отступления и изъяны преодолеваются и уврачевываются. И это, конечно, не случайно. Ибо там, где церковная жизнь не основана прежде всего на Христе — а значит на постоянном живом общении с Ним в Таинстве Его Присутствия, — там неизбежно рано или поздно на первый план выступает какое–нибудь иное средоточие приходской деятельности: имущество, отношение к религии, как к «национальному культурному наследию», материальный успех… Там уже не Христос, а что–то мiрское или даже греховное будет не только преобладать, но также и разлагать церковную жизнь.
До самого последнего времени остроты этого вопроса, этого «или–или» можно было не замечать. Действительно, на протяжении долгого иммигрантского периода истории Православия в Америке у наших приходов кроме религиозной, была еще и «естественная» база — этническая, национальная, языковая. Приходы были необходимой формой объединения иммигрантов, поначалу сплотившихся только для того, чтобы как–то выжить в чужом, а иногда даже враждебном им американском мiре. Но теперь этот иммигрантский период стремительно подходит к концу. «Естественные» (этнические и языковые) основы нашей Церкви фактически сходят на нет. Постоянно растет численность православных, говорящих только на английском языке, а в некоторых наших приходах почти половина прихожан — это новообращенные в Православие. Чем же заменить эти основы? Очевидно, что, если ими не будут вера и опыт Церкви как единства, жизни и возрастания во Христе, т. е. подлинное содержание Православия, то поневоле приход, да и сама Церковь, постепенно, но неизбежно придут в упадок. Кроме того, люди, не объединенные чем–то и во имя чего–то, объединятся против чего–то. Именно в этом трагизм нашего теперешнего положения.
Вот почему вопрос о Таинствах имеет такое важное значение. Только в них и прежде всего в самом Таинстве Присутствия Христа и нашего единства с Ним и в Нем, мы можем обрести утвердительные, а не отрицательные принципы, которых так явно не хватает сегодня нашей Церкви. Только они дают возможность изменения и обновления мiрянского сознания, давно уже оторванного от истоков и опыта Церкви. И если этот вопрос приобрел сейчас такую остроту, то только потому, что все больше и больше людей, сознательно или бессознательно, ищут такого обновления, ищут той единственной основы, которая помогла бы Церкви и приходу заново обрести их духовную глубину и остановила бы их стремительное обмiрщение.
Мне хорошо известна существующая среди православных тенденция решать все живые и жгучие вопросы, в том числе и занимающий нас здесь вопрос об участии мiрян в Таинствах, простыми ссылками на прошлое, на то, что делалось тридцать, пятьдесят или сто лет назад, или до сих пор делается в России, Греции, Польше, Сербии и т. д. Однако эта тенденция порой может принести больше вреда, чем пользы, поскольку далеко не все в этом прошлом — в России, Греции или в другом месте — было в силу самого этого факта подлинно православным. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть отзывы, сделанные русскими епископами в начале этого века, во время подготовки запоздалого поместного Собора Русской Церкви (его работа началась в 1917 году, но, будучи прерванной революционным насилием в 1918 году, так и не завершилась). Фактически все без исключения русские епископы, вероятно, самые образованные в Православной Церкви люди и, вне всякого сомнения, консервативно настроенные, признали положение в Церкви — и духовное, и богослужебное, и организационное — глубоко неблагополучным и требующим спешных и глубоких реформ
[167]. Что же касается русского богословия, то все его лучшие представители единодушно обличали плененность его западной схоластикой и юридизмом, особенно в такой ключевой области как богословие Таинств. В своем знаменитом докладе перед Священным Синодом Русской Церкви один из ведущих представителей русского епископата, архиепископ Антоний Храповицкий, предлагал физически уничтожить русские богословские школы и в корне изменить сам подход к религиозному образованию, а праведник о. Иоанн Кронштадтский неустанно бичевал характерные для русского общества теплохладность и формализм, когда Причастие сводилось к «ежегодной обязанности», а церковная жизнь низводилась до уровня «обычаев».
Поэтому простых ссылок на прошлое недостаточно, ибо и само это прошлое требует оценки в свете подлинного Православного Предания. Единственный же критерий всегда и всюду — само это Предание и пастырская забота о том, как осуществлять его в наших, столь отличных от прошлого, условиях жизни.
4. НОРМА
Здесь нет возможности, да и нужды ставить вопрос об участии мiрян в Таинствах во всех его догматических и исторических аспектах. Достаточно напомнить о главном.
Безспорно установлено, что в ранней Церкви причастие всех верных за каждой Божественной Литургией было самоочевидной нормой
[168]. Важно подчеркнуть, однако, что само это общецерковное и регулярное причащение воспринималось и переживалось не только как акт личного благочестия и освящения, но, прежде всего, именно как акт, вытекающий из самого членства в Церкви, как исполнение и актуализация этого членства. Евхаристия и называлась и переживалась как
Таинство Церкви, Таинство собрания, Таинство единства. «Для того Он смесил Себя с нами, — говорит Св. Иоанн Златоуст, — и растворил Тело Свое в нас, чтобы мы составляли нечто единое, как тело, соединенное с Главою». Никакого другого признака или критерия принадлежности к Церкви и членства в ней, кроме участия в этом Таинстве, ранняя Церковь просто не знала: «обычно считалось, что тот, кто не причащался несколько недель, сам себя отлучил, сам себя анафематствовал от тела Церкви»
[169]. Причастие Тела и Крови Христа было самоочевидным исполнением Крещения и Миропомазания, и никаких других условий для причащения не существовало
[170]. Все другие таинства также «запечатлевались» чрез приобщение Святых Даров
[171]. И настолько несомненной была эта связь между членством в Церкви и причастием, что в одном древнем литургическом тексте мы находим отпуст перед Литургией Верных для тех, «которые не могут причаститься сего Божественного Таинства»
[172]. И сколько бы такое восприятие причастия не затемнялось и не усложнялось в дальнейшей истории Церкви, очевидно, что оно никогда не было отменено и составляет первичную и вечную норму Предания Церкви.
Поэтому вопрошать нужно не об этой норме, а о том, что случилось с ней. Почему мы так далеко отошли от нее, что само напоминание о более частом (не говоря уже о регулярном) причащении кажется многим, чаще всего духовенству, каким–то неслыханным новшеством, ниспровергающим, по их мнению, основания Церкви? Как стало возможным, что в течение столетий, девять из десяти литургий служатся без причастников? Почему этот невероятный факт не вызывает ни удивления, ни содрогания, тогда как желание чаще причащаться, напротив, вызывает испуг, противодействие и сопротивление? Как чужеродное учение об однократном в течение года причащении могло возникнуть в недрах Церкви и стать нормой, отступление от которой позволяется только в исключительных случаях? Иными словами, как понимание причастия стало сугубо индивидуальным, настолько оторванным от учения о Церкви как о Теле Христовом и настолько глубоко противоречащим самой евхаристической молитве: «нас же всех, от единого Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу, во единого Духа Святаго причастие…»?
5. РАСПАД: ЕГО ПРИЧИНЫ И ОПРАВДАНИЯ
Противники частого и регулярного причащения на этот вопрос обыкновенно отвечают так: если ранняя практика прервалась, если возникло коренное различие между клиром, чье причащение — составная часть их служения, и мiрянами, которые могут быть допущены к нему только при определенных условиях, неведомых ранней Церкви, в общем, если причащение мiрян стало скорее исключением, чем нормой, то это из–за святой и благочестивой боязни осквернить Таинство недостойным его вкушением, ибо недостойно причащающийся подвергает опасности собственное спасение, по словам ап. Павла, «кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе…» (1 Кор. 11:29).
Этот ответ поднимает больше вопросов, чем разрешает. Прежде всего, если отлучение мiрян от причащения и проистекало фактически из этого спасительного страха и чувства недостоинства, то сегодня это уже не так. Ибо если бы это было так, то непричащающиеся ощущали бы, по крайней мере, некоторую печаль за Божественной Литургией, сожалели бы о своей греховности и недостоинстве, которые отделяют их от Святых Даров, одним словом, чувствовали бы себя отлученными от причастия. На деле ничего этого нет. Поколение за поколением православные присутствуют на Литургии с безупречно чистой совестью, в полном убеждении, что ничего другого от них и не требуется, что причастие просто не для них. Редкое и исключительное событие своего причащения они воспринимают как «исполнение обязанности», после чего целый год считают себя христианами «с хорошей репутацией». Разве в таком отношении к причастию, которое, к сожалению, стало нормой для нашей Церкви, можно отыскать хотя бы след смирения и покаяния, благоговения и страха Божия?
Когда подобные установки впервые проявились в Церкви, а случилось это вскоре после обращения в христианство Римской империи и последовавшими за этим массовой христианизацией ее населения и, соответственно, снижением нравственного и духовного уровня жизни христиан, то Отцы усмотрели в этом не страх и смирение, а
небрежение и
духовную расслабленность [173]. И когда они осудили как грех отсрочку крещения по причинам «неподготовленности» и «недостоинства», Отцы боролись с пренебрежением Таинства ми. Мы не сможем найти ни одного места у Отцов, где бы они настаивали на воздержании от таинств по причине недостоинства.
Мы не должны, — пишет Св. Иоанн Кассиан, — устранятъся от Причащения Господня из–за того, что осознаем себя грешниками; но еще более и более с жаждою на добно поспешать к нему для уврачевания души и очищения духа, однакож с таким смирением духа и верою, чтобы считая себя недостойными принятия такой благодати, мы желали больше врачевства для наших ран. А иначе и в год однажды нельзя достойно принимать причащение, как некоторые делают, которые… достоинство, освящение и благотворность небесных таинств оценивают так, что думают, что принимать их должны только святые, не порочные; а лучше бы думать, что эти таинства сообщением благодати делают нас чистыми и святыми. Они подлинно больше гордости высказывают, нежели смирения… потому что когда принимают их, то считают себя достойными принятия их. А гораздо правильнее было бы, чтобы мы с тем смирением сердца, по которому веруем и исповедуем, что мы никогда не можем достойно прикасаться Святых Тайн, в каждый День Господень принимали их для уврачевания наших недугов, нежели, превознесшись суетным убеждением сердца, верить, что мы после годичного срока бываем достойны принятия их…»
[174]«Превознесшись суетным убеждением сердца»! Св. Кассиан здесь верно указал на странную способность всех духовных заблуждений находить для себя духовное «алиби», облекаться в ложное смирение, которое есть, однако же, более утонченная, а потому и более опасная форма гордыни. Таким образом, то, что возникло по единодушному свидетельству Отцов из небрежения, вскоре стало оправдываться псевдодуховными доводами и было постепенно принято как норма.
Например, появляется идея — совершенно неизвестная и чуждая раннему Преданию, — что по отношению к причастию существует духовное и даже мистическое различие между клириками и мiрянами, так что первые не только могут, но и должны причащаться часто, в то время как последним это не разрешается. Здесь еще раз можно процитировать Св. Иоанна Златоуста, который более чем кто–либо другой отстаивал святость Таинств и настаивал на достойном приготовлении к причастию:
Но есть случаи, — пишет великий пастырь, — когда священник не отличается от подначального, например, когда нужно причащаться Св. Тайн. Мы все одинаково удостаиваемся их, не так, как в Ветхом Завете, где иное вкушал священник, иное народ и где не позволено было на роду приобщаться того, чего приобщался священник, людям запрещалось соучаствовать в том, что было для священников. Ныне не так — но всем предлагается одно Тело и одна Чаша…
[175]А спустя тысячелетие, Николай Кавасила, говоря о причащении в своем «Толковании Божественной Литургии», не делает никакого различия между клиром и мiрянами. Он пишет:
…если кто–либо, имея возможность причаститься, отказывается приступить к евхаристической трапезе, таковой не получит освящения, доставляемого этой трапезой; не потому, что он не причастился, но потому, что, имея такую возможность, отказывается приступить… Как можно поверить в любовь того, кто, имея способность принимать Таинства, отвергается их?
[176]И все же, несмотря на такие ясные свидетельства, эта странная и по существу еретическая идея была и до сих пор остается частью, если не учения, то, по крайней мере, литургического благочестия нашей Церкви.
Настоящее торжество подобного отношения к причастию наступило по окончании святоотеческого периода и падении Византийского государства, когда православное богословие вступило в долгий период «западного пленения», решительного озападнивания, и когда Таинства, под влиянием западного схоластического и юридического богословия Таинств, видимо присутствуя
в Церкви, перестали рассматриваться и переживаться как исполняющие, или, по словам о. Георгия Флоровского, «
составляющие Церковь»
[177]. При этом с одной стороны Причастие превращается в средство индивидуального благочестия и освящения, что практически полностью исключает их
экклезиологическое значение, а с другой стороны само членство в Церкви теряет свою укорененность в Таинстве церковного единства веры, любви и жизни.
Это было время, когда мiрянину не просто «позволяли», но его, по сути, понуждали рассматривать причастие целиком субъективно — с точки зрения его собственных нужд, его духовности, его готовности или неготовности, его возможностей и т. д. Он сам стал мерилом и судьей «духовности» — своей и других людей. Он стал таким в рамках богословия и благочестия, которые, вопреки свидетельству подлинного Православного Предания, поддерживают непричащение мiрян, превращая его чуть ли не в норму или «марку» православия.
Воистину чудо, что совместному натиску озападненного богословия таинств и нецерковного, индивидуалистического благочестия все же не удалось совершенно искоренить жажду причащения и подлинного, а не формального, участия в жизни Церкви. Во все времена, но особенно в наше беспокойное и смутное время, всякое православное возрождение находило свой источник в новом «открытии» Таинств и всей сакраментальной жизни, и прежде всего в евхаристическом возрождении. Так было в России, где гонения очистили от пламенно обличаемого еще О. Иоанном Кронштадтским теплохладного, формального и номинального отношения к Церкви. Так обстояло дело в Европе и на Ближнем Востоке после возникновения там православного молодежного движения, с его обновленным и углубленным пониманием Церкви. И то, что сегодня евхаристическое и сакраментальное возрождение стучится в двери нашей Церкви, должно ободрить нас, ибо это знак того, что зловещий кризис «секуляризма» может быть преодолен.
6. ЗНАЧЕНИЕ ПРИЧАЩЕНИЯ
«Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1 Кор. 11:29). Теперь мы можем вернуться к этим словам ап. Павла и задуматься; над их истинным смыслом. Как мы видели, ни ранняя Церковь, ни Отцы не понимали их в том смысле, что альтернатива недостойному причащению заключается в воздержании от Причастия, что благоговение к Таинству и боязнь его профанации должны привести к отказу от вкушения Святых Даров. Очевидно, что так не думал и сам ап. Павел, в посланиях и увещеваниях которого мы находим первую формулировку этого кажущегося парадокса, который на самом деле составляет основу христианской «этики» и источник христианской духовности.
«Не знаете ли, — пишет ап. Павел коринфянам, — что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6:19—20). В этих словах — суть постоянного призыва ап. Павла жить соответственно тому, что «произошло» с нами во Христе; а жить так мы можем только потому, что это уже произошло с нами, потому, что спасение, искупление, примирение и то, что мы «куплены дорогою ценою», уже дано нам, и мы «не свои». Мы можем и должны работать для нашего спасения потому, что мы уже спасены, и именно потому, что мы спасены, мы можем работать для нашего спасения. Мы должны всегда, во все времена становиться и быть теми, кем мы уже есть во Христе: «вы же — Христовы, а Христос — Божий» (1 Кор. 3:22).
Это учение ап. Павла имеет решающее значение для всей христианской жизни вообще, и особенно для жизни в таинствах. Оно выявляет необходимую напряженность, на, которой основывается эта жизнь, из которой она происходит и которую нельзя устранить, ибо это означало бы оставление и коренное искажение самой христианской веры. В каждом из нас есть напряжение между «ветхим человеком, истлевающим в обольстительных похотях», и «новым человеком, обновляющимся по образу Создавшего его» через смерть и воскресение в крещении
[178]; между даром новой жизни и стремлением усвоить ее, сделать ее своей истинной жизнью; между благодатью, «подаваемой не мерой» (Ин. 3:34), и всегда несовершенной мерой моей духовной жизни.
Но тогда первый и основной плод всей христианской жизни и духовности, столь явный в святых, — это чувство и сознание не некоего своего достоинства, но недостоинства. Тот, кто близок к Богу, благодаря всецело свободному дару Божию, лучше осознает онтологическое недостоинство всего творения перед Богом. Эта подлинная духовность несовместима с какой бы то ни было мыслью о «заслуге», о чем–либо, что могло бы делать нас самих по себе «достойными» этого дара. Ибо, как пишет ап. Павел: «Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника… Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас» (Рим. 5:6—8). Стремление «соизмерять» эти дары с нашими заслугами и достоинством таит в себе начало той духовной гордыни, которая есть сама суть греха.
Это напряжение имеет свой источник в Таинствах. Приступая к Божественным Дарам, мы вновь и вновь осознаем, в какую богословскую «сеть» мы попали, и из нее, по человеческому разумению и логике, нет выхода. Ибо если из–за моего недостоинства я остерегаюсь приступить, то отказываюсь от Божиих даров любви, примирения и жизни. Я отлучаю себя, ибо «если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин. 6:53). Если же я «ем и пью недостойно» — я ем и пью свое осуждение. Я осуждаюсь если не принимаю, и осуждаюсь если принимаю, ибо разве кто когда–либо был «достоин» прикоснуться Божественному Огню и не потребиться?
Еще раз подчеркну: из этой богословской ловушки невозможно выбраться человеческим разумением, применяя к Божественным Тайнам наши человеческие критерии, мерки и рационалистические объяснения. Есть что–то духовно страшное в том, с какой легкостью и без малейшего упрека совести епископы, священники, мiряне, и, пожалуй, в особенности те, кто претендует на духовную опытность, принимают и отстаивают как традиционную и бесспорную ту современную ситуацию с Таинствами, при которой член Церкви может считать себя пребывающим «в нормальном состоянии», если в течение пятидесяти одной недели не приступает к Чаше из–за своего недостоинства, а затем, на пятьдесят второй, после исполнения некоторых правил, пройдя через пятиминутную исповедь и получив отпущение грехов, вдруг становится «достойным», чтобы вслед за Причастием вновь немедленно возвратиться к своему «недостоинству». Все это не может не пугать уже потому, что тем самым явно отвергается подлинный смысл, крест христианской жизни и все то, что открывается нам в Евхаристии, а именно осознание невозможности привести христианство в соответствие с нашими мерками и уровнем, невозможность принять его только лишь на наших, а не на Божиих условиях.
Что это за условия? Нигде они не выражены лучше, нежели в том приглашении, которое священник произносит, вознося Святой Хлеб, и которые в ранней Церкви собственно и означали приглашение к Причастию: «
Святая святым!» В этих словах, а также в ответе на них общины — «
Един Свят, Един Господь Иисус Христос» — все человеческие рассуждения находят свой конец. Святая — Тело и Кровь Христа — только для тех, кто свят. Однако
никто не свят, кроме единого Святого Господа Иисуса Христа. И таким образом, на уровне жалкого человеческого «достоинства» дверь закрыта; ничего мы не можем предложить, что сделало бы нас «достойными» Святых Даров. Ничего, кроме святости Самого Христа, которую Он в Своей безграничной любви и милосердии сообщает нам, со–делывая нас «родом избранным, царственным священством, народом святым» (1 Пет. 2:9). Это Его святость, а не наша, делает нас святыми и, значит, «достойными» приступать и принимать Святые Дары. Ибо, как говорит Николай Кавасила, комментируя эти слова, «никто не имеет святости сам по себе, и она не зависит от человеческой добродетели, но все, обладающие ею, получили ее от Него и Им. Как если бы несколько зеркал были выставлены на солнце, все они блестят и все источают лучи, тогда как одно и то же солнце соделывает их блистающими»
[179].
Таков главный «парадокс» жизни в Таинствах. И все–таки было бы ошибкой сводить его к одним лишь Таинствам. Грех профанации, о котором говорит ап. Павел, упоминая «пиющих и ядущих недостойно», имеет отношение ко всей жизни, потому что вся жизнь, весь человек, тело и дух, освящены Христом, соделаны святыми, «и сие не от нас, Божий дар». Единственный вопрос, который обращен к человеку: желает ли и готов ли он принять со смирением и послушанием так обильно и любовно подаваемую ему святость, прежде всего как крест, на котором он распинает ветхого человека с его похотью и тлением, как свой постоянный суд, но также и как благодать и силу для постоянной борьбы за возрастание в нем нового человека, новой и святой жизни, участником которой он соделался? Мы участвуем в Святом Причащении только потому, что Христом и во Христе соделаны святыми; и участвуем мы в нем для того, чтобы стать святыми, т. е. исполнить дар святости в нашей жизни. И тот кто этого не осознает, «ест и пьет недостойно», если, причащаясь, помышляет лишь о своем «достоинстве» в силу своей собственной, а не Христовой святости; если принимает Евхаристию, не связывая ее со всей своей жизнью, как суд над ней, но также и как силу для ее преображения, как прощение, но также и как неизбежное вступление на «узкий путь» напряженных усилий и борьбы.
Помочь нам осознать все это не только умом, но всем нашим естеством, привести нас к покаянию, которое одно открывает нам двери Царства, — вот смысл нашего приготовления к Святому Причастию.
7. ЗНАЧЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПРИЧАСТИЮ
В нашей нынешней ситуации, во многом сформированной практикой «нечастого» причащения, приготовление к нему означает, прежде всего, исполнение желающим причаститься определенных дисциплинарных и духовных предписаний и правил: воздержание от допустимых при иных обстоятельствах действий и поступков, чтение определенных канонов и молитв (Правила ко Святому Причащению, имеющегося в наших молитвословах), воздержание от пищи утром перед Причастием и т. д. Но прежде чем приступить к приготовлению в узком смысле слова, мы должны, в свете вышесказанного, попытаться восстановить идею приготовления в ее более широком и глубоком значении.
В идеале, конечно, вся жизнь христианина есть и должна быть приготовлением к Причастию — точно так же, как она есть и должна быть духовным плодом причастия. «Тебе предлагаем живот наш весь и надежду, Владыко Человеколюбче…» — читаем мы в литургической молитве перед Причастием. Вся наша жизнь судится и измеряется нашим членством в Церкви, а значит и нашим участием в Теле и Крови Христовых. Все в ней должно быть наполнено и преображено благодатью этого участия. Наихудшее следствие нынешней практики то, что при ней сама наша жизнь «отделяется» от приготовления к Причастию, делается еще более мiрской, более оторванной от веры, которую мы исповедуем. Но Христос пришел к нам не для того, чтобы мы могли выделять небольшую часть нашей жизни для исполнения «религиозных обязанностей». Он требует всего человека и всю его жизнь целиком. Он оставил нам в Таинстве Причастия Самого Себя, дабы освятить и очистить все наше существование, соединить с Ним все грани нашей жизни. Христианин — это тот, кто живет между: между воплощением Христа и Его возвращением во славе для суда над живыми и мертвыми; между Евхаристией и Евхаристией — Таинством воспоминания и Таинством надежды и ожидания. В ранней Церкви именно таким был ритм участия в Евхаристии — жизнь в воспоминании одного и ожидании грядущего. Этот ритм правильно формировал христианскую духовность, сообщая ей ее подлинный смысл: живя в этом мiре, мы уже участвуем в новой жизни грядущего мiра, преображая «ветхое» — «новым».
В действительности это приготовление состоит прежде всего в осознании не только «христианских принципов» вообще, но прежде всего, самого Причастия — как того, что я уже обрел и что, соделывая меня участником Тела и Крови Христовых, судит мою жизнь, требуя от меня быть тем, кем я должен становится, так и того, что я обрету в жизни и святости, приближаясь к свету, в котором само время и все подробности моей жизни приобретают важность и духовную значимость, несуществующие с чисто человеческой «секулярной» точки зрения. В древности один священник на вопрос: как можно жить христианской жизнью в мiре, отвечал: «Просто вспоминая, что завтра (или послезавтра, или спустя несколько дней) я буду принимать Святое Причастие…»
Самое простое, что можно сделать, дабы положить начало этому осознанию, — это включить молитвы до и после Причастия в наше ежедневное молитвенное правило. Обычно мы читаем приготовительные молитвы непосредственно перед причастием, а благодарственные молитвы непременно после, и, по их прочтении, просто возвращаемся к нашей обычной «мiрской» жизни. Но что мешает нам читать одну или несколько благодарственных молитв в течение первых дней после воскресной Евхаристии, а приготовительные молитвы ко Св. Причащению в течение второй половины недели, вводя, таким образом, осознание Таинства в нашу повседневную жизнь, обращая все к принятию Святых Даров? Это, конечно, лишь первый шаг. Необходимо сделать гораздо больше и, прежде всего, через проповедь, научение и обсуждение по–настоящему заново открыть для себя саму Евхаристию как Таинство Церкви, а значит, как подлинный источник всей христианской жизни.
Второй этап приготовления заключается в самоиспытании, о чем писал ап. Павел: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей» (1 Кор. 11:28). Цель этого приготовления, включающего пост, особые молитвы (Последование ко святому Причащению), духовную концентрацию, безмолвие и т. д., как мы уже увидели, состоит не в том, чтобы человек стал мнить себя «достойным», но, напротив, осознал свое недостоинство и пришел к истинному покаянию. Покаяние же вот что: человек созерцает свою греховность и немощь, осознает свою отделенность от Бога, переживая скорбь и страдания, жаждет прощения и примирения, делает выбор, отвергая зло ради возвращения к Богу, и наконец, жаждет Причастия во «исцеление души и тела».
Но такое покаяние начинается не с погруженности в самого себя, но с созерцания святости дара Христова, небесной реальности, к которой мы призваны. Только потому, что мы видим «брачный чертог преукрашенный», мы можем осознать, что лишены одеяния, надобного для входа в него. Лишь потому, что Христос пришел к нам, мы можем подлинно покаяться, т. е., увидев себя недостойными Его любви и святости, пожелать вернуться к Нему. Без истинного покаяния, этой внутренней и решительной «перемены ума», причастие будет нам не «во исцеление», но «во осуждение». Но покаяние приносит истинный свой плод, когда понимание своего полного недостоинства, приводит нас ко Христу как к единственному спасению, исцелению и искуплению. Показывая нам наше недостоинство, покаяние исполняет нас той жаждой, тем смирением, тем послушанием, которые и делают нас «достойными» в очах Божиих. Читайте молитвы перед Причастием. Все они содержат эту единственную мольбу:
…несмъ доволен, Владыко Господи, да внидеши под кров души моея; но понеже хощеши Ты, яко человеколюбец, жити во мне, дерзая, приступаю; повелеваеши, да отверзу двери, яже Ты Един создал ecu , и внидеши со человеколюбием… внидеши и просвещаеши помраченный мой помысл. Верую, яко сие сотвориши…
И, наконец, третьего и наивысшего уровня приготовления мы достигаем когда желаем причаститься просто оттого, что мы любим Христа и жаждем быть едиными с Тем, Кто «желанием возжелал» быть единым с нами. Превыше потребности и желания прощения, примирения и исцеления есть и должна быть лишь наша любовь ко Христу, которого мы любим, «потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Ин. 4:9). И, в конечном счете, именно эта любовь и ничто иное делает возможным для нас преодолеть бездну, отделяющую тварь от Творца, грешного от Святого, мiр сей от Царствия Божия. Эта любовь, которая одна воистину превосходит и потому упраздняет, как бесполезные тупики, все наши человеческие, «слишком человеческие», уклонения и рассуждения о «достоинстве» и «недостоинстве», отметает наши боязни и запреты, и делает нас покорными Любви Божественной. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви…» (1 Ин. 4:18). Это та любовь, которая вдохновила превосходную молитву св. Симеона Нового Богослова:
…божественных бо причащаяйся и боготворящих благодатей, не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой… Да убо не един пребуду кроме Тебе Живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения мiру.
Вот цель всего приготовления, всего покаяния, всех усилий и молитв — дабы мы возлюбили Христа и, «дерзая неосужденно», могли участвовать в Таинстве, в котором любовь Христова подается нам.
8. ИСПОВЕДЬ И ПРИЧАЩЕНИЕ
Пришло время открыто заявить, что сколь бы разнообразны, а иногда и серьезны ни были причины, которые способствовали появлению подобного учения и практики, они не только не основаны на Предании, но, по существу, ведут к весьма тревожным искажениям православного учения о Церкви, Евхаристии, да и о самом Таинстве Покаяния.
Чтобы убедиться в этом, достаточно хотя бы в нескольких словах напомнить об изначальном понимании Церковью Таинства Покаяния. Согласно учению Церкви оно было и до сих пор остается таинством примирения с Церковью, возвращения к ней и в её жизнь отлученных от общения, т. е. исключенных из ее Евхаристического собрания. Первоначальные, высокие нравственные нормы жизни, которые предъявлялись к членам Церкви, и очень строгая церковная дисциплина допускали только одно такое примирение: «После этого великого и святого призвания [крещением], если кто, будучи искушен от диавола, согрешил,
имеет одно покаяние, — читаем мы в Пастыре Ермы, христианском памятнике второго века. — Если же часто будет грешить и творить покаяние, не послужит это в пользу человеку, так делающему»
[180]. Позднее, и особенно после массовой христианизации Империи, последовавшей за обращением императора Константина, покаянная дисциплина была отчасти ослаблена, но понимание самого Таинства нисколько не изменилось: оно применялось только к тем, кто был отлучен от Церкви за поступки и грехи, четко определенные в каноническом Предании Церкви
[181]. И то, что такое понимание Таинства Исповеди осталось даже до сего дня, ясно видно из самой молитвы разрешения грехов: «Примири, и соедини его (ее) святей твоей Церкви, о Христе Иисусе Господе нашем…» (Между прочим, именно эта молитва является разрешительной и повсеместно употребляется в Православных Церквях. Что же касается второй молитвы, неизвестной во многих Православных Церквях, — «И аз, недостойный иерей, властию, мне данною, прощаю и разрешаю…», — то она имеет западное происхождение и была введена в наши богослужебные книги во времена крайней «латинизации» православного богословия). Означает ли это, что
не отлученные, верные почитались Церковью
безгрешными? Конечно, нет. Церковь учит, что никто, кроме Бога не безгрешен, «яко несть человек, иже жив будет и не согрешит». Церковь также всегда учила, что хотя определенные грехи и отлучают христианина, но есть и те, что не приводят к отделению от тела Церкви и от участия в таинствах. Николай Кавасила пишет:
Есть грехи не к смерти, по учению an. Иоанна. И вот почему ничто не препятствует тем христианам, которые не совершили грехов, отделяющих их от Христа и приводящих к смерти, причаститься Божественных Тайн и участвовать в освящении не только по наружности, но и действительно, дабы пребывать им живыми членами, едиными с Главою…
[182]Это вовсе не означает, что наши грехи — наша общая греховность, слабость и недостоинство всей нашей жизни, не нуждаются в покаянии и прощении; все приготовление к причастию, как мы видели, и есть такое покаяние и мольба о прощении. Таинство же Исповеди и разрешение грехов, ещё недавно применявшееся только для отлученных от общения, — не является необходимым. Наши «не смертные» грехи и наша общая греховность исповедуется членами Церкви всякий раз, когда мы собираемся вместе для Таинства Христова присутствия, и вся жизнь Церкви в действительности являет собою непрестанное покаяние. В продолжение самой Божественной Литургии мы исповедуем наши грехи и испрашиваем прощение в молитве Трисвятого:
Прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, освяти наша души и телеса и даждь нам в преподобии служити Тебе вся дни живота нашего…
Приступая ко Святой Чаше, мы испрашиваем прощения в «прегрешениях вольных и невольных, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением», и верим, что в меру нашего покаяния получаем прощение чрез участие в Таинстве подлинного прощения и исцеления.
И тогда становится понятно, что учение, которое объявляет Таинство Исповеди необходимым условием допущения мiрян к Причастию, есть не только уклонение от подлинного общецерковного Предания, но также искажение православного учения о Церкви, Евхаристии и самом Таинстве Покаяния. Оно искажает учение о Церкви, так как вводит de facto деление её членов на две категории, за одной из которых (мiряне) их возрождение в Крещении, освящение во Св. Мvропомазании, то, что они стали «согражданами святым и своими Богу», не признается в качестве условия, обеспечивающего
полное членство, т. е. участие в Таинстве, в котором Церковь исполняет себя как Тело Христово и Храм Святого Духа. Оно искажает учение о Евхаристии, ибо устанавливая для причастия дополнительные условия помимо членства в Церкви, в сущности не позволяет видеть и переживать Евхаристию как само Таинство Церкви, которое, по словам Литургии св. Василия Великого, «нас всех, от единаго Хлеба и Чаши причащающихся, соединяет друг ко другу, во единаго Духа Святаго причастие». И наконец, оно искажает само Таинство Покаяния, потому что, сделавшись формальностью и, фактически, просто условием для причащения, исповедь
подменяет собой подлинное приготовление к причастию, которое состоит, как мы видели, в истинном внутреннем покаянии. Акцент всего переживания в этом Таинстве сместился от покаяния к
отпущению грехов, воспринимаемого почти на уровне магизма
[183]. Этого формального, полумагического, полузаконнического «отпущения», а не примирения с Церковью, от которой отлучили грехи, ищут сегодня в исповеди; и ищут не потому, что их беспокоит собственная греховность (они обычно находят ее естественной и неизбежной), но потому, что это «дает право» приступить ко Святым Дарам с чистой совестью. Делаясь просто «условием для причащения», Таинство Исповеди, бывшее столь определяющим, столь устрашающим в жизни древней Церкви, сегодня теряет свою истинную функцию и место в ней.
Как могло такое учение появиться в Церкви и превратиться в норму, защищаемую многими в качестве чуть ли не квинтэссенции Православия? Это произошло по трем основным причинам. Об одной из них мы уже говорили: это номинальное, минималистическое, теплохладное, пренебрегающее Таинствами и осужденное Отцами отношение к требованиям Церкви, приведшее сначала к редкому причащению, а со временем и к его пониманию как «ежегодной обязанности». Совершенно ясно, что христианин, редко приступающий ко Святым Тайнам и вполне удовлетворенный таким своим de facto «отлучением», должен быть воссоединен с Церковью и не может быть допущен к Св. Чаше, не пройдя через Таинство Покаяния.
Второй причиной, коренным образом отличной от первой, было влияние на Церковь монашеской исповеди — духовного руководства, постоянного «откровения помыслов», проверки более опытным монахом менее опытного. Старец, которому вверялось такое духовное руководство и исповедь, мог и не быть священником (в своем первоначальном виде монашество представлялось несовместимым со священством), а эта исповедь совсем не обязательно была связана с Таинством Покаяния. Она была неотъемлемой частью монашеской жизни и дисциплины, основанной на всецелом послушании, на монашеском отречении от своей воли. В византийских монашеских типиконах XII— XIII веков монаху запрещалось как приступать к Чаше, так и воздерживаться от нее самовольно, без разрешения игумена или духовного отца, ибо — как сказано в одном из таких типиконов — «исключать себя самовольно от причастия — это поступать по своей воле». В женских монастырях та же власть присваивается игумении
[184]. Таким образом, мы имеем дело с исповедью несакраментального типа, сравнимою (с соответствующими изменениями и поправками) с тем, что мы сегодня называем «наставлением» или «духовным руководством». Исторически эта исповедь оказала, однако, сильное, действительно решающее влияние на развитие исповеди сакраментальной. В эпоху духовного упадка (глубину которого хорошо показывают постановления, например, так называемого Пято–Шестого Трулльского собора, состоявшегося в Константинополе в 691 году) и потери белым духовенством нравственного и духовного авторитета, монастыри стали почти единственными центрами духовного руководства, а монахи — единственными духовными руководителями и для православного народа. Таким образом, два типа исповеди — «сакраментальная» и «духовная» — мало–помалу соединились в одну: «духовная» становится приготовлением ко Св. Причащению, а «сакраментальная» включает в себя не свойственное ей ранее разрешение духовных проблем.
Такое развитие, как бы исторически и духовно оно не оправдывалось, каким бы благотворным для своего времени оно не выглядело, привело, тем не менее, к путанице, которая в современных условиях приносит более вреда, нежели пользы. Нет ни малейшего сомнения относительно насущной потребности Церкви в пастырском и духовном руководстве и наставничестве. Но вот проблема: способна ли удовлетворить эту потребность наша современная краткая трех–пятиминутная исповедь с длинной очередью исповедающихся, ожидающих «исполнения своей ежегодной обязанности», — ни собственно исповедь, ни полноценная духовная беседа? Возникает и другой вопрос: всякий ли священник, в особенности молодой, вполне опытен, должным образом «снаряжен», чтобы разрешать все проблемы и верно понимать их? Скольких трагических ошибок, скольких духовно пагубных советов, скольких недоразумений можно было избежать, если бы мы придерживались сути церковного Предания, оставляли бы Таинство Исповеди для кающихся в своих грехах и находили другое время и обстановку для весьма необходимого пастырского и духовного окормления, которое, кстати, позволяет и самому священнику осознать собственную несостоятельность в определенных случаях и искать помощи и руководства у своего епископа, другого священника или в духовном опыте Церкви.
Третьей и, к сожалению, основной причиной оказалось, конечно, влияние западного схоластического и юридического понимания Покаяния. О «западном пленении» православного богословия писали много, но мало кто понимает всю глубину и значение тех искажений, к которым привело это западное влияние в жизни самой Церкви и, прежде всего, в понимании Таинств. Западное влияние привело к упомянутому выше смещению смысла Таинства Покаяния от раскаяния и примирения с Церковью к разрешению, понимаемому почти исключительно в терминах юридической власти. Если в исконном православном понимании разрешение происходит оттого, что священник есть свидетель покаяния, его искренности и действительности и потому уполномочен объявлять и «запечатлевать» божественное прощение кающегося, его совершившееся «примирение со Святой Церковью во Христе Иисусе», то западный юридизм все ударение ставит на власти священника прощать. Отсюда и совершенно неслыханная практика требовать и давать разрешительную молитву без всякой исповеди! Изначальное, упомянутое Кавасилой, различие между грехами, отлучающими человека от Церкви, и теми, которые к такому отлучению не приводят, было рационализировано на Западе в категориях с одной стороны, т. н. «смертных грехов», лишающих человека «благодатного состояния» и поэтому требующих Таинства Покаяния и разрешения, и, с другой стороны, «обычных грехов», не затрагивающих «благодатного состояния», для которых достаточно внутреннего покаяния. На православном Востоке, особенно же в России (под влиянием латинствующего богословия Петра Могилы и его последователей), теория эта обернулась обязательным соединением исповеди и причастия. Есть печальная ирония в том, что это наиболее очевидное из всех заимствований латинства выдается у нас за норму православия, а всякая попытка пересмотреть его в свете подлинно Православного Предания изобличается как католическое уклонение.
9. ОТКРЫТЬ ВСЕ ЗАНОВО
В чем мы нуждаемся, — это прежде всего в новом открытии Церковью и всеми ее членами подлинного назначения Евхаристии как Таинства Церкви, как того центрального акта, в котором она всегда становится тем, что она есть: Телом Христовым, Храмом Святого Духа, даром новой жизни, явлением Царства Божия, познанием Бога и общением с Ним. Всем этим Церковь становится в «таинстве собрания», когда многие сходятся вместе, чтобы составить Церковь через приношение Святой Жертвы единым телом, сплоченным одной верой, одной любовью, одной надеждой, через приношение Евхаристии «едиными усты и единым сердцем» и через запечатление этого единства с Богом и друг с другом во Христе причащением Святых Даров.
Нам необходимо также заново открыть Святое Причащение как ту насущную пищу, которая соединяет нас во Христе, делая участниками Его жизни, смерти и воскресения, как способ нашей реализации в качестве членов Церкви, нашей духовной жизни и возрастания.
И, наконец, мы должны вновь открыть истинное значение приготовления как средоточия нашей духовной жизни, как того духовного усилия, которое постоянно открывает нам наше недостоинство и поэтому пробуждает в нас жажду Таинства исцеления и прощения, которое, открывая неизреченную глубину Христовой любви к нам, побуждает нас любить Его и жаждать единения с Ним.
И если мы «откроем заново» все это, то обнаружим, что, в сущности, вся жизнь Церкви всегда была именно этим приготовлением: что все ее правила — духовные и литургические, покаянные и дисциплинарные — в действительности имеют своей целью помочь нам в устроении нашей жизни как постоянного приготовления не только к Причащению, но, в конечном счете, к тому, к чему оно само подготовляет нас, — к радости и полноте «невечернего дня» вечного Божественного Царствия.
Так мы вновь откроем для себя подлинную нужду в Таинстве Покаяния, в исповеди. Мы будем искать в нем не формального «разрешения» или столь же формального «условия» для причащения, но глубокого духовного обновления, истинного примирения с Богом и возвращения к Его Церкви, от которой мы действительно так часто отпадаем по причине безысходной обмирщенности нашего существования. Мы снова откроем духовное значение покаянных периодов Церкви — Великого поста, Рождественского поста и др. — особого времени для Покаяния. Мы снова увидим в самих себе нужду в подлинном духовном руководстве. Но самое главное, мы снова, со страхом и радостью, духовным трепетом и верою, откроем Таинство Христова Тела и Крови как истинный источник и неизменное средоточие нашей христианской жизни!
Понятно, что это не может произойти в одночасье. Потребуется немало времени, немало сил и терпения. Однако то, что все эти вопросы — и, на более глубоком уровне, голод и жажда более полного участия в том, что составляет само существо жизни Церкви, в ее духовной и сакраментальной жизни, — появляются в нашей Церкви и ее членах, убеждает в том, что даже посреди мрака и духовного разложения нашего смутного времени сама она «никогда не стареет, но постоянно обновляется». Тем же, кому Бог поручил «верно преподавать слово истины», хранителям истины — епископам надлежит следить за тем, чтобы этот духовный голод был утолен в согласии с истинными нормами, истинными требованиями Предания Церкви.
Впервые опубликовано в сборнике «Живое Предание» № 2. Киев, 1999.
Символ веры
1. Введение
В жизни христианской Церкви с давних пор занимал и продолжает занимать особое место так называемый Символ веры: сравнительно краткое исповедание того, во что верит Церковь. Слово «символ» в его первоначальном значении можно перевести так: то, что «держит вместе, соединяет, содержит». Так вот. Символ веры именно со–держит все эти истины, которые — верит Церковь — необходимы для человека, для полноты его жизни и для спасения от греха и духовной гибели.
Исторически Символ веры возник из подготовления новообращенных, то есть вновь уверовавших, готовящихся ко вступлению в Церковь, к Таинству крещения. В древности принимали крещение главным образом взрослые. Как и в наши дни, люди приходили к вере, принимали Христа, желали вступить в Церковь, стать членами церковной общины — каждый в итоге своего особого пути. Ибо всякое обращение, всякая встреча человека с Богом есть тайна благодати Божией, проникнуть в которую нам не дано. Одни приходят к Богу в страдании и горе, другие — в радости и счастье. Так было, так будет всегда.
Зарождение веры в душе человеческой есть тайна. И, однако, сама вера во Христа приводит человека к Церкви, к общине тех, кто верит во Христа. Сама вера ищет и требует единства верующих, которые именно этим своим единством, любовью друг ко другу свидетельствуют перед миром, что они ученики и последователи Христа. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, — сказал Христос, — если будете иметь любовь между собою». Любовь и единство веры, про которое апостол Павел говорит, что оно составляет главную радость христиан: «Я весьма желаю увидеть вас, — пишет он христианской Церкви в Риме, — чтобы утешиться с вами общей верой, вашей и моей…»
Христианская жизнь новоуверовавшего начиналась, таким образом, с того, что его приводили к епископу местной Церкви, и тот начертывал рукою крест на лбу нового христианина, как бы ставя на нем метку Христову. Человек пришел к Богу, поверил во Христа. Теперь, однако, надлежит ему узнать содержание веры. Он становится учеником, его начинают, как говорится в церковных книгах, оглашать. Ибо христианство — это не эмоция, не просто чувство, нет, это — встреча с Истиной, это — трудный подвиг приятия ее всем существом. Как человек, страстно любящий музыку, для того, чтобы исполнять ее, должен пройти через трудное обучение, так и поверивший во Христа, полюбивший Христа должен теперь осознать содержание своей веры и то, к чему она обязывает.
Накануне праздника Пасхи — ибо в ранней Церкви крещение совершалось в пасхальную ночь, — каждый готовящийся к крещению торжественно читал Символ веры, совершал «отдачу» его, исповедовал его приятие и свое вступление в единство веры и любви. У каждой большой местной Церкви — Римской, Александрийской, Антиохийской — был свой крещальный символ веры, и, хотя все они были повсюду выражением единой и неразделимой веры, в стиле, фразеологии они разнились между собою. В начале IV века в Церкви возникли большие споры, касавшиеся основного христианского учения о Христе как Боге. В 325 году в городе Никее собрался Первый Вселенский Собор, и на нём был выработан общий, единый для всех христиан Символ веры. Спустя несколько десятилетий, на Втором Вселенском Соборе в Константинополе, Символ веры был дополнен и получил название Никео–Царьградского, общего для всей Вселенской Церкви. Наконец, Третий Вселенский Собор в Эфесе в 431 году постановил, чтобы этот символ оставался навеки неприкосновенным, чтобы, иными словами, не делалось к нему больше дополнений.
С тех пор вселенский Символ веры поется или читается в Церкви на каждой литургии. Он есть всеобщее, для всех обязательное выражение Церковью своей веры. И потому всякий, желающий узнать, во что верит Церковь, в чём наша вера, в чем та Истина, которую несет христианство миру, — ответ на это находит в Символе веры.
2. Верую…
Остановимся на том слове, с которого начинается Символ веры. Слово это — верую. Оно определяет собою всю тональность Символа веры, его духовную исключительность и единственность. Поэтому, хотя слово это кажется знакомым и понятным, в него нужно вдуматься, его нужно заново открыть и постоянно открывать для себя каждому из нас.
Итак, что говорю я, или, лучше сказать, — о чём говорю, когда произношу слово верую? Мне кажется, достаточно задать этот вопрос, чтобы ощутить прежде всего глубочайшее отличие самого слова «верую» от всех других, которыми я выражаю содержание моего внутреннего «я».
Когда я говорю — «я думаю», и мне и другим понятно, о чём идет речь: о направленности моего сознания на тот или иной объект. Сказать: «Я думаю, что есть Бог» — это значит высказать некую догадку, построенную на тех или иных предпосылках. Когда я говорю: «Я знаю, убежден, ощущаю», — я остаюсь в пределах вполне объяснимых, разумных, ничего загадочного в себе не содержащих состояний моего сознания. Ни к одному из этих состояний слово «верую» не применимо, так как оно для них не нужно. Сказать «я верую, что идет дождь» — просто глупо, так как тут я имею дело с объективным фактом.
Таким образом, очевидно, что слово верую относится только к тому, что во мне, и вне меня лишено очевидности. К тому, иначе говоря, что лишено и чувственной очевидности, и очевидности рациональной, и, наконец, очевидности фактической.
А вместе с тем (и тут мы подходим к самому главному) слово верую не только существует, и, следовательно, соответствует, хотя бы во мне, чему–то реальному и наполнено внутренней силой, так как не нуждается в подпорках извне. Я говорю «верую» только про то, что глазами не вижу, ушами не слышу, руками не трогаю, к чему не имеет отношения никакое «дважды два четыре», но во что я верю и что этой верой я знаю.
«Бога никто никогда не видел…» Для верующих вера отлична от всего, так как в том суть ее, что направлена она на то, что «просто» знать и «просто» доказать невозможно. В этом смысле веру можно назвать и чудом, и тайной. Чудом ощущает ее прежде всего сам верующий. Действительно, откуда в душе, откуда в сознании эта одновременно радостная и страшная несомненность присутствия, встречи, дух захватывающей любви? Словно не я, а какая–то сила во мне говорит: «Верую» в ответ на эту встречу. Я не могу объяснить ее словами, так как слова — всё о земном, о фактах, о видимом и осязаемом. А опыт веры — так очевидно — опыт свыше, и как выразить, передать его? Словно не я куда–то пришел, а кто–то пришел ко мне, прикоснулся к моему сердцу: «Се стою у двери и стучу!» — этот стук, это пришествие ощутила душа и радуется, и знает…
Чудо и, следовательно, тайна. Вера — это прикосновение к тайне, узрение другого измерения, присущего всему в мире. В вере оживает тайный смысл жизни. За гладкой, объяснимой, однозначной поверхностью вещей начинает светить их подлинное содержание. Сама природа начинает говорить и свидетельствовать о том, что над нею, внутри нее, но отлично от нее. Говоря самыми простыми словами, вера видит, знает, ощущает в мире присутствие Бога. Она, по утверждению апостола Павла, есть «обличение вещей невидимых», и действительно — для верующего всё в жизни и сама жизнь начинают ощущаться как явление. «Небеса <проповедуют славу Божию, творение рук Его возвещает <небесный свод». Это — не поэзия, это голос, это свидетельство веры. Чудо, тайна, знание, радость, любовь. Всё это звучит в слове «верую!» — одновременно и ответ и утверждение. Ответ Тому, Кто возлюбил меня, утверждение моего принятия этого происшествия, реальности этой встречи. «Верую!» — и дальше весь Символ веры: рассказ, свидетельство о том, что узнала в этой встрече душа.
3. Во единого Бога Отца…
Верую во единого Бога. Это исповедание единого Бога есть начало всех начал, основа всех основ христианства. Христианство вошло в мир, в котором царило многобожие. Ибо дохристианский человек «богом» называл и обожествлял природу, то есть многообразие действующих в ней сил. «Мир полон богов», — сказал греческий философ Фалес, и это в переводе на теперешний язык означало, что в мире действует множество сил и «законов».
Христианство своею проповедью, своим исповеданием единого Бога восставало против обожествления мира. Единый Бог — это значит, что все силы, вся жизнь, все «законы», всё то, что живет в мире, и сам мир — от Бога, но не Бог. Язычество, многобожие чувствовало Божественный источник мира, но не знало Бога. Его «боги» были всего лишь отображением самого мира. Отсюда в многобожии — соперничество «богов», отсюда идолопоклоннический, магический характер язычества.
Поэтому провозгласить, исповедать единого Бога — значит утвердить примат духовного, высшего бытия, которое одно способно явить смысл каждого явления жизни.
И сразу же Символ веры называет этого единого Бога Отцом. «Верую во единого Бога Отца…» Ибо если слово «Бог» означает абсолютную высоту Божества, Его абсолютное превосходство над миром, опыт Бога как Высшего, Недостижимого, Другого, то именование Бога Отцом утверждает не только связь Бога с миром, но и такую связь, сущность которой в любви, близости и заботе. Если христианство отвергает многобожие и провозглашает Бога как абсолютное бытие, то с такой же силой отвергает и то восприятие Бога, которое называется деизмом. Это понимание Бога как «причины», или, по знаменитой аналогии Вольтера, как Часовщика, создавшего сложный механизм, приведшего его в движение, но в самом движении уже не участвующего.
Именно такое — отвлеченное, чисто философское — понимание Бога и отвергается в именовании Его Отцом. Отец дарует жизнь, но продолжает любить Свое создание, заботиться о нём, участвовать. Про Бога сказано в Евангелии, что "<Он есть любовь». И потому в этом именовании Бога Отцом уже заложена, уже выражена и наша ответная к Нему любовь, наше доверие, наше любовное, сыновнее Ему послушание.
Назвав Бога Отцом, Символ веры исповедует Его и <Вседержителем. «Верую… в Бога Отца. Вседержителя». Словом этим выражаем свою веру в то, что Бог, Которого называем мы Отцом, содержит в Своем Промысле — всю жизнь, или, лучше сказать, что всё в мире — Его, всё от Него, всё живет Им.
Ни на что не положило христианство столько усилий, как на борьбу с так называемым дуализмом, с верой многих христианских религий в существование двух начал: светлого и темного, хорошего и злого. Дуализм возник из опыта страдания, зла, уродства, царствующих в мире. Поскольку же страдание, зло, в понимании дуалистов, — от материи, то от нее нужно бежать в чистую духовность. «Материя» — от зла, она есть зло… Далее мы еще будем говорить о том, как понимает христианство зло, разлитое в мире, созданном Благим и Светлым Богом Сейчас подчеркнем только, что понимание это исключает какой бы то ни было дуализм.
Мир создан любовью. И если отпадает от любви, то это именно падение, а не сущность мира.
И, наконец, исповедует Символ веры Бога Отцом, Вседержителем и «Творцом неба и земли, видимого же всего и невидимого». Мир сотворен, источник его в Боге. Он не сам из себя, не случайное сцепление клеточек, не абсурд. Он осмыслен, у него есть начало и есть цель, и всё в нём отнесено к высшей Божественной мудрости: небо и земля, видимое и невидимое. «И увидел, что это хорошо…» Этим исповеданием отвергаются всякое упрощенное понимание мира, всякое сведение его к чистой «объективности». Созданный Богом мир отражает Божественную мудрость, Божественную красоту, Божественную истину. Всё от Бога, всё пронизано высшим смыслом — и в этом, как мы увидим дальше, — и радость, но и трагизм мира и жизни в нём.
4. И во единого Господа, Иисуса Христа…
Слово, или титул, Господь, по–гречески–Κύριος, означало в эпоху возникновения христианства — вождя, наделенного Божественной властью и силой, посланного Богом, во имя Божие, чтобы править миром. Титул этот присвоили себе римские императоры, чтобы подчеркнуть Божественный источник своей власти.
И именно этот титул не признавали за императором христиане, не боясь ни смерти, ни преследований, утверждая, что у мира один Господь, один носитель Божественной власти и что Господь этот — Иисус Христос. И за это, за этот отказ, Римская империя на протяжении двухсот лет преследовала христиан. Но потому с этого слова и следует начать объяснение христианской веры во Христа.
«Верую… во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного». Произнося эти слова, мы сразу оказываемся в самой сердцевине христианства, его «уникальности». Вера во единого Бога присуща всем большим религиям — исламу, иудаизму и тому расплывчатому «деизму», то есть признанию высшего Божественного начала и источника жизни, которое распространено среди миллионов людей, не причисляющих себя ни к какой исторической или традиционной религии.
От всех этих религий христианство отличается тем, что одновременно с чистейшим монотеизмом, то есть верой во единого Бога, оно той же верой обращено ко Христу: к Человеку по имени Иисус, жившему в Палестине около двух тысяч лет тому назад, жизнь Которого: пришествие, учение, смерть — описаны и записаны в книге, называемой Евангелием, то есть благой и радостной вестью, составленной четырьмя евангелистами: Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном.
Христос. Произнося это слово, мы привычно соединяем два имени — Иисус Христос, и забываем, что если первое имя — Иисус — есть действительно человеческое имя, довольно частое в Палестине той эпохи, то второе — Христос — титул, означающий Помазанник. Слово это переведено с древнееврейского Мессия <(точнее: Машиах; Мессия — грецезированная форма этого слова). Через все книги Ветхого Завета проходит пророчество о том, что Бог пошлет в мир Мессию, Помазанника, то есть Человека, Которого Он, Бог, облечет Божественной властью, наполнит Своим Духом и пошлет для того, чтобы возвестить людям Свою волю, спасти их от греха и зла, соединить навек с Собою.
Как царей и пророков помазывали елеем, символом духовной силы, так и этот Божественный Посланец будет Мессией. Ожидание Мессии особенного напряжения достигло как раз в эпоху, описанную в Евангелии. Первое утверждение Евангелия в том и состоит, что Человек Иисус, начавший проповедь Свою в Палестине, и есть Мессия, Помазанник Божий — Христос. Тот, Кого ждали, о Ком молились и Кого провозглашали все пророки, пришел. Человек Иисус — есть Христос. Таково начало христианской веры.
5…. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша…
И, наконец, последнее, всё собою увенчивающее, всё обнимающее откровение: Этот Господь, Этот Христос, Которого послал Бог в мир как Свою любовь и Свое спасение, есть Сын Божий Единородный. Я нарочно говорю: откровение. Ибо все остальные слова: Господь, Христос, Помазанник — мы находим в истории спасения, они всё еще могут быть ограничены человеческим, тварным.
Но явить во Христе Сына Своего Единородного может только Бог, только Отец. И в день, когда Иисус Христос приходит креститься у Иоанна Предтечи, в смиренном послушании Богу, Бог открывает эту тайну нам:
И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского
и крестился от Иоанна во Иордане,
и когда выходил из воды, увидал Иоанн разверзающиеся небеса
и Духа, как голубя, сходящего на Него.
И глас с небес: «Ты Сын Мой Возлюбленный,
в Котором Мое благоволение».
Тут кончается спор. Ибо не с кем спорить. Здесь тайна, а о тайне не спорят, ее открывает нам Бог. Он не нуждается ни в «утверждении», ни в оправдании. Вся история мира, история спасения вела к этому Божественному Откровению, к этому дару любви и света, и всякий, кто от света, приемлет их. Христос есть Сын Божий, Христос есть Бог. И мы верим в это, потому что мы верим Отцу и верим Христу. Ибо «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Символ веры прибавляет: «в Сына Божия Единородного». Это значит, что Христос — Сын Божий не в том общем смысле, в каком все люди, поскольку сотворены они Богом, могут быть названы детьми Божьими, а в смысле единственном и исключительном слова «единородный», то есть единственный, один, — не сотворенный, а рожденный от Отца прежде всех век. Так учил Христос о Себе, и эту веру мы принимаем от Него. Мы верим Ему. И в этой вере Бог перестает быть отвлеченной идеей. Он раскрывается как Отец Сына Своего Единородного, потому что Он — вечная Любовь к Сыну, вечная радость о Нём, вечная Ему самоотдача: «Отец любит Сына, — говорит Христос, — и всё отдал Ему…» Также и Сын: вечная любовь, послушание, вечная самоотдача любви.
Да, изнемогает наш ум, наш падший и ограниченный рассудок. Изнемогает перед глубиной, величием и — по–человечески — непостижимостью этой тайны. Но именно эту тайну возвещает нам Христос: совсем другое, новое для нас и неслыханное учение о Самом Боге. И вот на это Церковь не перестает утверждать, что Христос — «Свет от Света, Бог истинный от Бога истинного».
Тут, в этом неслыханном учении, проходит черта между теми, кто эту веру принимает и ею живет, и теми, кто не принимает, говоря, что хотя Христос и принес людям замечательное, возвышенное моральное учение, Сам Он — человек, а не Бог. Я останавливаюсь на этом выборе, потому что он, вне всякого сомнения, определяет собою всё наше понимание христианства. Можно сказать так: либо мы принимаем Евангелие целиком, принимаем всё учение Христа, как дано оно нам в Евангелии, либо, подобно Толстому, что–то принимаем в нём, а что–то отбрасываем. Принимаем то, с чем согласны, что «понимаем», но отвергаем то, чего не понимаем. Только нужно понять, что, если мы выбираем второй подход, мы самих себя делаем судьями Евангелия и, что еще страшнее, считаем, что Христос ошибся и учил неправде. Но если Он в чём–то ошибался и учил неправде, то какова ценность других Его слов и всего Его учения? Если читать Евангелие непредвзято, то не может быть никаких сомнений в том, что Христос сознавал Себя Сыном Божиим, посланным в мир Отцом, чтобы спасти мир. И в этом весь смысл Евангелия, то есть той Благой вести, которую ученики Христа разнесли по всему миру, той тайны, которую Иисус Христос возвестил и явил миру.
Поэтому с приятия именно этой тайны и начинается христианская вера, и в вечном углублении в нее состоит христианская жизнь.
В чём же состоит тайна, которую отцы и учители Церкви называли пресветлой и прерадостной? Ответ на этот вопрос укладывается в одно слово, и слово это — любовь. Про Бога в Евангелии сказано, что Он есть любовь. Не то что среди Божественных «качеств» есть и призыв к любви, а Сам Бог есть любовь. Но нет любви без любящего и любимого и их единства. И если эта любовь абсолютна, то и воплощается она в единстве абсолютном, так что любящий может сказать: мы — едины, мы — одно.
Поэтому можно сказать так: если Богом мы называем совершенное Бытие, если совершенство раскрыто нам как любовь, если «Бог любовь есть», то тогда Бог не есть одиночество, этакое вечное Я — без вечного Ты. Нет, Бог есть абсолютное, всеблаженное единство Любящего, Любимого и любви, или, как Им Самим раскрыто нам: Отца, Сына и Святого Духа.
«Отче! — говорит Христос в ночь предательства. — Да будут все едино — как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино — да уверует мир, что Ты послал Меня». Вот смысл слов Символа веры о Сыне Божием Единородном.
6. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес…
Остановимся прежде всего на слове спасение. Остановимся потому, что здесь мы имеем дело с понятием, которое каждому верующему известно, к которому он так привык, что оно перестало звучать для него во всём своем смысле. Поэтому нужно подчеркнуть, что христианство — это религия спасения. А это значит — не просто «улучшения» жизни, помощи в житейских невзгодах, раскрытия отвлеченных норм и принципов поведения, а именно спасения. Спасение предполагает гибель. О спасении, а не об утешении и утешительных словах молит тонущий человек, или человек, дом которого охвачен пламенем, или человек, летящий в пропасть. Между тем именно ощущение гибели — и потому переживание христианства как спасения как бы выдохлось за долгие века христианства, и подавляющее большинство христиан, хотя по привычке и повторяет слова «Спаситель», «спасение» и мольбу «спаси нас», внутренне, подсознательно переживает их по–иному, не так, как переживали христиане вначале.
В самом христианстве произошла своеобразная подмена слов, или, лучше сказать, не слов — ибо слова–то остались те же самые, — а смысла слов, их звучания. Произошла эта подмена потому, что мы перестали ощущать себя существами действительно гибнущими, существами, чья жизнь неумолимо стремится к бессмысленному распаду, которая поглощается злом, бессмысленностью, ужасом умирания и смерти, животной борьбой за существование, страшной похотью власти, войной всех против всех, ложью, отравляющей самые истоки жизни, серостью и приговоренностью всех к смерти, то есть всем тем, что пытается, и, увы, с успехом, заглушить, замазать наша так называемая «цивилизация». Всего этого мы научились как бы не замечать, а то уж очень страшно жить. Всё это мы научились заговаривать суетой повседневной жизни. Нет, не случайно всё громче гремит оглушающая шумная музыка, ускоряется ритм жизни, всё увеличивается число новостей, которыми глушат нас день за днем. Это человечество, боящееся остановиться, боящееся задуматься, боящееся остаться наедине с собою и увидеть гибель, страх, ненависть и зло как саму жизнь, к которой мы приговорены. Между тем именно таково ощущение, образ жизни в Евангелии. Христос приходит к людям, «сидящим во тьме» и «сени смертной». Вот первое определение в Евангелии судьбы человеческой. Радость рождественской ночи сразу же омрачена. Ирод хочет убить Младенца и для этого убивает множество младенцев, и вот, пишет евангелист Матфей, «глас в Раме слышен, плач и рыдание, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет…»
Только о любви, только о прощении проповедует Христос. Но откуда же эта ненависть, сгущающаяся вокруг Него и приводящая Его — безысходно, неумолимо — на крест? В центре Евангелия этот ужас предательства, измены, страшной злобы, пота, падающего на землю, как кровь. Человека, Который в предсмертной муке «начал ужасаться и тосковать», вопя со креста: «Боже мой! Боже мой! Почему Ты Меня оставил?» — предает от страха перед толпой Пилат, издеваются, бьют, плюют римские солдаты, издеваются фарисеи, вопит народ: распни, распни Его! — вот в Евангелии образ мира и жизни. Достаточно на минуту задуматься, чтобы увидеть, что всё это всегда было, всегда есть, что в мире царит и жизнью управляет гибель. И если не вернуться именно к этому ощущению, если не начать с него, то нет смысла в христианстве, и ему, в сущности, нечего сказать людям. Ибо только раскрывая глубину и ужас гибели, христианство раскрывает себя, или, вернее, Христа, Его учение и Его призыв — как спасение. Спасение не от того или другого, а спасение самой жизни, так безнадежно оторвавшейся от собственного своего содержания, от Бога, от света, от неба, от Истины, от вечности, и в отрыве этом ставшей страшным и зловонным кишением людей, одинаково приговоренных к бессмысленной гибели. Всё это и исповедуем мы, когда произносим в Символе веры простые и вечные слова: «Нас ради человек и нашего ради спасения». Ради нас: для меня, для тебя, для каждого в отдельности и для всех вместе; для нашего спасения. Каждый раз, повторяя это утверждение, мы утверждаем также и наше знание гибели.
Многие хотели бы удалить из христианства эту связь: спасение от гибели, спасение, потому что гибель. Многие хотели бы как бы «обезвредить» христианство, сделать его придатком к жизни, бытом, древностью, добрым обычаем. Но как нельзя убрать из Евангелия крест и распятие, так не убрать из христианства этого соотношения гибели и спасения. Можно сказать: всякая подлинная встреча со Христом раскрывает мне прежде всего тьму, гибельность и бессмысленность моей жизни. Я вижу Христа, и потому, что я вижу Его, я понимаю, что та жизнь, которой я живу, — не та, не настоящая жизнь, а жизнь, пронизанная гибелью, осужденная на гибель. И вера моя в Него, во Христа, с того начинается, что каким–то таинственным и необъяснимым и, тем не менее, самоочевидным для меня образом я узнаю, что только Он, Христос, может спасти меня, что только Он, только у Него, только в Нём спасение и мое, и ближних, и всех, и всего. «Нас ради человек и нашего ради спасения». Так всё Евангелие, вся вера отнесены этими словами Символа веры ко мне и к моей жизни. И только ощутив это всем существом, я оказываюсь способным задуматься над тем, в чём состоит спасение.
7. И воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечившегося…
От Духа Святого и Марии Девы. Я думаю, для неверующих, для людей, внешних христианству, нет большего камня преткновения и соблазна, чем вера христиан в то, что Иисус Христос родился от Девы. От веры в это, увы, отказались даже многие христиане, особенно те протестантские ученые, которые изучают Евангелие и веру «научно» и которым вера в Матерь–Деву кажется неприемлемой, кажется насилием над умом, суеверием. Не сомневаются, смиренно принимают это евангельское учение люди простые и те, кто сам смиренен. И не только принимают, но принимают как радостный дар, как светлую и радостную тайну, которую Богу угодно было нам раскрыть. А так как доказать «действительность» этого безмужнего зачатия и рожденья невозможно, и мы либо верим, либо не верим в него, либо смиренно принимаем, либо, так сказать, «принципиально», во имя науки и от имени разума отвергаем его, то и говоря о нём, мы можем попытаться всего лишь поведать, что дает эта вера нашему сознанию, нашему сердцу, что открывает она нам на глубине.
Конечно, вера в рожденье Христа от Девы, провозглашенная в Евангелии, снова и остро ставит вопрос об уме, о разуме и о границах того научного подхода ко всем явлениям, который разум наш только и знает и в котором он действительно верховный судья. Вопрос этот так важен потому, что девство Божьей Матери, как называет Церковь Марию, Мать Иисуса, отвергается именно разумом. Разум говорит: этого не бывает, и потому этого быть не может, и потому этого не было. И потому это нужно вычеркнуть из Евангелия. Так что всё сводится в конце концов к выбору: что выше — Евангелие или разум, кто кого судит, кто кем проверяется — Евангелие ли разумом или разум Евангелием? Замечу сразу же, что дилемма эта относится совсем не к одному только утверждению веры — к рожденью Христа от Девы. Она относится, как мы отлично знаем, прежде всего к Самому Богу. Тот же разум, та же наука не знают ни Бога–Творца, ни Бога–Любви, ни Бога–Спасителя. Ибо наука знает только то, что она может проверить и проверкой этой, как говорит философия, эмпирически доказать. Проблема, следовательно, расширяется. Речь идет о том, существует ли сфера знаний, явлений жизни, которая не то что не подведомственна уму, нет — христианство ставит ум очень высоко, — но в которой ум, во всяком случае, наш земной, человеческий ум, не имеет окончательной власти, не может и потому не должен выносить никакого окончательного суждения. Или еще так: есть ли у ума границы, вне пределов которых он, если он только подлинный, так сказать, «умный ум», говорит: я не знаю. Я говорю «умный ум», потому что есть, вне всякого сомнения, глупый ум, и он–то обычно и кричит громче всех и считает себя всезнайкой. Настоящий ум, настоящий ученый об очень многом говорит: «Я еще этого не знаю», — и это незнание неизмеримо более достойно подлинной науки, чем кичливое всезнайство.
Так вот, христианская вера, христианство по отношению к уму занимает такую позицию: оно, во–первых, признаёт ум высшим даром Бога человеку, подлинно Божественным даром; оно, во–вторых, утверждает, что как и всё в мире, как и весь человек, ум помрачен и ограничен грехом, и потому уже не всё может познать и объяснить. И, наконец, в третьих, оно считает, что ум может и должен быть просветлен, просвещен, углублен и возрожден верой. А для этого ум должен смириться, а это значит — допустить, что в мире действует не только он и не слепая и бездумная причинность, которую одну ум и постигает, а действует в мире Бог, о котором сказано, что Его пути — не наши пути, Его мудрость — не наша мудрость, и что Бог разрушает гордыню ума, утверждающего свое всезнайство. Но тогда как раз и отпадают все те возражения, о которых мы говорили в начале: этого не бывает, и потому это невозможно, это не соответствует известным нам законам природы, и потому этого не было, и так далее. Ибо как раз самые глубокие законы мира и неизвестны, неизвестна та его мистическая глубина, на которой ум встречается с действием в нём Бога–Творца, Бога–Любви, Бога–Промыслителя. Ведь вера и Церковь не утверждают совсем, что это «бывает» и что это «возможно», то есть дети могут рождаться без отца, от девы. Вера и Церковь только утверждают, что это неслыханное, небывалое и для нашего падшего ума невозможное событие совершилось тогда, только тогда, когда на землю в образе человеческом пришел Сам Бог! Поэтому вера в девство Марии, Матери Иисусовой, зависит совсем не оттого, «возможно» это или «невозможно», бывает или не бывает. Сама Церковь в одной из своих молитв утверждает: «Чуждо матерям девство и чуждо девству материнство». Вера эта зависит только от того, верим ли мы, что Христос — Бог, пришедший на землю, к нам, «нашего ради спасения, нас ради человек».
Если верим, то понятной (нет, не голому разуму, а глубине нашего сознания) становится и тайна безмужнего рожденья. Ибо в этой тайне как раз и содержится вера Церкви во Христа, знание Его как Бога и Человека, как Бога, ставшего человеком, как Человека, исполненного Богом, обоженного. Нам не дано свести Бога на землю и Его вочеловечить. Это Божье решенье, Божья инициатива, причина Его вочеловечения не в земном, не в одном из земных законов, но только в Боге. Христос — Сын Божий. Но человечество Свое, плоть и кровь Свою Христос принимает от нас, людей, и принимает от Девы Марии, Которой Духом Божиим, творческой силой Его и любовью дано стать Матерью и этим материнством навеки, навсегда и до конца породнить нас со Христом, Сыном Божиим, явить Его как одного из нас, как Сына Человеческого. Свободное решение Бога, творящего нового человека, свободное приятие человеком этого дара — вот смысл этой нашей веры, вот радость ее. Бог нисходит с неба, чтобы человек поднялся на небо. Через Иисуса Христа — мы дети Божий, через Марию — Христос с нами, в нас, наш брат, наш сын, наш Спаситель. Всё это и выражено в кратком исповедании Символа веры: «и воплотившегося от Святого Духа и Марии Девы и вочеловечившегося».
8. Распятого за нас при Понтийском Пилате…
Каков смысл этого упоминания в кратком перечислении всего того, во что верит Церковь, — Пилата? Почему одно это имя упоминается в связи с распятием, смертью и воскресением Христа, одно имя среди бесчисленных имен людей, участвовавших в осуждении и мучении невинного Учителя? На вопрос этот нужно дать два ответа, одинаково для нашей веры важных, существенных, центральных.
Первый ответ таков: имя Пилата упоминается потому, что, называя его, Церковь утверждает историчность тех событий, в которых исповедует она спасение мира и человека.
Есть и вторая причина для упоминания имени римского правителя в Символе веры, и она ясно указана в собственных словах Пилата, обращенных им, согласно Евангелию от Иоанна, к стоявшему перед ним Христу. Христос молчит. И Пилат спрашивает: «Почему Ты не отвечаешь мне? Разве Ты не знаешь, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?» Это значит, что земная судьба Человека, стоявшего перед Пилатом, смерть и жизнь Человека зависели от него, Пилата. И Пилат, как известно, знал, что нет никакой вины за Этим Человеком. «С этого времени, — пишет евангелист Иоанн, — Пилат искал отпустить Его», то есть Пилат искал случая, чтобы отпустить Христа, — и не отпустил. Не отпустил, так как боялся толпы, так как ему легче было угодить ей, предав на смерть невинного Человека, чем, отпустив Его, рисковать волнениями, бунтом, доносами в Рим и тому подобным. Пилат был свободен. Его власть, говорит Христос, дана была ему свыше, и это значит — для правды, справедливости, милосердия, защиты слабых. Пилат свободно выбрал зло. Был один момент — один, только один, — когда всё зависело от него, и он это знал, и поступил сознательно против совести, против правды… Нет, тут не было рока, Пилат не был бессмысленным исполнителем чужой воли, игрушкой в чьих–то руках. Пилат был свободен. И именно эта свобода Пилата делает поступок его столь безысходно, столь страшно и абсолютно трагическим. Потому упоминание имени Пилата в Символе веры — это (всегда, каждый день, на протяжении тысяч лет) напоминание нам, каждому из нас, о том, что мы свободны. Эта минута, когда Пилат мог отпустить Христа или освободить Его, — эта минута длится вечно, длится в жизни каждого из нас. Нет дня, когда не стояли бы мы перед выбором и не имели бы данной каждому из нас свыше власти по никогда не обманывающему голосу совести знать правду — и либо выбирать, либо отвергать ее. И эта свобода, эта возможность выбора делает саму нашу веру судом над нами.
В каждом человеке мы можем узнать образ Христа, и либо сделать добро, либо же предать Его — из страха, из слабости и малодушия, как тогда, в ту пятницу перед Пасхой, в час шестой сделал это Пилат. Только по отношению к этой свободе, которой никто не в силах отнять у нас, и решается наше спасение или же наша собственная духовная гибель. Христос нас спас, но сделать это Им дарованное спасение нашим спасением мы можем только сами, только глядя на стоящего перед Пилатом, всеми брошенного, всеми преданного, всеми оставленного Человека. «Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се человек!» — не зная, что в словах этих единственный суд над нами, ибо каждый из нас свободен принять или отвергнуть и предать Его. Так, упоминая имя одного человека, Символ веры на веки веков раскрывает нам всю необъятную глубину человеческой свободы. Сам Бог стоит пред нами — не в величии и славе, ибо тогда мы подчинились бы ему и стали Его трусливыми рабами, нет — в терновом венце и багрянице. И только по отношению к Нему мы свободны, как был свободен Пилат, и в этой свободе решает каждый свою вечную судьбу
9. Распятого…
В Человеке Иисусе Бог снизошел к нам, соединил нас с Собою, явил нам Свою безмерную любовь, открыл нам доступ в вечное царство любви и света. И вот мир не принял и отверг Его, как говорит евангелист Иоанн Богослов: «Он пришел к своим, и свои Его не приняли…» Сошел с небес, и вот — распят. Воплотился, и вот — обречен на страдания. Вочеловечился — и вот убит и погребен. В этом противопоставлении, в этом столкновении любви с ненавистью, в столкновении встречи и отвержения, дара и неприятия раскрывает нам Символ веры христианское понимание, или — лучше сказать — христианское знание, христианский опыт зла, а также знание и опыт победы Христовой над злом, разрушения Им зла…
Первый вопрос: почему был Христос отвергнут? Откуда эта постепенно нарастающая ненависть к Нему, последнее выражение которой вечно звучит в страшном вопле толпы: «Распни, распни Его!»? Ведь с момента явления народу всё служение Христа, вся Его проповедь — это одно сплошное воплощение любви, добра, сострадания и милосердия. Христос говорит о Себе словами древнего пророка: «Дух Господень на Мне, ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу…» Христос идет через города и села, и толпы людей следуют за Ним, несут к Нему больных и страждущих, слушают Его и, казалось бы, окружают Его любовью и поклонением. Куда же девалась эта толпа, когда стоит Христос перед первосвященником, а затем перед Пилатом, когда бьют Его и издеваются над Ним римские воины, когда пробивают Ему ладони и ступни, пригвождая Его ко кресту? Или это — та же толпа, те же люди? Но тогда — что же претворило любовь в ненависть, поклонение — в отвержение? Вот Пилат говорит: «Я не нахожу в Нём никакой вины»; вот разбойник, распятый рядом с Христом, говорит: «Человек Этот ни единого зла не сотворил». Но всё бессильно против страшного напора ненависти, желания, чтобы не было больше Этого Человека, чтобы Он был убит…
Смысл евангельского рассказа, если только вслушаться, вдуматься, вжиться в него, прост: Христа отвергают, Христа ненавидят, Христа распинают не за что–то одно, не за те выдуманные преступления, в которых лживо и клеветнически обвиняют Его перед Пилатом и которые, зная, что это ложь и клевета, отвергает и Пилат, тем не менее предавая Христа на позорную и страшную смерть. Нет, тут нет недоразумения, тут нет никакой случайности. Христа распинают только потому, что явленные в Нём добро и любовь, льющийся от Него ослепительный свет оказываются людям невыносимы. Невыносимы потому, что Его свет обличает зло, которым живут люди и которое они сами от себя скрывают. Ибо в том ужас падшего мира, что в нём зло не только царствует, но еще и выдает себя за добро, всегда скрывается за личиной добра. В мире царит круговая порука зла, выдающего себя за добро! Именем добра, свободы, заботы о человеке — и не тогда только, а всегда, и теперь, в наши дни — порабощают и убивают людей, обманывают, лгут, клевещут, разрушают; каждое зло только и кричит: «Я — добро!» И не только кричит, но еще и требует, чтобы люди неустанно вопили в ответ: «Ты — добро, ты — свобода, ты — счастье!»
Зло не имело бы никакой победы, никакой власти в мире, если бы оно открыто являло себя как зло. Зло побеждает обманом, выдавая себя за добро. И этот обман дает возможность человеку оправдывать ненависть, убийство, рабство, ложь, уродство. Вот этот обман и обличает и раскрывает Христос. Раскрывает и обличает не только словами Своими, а прежде всего «Собою, Своим явлением, Своим присутствием. Христос оказывается свидетелем, а каждый преступник знает, что прежде всего нужно уничтожить свидетеля преступления, оградить круговую поруку зла. «И стали с того дня [со дня предательства и убийства] Ирод и Пилат друзьями». В этом коротком замечании евангелиста заключена вся страшная правда о зле.
Да, за Христом следовали толпы, пока Он помогал, исцелял, творил чудеса. И эти же самые толпы бросили Христа и кричали: «Распни Его!» Люди почувствовали страшным инстинктом зла, что в этом совершенном Человеке, в этой совершенной любви — их обличение, что самой Своей любовью, самим Своим совершенством Христос требует от них жизни, которой они не хотят, любви, правды, совершенства, которые для них невыносимы; этого свидетеля нужно убрать, уничтожить.
Только вот — и в этом весь смысл, вся глубина Креста и Распятия — в этом видимом торжестве зла на самом деле торжествует добро. Ибо торжество добра начинается как раз с раскрытия зла как зла. Первосвященники знают, что они клевещут. Пилат знает, что он предает на смерть ни в чём не повинного Человека. И час за часом, шаг за шагом в этом страшном торжестве начинает разгораться свет победы. Победа звучит в раскаянии распятого разбойника, в словах сотника, руководившего казнью: «Воистину Человек Этот — Сын Божий!» Умирающий на кресте Человек завершает Свое свидетельство. И Им изнутри — нет, еще не извне, — разрушено зло, ибо явлено и вечно является оно как зло. Повторяю, крест — это начало той победы, завершение которой — в смерти и воскресении Распятого.
10. Страдавшего…
«И страдавшего…» — говорит Символ веры. Зачем это повторение, ведь слово «распятие» включает в себя понятие страдания? В ответ на это нужно сказать так; говоря «распятого», мы говорим, прежде всего, о тех, кто распинал Христа, мы говорим о зле, о том видимом торжестве и победе зла, которые выражают Крест и Распятие и которыми, так как они выражают зло как зло, снимают со зла все покровы — и начинается разрушение зла. Говоря же «и страдавшего», мы говорим о Христе, мы не на распинателях, на Распинаемом сосредотачиваем свой внутренний, духовный взор. Если бы, как учили некоторые осужденные Церковью лжеучители, Христос не страдал на кресте, не испытывал ужасающих физических и душевных страданий, то всё, решительно всё изменилось бы в самой нашей вере во Христа, в вере в Него как в Спасителя мира и Человека. Так как это означало бы, что мы убрали из этой веры самое главное, а именно — веру в спасительность как раз вольного страдания, самоотдачи Христа самому страшному, самому необъяснимому и безысходному закону «мира сего» — закону страдания.
Не требует никаких доказательств, что мир наполнен страданием. Страданием физическим и страданием душевным, болью и мученьем во всех смыслах этих слов. Страданьем, которое часто оказывается сильнее страха смерти, так как для того чтобы освободиться от него, чтобы больше не страдать, не мучиться, человек убивает самого себя, отказывается от жизни. Но вот, столь же очевидно и то, что, несмотря на этот всеобъемлющий и всемирный закон страдания, человек не принимает его. Все религии, все философии, все идеологии, короче говоря, — все «рецепты», предлагаемые на протяжении тысячелетий человеку, все без исключения обещают освобожденье от страданья, прекращенье страданья. Тут, в этом обещании, исчезает разница между «индивидуализмом» и «коллективизмом», между религией и атеизмом, между консерватизмом и радикализмом и так далее. И тот факт, что люди принимают это обещание, верят в него и в известном смысле только им и живут, доказывает, что в человеке неистребимо подсознательное или сознательное ощущение страданья как чего–то недолжного. Если называть нормальным то, что бывает, происходит, случается всегда и всюду, то нет ничего «нормальнее» страданья. Но именно это «нормальное» человек извечно ощущает как ненормальное.
И вот, нужно сказать со всей силой, что одно христианство, только оно не обещает человеку освобождения от страданья. «В мире печальны будете», — говорит Христос, хотя Сам Он на протяжении всего своего служения только и делает, что помогает страдающим. Но, делая это и нам заповедав делать это, Христос ни разу, нигде не говорит, что Он пришел освободить мир от страданья, прекратить и уничтожить его. Христос вольно, свободно, зная, что ожидает Его, «восходит во Иерусалим», идет на страданье и свободно принимает его, и нас обрекает на него, если мы только в самую ничтожную меру следуем Ему и поступаем по Его заповедям. Почему? В чем смысл этого кажущегося противоречия? Вот в чём: если Христос в земной Своей жизни все время страдает, и жалеет, и исцеляет, и помогает, то это потому, очевидно, что Он, как и все люди, не принимает страданья как что–то нормальное и при встрече с ним, как и всякий человек, «возмущается духом». Нет, не для страданья и мученья, а для радости и жизни преизбыточествующей создал Бог человека, и для Христа всякое страданье — это победа зла и злого в мире, созданном Богом. Однако в том и ужас зла, что оно сделало страданье нормальным и вместе со смертью единственным абсолютным законом мира и жизни. И потому ни один «рецепт» против страданья, в том числе даже чудо исцеления и оживления мертвых, не освобождает мир и жизнь от страданья, может быть, даже наоборот — подчеркивает всесилие страданья, его безысходность. Подчеркивает всю ужасающую «нормальность» ненормального… Исцеленный снова заболеет и умрет. Утешенный и осчастливленный снова познает печаль и боль жизни, окружающее его торжество зла, распада и муки. «В мире печальны будете…» И только поняв это, можно понять, да и то только духовным слухом, ответ Христа, ответ христианства — страданью. Ответ этот: не уничтожение страданья, что невозможно в падшем мире, а претворенье самого страданья в победу.
Вот это претворенье и совершает Христос, Сам вольно принимая страданье, вольно отдавая Себя ему. Мы не могли бы даже услышать этих слов: претворение страданья в победу — или они остались бы навсегда самой бессмысленной из всех риторик, из всех самоутешений, если бы не хранило наше сердце, наша духовная память образ страдающего Христа. Что говорит нам эта память? Христос, Сын Божий, сиянье и свет Бога на земле, вошел в наше страданье, принял его до конца, сделал его своим страданьем во всей полной и страшной мере его: с нами вместе, как один из нас, но только в сверхчеловеческой полноте, «Он начал ужасаться и тосковать». Таким образом открыв Своим состраданьем и для нас возможность наше страданье претворять в состраданье Ему — и это значит в духовный подвиг, в духовную борьбу, в духовную победу. Страданье — венец и торжество бессмыслицы и абсурда — Христос наполнил Своей верой, Своей любовью, Своей надеждой, и это значит — смыслом. Страданье — из разрушения жизни — Христос сделал возможностью рожденья в подлинную, духовную жизнь. Возможностью, говорю я, так как нет ничего магического в страданьях Христа. И нет более трудного, по–человечески рассуждая, более непосильного и невозможного подвига, чем претворение этой возможности в реальность.
По–человечески — мы всё еще хотим от Бога, от Христа прекращения, а не претворения страданья, хотим того, чего хотели от Него люди, видевшие во Христе только целителя, только Того, кто может уничтожить страданье. Но Христос не уничтожил страданья ни для Себя, ни для нас. Христос счел нас достойными неизмеримо большего: включения в Его страданья, приятия страданья как разрушения его разрушительной силы, как вхождения в веру, надежду и любовь, как победы духа, как вхождения в Царство Божие. «Сила Божия в немощи совершается». И если только мы внимательно посмотрим кругом себя, то убедимся, что если есть в мире подлинные победы духа, победы веры, надежды, любви, победы в людях — Христа, то все они без исключения — это победы этого Христова страданья, нашего страданья со Христом. Всё это, сказанное на слабом и нищем человеческом языке, извечно сияет и горит в одном слове Символа веры: «и страдавшего».
11. Погребенного…
Вслед за исповеданием Христа распятого и страдавшего Символ веры утверждает и «погребенного». И снова мы невольно спрашиваем себя: почему именно это слово, а не слово «умершего». Погребение, очевидно, включает в себя, предполагает смерть, и всё–таки не случайно не смерть, а именно погребение упоминает Церковь в перечислении тех событий жизни и служения Христа, в которых и через которые, верит она, совершилось и вечно совершается спасение мира и человека. И потому, отвечая на вопрос о смысле слова «погребенного», касаемся мы чего–то самого важного, самого сердцевинного для христианской веры.
Можно сказать так: смерть, умирание еще относятся к нашей земной, видимой жизни, суть конец ее и завершение. Смерть в ее биологической сущности есть факт самоочевидный, непререкаемый как для тех, кто верит в то, что называют люди «загробной жизнью», так и для тех, кто не верит в нее. Но погребение умершего относится уже не к самому моменту смерти, а к тому, что следует за ней, к тому, как относятся к ней, как думают и верят о ней те, кто совершает погребение. Для одних это обряд вечного расставания, признание окончательности смерти как абсолютного конца, как возвращения человека в то небытие, из которого он почему–то возник и в которое безысходно возвращается. Это расставание можно обставить с большей или меньшей торжественностью, украсить речами и цветами, но это ничего не меняет в пронизывающем погребальное торжество чувстве безнадежности, бессмыслицы, абсурда: был человек и нет человека. Конец. Для других погребение выражает веру в продолжение жизни за гробом: в древних языческих культах в гробницу умершего клали пишу, оружие, иногда даже убивали жену, чтобы она могла быть и в загробной жизни со своим мужем. Такое погребение мы давно развенчали как детскую наивность, суеверие.
Так или иначе, погребение всегда есть утверждение определенного понимания смерти. И потому Церковь в своем Символе веры говорит не о смерти, а именно о погребении Христа. Больше того, каждый год в день, предшествующий Пасхе, день, который называет она Великой и Благословенной субботой, Церковь как бы повторяет это погребение, опять и опять раскрывая, являя то, что совершилось, прежде всего, с самой смертью, когда принял ее, снизошел и погрузился в нее Иисус Христос, Сын Божий. Когда после потемок Великой пятницы, дня распятия и смерти, дня проявления всей силы зла, обрушившегося на Христа, вступаем мы в субботу — посередине храма возвышается так называемая Плащаница, то есть гробница с изображением на ней мертвого Христа. Но всякий, кто хоть раз в жизни пережил вместе с другими верующими этот единственный по своей глубине, по своему свету, по своей белой тишине день, знает — и знает не разумом, а всем существом своим, — что гробница эта, которая, как и всякий гроб, всегда есть свидетельство о торжестве и непобедимости смерти, начинает озаряться каким–то видимым, почти ощутимым светом, что гроб претворяется, как поет Церковь, в «живоносный гроб». Да, видимо смерть торжествует в этой неподвижности мертвого тела, этого бездыханного Человека. Всё совершилось, всё кончено. Но смысл, глубина, ни с чем в мире не сравнимая красота этой службы в том, что, совершаемая у гроба и вокруг смерти, она есть созерцание, явление необычайности, новизны этой единственной смерти этого единственного Человека. «О Жизнь! Как Ты умираешь? Как можешь Ты вселиться в гроб?» Вот вопрос, который задаем мы Христу, лежащему во гробе. И постепенно приходит ответ. На рыданье, на недоуменье, на отчаяние Своей Матери, всего мира, всего творения Христос отвечает, и этот ответ звучит в потрясающих песнопениях этого дня: «Разве ты, разве вы не понимаете? — как бы говорит Христос. — Я имел двух друзей на земле: Адама и Еву. И Я пришел к ним и не нашел их на земле, которую Я дал им. И, любя их, Я спустился туда, где они, — во тьму и ужас и безнадежность смерти». Да, всё это выражено, всё это сказано, всё это поется на языке детей, в образах, символах, как бы сказке. Но как иначе явить, показать потрясающую новизну совершающегося? Тот, Кого Евангелие называет Жизнью, ибо «в Нём была жизнь, и жизнь была свет человекам», Тот, Кто есть сама жизнь, в любви и сострадании опускается в смерть, которой Он не сотворил, но которая завладела миром, отравила жизнь. Смерть поглощает жизнь, но вот — в смерти Христа сама оказывается поглощенной Жизнью. Во тьме и сени смертной, в одиночестве и ужасе смерти загорается свет. Церковь поет: «Спит Жизнь, и смерть трепещет…»
Ранним утром, еще в полной темноте, обносим мы Плащаницу вокруг храма. И вот уже не надгробное рыданье раздается, а победная песнь: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный!» Христос шествует в царстве смерти, объявляя пленникам смерти, что царство это пришло к концу. Отныне всякая смерть, сколь ни остается она ужасной, печальной и страшной изнутри; побеждена тем, что ее воспринял, пережил и в себе изжил Христос. «Поглощена смерть победой», — восклицает апостол Павел, и у гроба каждого умершего мы поем о «надгробном рыдании, претворяемом в победную песнь: Аллилуйя!»
«И погребенного…» Это значит — принявшего смерть как свою судьбу и наполнившего ее любовью, и это значит — жизнью, верой, и это значит — жизнью, надеждой, и это значит — жизнью. «Где твое, смерть, жало? Где твоя, о ад, победа?»
Всем нам предстоит войти в смерть, умереть. Но словом Символа веры Церковь утверждает, что в смерти мы встречаем Христа, что Он смерть превратил во встречу с Собою, в преддверие воскресения.
12. И воскресшего в третий день по Писанием…
После креста, после сошествия в смерть воскресение из мертвых — это основное, главное, решающее утверждение Символа веры, утверждение им самой сердцевины христианства. Действительно, «если Христос не воскрес, вера ваша тщетна». Это слова апостола Павла, и они остаются для христианства основоположными по сей день. Христианство — это превыше всего вера в то, что Христос не остался во гробе, что из смерти воссияла жизнь и что в воскресении Христа из мертвых абсолютный, всеобъемлющий, не терпящий исключений закон умирания и смерти был изнутри взорван и преодолен…
Воскресение Христа составляет, повторяю, самое сердце христианской веры, христианского благовестия. И однако, как ни странно, в реальной жизни христианства и христиан в наши дни вера эта занимает мало места. Она как–то затуманена, и ее современный христианин, сам того не ведая, не то что не принимает, а как–то обходит, ею не живет, как жили ею первые христиане. Да, если он ходит в церковь, он, конечно, слышит раздающиеся в христианском богослужении ликующие утверждения: «смертию смерть поправ», «поглощена смерть победой», «жизнь царствует» и «мертвый ни един во гробе». Но спросите его, что он действительно думает о смерти, и часто — увы, слишком часто — вы услышите некое расплывчатое, еще и до христианства существовавшее утверждение бессмертия души и ее жизни в некоем загробном мире. Это еще в лучшем случае. В худшем же — просто растерянность, незнание: «Я, знаете ли, как–то никогда по–настоящему в это не вдумывался». Между тем вдуматься в «это» абсолютно необходимо, ибо, повторяю, на вере или неверии — не просто в «бессмертие души», а именно в воскресение — в воскресение Христово и в конце времен наше «общее воскресение» — на вере этой держится всё христианство. Если Христос не воскрес, то тогда Евангелие есть обман, самый страшный из всех обманов. Если Христос воскрес, то тогда радикально меняются, да попросту отпадают все наши дохристианские представления и верования в «бессмертие души», тогда весь вопрос о смерти предстает в совершенно ином, радикально ином свете. Ибо воскресение, прежде всего, предполагает отношение к смерти, понимание смерти, глубочайшим образом отличное от обычных религиозных представлений о ней, а в каком–то смысле и попросту обратное этим представлениям.
Надо прямо сказать, что классическое верование в бессмертие души исключает веру в воскресение, ибо воскресение — и тут корень всего — включает в себя не только душу, но и тело. Простое чтение Евангелия не оставляет в этом никакого сомнения. Увидев воскресшего Христа, апостолы, по рассказу Евангелия, думали, что видят призрак, привидение. И первым делом воскресшего Христа было явить им, дать ощутить реальность Своего тела. Он берет пишу и ест перед ними. Сомневающемуся Фоме Он приказывает прикоснуться к Своему телу, пальцами удостовериться в воскресении. И когда апостолы уверовали, именно провозглашение воскресения, его реальности, его «телесности» и становится главным содержанием, силой и радостью их проповеди. Главным Таинством Церкви становится причастие хлебу и вину как Телу и Крови воскресшего Господа — и в этом акте, как говорит апостол Павел, «смерть Господню возвещая, воскресение Его исповедуют».
Обращающиеся в христианство обращаются не к идеям и принципам, а принимают эту веру в воскресение, этот опыт, это знание воскресшего Учителя. Больше того, они принимают с этой верой веру во всеобщее воскресение, и это значит — в преодоление, разрушение, уничтожение смерти как последнюю цель мира. «Последний же враг истребится — смерть!» — в некоем духовном восторге восклицает апостол Павел. И каждую пасхальную ночь мы восклицаем: «Где твое, смерте, жало, где твоя, аде, победа?.. Воскрес Христос, и мертвый ни един во гробе, воскрес Христос, и жизнь царствует!» Таким образом, принятие или непринятие Христа и христианства есть, по существу, принятие или непринятие веры в Его воскресение, и это значит, говоря языком религиозных представлений, веры в воссоединение в Нём души и тела, разделение которых, распад которых и есть смерть. Мы можем не говорить об отвергающих воскресение Христа по той простой причине, что они отвергают самое существование Бога, то есть мы можем не говорить об убежденных или думающих, что они убежденные атеисты, безбожниках. Тут, очевидно, спор идет в другой плоскости. Гораздо важнее то странное «затуманивание» веры в воскресение, о котором я только что говорил, затуманивание его среди самих верующих, самих христиан, странным образом сочетающих радостное празднование Пасхи с фактическим, зачастую даже подсознательным отвержением воскресения Христова. В историческом христианстве произошел как бы возврат к дохристианскому пониманию смерти, которое состоит, в первую очередь, в признании ее «законом природы», то есть присущим самой природе явлением, с которым по этой причине, и сколь бы ни была смерть страшной, нужно «примириться», которое нужно принять. Действительно, все нехристианские, все естественные религии, все философии, в сущности, только тем и заняты, что примиряют нас со смертью, стараются показать нам начало бессмертной жизни, бессмертной души в каком–то ином, загробном мире. И, конечно, если, как учит, например, Платон, а за ним и бесчисленные его последователи, смерть есть желанное освобождение души от тела, то вера в воскресение тела становится не только ненужной и непонятной, но просто ложной, неверной.
Итак, для того, чтобы ощутить смысл христианской веры в воскресение, нам нужно начать не с него, а с тела и смерти, с христианского их понимания. Именно тут корень недоразумения даже внутри христианства.
13. Бессмертие
Религиозное сознание воспринимает воскресение Христа прежде всего как чудо, каковым, конечно, оно и является. Но для бытового религиозного сознания чудо это остается «единичным», относящимся ко Христу. А поскольку Христа мы признаём Богом, то чудо это в некотором смысле перестает даже быть чудом: Бог всесилен. Богу всё возможно. И, конечно, что бы ни означала смерть Христова, Его Божественная сила и власть не дали Ему остаться во гробе. Но дело в том, что всё это составляет только половину изначального христианского восприятия воскресения Христова. Радость раннего христианства, радость, живущая и доныне в Церкви, в ее богослужении, в ее песнопениях и молитвах, особенно же в ни с чем не сравнимом празднике Пасхи, не отделяет воскресения Христова от «общего воскресения», от воскресения всех людей, воскресения, начавшегося в воскресении Христовом.
Празднуя за неделю до Пасхи воскрешение Христом умершего друга Его Лазаря, Церковь торжественно, радостно утверждает, что это чудо есть «общего воскресения удостоверение». Но вот в сознании верующих вера в воскресение Христа и вера в начатое им «общее воскресение» как бы разъединились. Осталась нетронутой вера в восстание Христа из мертвых, воскресение Его в теле, к которому призывает Он прикоснуться сомневающегося Фому: «Вложи пальцы твои в раны Мои и не будь неверующим, но верующим…» В том же, что касается нашей последней участи и судьбы после смерти, то они понемногу перестали восприниматься в свете воскресения Христова и по отношению к нему. Про Христа мы утверждаем, что Он воскрес, про самих же себя говорим, что верим в бессмертие души, в которое задолго до Христа верили греки и евреи и до сих пор верят все без исключения религии и для веры в которое воскресение Христа, как это ни странно звучит, — даже не нужно.
В чём причина этого странного раздвоения? Причина эта в нашем понимании смерти или, лучше сказать, в понимании смерти как отделения души от тела. Вся дохристианская и внехристианская «религиозность» призывает отделение души от тела считать не только «естественным», но и положительным, видеть в нём освобождение души от тела, мешающего ей быть духовной, небесной, чистой и блаженной. Поскольку в опыте человеческом зло, болезни, страдания, страсти — от тела, то смыслом и целью религии, религиозной жизни естественно становится освобождение души от этой «темницы» тела, освобождение, достигающее полноты своей именно в смерти. Но нужно со всей силой подчеркнуть, что такое понимание смерти — нехристианское, больше того — с христианством несовместимое, ему открыто противоречащее. Христианство провозглашает, утверждает и учит, что отделение души от тела, называемое смертью, есть зло. Это то, чего Бог не сотворил. Это то, что вошло в мир и покорило его себе, но против Бога, в нарушение Его замысла, Его воли о мире, о человеке и о жизни. Это то, что Христос пришел разрушить. Но чтобы не то что понять, а ощутить, почувствовать христианское восприятие смерти, нужно сначала хотя бы несколько слов сказать об этом Божьем замысле, поскольку он открыт нам в Священном Писании и в полноте своей явлен во Христе — в Его учении, в Его смерти, в Его воскресении.
Кратко, упрощенно замысел этот можно очертить так: Бог создал человека с душой и телом, то есть одновременно духовным и материальным; именно это соединение духа, души и тела называется в Библии и в Евангелии человеком. Человек, каким создал его Бог, — это одушевленное тело и воплощенный дух, и потому всякое разделение их, и не только последнее — в смерти, но и до смерти, всякое нарушение их единства есть зло, есть духовная катастрофа. Отсюда и наша вера в спасение мира воплощением Бога, то есть принятием Им плоти, тела, и не призрачного, не «как будто тела», а тела в полном смысле этого слова: нуждающегося в пище, устающего, страдающего. Таким образом, в смертном разделении души и тела кончается то, что в Писании называется жизнью, то есть тем, что и состоит в первую очередь в одушевлении человеческого тела и в воплощении духа. Нет, в смерти не исчезает человек, ибо не дано твари уничтожить то, что призвал из небытия в бытие Бог. Но он, человек, погружается в смерть, в тьму безжизненности и бессилия, он, как говорит апостол Павел, предается распаду и тлению.
Я хочу еще повторить и подчеркнуть: не для этого разделения, умирания, распада и тления создал Бог мир. И потому Евангелие христианское провозглашает, что «последний враг истребится — смерть!» Воскресение есть воссоздание мира в его первозданной красоте и целостности, это полное одухотворение материи и полное воплощение духа в создании Божием. Мир дан человеку как его жизнь, и потому, по нашему христианскому, православному учению, Бог не уничтожит его, а преобразует в «новое небо и новую землю», в духовное тело человека, в храм Божьего присутствия и Божьей славы в творении.
«Последний же враг истребится — смерть…» Это разрушение, это истребление смерти началось тогда, когда Сын Божий вольно, из бессмертной любви к нам, Сам снизошел в смерть и ее тьму, ее отчаяние и ужас наполнил Своим светом и Своей любовью. Вот почему на Пасху мы поем не только «Христос воскресе из мертвых…», но также: «Смертию смерть поправ…»
Воскрес из мертвых Он один, но разрушил Он нашу смерть, разрушил ее владычество, ее безнадежность, ее окончательность. Нет, не нирвану, не тусклое загробное житие обещает нам Христос, а восстание жизни, новое небо и новую землю, радость всеобщего воскресения. «Восстанут мертвые, и сущие во гробах возрадуются», «Христос воскресе и жизнь жительствует» — жизнь живет. Вот смысл, вот бесконечная радость этого действительно главного, сердцевинного утверждения Символа веры: «И воскресшего в третий день по Писаниям». По Писаниям, то есть в согласии с тем знанием жизни, с тем замыслом о мире и о человеке, о душе и теле, о духе и материи, о жизни и смерти, которое открыто нам в Священном Писании. Тут вся вера, вся любовь, вся надежда христианства. И вот почему, «если Христос не воскрес, вера ваша тщетна…».
14. И восшедшего на небеса…
«И восшедшего на небеса, — продолжает Символ веры вслед за исповеданием воскресения Христа из мертвых, — и сидящего одесную Отца» (то есть, в переводе с церковнославянского, «по правую руку от Отца»). Наш следующий вопрос, таким образом, — это вопрос о том, что в нашей вере, а также и в нашей жизни выражают, к чему призывают эти слова, это утверждение вознесения Христа на небо. Здесь необходимо остановиться на христианском смысле, христианском «звучании» слова «небо». Необходимо потому, что словом этим пользуются враги религии, недобросовестно толкующие его как сохранение христианством первобытного, донаучного понимания неба — как неба, так сказать, «физического», как места во вселенной, где находится и восседает Бог.
Между тем это древнее верование не имеет ничего общего с христианским пониманием, ощущением и употреблением слова «небо». Да, конечно, оно взято из того натурального пространственного символизма, который присущ всем культурам, и в этом смысле его нужно рассматривать по аналогии с нашим употреблением таких слов, как «высокий» и «низкий», «широкий» и «узкий» и тому подобное. Ведь когда мы говорим про один поступок, что он «высокий», а про другой — что он «низкий», для каждого очевидно, что речь здесь идет не о пространстве, а о нравственной, духовной оценке данных поступков, так же, как определение человека «широким» или «узким» самоочевидно не имеет ничего общего с его телесным сложением. Так вот, слово «небо» на языке всех почти народов всегда имело кроме своего «натурального» смысла также и смысл символический или духовный, как символ высокого, чистого и даже запредельного. Да, в своих первобытных представлениях о мире, о космосе примитивный человек часто понимал этот символизм буквально. Первобытная космология делила мир, вселенную на три этажа: небо, земля, преисподняя, и, естественно, святое, божественное, высокое поселяла на небе, а злое, греховное и страшное — в преисподней, так как и в физическом мире, в физическом опыте небо «естественно» прекрасно, светозарно, чисто, возвышенно. Но о том, что христианство не имеет к этой космологии никакого отношения, свидетельствуют хотя бы слова апостола Павла, призывавшего христиан «помышлять о небесном, не о земном», или же слова святого Иоанна Златоуста, радостно говорившего: «Что мне до неба, когда я сам становлюсь небом…»
Таким образом, повторяю, всякая попытка уличить христиан при помощи слова «небо» в ненаучности, примитивности, глупом суеверии — это не только попытка с негодными средствами, но и попытка, прежде всего, нечестная. И, однако, не может быть никакого сомнения в том, что слово, что символ неба имеет в христианской вере действительно ключевое значение. Прежде всего, в рассказе о творении мира Богом мир определяется как «небо и земля». «В начале, — так открывается Библия, — сотворил Бог небо и землю». Таким образом, небо — это в христианской вере не что–то вне–мирное, не другой мир. Это — присущее миру, присущее творению духовное, так сказать, вертикальное измерение его. Небо — это в мире то, что высоко, чисто, духовно, это то, что в человеке называет христианство его духом, душой. Не верующие в Бога материалисты отвергают самое наличие присущей миру духовной, высокой, святой реальности. Для них все в мире объясняется снизу, из материи, из ее чисто физических безличных законов. Но для верующего не земля, то есть не материя, а небо мерит собою жизнь и ее смысл, не землей понимается небо, а небом — земля и земное. Носитель же неба в мире, по христианской вере, — человек. Человек создан «по образу и подобию Божьему», человеку дан ум — и, следовательно, сила знания, человеку дана совесть — и, следовательно, знание добра, человеку дан дух — и, следовательно, возможность постигать красоту и совершенство. Но в свободе своей человек может отпасть от небесного в самом себе, может захотеть жить только землей, только земным, или, говоря образно, опустить глаза свои — и это значит свой духовный взор, свое сердце — вниз. Вот это и называет христианство грехом и падением. Христианство верит и утверждает, что именно от этого греха, от этого отпадения вниз, от этого отрыва от неба и пришел нас спасти Христос.
В Своем пришествии в мир, в Своем «вочеловечении» Христос снова явил «небо на земле», образ жизни, обращенной ввысь, к Богу, то есть к высокому, чистому, доброму, истинному, прекрасному — ко всему, от чего оторвался человек в своей редукции, в своем сведении жизни к земле и земному. Христос открыл нам, даровал нам небо, указал нам Собою смысл жизни как подъема, восхождения, вознесения и силой, правдой, Божественным совершенством неба наполнил не только землю, но и самую, говоря на языке примитивных символов, преисподнюю.
Христос снизошел на землю. Он снизошел в смерть. Но со Христом и в Нём и в жизнь и в смерть было возвращено небо, открыт путь к победе над всем тем, что только земля, только земное и чье конечное и безнадежное завершение — тьма смерти. Совершив всё это, Христос «вознесся на небо». И это значит для христианской веры, что во Христе на небо вознесен человек, что человек приобщен к небесной правде, и это значит — вернулся к Богу, к знанию Бога, и в Нём — к единственной подлинной, а потому вечной жизни. Каждый раз, когда в Символе веры мы утверждаем: «И восшедшаго на небеса», — мы говорим не только о Христе, мы говорим и о самих себе. Если мы верим во Христа, если мы со Христом — то и мы на небе, или, во всяком случае, к небу, ко Христу, к Богу устремлены наша вера, наш дух, наша любовь. Мы знаем небо как нашу подлинную жизнь, и в этом знании осмысленной и радостной становится и наша земная жизнь, так как она во Христе стала восхождением к вознесению.
15. И паки грядущаго…
«И паки грядущего со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца…» Христиане всегда верили во Второе пришествие Христа. Дня первых христианских поколений вера эта была радостной, они сами христианство переживали прежде всего как ожидание Христа. Последняя книга Нового Завета, так называемое Откровение, или Апокалипсис Иоанна Богослова, завершается призывом: «Ей, гряди, Господи Иисусе!»
Апостол Павел в Послании к Фессалоникийцам говорит о радости этого пришествия: «И тогда, — говорит он, — мы всегда с Господом будем…» Однако постепенно, на протяжении веков, радость эта как бы растворилась в страхе — страхе последнего суда, который христиане стали называть Страшным. И, наконец, сравнительно недавно, в последние два столетия, можно сказать, выдыхаться стал и этот страх суда, уступивший место страху уже не перед судом, а перед смертью…
Именно поэтому нам, христианам, нужно сегодня как бы заново вдуматься в изначальную христианскую веру во Второе пришествие Христа, в восприятие этой верой суда, обещанного Христом. И, наконец, в христианский опыт, христианское понимание страха. И, может быть, именно с последнего, со страха, и нужно начать. Нужно потому, что слово «страх» в христианском Писании и Предании употребляется в двух разных смыслах — положительном и отрицательном. Уместно сначала остановиться на смысле отрицательном. Этот отрицательный, можно сказать, даже греховный смысл страха лучше всего выражен святым Иоанном Богословом. В своем Первом послании он пишет: «Боящийся несовершенен в любви, ибо в страхе есть мучение. Совершенная любовь изгоняет страх». Смысл этих слов таков: человеческая жизнь — нужно ли это доказывать? — насквозь пронизана страхом. Страхом неизвестности, страхом несчастья, страхом страданья, страхом умирания, страхом смерти. Страшна жизнь и страшна смерть, и именно от этого страха страстно хочет и не может освободиться человек. Не может и старается как бы заглушить его. Старается запрятать куда–то, не думать, не знать о нём. Но основа христианской веры в том как раз, что Христос пришел нас от страха этого, присущего всей человеческой жизни, освободить В этом смысле сама вера есть победа над страхом. Ибо мы верим, что Христос открыл нам Бога как любовь, Своей смертью победил смерть, Своим воскресением открыл нам доступ в вечную жизнь, в вечную радость. Если мы верим во Христа и, веря, любим — нет места страху в нашей душе, он уничтожен светом веры, надежды и любви. Поэтому для верующего — и именно об этом говорит Иоанн Богослов — страх греховен, он показывает недостаток любви ко Христу, недостаток веры в Него. И это же объясняет ту радость, с которой первые христиане ждали возвращения Христа, радость слов, которые, пожалуй, уже и не задумываясь о них, мы продолжаем повторять: «Да приидет Царствие Твое».
Таков, следовательно, христианский смысл слова «страх», смысл, который я называю отрицательным. И только по отношению к нему можем мы почувствовать второй, положительный смысл. Он выражен в словах Писания: «Начало премудрости — страх Господень». Это страх, который не только не уничтожается в вере, любви и надежде, а присущ им как их глубина. Этот страх — не от незнания, а от знания Бога, от знания Его безмерной святости, любви, от знания Его призыва, обращенного к каждому из нас: «Будьте святы, ибо Я свят», «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Сущность его: благоговение, восхищение, чувство недостоинства. Этот страх иногда, очень редко, испытываем мы и в нашей жизни — когда встречаемся с красотой, совершенством, когда прикасаемся к чему–то высокому, чистому и прекрасному, и в свете этой встречи постигаем свою падшесть, греховность и мелочность своей жизни. Потому это страх спасительный, страх, рождающийся от света и радости, и, по свидетельству святых, этот страх возрастает в душе человеческой по мере приближения ее к Богу. Его не способен пережить мелкий, самовлюбленный, самодовольный человек, погруженный в суету; ему противостоят цинизм, грубость, гордыня, вульгарность, всё то, что в падшем человеке заглушает способность к очищению, к восхождению, к совершенству. Именно этот страх открывает нам смысл того последнего, Божьего суда над нами, который называем мы Страшным судом. Нет, это не суд хозяина, владыки над рабами. Это суд над нашей душой самой Божественной любви, Божественного добра, Божественной истины и Божественной красоты. Так, в своей притче о суде Христос не говорит о нарушении закона. Он говорит: вы не увидели Меня в братьях, вы не увидели Меня в вашей жизни. Здесь страх не от боязни наказания, ибо не боязнь наказания движет любовью к Богу, рождает в человеке тоску по совершенству и по подлинной жизни. Это страх Божий, это горестное сознание нами наших измен Божественной любви, дарованной нам во Христе. Первые христиане ждали Христа, ждали Его Второго пришествия потому, что в них — верили и духовным опытом знали они — откроется вечное царство любви, знание Бога и в Нём — жизни вечной.
Да, они ждали Христа «со страхом и трепетом», как и к Причастию подходим «со страхом Божиим и верою». И это значит — с благоговением, с сознанием высоты дара и нашего по отношению к высоте этой — недостоинства.
В свете понимания нами всего этого можно и нужно сказать, что отношение наше ко Второму пришествию Христа есть мерило нашей веры во Христа и нашей любви к Нему. Если мы только боимся Его, боимся, как боятся рабы хозяина, то несовершенна наша вера и отсутствует в нас любовь. Если ждем Христа «со страхом Божиим и верою», то знаем и то, что в нём воссияло прощение грехов и что бесконечно милосердие Божие, и что одна слеза подлинного раскаяния и подлинной любви сильнее всех грехов.
16. Егоже Царствию не будет конца…
Может быть, именно в наши дни, дни усиления страха на земле, нужно нам внутренне вернуться к радостному и победному смыслу слов Символа веры: «Егоже Царствию не будет конца». Всякий, кто хотя бы раз в жизни прочел Евангелие или же слышал его в церкви, знает, конечно, что проповедь Христа была прежде всего проповедью о Царстве Божьем, его возвещением. «Покайтеся, ибо приблизилось Царствие Божие» — вот первые слова Христа в Евангелии, которое говорит, что Христос проходил через всю страну, «проповедуя Евангелие Царства», проповедуя, иначе говоря, благую, радостную весть о Царстве.
Если собрать все притчи Христа о Царстве, если вдуматься и вслушаться в то, что говорили, как свидетельствовали о нём святые, мученики, апостолы, если обратить внимание на то, что говорит, всегда говорила о нём Церковь, то смысл этого понятия, этой возвещенной Христом реальности окажется очень отличным от расплывчатого понятия «загробного мира». Царство Божие — это полнота жизни, полнота радости, полнота знания, это торжество Божественной жизни — всё то, для чего создал Бог человека и мир, от чего отпал человек в грехе и себялюбии и что снова явил и даровал нам Христос — как конечную цель, но и как содержание науки и мира. В том и особенность, в том и единственность христианского учения о Царстве Божьем, в том несводимость его ни к какой другой религии, потому мы можем молиться о Царстве, желать его, любить его как последнее и высшее сокровище уже теперь, сейчас, в нашей земной жизни. «Не придет Царство Божие приметным образом, — говорит Христос, — и не скажут о нём — оно тут или там, ибо Царство Божье внутри вас». Ибо Царство Божие прежде всего в Самом Христе, в Его жизни — человеческой, но светящейся Божественной красотой, добром и истиной. Царство Божие в любви Христа, в Его послушании, в Его самоотдаче, в Его победе. Христос говорит: «Если любите Меня…» Так вот Царство Божие — это любовь ко Христу как смыслу, содержанию и исполнению жизни. «В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков», — восклицает апостол Иоанн Богослов.
И вот эта жизнь явилась нам, дана нам, мы можем ею жить, и это и есть Царство Божье внутри нас. Вглядитесь, например, в лучезарный образ преподобного Серафима Саровского, одного из величайших русских святых. Разве о «загробном мире» и о «бессмертии души» думает он? Нет, преподобный Серафим Саровский живет Богом, Христом, радостью знания Христа, близости к Нему, радостью в такой мере, что самое смерть воспринимает как еще большее соединение с Любимым. Это и есть Царство Божие. Завершится, исполнится, придет во славе, как говорит Символ веры, то, что уже явилось, то, о чём тот же Иоанн Богослов говорит: «О том, что мы видели, о том, что осязали руки наши…». И это явление, эта радость столь всеобъемлющи, что апостол Павел пишет: «Ни жизнь, ни смерть не отлучат нас от любви Христовой».
Итак, о Царстве Божьем можно и нужно сказать, что мы молимся о нём, потому что любим его, любим же его потому, что знаем его, потому что Христос открыл и даровал нам его. Оно не приходит «приметным образом». Мир продолжает жить своими страстями и своими страхами, своей активностью и своей жадностью. Миллионы людей топчутся на нашей планете, каждый стараясь урвать хоть немного счастья. Но тот, кто, хоть отчасти, хоть иногда открывает свою жизнь Христу — узнает об иной жизни, об ином образе жизни, изнутри освобождается от своего порабощения мировой суете, и в его душе воцаряются те «радость и мир в Духе Святом», которых никто не может дать на земле и которые, между тем, тут, внутри нас. Мы падаем, грешим, уходим от них, но забыть до конца уже не можем–и вот каемся и возвращаемся, и снова объемлет нас та же Божественная любовь, тот же свет. «И Царствию Его не будет конца», — ибо, как говорит Христос, <жизнь вечная — это знать единого истинного Бога и Того, Кого Он послал — Иисуса Христа <(Ин.17.3). Об этом вечном Царстве, вечной жизни и вечной радости — слова Символа веры.
17. И в Духа Святаго…
Вот эта часть Символа веры в переводе с церковнославянского на русский язык, ибо на славянском языке она стала, я боюсь, более непонятной, чем все остальные: «И в Духа Святаго, — говорит Церковь, — Господа Животворящего, Который исходит от Отца, Которому поклоняемся мы наряду с Отцом и Сыном, Который говорил через пророков». Кто этот Дух Святой, Которого Символ называет «Господом Животворящим» и Которому призывает нас поклоняться вместе, то есть наравне, с Отцом и Сыном? Говорить о Духе Святом, пытаться объяснить веру в Него на нашем рациональном человеческом языке неизмеримо труднее, чем говорить об Отце и Сыне. Бог как Творец мира, как любящий Отец, как Вседержитель — это отчасти может вместить наш ум. В Сына Его единородного мы верим потому, что верим Христу, потому, что любим образ Его, потому, что Он Сам утверждает о Себе, что Он — Сын Божий. Но когда мы пытаемся говорить о Духе Святом, то нам трудно, если не невозможно, почувствовать, воспринять, сознать отличие Его от Отца и Сына, или, проще, воспринять смысл церковной веры в Троичного Бога, в Единого Бога, открывающегося нам в трех Лицах, или личностях. Между тем именно такое знание Бога, такой религиозный опыт Его Церковь считала всегда, считает и теперь вершиной веры, вершиной духовной жизни, той последней и всеобъемлющей истиной, знание которой называет Евангелие жизнью вечной.
Остановимся прежде всего на самом слове дух, которое, хотя оно звучит для нас привычно и «самоочевидно», оказывается далеко не таким самоочевидным при первой же попытке определить его. Вот, например, мы говорим: «Весь дух пушкинского творчества — светлый». Что это значит? Что хотим мы этими словами выразить и передать? Не то ли, что всякую реальность, в том числе и пушкинское творчество, мы можем воспринимать и воспринимаем не только в их «объективности», «фактически», но и в излучаемой ими силе — положительной или отрицательной? О Пушкине можно сказать, что у него есть стихи серьезные и шутливые, глубокие и поверхностные, счастливые и трагические. А всё–таки, говорим мы, дух пушкинского творчества — светлый. И это несмотря на то, что Пушкин прожил, в сущности, не очень счастливую, трудную, а в последние годы — и просто несчастную жизнь. Таким образом, то, что мы называем духом пушкинского творчества, — это не просто отражение его характера в его произведениях. Это что–то гораздо более глубокое, самое глубокое в Пушкине, глубже его сознания, идей, настроений, то, что поистине живет и светит нам в его творчестве. Мы мало думаем об этом, но из приведенного примера можно заключить о существовании духовной глубины и духовной власти, духовного измерения жизни. Дух ни с чем не отождествим, и однако — во всём присутствует, через всё просвечивает, он есть, в самом последнем смысле, — жизнь самой жизни. Это то, о чём сказано в Евангелии: «Дух дышит, где хочет, и не знаем, откуда приходит и куда уходит». На древнееврейском языке, на котором написана Библия, слово «дух» — «руах» — означает, прежде всего, ветер, силу, которая невидима глазу и тем не менее может двигать вещами, невидимую, но очевидную силу жизни. И потому, когда мы применяем слово «Дух» к Богу, то утверждаем одновременно невидимость Бога и Его присутствие, Его действие, Его животворную силу в мире и в жизни. Дух Святой — это Бог в Его действии, в Его «животворной» силе в нас, в мире, во всей природе. Дух Святой — это присутствие Бога везде и всегда. Вот почему и называем мы Его Духом, а также Господом и, наконец, Животворящим. Без опыта этого присутствия — невидимого, но ощутимого Бога — Бог был бы «идеей», и при этом самой слабой, самой недоказуемой; самой, так сказать, отвлеченной из всех идей. Мы не можем «показать Бога» и потому не можем доказать Его, как не можем ни показать, ни доказать радости и красоты солнечного сияния слепорожденному, как не можем доказать светлого духа пушкинского творчества тому, кто, не зная русского языка, не может прочитать его. Об идее Бога можно без конца спорить и ни до чего не договориться. Но опыту духовного Его присутствия никакие доказательства не нужны. Его, этот опыт, раз и навсегда выразил, воплотил апостол Павел, сказав: «Радость и мир в Духе Святом».
Далее Символ веры говорит: «Дух Святой, Который от Отца исходит». И опять, чтобы понять, что это значит, воспользуемся тем же земным примером. Дух пушкинского творчества — от Пушкина, но он не есть Пушкин. Через дух пушкинского творчества мы можем узнать Пушкина, но, даже зная все подробности биографии Пушкина, мы не узнаем духа его творчества, если не прочтем его произведений. Святой Дух — это присутствие, явление, действие в мире любви Отца, мудрости Отца, творения Отца, но Он не есть Отец. Он весь от Бога–Отца, поэтому Он Сам — Бог, но Он не Отец. Дух Божий от Отца исходит, об Отце и Сыне свидетельствует, к Отцу приводит, но Он не есть Отец, не есть и Сын. Если Бог есть Любящий, если Сын есть Любимый, то Дух Святой есть Любовь, соединяющая Их, Их единство, Их единый свет, сила и истина. Он есть дыхание Бога в мире. Он Тот, через Которого мы, по слову Достоевского, «касаемся мирам иным». Он — отсвет Божественной красоты и Божественного добра. Он Тот, Кто всё в мире раскрывает как путь к Богу, как стремление к Нему», как радость Его присутствия. Любящий, Любимый, Любовь: светлая тайна Троицы, откровение последней тайны самого бытия Божия.
Мы верим в единого Бога, но не Бога–одиночество, не Бога–себялюбие, не Бога, в Себе и Собою живущего. Бог есть Любовь, говорит христианство. А любовь есть обращенность к другому, в пределе — отдача себя ему. Отец, говорит Евангелие, любит Сына и всё отдал Ему. Сын, говорит Евангелие, любит Отца и Себя отдает Ему. И, наконец, сам дар любви, сама эта любовь — как дар, радость, полнота, бытие, жажда и обладание, отдача и принятие — есть Дух Святой. И этой любовью, этой отдачей Бог творит мир, призывает каждого из нас к бытию, делает каждого из нас любимым и Свою любовь, Свой Дух дарует каждому, чтобы каждый мог приобщиться Божественной жизни. И мы молимся Духу: «Приди и вселися в нас!» Мы говорим Ему: «Утешитель, Сокровище благих, жизни Податель…» И Он вселяется в нас, наставляет нас, по слову Христа, на всякую истину, дарует нам вечную жизнь. Вот светозарная тайна христианской веры, тайна Бога — Троицы, Бога — Любви…
18. Глаголавшаго пророки…
Остановимся на словах Символа веры о Духе Святом: «глаголавшаго пророки», то есть, в переводе с церковнославянского: «Дух Святой… Который говорил через пророков». В христианской вере понятие пророчества и пророков занимает огромное место. Заметим, что в обычном употреблении слово «пророчество» стало равнозначно слову «предсказание». Пророк — это в нашем сознании тот, кто предсказывает будущее, нечто вроде «ясновидящего». Нужно со всей силой подчеркнуть, что хотя «предсказание будущего», вне всякого сомнения, входит в религиозное, христианское восприятие и понимание пророчества, оно, во–первых, не исчерпывает собою этого понимания, и, во–вторых, не является в нём главным, центральным. Добрая половина Ветхого Завета состоит из писаний пророков, но они совсем не сводятся к предсказанию будущего. Суть, глубина пророчества в другом, и только по отношению к этому «другому» можно по–настоящему понять отношение пророков и пророчества к будущему. Суть пророчества — в даре возвещения людям воли Божьей, скрытой от человеческого взора в событиях человеческой жизни и истории, но открывающейся духовному взору пророка. Эта суть пророчества особенно хорошо выражена в религиозно гениальном стихотворении Пушкина «Пророк»:
«И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей…»".
Можно только удивляться тому, с какой полнотой и силой в этих немногих прекрасных и бессмертных строчках выражена суть пророчества и призвание пророка. Пророк — это тот, кто услышал голос Божий, то есть некий таинственный, к нему и только к нему обращенный призыв, приказание. Голос этот говорит: «Восстань»; и это значит — выйди из суетной и пустой жизни, которой ты, как и большинство людей, живешь, разорви путы обыденщины, скрывающей от нас глубокий, потаенный смысл совершающегося. Затем этот голос говорит: «И виждь, и внемли!» Это приказ видеть, это приказ слышать. Видеть то, чего не видим мы нашим обычным, к земле и к земному прикованным взором. Услышать то, что мешает нам слышать шум житейской суеты. Увидь другое — главное, услышь другое — главное. И дальше: «Исполнись волею Моей». Это значит — сделай себя служителем не твоих земных и человеческих соображений, планов, желаний, а Моего — Божественного — замысла, Моей — Божественной — воли. И завершает голос, обращенный к пророку: «И, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Моря и земли — это значит весь мир, вся вселенная, всё творение Божие. И это значит, что хотя пророк, как и каждый человек, ограничен временем и пространством, живет в определенных условиях, является свидетелем определенных событий, Божественная миссия его преодолевает эту ограниченность, обращена к миру. Или, может быть, лучше сказать так: в самом малом он видит, он слышит, он различает волю Божию, то есть смысл и значение этого малого для всего мира, для каждого человека, для всей истории.
Почитайте ветхозаветных пророков. Они пишут о событиях: войнах, переворотах, убийствах, завоеваниях — в мировой перспективе — каких–то маленьких государств, о людях и событиях, давно всеми забытых и с точки зрения наших современных проблем, современного знания — в сущности, ничтожных. Все эти царства, истории, войнам которых между собою посвящена огромная часть Библии, сегодня можно облететь на самолете в два–три часа. Почему же мы должны всё это не только знать и помнить, но еще признавать священным, богодухновенным Писанием, словом Божиим? Да потому что пророки — в этих малых событиях сами видят и нам раскрывают волю Божию, уже не об этих только народах и событиях, а о самом человеке, о самой жизни, о самом мире. Для них, пророков, всё становится знаком, откровением, призывом, уроком. Через малое раскрывается во всём своем неизреченном величии замысел Божий о нас. Замысел не только о том, что совершается сейчас, но также, и прежде всего, о конечной цели мироздания. В этом смысле пророчество обращено и к настоящему, и к прошлому, и к будущему.
Это «видение», эту волю Божью, этот замысел Божий и раскрывает пророк, им жжет сердца людей. Ибо это не просто «объяснение» и не просто «предсказание», как у гадалок и ясновидящих. Это именно призыв, а раз призыв — то и суд. Это раскрытие воли Божией и призыв принять ее. Это обличение зла и призыв к борьбе с ним. Это явление любви Божией и призыв любить Его. Церковь решительно отвергает и осуждает хождение ко всевозможным гадателям и предсказателям будущего. Почему? Да потому, что хождение это предполагает фатализм, и это значит — отрицание свободы. Пророчество же, напротив, есть страстный призыв к свободе, к освобождению от сковывающих человека фатализма и пассивности.
«Если не покаетесь, все также погибнете!» Вот, в конце концов, сущность пророчества. Оно всегда есть явление двух, и только двух путей, между которыми все время, всегда, в большом и малом призван выбирать человек. Путь Божий и путь не–Божий, и потому противу–Божий.
«Если не покаетесь…» Но это значит, что человек может покаяться, может преодолеть греховный фатализм, может перемениться, может выбрать волю Божию. Миссия пророка — жечь сердца людей этим призывом, обращать их к этому выбору. Пророчество — от Бога, от Святого Духа. Ибо нашему земному знанию не дано видеть таинственного и Божественного смысла всего того, что совершается в мире. Можно сказать даже, что чем шире наше знание о мире (а в наши дни оно достигло неслыханной широты), тем всё менее и менее глубоко оно. И вот возвещать именно это глубокое знание и посылает Дух Святой пророков.
Надо прибавить, что, по христианской вере, дар пророчества дан в каком–то смысле каждому христианину, ибо каждый из нас получил дар Святого Духа. Каждый из нас призван к глубокой жизни и к глубокому знанию. И каждый из нас, увы, призвание это заглушает в себе и изменяет ему. И о том, чтобы восстановить его в нас, молимся мы в молитве Святому Духу: «Прииди, вселися в ны». И еще последнее: «Пророчества не угашайте», — говорит нам апостол Павел.
«СИЯ ЖЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ — ДА ЗНАЮТ ТЕБЯ»
Как и во всякой любви, знание любимого играет первостепенную роль и в наших отношениях с Богом, и особенно в молитве. Нужно знать, чтобы любить, знать лучше, чтобы любить больше.
Знание Бога вызывает любовь к Богу, и, наоборот, любовь, по слову св. Августина, «стремится к святой отраде молитвы», где она обновляется и укрепляется во всё лучшем познании Господа
(1. Время, украденное у Бога). — Усердное размышление о совершенствах Божиих дает расцвести в нас основным настроениям молитвы: поклонению, хвале, благоговейному страху, благодарению, самоотдаче
(2. Отвечать Богу). — Наша сверхприродная способность познавать — это вера. Она нередко дремлет, и потому необходимо пробуждать ее в нас, упражнять ее и развивать с помощью размышлений и молитвы. Тогда она становится жаждой познать Бога живого
(3. Познавать, чтобы любить). — Чтобы дать Себя познать, Бог обращается к нам различными способами. Его нам открывают Его дела и среди прочих — брак, в котором отражается божественная любовь
(4. Письмо Полю и Монике). — Размышление о великих законах, управляющих супружеской жизнью, позволяет лучше понять требования и сокровища молитвенной жизни, которая также есть встреча, общение в любви
(5. Одному жениху). — Но еще больше, чем в Своих делах, Бог открывается нам в Своих словах. Если мы недостаточно размышляем над Писанием, наша вера гибнет; но питаемая словом Божиим, она приносит обильные и сладостные плоды
(6. Иссохший сад). — Не довольствуясь тем, чтобы обращаться к нам при посредстве Своих дел и Своих вестников — пророков, Бог нам послал Своего Сына. «Его слушайте»: таково повеление Отца. Нам нужно быть внимательными к Нему, внимать Ему всем нашим существом
(7. «Его слушайте»). — И тогда мало–помалу познание неизмеримых богатств Христовых пробуждает в нас восхищение и любовь, раскрывает в нас источники молитвы
(8. «Неисследимые богатства Христовы»). — Но главное откровение Христос дает нам с высоты креста. Тем самым, крест есть книга, над которой должны мы размышлять неустанно
(9. Самая мудрая книга). — Следует, однако, научиться понимать ее язык: эта книга — не панегирик страданиям, но весть о всепобеждающей любви
(10. Молиться перед распятием?).33. Знать, чтобы любить
Должен Вам признаться, что Ваше пренебрежение к размышлению не кажется мне абсолютно справедливым. Вы правы, думая, что молитва не должна быть интеллектуальным упражнением, но временем дружеской близости с Богом, где разум должен уступать место сердцу. Но я боюсь, как бы под предлогом защиты первостепенной важности любви, Вы не отказали в должном уважении тому, какое место должно занимать познание Бога в молитве. Вы поддаетесь здесь стремлению, обычному для женщин, в то время как мужчинам свойственно уклоняться в сторону интеллектуальности. Обе тенденции гибельны. Необходимо предупреждать мужчин об опасности, которая им угрожает и которая тем более грозна для них, что их внутренняя жизнь разделена на различные сферы, а между интеллектуальностью, сердцем и волей не всегда есть связь: познание не ведет их с неизбежностью к любви. Но молитва, исполненная чувств, которую Вы так цените, и совершенно обоснованно, таит в себе другую опасность, а именно, что любовь, недостаточно питаемая познанием, вырождается в сентиментальность.
По правде говоря, это слегка презрительное неприятие размышления является отличительной чертой не только женщин, но и всего вашего поколения. Несомненно, оно возникло, как реакция на известные методы размышления, которые наши современники обвиняют в том, что они заключают душу в темницу вместо того, чтобы давать ей крылья. Но вызывает сожаление, то, что недоверие, более или менее заслуженное определенными методами размышления, распространяется на всякое усилие к познанию Бога.
Вспомните проповедь, которую Вы слушали вместе с вашим мужем месяц тому назад. Я говорил тогда о супружеской любви, которая увядает, если супруги отказываются от усилий ежедневно выходить навстречу друг другу, чтобы постоянно заново открывать друг друга. Точно так же в наших отношениях с Богом: любовь чахнет, когда ослабляется усилие к познанию. Познание и любовь или, по–другому говоря, вера и любовь тесно связаны друг с другом.
Не соглашайтесь же на веру дремлющую, на смутное познание Бога, пробудите ее. Как? Так же, как по утрам Вы будите вашего маленького Марка: сперва он с трудом раскрывает свои отяжелевшие от сна веки, ничего не узнавая, и готовый вновь погрузиться в сон. Но Вы снова его окликаете, он пробуждается, наконец, его взгляд встречается с вашим улыбающимся взглядом; он также улыбается в ответ, и внезапно в нём вспыхивает интерес к наступающему дню, который обещает быть таким чудесным! Точно так же и здесь: предложите взгляду Вашей веры то, что способно приковать ее внимание, заставьте ее вновь обратиться к лику Божию, который она уже почти не различала в своей полудреме.
Но не набейтесь, что удастся в несколько мгновений, ни даже в несколько недель пробудить уснувшую веру, что удастся так скоро придать ей радость, проницательность, интенсивную жизнь. Великим средством вновь воодушевить ее, обогатить, оживить является медитация, т. е. молитва–размышление. Тем, у кого есть живая вера, ибо они упражняют ее в течение дня с помощью учения и размышлений, не остается ничего иного, как только любить, когда они приступают к молитве. Другим же предстоит терпеливо и тщательно упражняться в познании Бога через медитацию. В конце концов их вера непременно пробудится, оживет, возбудит в них любовь и поддержит их молитву.
Я советую вам повторять время от времени молитву св. Августина, которая пробудит в Вас потребность познания и поощрит ваши поиски: «Господи, мой Боже, моя единая надежда, услышь меня! Не допусти, чтобы по расслабленности я прекратил искать Тебя, но сотвори, да пламенно ищу я лица Твоего. Даруй мне силу искать Тебя, Который позволяешь мне всё более и более находить Тебя. Перед Тобой и сила моя, и моя немощь. Перед Тобою всё познание мое и всё мое невежество: там, где Ты отворяешь мне, прими мое вхождение; там, где Ты затворяешь, отвори на зов мой».
20. Исповедую едино крещение…
«Исповедую едино крещение во оставление грехов…» Евангелие от Матфея кончается приказанием Иисуса Христа Своим ученикам: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
Именно в свете этих слов, а также в свете смысла слова «крещение», как оно употребляется в Евангелии, мы и должны постараться понять крещальное исповедание Символа веры.
Начнем с последнего. Если Евангелие завершается заповедью крестить все народы, то начинается оно с рассказа о крещении, которым крестил Иоанн Предтеча и которое от него принял в реке Иордан Сам Христос. Для современников Евангелия крещение, по–гречески «баптизма», то есть символическое погружение в воду, было понятным обрядом. Оно означало, что человек сознал себя загрязненным грехом, раскаивается и жаждет очищения, прощения, возрождения. Вода, источник жизни, источник очищения, была здесь самым подходящим, «самоочевидным» символом, а погружение в воду — самым распространенным обрядом. Принимая крещение от Иоанна, Христос дал этому обряду новый смысл. Он соединил обряд этот с Собою. «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грехи мира», — говорит Иоанн Креститель, видя приближающегося к нему Иисуса. И когда перед вознесением на небо воскресший Христос заповедует апостолам крестить все народы, это означает, что Он оставляет им и их последователям, общине всех тех, кто поверит в Него, — знак, дар, силу прощения грехов и обновления жизни, которые Он, Сын Божий и Спаситель, принес людям. Учение Христа о любви к Богу и к ближнему, о праведности и чистоте можно воспринимать умом. Но всякому, кто хотя бы раз в жизни прочитал Евангелие, не может не стать очевидно, что принятие учения Христа в христианстве, в Евангелии неотрывны от веры в Него. Ибо учение Его — не философия, не мораль, отношение к которым не зависит от нашего отношения к тому, кто философию или мораль эту нам предлагает. Учение Христа — это прежде всего Благая весть, возвещение, что в мир явился Бог, и явился, чтобы спасти людей от греха и смерти, даровать им новую, святую жизнь. Поэтому поверивший во Христа жаждет соединения с Ним, жаждет дара спасения, новой жизни. Крещение в христианстве — знак этого дара, или, как говорит Церковь, — Таинство; в Таинстве, то есть погружении в воду во имя Отца, Сына и Святого Духа — невидимо осуществляется соединение со Христом, и в Нём с Богом Отцом и с даром Духа Святого.
Апостол Павел говорит, что в крещении мы соединяемся со Христом подобием смерти и воскресения. Погружение в воду — это знак смерти, смерти человека в его полном порабощении материи, греху, эгоизму, страстям. Возведение из воды — это знак воскресения и оживления, начала новой жизни в единстве со Христом. Христос — по вере Церкви — воскрес из мертвых, и смерть, по слову апостола Павла, им уже больше не обладает. И вот, Свою воскресшую и бессмертную жизнь, Свою любовь, силу Своей победы Он дарует в крещении нам. Отсюда та удивительная радость, которая окружает крещение в ранней Церкви, отсюда вера в него как в духовное, но реальное соединение со Христом. «Мы спогреблись с Ним крещением в смерть, чтобы, как и Он, ходить в обновленной жизни», — пишет апостол Павел.
Для христиан крещение — это основа Церкви. Ибо Церковь, то есть общество верующих во Христа, — это не просто организация для распространения учения Христа и для взаимной помощи и поддержки. Это единство во Христе всех тех, кто от Христа принял дар новой жизни и прощения грехов. Единство веры, то есть приятия Христа как Бога и как Спасителя. Единство любви к Нему, и в Нём — друг к другу. Рассеянная по всему миру, среди всех народов, Церковь составляет новый народ Божий, соединенный не кровью и плотью, не земными интересами, как государство и нация, не языком и даже не общностью исторической судьбы, а народ, соединенный верой во Христа, любовью к Нему и опытом Его присутствия. «Я с вами во все дни до скончании века».
На земле человек рождается членом определенного народа или нации. Но христианин рождается и вступает в новый народ Божий крещением. «Вода крещения, — пишет один христианский святой, — для нас гроб и мать». Гроб, потому что в воде этой умирает человек, ограниченный только земным и материальным, только «плотью и кровью». Мать, потому что в воде этой рождается новый человек, прощенный, очищенный, возрожденный, живущий уже здесь и сейчас новой и вечной жизнью…
Всё время приходят люди ко Христу, слышат Его голос, отдают Ему свое сердце, свою любовь, свою жизнь. Эта самоотдача Христу и есть крещение. Отдав себя Ему, получают они от Него Его жизнь. Его самоотдачу нам. И эта самоотдача Христа нам есть крещение.
21. Чаю воскресения мертвых…
Да сих пор на протяжении всего Символа веры ключевым, краеугольным словом было начальное слово: «Верую…» Именно оно подразумевалось в каждом утверждении: верую — во единого Бога, верую — в Сына Его Иисуса Христа, верую — в Его воплощение «нас ради человек и нашего ради спасения», верую в Духа Святого и, наконец, верую в Церковь.
Но вот теперь, в утверждении заключительном, которое как бы подводит итог всей нашей вере, всю ее обнимает и объединяет, мы слышим другое слово. Слово это — чаю, то есть, в переводе с церковнославянского, жду. Жду воскресения мертвых и жду жизни будущего века. Именно на этом слове нам и следует остановиться, ему — духовно удивиться. Ведь не только слово «вера», но и утверждение «я верю» можно переживать и понимать по–разному. Сказать, например, «я верю в незыблемость законов природы» — еще не раскрывает моего личного, внутреннего отношения ни к этой незыблемости, ни к самим законам, не выражает ни радости, ни печали о них. Но когда, перечислив всё то, во что я верю, я добавляю — жду, это означает, что моя вера во мне претворяется в некое активное состояние, пронизывающее меня и определяющее так или иначе мою жизнь. Я верую и потому жду. Я жду того, во что верю. Тут ожидание раскрывается как направленность, как действие веры, а вера — как источник ожидания. Славянское «чаю» сильнее русского «жду». «Чаю» включает в себя именно желание того, чего я жду, радость о нём как о приближающемся счастье. Но чаять, ждать в этом смысле можно только чего–то, что я уже хотя бы отчасти знаю. Вот тут–то и раскрывается нам то, что я называю особенностью — радостной и бесконечно глубокой — христианской веры. Вера эта — не в утверждении отвлеченных умственных истин. Нет, она сама есть прежде всего встреча с Тем, Кого она утверждает, и потому — знание, видение души, пронзенность сердца. Я чаю, я жду воскресения мертвых, потому что сама вера во мне, хотя бы в лучшие, чистые и высокие минуты моей жизни, пронизана пасхальным светом, тайным, но таким радостным знанием, что Христос воскрес из мертвых, чтобы нам открыть путь к нашему воскресению; Он даровал нам Свою бессмертную, из гроба воссиявшую, свободную от смерти жизнь, и тем самым — нашу смерть сделал входом, приближением, началом победы. Я жду, я чаю воскресения мертвых, потому что оно даровано мне, потому что вся христианская вера есть не что иное, как внутреннее, умом недоказуемое и всё же самоочевидное знание, что человек призван к вечности.
Вот почему Символ веры заканчивается этим радостным чаю, жду… Идет жизнь. Каждый день приносит свои печали и радости. Мы падаем, поднимаемся, снова падаем… Но если когда–то вошла в душу вера, если состоялась, произошла иногда почти совсем неприметная встреча со Христом, и в Нём — с благим и любящим Отцом, если коснулось души дыхание Духа Святого, если раскрылась нам не внешняя, а внутренняя жизнь Церкви, это постоянное восхождение ее к трапезе Царства, если полюбили мы лучезарный образ Пречистой Девы Матери, увидели сердцем ласковую улыбку преподобного Серафима, услышали внутри себя голос, вечно зовущий домой, к Богу, — то тогда «верую» претворяется в нас в «чаю» — «жду». Хочу, люблю, жду… И внешне, может быть, ничего не произошло и не произойдет с моей жизнью. Но на глубине ее воцаряется это «жду». О, суета жизни будет всё время заглушать его, я буду как бы засыпать в житейских буднях. Но до конца уже не забуду, до конца не предам этого света, этой радости, этой новой жизни, затеплившейся во мне.
«Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Каким–то краем души я уже вкусил этой жизни и знаю, что она уже сейчас, уже тут началась и доступна. И потому всякий верующий во Христа не только ищет у него помощи в «этом веке», в этой жизни. Он ждет Его. «Ей, гряди, Господи Иисусе!»
Завершен Символ веры, и сама вера живет и побеждает, знает и ждет…
Символы и символизм византийской литургии
Литургические символы и их богословское истолкование[185]
Какими бы сведениями о Византии ни располагал образованный западный интеллектуал, он по меньшей мере слыхал о «богатом символизме» византийского богослужения. Действительно, понятия «символы» и «символизм» стали практически синонимами византийской литургии. Это клише настолько самоочевидно, что не требует никаких дальнейших разъяснений. Вопреки этому клише, я постараюсь здесь показать, что византийский литургический символизм ставит нас перед лицом вопросов, которые важны не только для понимания византийской литургии, но и всей византийской религиозной мысли. Данная статья — всего лишь попытка обозначить эту проблему, как я ее понимаю, и наметить, по необходимости, в самых общих чертах возможные пути ее решения.
Как правило, поверхностно понимаемый символизм считается существенным элементом византийской литургии и в таком качестве не представляет особой серьезной проблемы. Существует множество византийских и поствизантийских — греческих, русских, сербских и др. — толкований, в которых все литургические действия, да и сама литургия, понимаются прежде всего как
символические изображения, то есть как действия, которые «представляют», «означают», другими словами, «символизируют»
нечто иное, будь то события прошлого, идеи или богословские утверждения. Этот символизм, свойственный всему византийскому богослужению, особенно детально разработан в комментариях на основное богослужебное действие — совершение Евхаристии. Практически все толкователи понимают Божественную Литургию как символическое изображение жизни и служения Христа, от Его рождения в Вифлееме до славного вознесения на Небо. Так,
prothesis (предложение), то есть обряд приготовления евхаристических даров хлеба и вина, — это символ рождества Христова; так называемый «Малый Вход» — символ Его явления мiру; «Великий Вход», перенесение Даров на престол, — символ погребения Христа и Его торжественного входа в Иерусалим
[186] и т. д. Эти символические толкования отличаются друг от друга только степенью сложности и разработанности, вниманием к деталям, распространением даже на второстепенные и незначительные обряды. Причем эти толкования могут противоречить друг другу. Так, упомянутый мной Великий Вход может иметь два и более взаимно противоречивых символических значения. Однако в основном подобный символизм прост как по своей природе, так и по своему назначению. Символ здесь сведен к изображению, функцию которого можно определить как педагогическую, или учительную. Согласно пересказу одного из известных византийских комментаторов, Германа Константинопольского, на вопрос, почему епископ не принимает участия в начальных обрядах литургии, поручая совершение их священнику, дается следующий ответ: потому что священник символизирует святого Иоанна Крестителя, и ему приличествует совершать действия, символизирующие время перед пришествием Христа. Подобные приемы применяются при истолковании всей литургии. Повторяю, символические значения могут меняться, частично совпадать друг с другом, быть более или менее разработанными, но по сути они остаются неизменными. На «внешнем», обрядовом уровне Божественная Литургия — это прежде всего священная драма, представление в обычном смысле этого слова. И конечно же, именно этот изобразительный символизм, этот «драматический» характер византийской литургии рассматривается в различных описаниях и определениях как «символический», наделенный исключительно богатой «символикой».
Тем не менее, при рассмотрении этого изобразительного символизма, кажущегося таким традиционным, мы наталкиваемся на первую трудность, которая составляет и первый аспект упомянутой мной проблемы. Трудность состоит в элементарном и легко проверяемом обстоятельстве, а именно в фактическом отсутствии каких бы то ни было символов и символических смыслов в самой литургии, то есть в молитвах, представляющих собой словесное выражение и смысл разнообразных литургических действий и обрядов.
Рассмотрим, к примеру, вышеупомянутые Малый и Великий Входы, которые всегда служили излюбленными объектами изобразительного символизма. Я уже говорил, что Малый Вход, представляющий собой торжественную процессию духовенства, с изнесением Евангелия из алтаря и внесением его обратно в алтарь, по мнению всех комментаторов, изображает, или символизирует, Христа, выходящего к людям и Его вступление на проповедническое служение. Но если мы обратимся к самой литургии и, прежде всего, к молитвам, сопровождающим этот Вход, а значит, выражающим его смысл, то нигде не найдем ни малейшего намека на понимание, содержащееся в толкованиях на литургию. Прежде всего, бросается в глаза явное противоречие между обрядом, упоминаемым во всех молитвословах как «вход», и его популярным толкованием как «исхода», «выхода» Христа на проповедь. Евангелие здесь несет не священник, символизирующий Христа, но диакон, чья символическая функция, согласно комментариям, обычно та же, что и у ангелов или апостолов. Что касается молитв, сопровождающих обряд, то все они подразумевают не явление Христа, но Церковь, которая совместно с ангельскими силами воздает Богу непрестанное славословие. Так, молитва Входа: «…сотвори со входом нашим входу святых ангелов быти…», молитва Трисвятого: «Боже святый… Иже трисвятым гласом от Серафимов воспеваемый и от Херувимов славословимый…»; и наконец, само Трисвятое, песнопение Входа, берут свое начало от «Свят, Свят, Свят» из видения Исайи. Об этом ангельском символизме я скажу позже. Пока достаточно будет отметить, что в категориях самого ordo (чина) литургии, в обрядах и молитвах Малый Вход понимается как наш, то есть Церкви, вход на Небо, в непрестанное славословие, возносимое Богу ангельскими силами.
Подобное разногласие между изобразительным символизмом и самой литургией мы обнаруживаем при рассмотрении Великого Входа. Торжественное перенесение Евхаристических Даров с жертвенника на престол весьма рано стало объектом различных символических толкований, самые популярные из которых видят в этом символ погребения Христа. Следует признать, что в ordo Великого Входа имеются отдельные элементы символизма погребения. Но содержатся они лишь в том, что о. Тафт в своей блестящей монографии называет «вторичными формулами», — в песнопениях Великой Пятницы, которые литургисающий читает после поставления Даров на престол: «Благообразный Иосиф» и др., образ Threnos’а (Плача), погребения Христа: сначала в воздухе — плате, покрывающем Дары, — и затем в илитоне, или антиминсе и т. д. Эти обряды и изображения вторичны не только в силу их позднейшего появления в литургии, но и потому, что они явно вводят некую инородную тему в целостную и органичную последовательность обрядов и молитв, составляющих Великий Вход. Подлинный смысл этого последования выражен в двух молитвах верных, которые предшествуют входу с Дарами, и в молитве проскомидии (приношения), завершающей Вход, которая даже в современных служебниках называется «молитвой священника после поставления Даров на престоле». Ни в одной из этих молитв в литургиях св. Иоанна Златоуста и св. Василия Великого мы не встретим ни малейшего намека на погребение Христа или хотя бы на одно из событий Его жизни. В каждой из них перенесение Даров и поставление их на престоле выражается в терминах жертвы, но опять–таки, нашей жертвы, жертвы хвалы, которую мы просим принять «из рук нас, грешных…» Если это и символ, то его никак нельзя отнести к категории изобразительного символизма.
Подобные примеры можно умножать ad infinitum и все они указывают на одно и то же: на радикальный разрыв между lex orandi, выраженной и воплощенной в литургии, и ее символическим истолкованием, которое, как правило, признается органической составляющей православного предания и которым насквозь пропитаны как пособия по литургике, так и благочестие прихожан. В глазах подавляющего большинства верующих сомнение в нем равносильно впадению в ересь. Возникает естественный вопрос: как, почему и когда появился изобразительный символизм, и каково его значение в истории византийской религиозной мысли?
В очень ценной и во многом поистине новаторской книге «Византийские толкования на Божественную Литургию с седьмого по пятнадцатый век» отец Рене Борнер (Rene Bornert) дает ответ на некоторые из этих вопросов
[187]. Его выводы, основанные на весьма тщательном изучении различных источников, можно резюмировать следующим образом: происхождение символических толкований литургии следует искать в катехизических наставлениях, адресованных новообращенным с целью приготовления их к крещению. Это оглашение, имевшее место до и после крещения, следовало образцу экзегезы, т. е. толкования Священного Писания, в двух основных традициях: александрийской, с ее акцентом на
теории, духовном, или анагогическом, смысле Писания, и антиохийской, со свойственным ей утверждением
истории, последовательности событий, явленных как история спасения. Важно, что в обеих традициях литургия, как и Писание, рассматривается в качестве источника гнозиса, познания Бога, явившего Себя в Своих спасительных деяниях. Александрийская катехизическая традиция представлена Оригеном, св. Григорием Нисским и, позднее, Псевдо–Дионисием; антиохийская — огласительными поучениями св. Кирилла Иерусалимского, св. Иоанна Златоуста и Феодора Мопсуэстийского.
Затем, «на заре византийской и средневековой эпохи, — пишет о. Борнер, — мы наблюдаем на Востоке и на Западе расцвет нового литературного жанра: мистического толкования». Его цель и задача отличаются от задач огласительных поучений. Последние адресованы катехуменам, их цель — приготовить будущих членов Церкви к надлежащему участию в церковном богослужении. Мистический комментарий обращен к верным. Его цель — изъяснить тайну, духовный смысл, духовную реальность, которые, хотя и сокрыты, но все же присутствуют в видимых знаках и обрядах литургии. Если огласительные поучения имеют дело почти исключительно с обрядами посвящения, то тайноводственный комментарий сосредоточен преимущественно на Божественной Литургии. Лучшим, можно сказать, классическим образцом тайноводственного подхода к истолкованию литургии служит «Мистагогия» великого византийского богослова седьмого столетия св. Максима Исповедника. Несмотря на то, что многие (если не большинство) его символических толкований литургии встречаются в более ранних сочинениях, именно он смог объединить их в единое целое, во многом подготовив окончательное торжество символизма как выражения формы и духа византийской литургии и как единственного ключа к ее пониманию.
Итак, проследив историю современного изобразительного символизма от огласительных поучений до тайноводственного толкования, мы получаем ответ на наш первый вопрос — о причинах и факторах, подготовивших окончательное отождествление его с lex orandi Церкви. Но главный вопрос все же остается без ответа, и о. Борнер не только не отвечает на него в своей, повторяю, превосходной книге, но даже не подозревает о его существовании. Этот вопрос возникает из того, что я назвал противоречием между символическим истолкованием литургии и самой литургией, между смыслом, так сказать, навязанным литургии толкователями, и смыслом, содержащимся в самих литургических текстах и, прежде всего, в самом ordo, в самой структуре литургии.
Если даже такой ученый, как о. Борнер, кажется, просто игнорирует этот вопрос, то это потому, что он, как и многие другие, строит свое исследование на предположении об органической преемственности между различными стадиями развития византийского литургического опыта, того, что я ввиду отсутствия более подходящего определения называю «литургическим благочестием». И все же я убежден, что именно эту преемственность — не в самой литургии, ее основной структуре, или ordo, но в том, как она осознается богословием и благочестием — следует поставить под вопрос и подвергнуть переоценке, если мы хотим продвинуться вперед в нашем понимании византийской религиозной мысли и опыта.
Проще говоря, мой тезис состоит в том, что существует органическая преемственность в самой литургии, то есть в ее смысле, явленном в ее фундаментальном ordo, или структуре, и отсутствие целостности в понимании и, еще более, в переживании литургии церковным обществом.
Конечно, из–за недостатка места невозможно развернуть этот тезис с той же подробностью, с какой я сделал это в моей книге «Введение в литургическое богословие
»[188]. И если я высказываю его здесь в более общей форме, то это потому что, по моему убеждению, это поможет лучше понять проблему византийского литургического символизма и его развития в целом. Когда мы говорим о развитии, понятие прерывности означает прежде всего отсутствие целостности между различными пониманиями самого символа, его природы и назначения в литургии. Так, слово «символ» и все его семантические производные: «изображение», «знак» и т. д. означают одно в богословском словаре св. Максима Исповедника и совершенно другое в толковании Божественной Литургии Германом Константинопольским (восьмой век), которое о. Борнер справедливо характеризует как «полуофициальное или, по крайней мере, наиболее распространенное» и которое, вне всякого сомнения, служит главным источником позднейшего изобразительного символизма
[189]. Здесь прерывность и различие носит, прежде всего, богословский характер. Это различие между двумя пониманиями символа в его отношении к богословию.
Не вдаваясь в подробности богословия св. Максима, можно с уверенностью сказать, что для него символ (так же, как и другие более или менее эквивалентные термины typos и eikon) неотделим и из практических соображений подчинен центральной идее таинства, mysterion, которое, по крайней мере, применительно к литургии, обращено к таинству Христа и Его спасительного служения. Это таинство Воплощения и искупления человека и мира во Христе. Следовательно, mysterion означает и саму суть веры, познания божественной тайны, явленной во Христе, и спасительную силу, сообщаемую через Церковь и в Церкви. В таком богословии символ есть способ присутствия и действия mysterion'а, и главным образом, хотя и не исключительно, его присутствия и действия в литургии — особом местопребывании символа. Таким образом, символ — и это очень важно — есть сама реальность, которую он символизирует. Представляя или выражая реальность, он творит ее присутствие, поистине исполняет ее. Нигде этот символический реализм не проявляется с такой очевидностью, как при употреблении Максимом термина «символ» по отношению к Телу и Крови Христа, приносимых на Евхаристии, что в рамках современного противопоставления символа и реальности выглядело бы явной ересью.
Только в свете этого богословия mysterion'а и литургии как «способа» его присутствия и действия, можно понять литургический символизм, присущий тайноводственным толкованиям. Литургия в целом и в каждом ее обряде и действии есть символ, но символ не того или иного отдельного события или лица, а именно всего mysterion'а как его откровения и спасительной благодати. Другими словами, этот символизм вовсе не «изобразительный», если под словом «изобразительный» мы понимаем позднейшее символическое отождествление всякого литургического действия с определенным событием из земной жизни Христа. Действительно, обряд входа в вышеупомянутом нами примере есть символ явления Христа, но это литургическое явление относится ко всему таинству Его Воплощения, а не только к Его явлению народу после Крещения от Иоанна. Подобно этому, вся литургия есть символ таинства вознесения и прославления Христа, а также таинства Царства Божия, «мiра грядущего». Посредством символов литургия сообщает нам теорию — познание и созерцание этих спасительных таинств. На ином уровне того же символизма литургия вновь представляет, делает настоящим и явным восхождение человеческой души к Богу и общение с Ним.
«Делает настоящим и явным…» Именно эту функцию стал терять позднейший символизм и именно в такой степени, что превратился в простую изобразительность. Когда известный византийский комментатор литургии Симеон Солунский пишет, что семь элементов епископского богослужебного облачения соответствуют семи дарам Святого Духа, что его мантия символизирует «промыслительную, всемогущую и всесохраняющую Божию благодать», и далее подобным же образом истолковывает всю литургию, мы понимаем, что имеем дело с символизмом, который радикально отличается от того, который предложил Максим и другие тайноводственные толкователи. Отличается не только в степени, подобно тому, как шедевр отличается от менее совершенной живописи, принадлежащей, тем не менее, той же школе и традиции. Различие здесь именно в прерывности. Эта прерывность, как я уже сказал, имеет богословский смысл. Для св. Максима литургический символ оправдан постольку, поскольку укоренен в целостном литургическом богословии, которое охватывает литургию всеобъемлющим и целостным богословским видением. Позднейший византийский и поствизантийский символизм уже не принадлежит какому бы то ни было богословскому контексту, не выражает никакого литургического богословия. Он стал и до сего дня продолжает оставаться самодостаточным и ограниченным «жанром», который, к сожалению, многие отождествляют с самим существом византийской литургической традиции.
И все же мы еще не ответили на самый важный вопрос: существует ли вообще адекватное объяснение византийского литургического символизма, и если да, то где и как его можно найти? Я убежден, что при всей своей самоочевидности и бесспорном превосходстве над позднейшим изобразительным символизмом, тайноводственный символизм св. Максима невозможно просто отождествить с византийской lex orandi. Несмотря на свою богословскую и духовную целостность в себе самом, это всего лишь извне наложенное на литургию толкование, укорененное скорее в богословской теории, чем в самосвидетельстве литургии. Воистину не случайно, что символические истолкования литургии, принадлежащие традиции св. Григория Нисского, Псевдо–Дионисия и св. Максима, существенно отличаются друг от друга, имеют различные акценты, особенности, хотя и сохраняют общую мистическую и мистериологическую ориентацию. Причина в том, что все они скорее прилагают к литургии свое частное видение, нежели пытаются отыскать видение, присущее самому ordo литургии, ее структуре и тексту, короче говоря, ее собственному символизму.
Вопрос в том, существует ли вообще такое в
идение, такой символизм? Мой ответ на этот вопрос: «Да, существует». И первым формальным и внешним подтверждением этого «да» служит то поразительное сопротивление, которое византийское богослужение и особенно Евхаристия, по крайней мере, в существенных проявлениях своей формы и духа, оказывает чрезвычайно мощному давлению различных символических толкований и редукций. Разумеется, и здесь, и там имели место своего рода «уступки» и отдельные «вмешательства» символизма. Однако в целом в течение многовекового развития византийская литургия на удивление хорошо сохранила свое внутреннее единство и органичную цельность
[190].
По моему мнению, понятие, которое лучше всего выражает изначальный литургический опыт Церкви, опыт, сформировавший, закрепивший и сохранивший фундаментальный ordo византийского богослужения, есть «эсхатологический символизм». Слово «эсхатологический» употребляется в наши дни слишком неоднозначно и потому требует того, чтобы я пояснил его употребление в контексте данной статьи. Прежде всего оно указывает на основополагающую и безграничную веру раннехристианской общины в то, что пришествие Христа, Его жизнь, смерть и воскресение из мертвых, Его вознесение на Небеса и ниспослание Духа Святого в день Пятидесятницы означали наступление Дня Господня. Yom Yahweh, возвещенный пророками, открыл новый эон Царства Божия. Верующие во Христа, хотя и пребывают все еще в старом эоне, который Новый Завет называет «мiром сим», тем не менее, уже принадлежат эону новому; ибо, соединенные со Христом и помазанные Святым Духом, они несут в себе новую вечную жизнь и силу преодоления греха и смерти. Образом присутствия в мiре сем «мiра грядущего», Царства Божия, есть Церковь, — община тех, кто соединен со Христом, а в Нем — друг с другом. Действие, которым Церковь осуществляет это присутствие, актуализируя себя в качестве нового народа Божия и Тела Христова, есть «преломление хлеба», Евхаристия, посредством которой Церковь восходит к трапезе Христовой в Его Царстве. Эта уверенность, которая, повторяю, составляет саму сердцевину раннехристианского опыта и веры, предполагает напряженность — напряженность между мiром сим и мiром грядущим, между пребыванием в мiре сем и вместе с тем уже бытием не от мiра сего. Именно это напряжение составляет, как я попытался показать в упомянутой ранее книге, основание, формирующий принцип раннехристианского богослужения и особенно важнейших его действий — Крещения и Евхаристии. Они выражают и исполняют Церковь как Пасху, переход от ветхого к новому, из мiра сего в «невечерний день» Царства Божия. В этом мiре Церковь пребывает in statu viae, в странствии и ожидании, и ее задача — проповедовать Евангелие Царства, «Благую Весть» о спасении, совершенном Христом. И Церковь может исполнить эту задачу только потому, что уже имеет доступ к Царству, о радости и наступлении которого она будет свидетельствовать до скончания мiра.
Только в свете такой эсхатологии мы можем понять изначальный символизм литургии, который я назвал «эсхатологическим» и который служит отправным пунктом и принципом всего последующего литургического развития. Существенным свойством (я бы сказал, особенностью) этого эсхатологического символизма является не просто реализм присутствия в знаке знаменуемой им реальности — такой символизм, как мы видели, утверждает и св. Максим и другие представители символизма, названного нами «мистериологическим». Суть эсхатологического символизма в том, что он просто отрицает всякое различие между знаком и знаменуемым. Для святого Максима и тем более для позднейшего мистериологического символизма весьма значимо это различие между знаком и знаменуемым, ибо, по их мнению, те литургические действия, которые мы совершаем сегодня, обнаруживают, сообщают или просто изображают действия, совершаемые в прошлом, настоящем или будущем кем–то иным — Христом, апостолами или ангелами. Следовательно, в этой перспективе, хотя литургический обряд входа совершаем мы, входящие, но этот вход символизирует явление Христа. Знак отличается от реальности, которую он являет или представляет. Однако это прямо противоположно тому, что действительно содержится в знаках литургии. Весь смысл эсхатологического символизма в том, что знак и знаменуемое есть одно и то же. Можно сказать, что литургия есть то, что происходит с нами. Литургический вход — это наш, вернее, Церкви, вход на Небеса. Мы не символизируем присутствие ангелов, мы действительно присоединяемся к ним в их непрестанном славословии Бога. Дары хлеба и вина, которые мы предлагаем Богу, есть наша собственная жертва; вся литургия есть восхождение Церкви к трапезе Христовой в Его Царстве так же, как и Евхаристические Дары, освященные Святым Духом, есть Тело и Кровь Христовы. Мы совершаем все это и являемся всем этим, потому что мы во Христе, потому что сама Церковь есть наш вход, наш переход в новый эон, дарованный нам воплощением, смертью, воскресением и вознесением Христа.
Недостаток времени не позволяет мне показать, что именно этот эсхатологический опыт Церкви сформировал и предопределил все развитие христианской литургии, и не только таинств, но также и литургического круга времени, т. е. года, недели и дня. Даже в наши дни, после столь сложного многовекового развития, византийский Типикон будет оставаться непонятным до тех пор, пока мы не узнаем единственный ключ к его сложным правилам, предписаниям и рубрикам — эсхатологический опыт ранней Церкви, например, опыт воскресения как восьмого дня, дня за пределами семи дней творения и потому за пределами мира падшего, дня нового творения, в котором мы участвуем в евхаристическом восхождении; опыт Пасхи, позднее распространившийся на другие праздники, как перехода в радость Царства Божия; по сути, это опыт всего богослужения, или, в соответствии с излюбленной византийской формулой, Неба на земле.
Главное же, что я хотел сказать: эсхатологический символизм остается, несмотря на все богословские, мистические или изобразительные интерпретации и объяснения, основополагающим символизмом византийской литургии. Когда по прочтении всех бесчисленных толкований мы возвратимся от «богатого символизма», который они усматривают в византийском богослужении, к самой литургии, к свидетельству ее молитв и обрядов, ее ordo и ритму, мы сможем пережить опыт духовного освобождения. Ибо мы откроем подлинное литургическое богословие, то есть богословие, для которого литургия не «объект», но сам источник. Другими словами, мы вновь откроем позабытую истину древнего изречения: lex orandi lex est credendi.
Пер. с английского свящ. А. Дудченко под редакцией И. Мялковского и Ю. Вестеля.
Таинство и символ
1
Основная трудность, с которой сталкивается православный христианин, когда речь идет о таинствах, — необходимость выбирать между разными пластами своей богословской традиции. Если он остановится на более близком нам времени и более официальном «школьном богословии» («theology of manuals»), которое стало складываться в православных богословских школах, начиная с XVI в., его представления будут, конечно, очень сходны с любым латинским «De sacramentis». От общего определения таинств как «видимых средств невидимой благодати» он перейдет к различению в них «формы» и «вещества», к установлению их Христом, к их числу и классификации и, наконец, к их должному совершению как условию их действенности. Однако сегодня все больше православных богословов признают тот факт, что такой подход к таинствам, хотя он и был общепринятым и ему обучали на протяжении нескольких веков, имеет очень мало общего с истинной традицией Восточной церкви. Он видится, скорее, как одно из наиболее прискорбных последствий и проявлений «псевдоморфозы», которую претерпело православное богословие с конца эпохи патристики, когда трагические условия церковной жизни вынудили православных «ученых мужей» некритически воспринять западные богословские категории и систему взглядов. Результатом этого стало сильно ориентированное на Запад богословие, традиции которого сохранялись (и в известной степени сохраняются поныне) в духовных учебных заведениях. В России, например, богословие преподавалось на латыни вплоть до 40–х годов XIX века! «Западное пленение» православного богословия решительно осуждалось лучшими богословами последнего столетия, и сегодня существует представительное движение, направленное на восстановление нашим богословием своих исторических корней и методологии. Возврат к св. отцам, к литургическим и духовным традициям, которые по существу игнорировались «школьным богословием», начинает приносить свои плоды. Этот процесс, тем не менее, находится еще в своей начальной стадии, и в области богословия таинств еще почти ничего не сделано, что означает, что любая попытка «восстановления» и «возрождения» неизбежно будет здесь лишь предварительной и пробной.
Первоочередная задача состоит, таким образом, в том, чтобы восстановить истоки, поставить вопросы, которые в рамках устаревшего школьного богословия не только не могли найти ответа, но даже не могли быть сформулированы.
2
Что такое таинство? Отвечая на этот вопрос, западное и «прозападное» постпатристическое богословие помещает себя в рамки ментального контекста, который значительно, если не радикально, отличается от существовавшего в ранней церкви. Я говорю ментальный, а не интеллектуальный, так как различие здесь принадлежит уровню, намного более глубокому, чем просто интеллектуальные положения или богословская терминология. Богословие эпохи св. отцов, несомненно, было не менее «интеллектуальным», чем схоластика, а что касается терминологии, то именно ее непрерывная преемственность, использование тех же слов, как бы ни изменялось их значение, могла сделать неявным разрыв между двумя типами богословия таинств.
Внешне или формально это изменение состояло прежде всего в новом подходе богословия таинств к самому объекту своего исследования. В ранней церкви, в трудах св. отцов таинства, с тех пор как их стали пытаться систематически интерпретировать, всегда объяснялись в контексте своего непосредственного литургического совершения, когда объяснение по существу являлось экзегезисом самой литургии со всей ее обрядовой сложностью и точностью. Средневековое «De sacramentis», однако, стремится с самого начала отделить таинство от его литургического контекста, найти и выразить в понятиях максимально точно его суть, т. е. то, что отличает его от не–таинства. Таинство в определенном смысле начинают противопоставлять литургии. Оно, конечно, имеет свое богослужебное выражение, свой «знак», который относится к его сути, но этот знак рассматривается теперь как онтологически отличный от всех других таинств, символов и обрядов церкви. И из–за этого отличия только знак таинства становится во всем богослужении единственным заслуживающим внимания богословов объектом. Можно, скажем, читать и перечитывать прекрасные комментарии к таинствам в «Summa» св. Фомы, так ничего и не узнав об их литургическом совершении. Можно также скрупулезно изучить практически все, что есть в православии и католичестве о священстве, не встретив ни одного упоминания о традиционной и органичной связи между рукоположением и евхаристией. С точки зрения историков богословия, такое изменение связано с тем, что они называют развитием «научного богословия» и «более точных» методов в нем. На самом деле, однако, это изменение, будучи далеко не чисто внешним, имеет корни в глубокой трансформации философских взглядов, по существу, всего богословского мировоззрения. И если мы хотим установить первоначальное значение таинства, нам надо прежде всего попытаться понять природу этой трансформации.
3
Чтобы упростить нашу задачу, мы можем как точку отсчета для этого исследования взять долгий и хорошо известный спор, который от начала до конца определяет на Западе развитие богословия таинств, и особенно евхаристического богословия. Это спор о реальности присутствия. Нигде так ясно не прослеживается эта разграничительная линия между двумя подходами к таинству, равно как и причины, которые привели к переходу от одного к другому. В контексте этого спора понятие «реальный» очевидно содержит в себе возможность присутствия иного рода, которое поэтому является не реальным. Это иное присутствие в Западном богословии и научной мысли, как мы знаем, принято обозначать словом символический. Мы не можем здесь углубляться в очень сложную и во многих отношениях запутанную историю этого понятия в западной мысли. Очевидно, что в существующем языке богословия, поскольку он формируется между Каролингским возрождением и Реформацией и несмотря на все разногласия между соперничающими богословскими школами, «несовместимость между символом и реальностью», между «figura et veritas» всегда утверждалась и признавалась. Утверждению «mystice, non vere» соответствует не менее категоричное «vere, non mystice». Св. отцы же и вся ранняя традиция — и здесь мы подходим к самой сути проблемы — не только не знают этого различения и противопоставления, но для них символизм неотъемлем (is the essential dimension) от таинства и служит единственным ключом к его пониманию. Преп. Максим Исповедник, выдающийся представитель святоотеческого богословия таинств, называет Тело и Кровь Христа на Евхаристии символами («symbola»), образами («apeikonismata») и тайнами («mysteria»). «Символическое» здесь не только не противопоставляется «реальному», но предполагает его (embodies it) как свое непосредственное выражение и способ проявления. Историки богословия, больше всего радея о поддержании мифа о преемственности богословия и его методичной «эволюции», и здесь умудряются относить это за счет «неточности» святоотеческого богословия. Такое впечатление, что они не понимают, что святоотеческое употребление понятия «symbolon» и связанных с ним не «расплывчатое» или «неточное», а просто отличное от того, что мы видим у более поздних богословов, и что последующая трансформация этих понятий становится источником одной из величайших трагедий богословия.
4
Основное различие здесь — различие в понимании самой реальности или, как мы говорили выше, разное отношение к миру. Если для св. отцов символ служит ключом к таинству, то потому, что таинство неразрывно связано (is in continuity) с символической структурой мира, в котором «omnes … creaturae sensibiles sunt signa rerum sacrum». И мир символичен — «signum rei sacrae» — так как он создан Богом; таким образом, «символизм» относится к его онтологии, когда символ — это не способ восприятия и постижения реальности, не только средство познания, но и средство участия. И тогда именно этот «естественный» символизм мира — можно было бы даже сказать его «таинственность» — делает таинство возможным и служит ключом к его пониманию и восприятию. Если христианское таинство уникально, то не в смысле чудесного исключения из естественного порядка вещей, созданного Богом и «возвещающего Его славу». Его абсолютная новизна не в его онтологии, но в тех специфичных «res», которые оно «символизирует», т. е. открывает, выражает и передает, которые суть Христос и Его Царство. Но даже эту абсолютную новизну следует воспринимать не как полный разрыв, а как исполнение. Таинство Христа являет и исполняет конечный смысл и назначение нашего мира. Поэтому установление таинств Христом (тема, которая будет волновать все более позднее богословие) — это не творение ex nixilo «таинственности» как таковой, таинства как средства познания и участия. В словах Христа «сие творите в Мое воспоминание» это сие (трапеза, благодарение, преломление хлеба) уже «таинственно». Это установление значит, что, будучи соотнесен со Христом, наполнен Христом, символ исполняется и становится таинством.
5
Именно эту неразрывную связь таинства и символа постпатристическое богословие начинает сначала преуменьшать, а потом и просто отрицать, и делает оно это из–за усиливающегося «распада» («dissolution») символа, обусловленного в свою очередь новым пониманием отношения богословия к вере. Основной вопрос богословия — это проблема познания, а точнее, познаваемости Бога, и природа этого знания. Если св. отцы соединяли в живом и действительно «экзистенциальном» синтезе, с одной стороны, абсолютное «инобытие» («otherness») Бога, невозможность для человека познать Его до конца и, с другой стороны, реальность человеческой причастности Богу, познания Его и «теозис», то этот синтез становился возможным главным образом благодаря их идее или, лучше сказать, видению таинства и условия его существования и действия — символа. Ибо сама природа символа такова, что он являет и передает «иное» именно как «иное», видимое невидимого как невидимого, знание о непознаваемом как о непознаваемом, присутствие будущего как будущего. Символ — это средство познания того, что не может быть познано иначе, ибо познание здесь зависит от участия — живой встречи и вхождения в то откровение реальности, которым является символ. Но тогда богословие не просто как–то связано с таинством, но имеет в нем свой источник, непосредственное условие самого своего существования. Богословие как истинное знание о Боге есть результат знания Бога — и в Нем всей реальности. И тогда «первородный грех» постпатристического богословия состоит в этой редукции понятия «знание» к рациональному или дискурсивному знанию или, другими словами, в отделении знания от таинства. Это богословие не отрицает «символического мировоззрения» ранней традиции: приведенная выше цитата «omnes … sensibiles creaturae sunt signa rerum sacrum» принадлежит св. Фоме Аквинскому. Но оно принципиально меняет понимание этого «signum». В ранней традиции, и это для нас особенно важно, отношение между знаком в символе (А) и тем, что он «обозначает» (В), не является ни чисто смысловым (А означает В), ни причинно–следственным (А есть причина В), ни репрезентативным (А представляет В). Мы называем это отношение откровением. «А есть В» означает, что все А выражает, передает, являет, делает очевидной «реальность» В (хотя и необязательно всю), не теряя, однако, при этом своей собственной онтологической реальности, не растворяясь в другой «res». Но именно это отношение между А и В, между знаком и означаемым было изменено. Из–за сведения знания к рациональному и дискурсивному между А и В пролегает пропасть (лат. — hiatus). Символ еще продолжает служить средством познания, но, как всякое знание, это знание о, а не знание чего. Он может быть откровением о «res», но не откровением самой «res». А может означать В или представлять его, или даже в некоторых случаях быть причиной его присутствия; но А больше не воспринимается как непосредственный способ участия в В. Знание и участие теперь — реальности разного порядка.
6
Для богословия таинств этот распад символа имел поистине катастрофические последствия. Изменив само понятие таинства, он радикально трансформировал и богословие как таковое, спровоцировав таким образом кризис, весь масштаб и глубину которого мы только сейчас начинаем осознавать. Теперь, мы надеемся, должно быть ясно, что тема «реального присутствия», затронутая ранее, появление которой в определенном смысле открыло послесвятоотеческий период в богословии таинств, родилась из богословского сомнения в реальности символа, т. е. его способности содержать в себе и передавать реальность. Мы уже кратко объяснили причины для такого сомнения: с одной стороны, идентификация символа со средствами познания и, с другой стороны, редукция познания к рациональному и логическому знанию о реальности, а не ее самой. И поскольку традиция была единодушна в утверждении таинства как verum, т. е. реального, неизбежно возникал вопрос: как символ может быть средством выражения и способом существования (thevehicle or the mode) таинства? Но поскольку святоотеческое употребление символической терминологии по отношению к таинствам было в равной степени очевидным наследием (лат. — datum) этой традиции, проблема была решена сначала просто пополнением одной терминологии — символической за счет другой — реалистической. Таинство одновременно «figura et res, veritas et figura», оно «non solum mystice, set etiam vere». Но вскоре из–за усиливающегося обесценивания символа вследствие его распада эти два понятия стали рассматриваться не только как разные, но как прямо противоположные. В известном случае с Беренгарием Турским замечателен тот факт, что Беренгарий и те, кто его обвинял, понимали символ абсолютно одинаково. Если для него Тело и Кровь Христовы на Евхаристии не реальные, потому что они символические, для Латеранского собора (1059) они реальны именно потому, что они не символические. Такое различие неизбежно привело к противопоставлению, которое стало основой всего дальнейшего развития богословия.
7
Оставалась, однако, проблема signum, отношение которого к res таинства следовало определить по–новому. Ибо если это не символ, то что тогда? Постпатристическое богословие ответило на этот вопрос, определив signum как cause, и именно здесь понятие таинства и, возможно, опыт его совершения претерпели наиболее глубокие изменения. В ранней традиции причинность, присущая таинству, освящение тех, кто участвует в нем, неотделима от его символизма, так как она берет в нем свое начало. Это ни в коей мере не ограничивает и не опровергает единственное основание всех таинств — их установление Христом — ибо, как мы уже говорили, именно в этом установлении заключается исполнение символа Христом и, следовательно, его преобразование в таинство. Таким образом, это не акт разрыва, но исполнения и актуализации. Это откровение — во Христе и через Него — о «новом творении», а не о творении чего–то «нового». И если это свидетельствует о связи между творением и Христом, то потому прежде всего, что существует неразрывная связь между Христом и творением, чьим Словом, Жизнью и Светом Он является. Именно этот аспект и установления таинств, и самого таинства практически исчезает в постпатристическом богословии. Каузальность, связывающая установление и signum, по отношению к res рассматривается как внешняя и формальная, а не как внутренняя и служащая откровением. Она, скорее, гарантирует действенность таинства, чем является откровением посредством исполнения. Даже если, как в случае с Евхаристией, знак полностью отождествляется с реальностью, это происходит, скорее, с позиции отрицания знака, а не исполнения. В этом смысле догмат о воплощении в его троичной форме — поистине крушение, а точнее самоубийство таинственного богословия. Если это новое понимание каузальности — как внешней и формальной гарантии — разрывает онтологическую связь между знаком и res, оно также отрицает de facto всю связь между таинством как «установлением» и естественным порядком вещей. Теперь подчеркивается и утверждается именно отсутствие связи. Воспринимаемое в такой же степени как «causa principalis» знака, как и «causa secunda», это установление становится теперь абсолютной точкой отсчета в системе таинств исключительно sui generis (само по себе, взятое в отдельности, — прим. пер.). И попытки некоторых современных богословов вернуть понятию «знак» «богатство символической традиции» предполагают случайные моменты, а не суть учения о таинствах и его понимания.
И само учение, и его понимание сейчас очень отличаются от того, что было в ранней Церкви. Тогда таинство поистине объединяло три основных измерения или уровня христианского видения реальности — Церковь, мир и Царство Божие, а не только было открыто для них. И, объединяя их, оно позволяло познавать их — в самом глубоком, святоотеческом, смысле слова «познание» — как понимание и участие одновременно. Это было источником богословия — знание о Боге в Его отношении к миру, Церкви и Царству, постольку, поскольку это было знанием Бога и в Нем всей реальности. Имея свое основание, начало и конец во Христе, оно в то же время служило откровением о Христе как об основании, начале и конце всего сущего, его Творце, Спасителе и исполнении. Трансформация таинства в постпатристическом богословии заключалась, таким образом, в его изоляции в пределах закрытого самодостаточного организма таинства. То внешнее выделение таинства из литургии, о котором мы упоминали, на самом деле «символизирует» значительно более глубокие изменения. «Идея таинства, — пишет с воодушевлением один современный богослов, — это что–то абсолютно sui generis, и чем меньше антропоморфизма или даже «ангелизма» мы в него привносим, тем лучше для богословия… У таинств своя жизнь, своя психология, своя благодать… Ни на небе, ни на земле с таинствами ничего не может сравниться». Вот с этого–то их превозношения и восхваления как высшей реальности и началось прогрессирующее отчуждение от них богословия, экклезиологии и эсхатологии, отчуждение, которое — понимаем мы это или нет — послужило причиной сегодняшнего кризиса, стало источником яда «секуляризма…» Как средства личного благочестия и очищения они сохраняли всю свою «ценность». Как кафолические акты Церкви, исполняющей свое назначение, как символы «будущего века» в мире сем, завершения в Боге всего творения — они были просто забыты.
8
Теперь мы можем вернуться к истокам Православия. Предшествующий анализ должен был показать только одно: если мы хотим обнаружить истоки, мы можем сделать это, только пересмотрев те стороны таинства, которые были искажены или просто игнорировались на протяжении долгого периода зависимости православного богословия от западных, преимущественно латинских, форм мысли. Как это сделать? Очевидно, что это открытие заново не может быть чисто интеллектуальным. Просто чтения св. отцов, самого по себе необходимого и полезного, еще недостаточно, потому что даже святоотеческие тексты можно использовать, что зачастую и происходит, в подтверждение богословских систем, глубоко чуждых истинным взглядам св. отцов. Нынешний «возврат к св. отцам» не может состояться, если он будет предлагать лишь жесткую «патристическую схему», которая на самом деле никогда не существовала. Непреходящая заслуга св. отцов в том и состоит, что они показали динамический, а не статический характер христианского богословия, его способность всегда быть современным, не подлаживаясь под современность, открытым всем человеческим чаяниям, не будучи зависимым ни от одного из них. Если бы за возвратом к св. отцам стояло чисто формальное повторение их терминологии и формулировок, он был бы таким же ошибочным и бесплодным, как отрицание св. отцов «современным» богословием из–за их якобы устаревшего мировоззрения.
Все это имеет самое непосредственное отношение к нашему употреблению понятия «символ». Если мы и подчеркиваем здесь, что оно является центром таинственного богословия и ключом к его «восстановлению», то не только потому, что оно встречается в святоотеческих текстах. Ведь в них можно найти и много других понятий, в равной степени, если не более, важных для их понимания. Не составит большого труда доказать, что, с одной стороны, понятие «символ» чисто терминологически не является ни наиболее распространенным, ни самым основным, и, с другой стороны, что ни одно слово в святоотеческих текстах не является абсолютным само по себе, но приобретает свое значение, свое богословское осмысление только в более широком богословском и духовном контексте. Что же тогда подтверждает, что выбор этого понятия, в предпочтение всем остальным, оправдан и что наша интерпретация его верна? Ведь существует уже его схоластическое толкование, причем в смысле, который для нас здесь неприемлем.
В ответ на все эти вопросы скажу, что даже если бы св. отцы вообще не употребляли бы этого слова, все равно для нас сегодня оно служило бы самым верным средством для восстановления значения того фундаментального опыта, о котором свидетельствуют их труды, с которыми они все эксплицитно или имплицитно связаны и который в конечном счете единственно важен для нас у св. отцов. Ибо именно это слово или, точнее, то значение, которое оно сегодня все больше начинает приобретать, служит единственным, если не уникальным, мостиком между мировоззрением и опытом св. отцов, с одной стороны, и, с другой, самыми сокровенными ожиданиями, сомнениями и противоречиями нашего века, как бы мы ни обвиняли его в «модернизме, секуляризме и технократии». Именно на этом понятии символа сфокусировано сегодня все внимание и богословской, и секулярной мысли как на вопросе, от которого зависят все остальные вопросы, как на самом «символе» человеческого смятения и поиска. И если сегодня приходится так часто слышать о потребности в «новых символах», если символ и символизм становятся объектами изучения и внимания в кругах, никак иначе не связанных, то потому, что за всем этим стоит экзистенциальный опыт полного разрыва и потери «коммуникации», трагического отсутствия «объединяющего начала», которое было бы способно снова воссоединить и удержать вместе поврежденные и разобщенные грани человеческого существования и знания. И вот это объединяющее начало, чье отсутствие ощущается так остро и поиск которого определяет современную мысль, и было названо символом. Его коннотации одновременно когнитивные и деятельные, так как его назначение — вернуть цельность и знанию, и существованию, вновь объединяя одно с другим. Никто не знает что это за символ, но то, что надеются в нем найти, намного ближе к святоотеческим идее и опыту символа, чем к послесвятоотеческим, вот почему мы называем его мостиком.
9
Христианин, однако, по определению должен знать. Разве он не исповедует Христа как Свет и Жизнь мира, как полноту всякого знания и Искупителя всего творения? В этом смысле — а именно это стоит за поисками миром символа — не является ли Он в конечном счете Символом всех символов? Разве Сам Христос не говорил, что тот, кто видел Его, видел Отца, кто в Нем пребывает, имеет причастие Святого Духа, кто верит в Него, уже имеет — здесь и теперь — жизнь вечную? Но почему же тогда христианство не воспринимается и не признается миром как осуществление его поисков символа и кажется таким иррелевантным ему? Мы подошли к самому больному вопросу (the agonizing «focus») нынешнего состояния христианства, который, мы надеемся, показывает всю важность предшествующего анализа. Ибо он показывает, что если христианство не выполняет своей символической функции — быть таким «объединяющим началом», это происходит из–за разрушения символа прежде всего самими христианами. В результате этого разрушения христианство стало выглядеть сегодня, в глазах мира во всяком случае, как, с одной стороны, чисто интеллектуальная доктрина, которая все больше «дает трещину» под давлением абсолютно чуждого интеллектуального контекста, или, с другой стороны, как чисто религиозная организация, которая также «трещит по всем швам», раздираемая собственным институционализмом. И, конечно же, прилагательное «святой», которое мы употребляем по отношению к этой доктрине и организации, само по себе еще не может преодолеть «подрыв доверия» и сделать христианство символом, которым оно перестало быть. В том–то все и дело, что святой никак не может быть простым прилагательным, определением, достаточным, чтобы гарантировать божественное основание (the divine authority & origin) всего. Если оно что–то и определяет, то изнутри, а не извне. Оно выражает, как пишет Рудольф Отто, «тайну велику», т. е. силу свыше, которая превосходит в доктрине ее интеллектуализм и институционализм в организации. И именно эта святость — сила богоявления — безнадежно утеряна сегодня и доктриной, и организацией, и это не по человеческим грехам и ограниченности, а непосредственно вследствие сознательного выбора: отрицания и потери символа как фундаментальной основы как христианской «доктрины», так и «организации».
И положение нисколько не меняется, когда многие «современные» христиане, даже богословы, присоединяются к остальным в требовании «новых символов», думая, что христианство вновь обретет свою «значимость» для мира, если удастся показать, что Христос — это «символ» той или иной вещи, «иллюстрация» идеологии, «образ» и «персонификация» нашего отношения к чему–либо. Они остаются безнадежными пленниками того самого — внешнего и иллюстративного — понимания символа, изобретенного их предшественниками, которое сегодня задним числом продолжает служить оправданием их капитуляции перед идеологиями и системами взглядов, чье отношение ко Христу, мягко говоря, сомнительно. Они никак не хотят понять, что, чтобы Христос стал «символом» чего–либо в этом мире, сам мир должен в первую очередь постигаться и приниматься как символ Бога, откровение о Его Царстве, силе и славе, что, иными словами, «Христа» или «Бога» не нужно определять на языке этого мира и его преходящих нужд, чтобы сделать их символами, но наоборот, это Бог и только Он сделал мир Своим символом, чтобы исполнить потом этот символ во Христе и осуществить его в Своем вечном Царстве. Теряя значение символа, мир оборачивается хаосом и самоуничтожением, идолом и обманом, он обрекается на исчезновение как тот образ, который должен «прейти» (1 Кор 7: 31). Делать Христа символом этого проходящего мира — верх глупости и слепоты, потому что Он пришел для прямо противоположного — спасти мир, восстановив его как «символ» Бога, как жажду и алкание исполнения в Боге, как знак Его Царства и Путь в него. И Он спас его, преодолев его самодостаточность и непроницаемость основанием в «мире сем» Церкви — символа «нового творения» и тайны «будущего века». И если христиане хотят, как они о том заявляют и что на самом деле они должны делать, служить миру, предложить ему тот «символ», который он так отчаянно ищет, это станет возможным, только если они сами заново откроют этот символ и откроют его там, где он всегда и был — по божественной воле и установлению — в Церкви. Св. отцы или традиция могут помочь им осуществить это открытие, могут внести ясность, так сказать «объяснить», как его делать; чего они не могут, так это сами стать им. Тогда остается последний вопрос: где и как этого достичь?
10
На это православное богословие, стоит только ему оправиться от «западного пленения», должно ответить: в цельной литургической жизни Церкви, в той сакраментальной традиции, которая на Востоке, по крайней мере, была не так существенно искажена блужданиями отчужденной богословской мысли. Мы уже говорили, что роковой ошибкой постпатристического рационализма было выделение таинств из литургии как наиболее полного выражения жизни и веры Церкви. По существу, это означает отделение таинства от символа, т. е. того сообщения со всей реальностью, которое происходит в таинстве. Став закрытым и самодостаточным «средством благодати», каплей реальности в море символов, таинство лишило литургию ее основного назначения — связывать таинство с Церковью, миром и Царством Божиим или, иными словами, их экклезиологическим, космическим и эсхатологическим содержанием и измерением. Литургия была предоставлена «благочестию», которое расцветило ее тысячами комментариев и интерпретаций, «символическими» на этот раз в новом «иллюстративном» и номинальном значении этого слова. Рассматривают ли ее «археологически» — как набор «древних и красочных» обрядов, или «эстетически» — как своего рода аудио–визуальную поддержку для молитвы, она так или иначе стала иррелевантной — богословию, миссии, в общем, всей жизни Церкви. Она еще имеет и, вероятно, всегда будет иметь своих верных — «литургически настроенных» христиан. Но что она может дать Церкви с большой буквы, ее «активистам» и «гностикам»?
Восстановить первоначальное и органическое единство между литургией и таинством, литургию посредством таинства и таинство посредством литургии как одну динамичную реальность, в которой символ — литургия — всегда исполняется в таинстве, — вот единственное условие для возврата к той точке отсчета, которая сможет вывести нас из нынешнего тупика. И поистине литургическая природа таинства так же, как таинственная природа литургии и, благодаря ей, всей Церкви, являются живыми источниками того динамического единства, вечным свидетельством которого остаются св. отцы. Но это единство существует не только в далеком прошлом и в книгах. Оно с нами — здесь и сейчас, — если только у нас есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, если, отбросив все ненужные проблемы, накопленные за века, мы сможем добраться до реальной Церкви и заново осмыслить «lex orandi» как источник ее «lex credendi».
Только теперь мы приближаемся к нашей основной задаче, заложенной в названии статьи. Она состоит в раскрытии на основе пристального изучения литургии, литургической традиции и опыта Церкви истинного содержания этого Символа, которым является Церковь и который она осуществляет в Таинстве, таким образом исполняя свое назначение. Конечно, в рамках этой статьи мы не можем дать этому достаточное обоснование, поэтому она служит лишь самым общим введением, предварительным обозначением возможного развития темы. Нам остается сказать в заключение, что если такая попытка будет предпринята, она должна показать, что подлинным назначением литургии всегда было сводить воедино, в одном символе, три уровня христианской веры и жизни: Церковь, мир и Царство Божие, что сама Церковь, таким образом, является таинством, в котором поврежденная, но все же «символическая» жизнь «этого мира» возносится во Христе и Христом до Царства Божия, становясь сама таинством «будущего века» или тем, что Бог от века уготовал любящим Его, где все человеческое может быть преображено благодатью, так что все станет совершенным в Боге. Наконец, она должна показать, что здесь и только здесь — в этом таинстве божественного присутствия и действия — Церковь всегда становится тем, что она есть — Телом Христовым и Храмом Духа Святого, уникальным Символом, который восстанавливает, принося Богу, мир, за жизнь которого Он отдал Своего Сына.
Перевод с англ. Елизаветы Гиппиус
Таинство любви
«Тайна сия велика; я говорю по отношению к Христу и к Церкви». Еф. 5 : 32.
1.
В Православной церкви брак есть таинство. Но можно спросить: почему из множества «состояний» человеческой жизни, из всего разнообразия человеческих призваний, именно брак, супружество понимается и определяется как таинство? И в самом деле, если служба бракосочетания, это всего лишь божественная санкция на супружество, подаяние супружеской паре помощи, а также и благословения на деторождение, то тогда она мало отличается от того благословения, которое подается Церковью в самых разных событиях нашей жизни, и в которых мы также нуждаемся в помощи свыше. Но ведь таинство, как мы уже видели, предполагает изменение, претворение, преображение, оно всегда отнесено к смерти и воскресению Христа, как к своему источнику, оно всегда — таинство грядущего Царства Христова. Между тем, брак, как таковой, не был «установлен» Христом. Он есть «установление» не христианское, а всемирное. И именно отсюда вопрос — в чем связь брака с Христом в Его спасительном деле? Как связан он с крестной смертью, воскресением и прославлением Христа? Что делает его таинством и в чем сущность его, как таинства?
Вопросы эти тем более уместны, что большинство верующих, хотя, возможно, они и знают, что Церковь в браке видит таинство, не делают из этого никаких выводов относительно сущности брака, его смысла и содержания в опыте и вере Церкви. Как и крещение, свадьба давно уже стала частной, «семейной» требой, в которой от Церкви нужны, в сущности, храм, священник и хор. Что прочно забыто — это то, что супружество, как и все в нашем падшем мире, не исключено из этого падения и, будучи Божественным установлением, есть, тем не менее, состояние падшее и потому, как все в мире, нуждающееся не только в «благословении», но и в очищении и возрождении. По христианской вере возрождение возможно только во Христе, в Его спасительном деле и победе. И, как мы увидим, состоит оно, прежде всего, в расширении самого понимания брака и семьи, во включении их в христианское уразумение мира и его призвания.
Ибо тут, действительно, суть дела. Если мы наивно полагаем, что бракосочетание «касается» только бракосочетающихся, только жениха и невесты, и что поэтому понятна и оправдана, например, новая «мода» (не принятая, правда, в православной церкви), заключающаяся в составлении женихом и невестой своей свадьбы, в своих словах и понятиях, то мы вряд ли поймем «сакраментальную» сущность бракосочетания, раскрытие в браке той великой тайны, о которой говорил Ап. Павел.
Вот это отношение, претворяющее бракосочетание в таинство, мы и должны кратко объяснить. Мы должны понять, что брак, шире, чем только «семья». Семья, как таковая, может легко стать «идолом», быть извращена эгоизмом, про нее, как таковую, Христос сказал: «и враги человеку домашние его» (Мт. 10 : 36). Брак — это, прежде всего, таинство Божественной любви, как всеобъемлющей тайны бытия и именно поэтому оно касается всей Церкви, а через нее и всего мироздания.
2.
Православное понимание таинства брака лучше уяснить, если начать не с него самого, не с отвлеченного богословия любви, а с той Личности, которая всегда стояла и стоит в самом сердце жизни Церкви, как самое чистое воплощение человеческой любви в ответ на любовь Божию. Это — Мария, Матерь Иисуса Христа. Примечательно, что в то время, как на Западе ее чаще и преимущественно именуют Девой и созерцают Ее в Ее абсолютной чистоте, в абсолютной свободе, от «плоти» и плотского, Православная Церковь чаще величает и славит Ее как Матерь, как Богородицу, и что на огромном большинстве икон она изображается с Младенцем на руках. Можно говорить о наличии в почитании Богоматери двух «ударений», хотя и не обязательно взаимоисключающих одно другое, но, тем не менее, отражающих два разных уразумения места Богоматери в жизни и молитвах Церкви.
Если нужно было бы православной опыт Марии выразить в одном слове, таким словом, я убежден, было бы радость. «О Тебе радуется. Благодатная, всякая тварь…», «Се бо отныне ублажат Мя вси роди…» О чем же эта радость? О том, прежде всего, что в своей вере и любви, смирении и послушании Дева Мария согласилась стать тем, к чему призвано и предназначено было от века все творение: храмом Святого Духа и человечеством Сына Божия. И, отдав свою плоть и кровь другому, исполнив свою жизнь в Нем, она приняла зов бить Матерью в самом полном, самом глубоком смысле этого слова.
Не знаменательно ли то, что в Библии образ отношений между Богом и миром. Богом и избранным народом, Богом и Церковью есть неизменно образ брака? Новозаветная Церковь — невеста Христова, потому что — говорит Ап. Павел — «я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девой» (1 Кор. 11 : 2), и возможным становится сказать, что Мария исполняет женственное «измерение» творения Божьего, спасаемого в Церкви и Церковью. В Марии, в ее смиренном ответе — «се раба Господня, буди Ми по глаголу Твоему» — Церковь обретает свое личное начало и средоточие и Богоматерь является навсегда, как ее сердце.
Полное послушание в любви. Не послушание и любовь, но цельность одного, как полнота другого. Ведь взятое само по себе послушание может быть не добродетелью, а слепым подчинением, в котором нету света. Только любовь к Богу освобождает послушание от слепоты и страха, делает его свободным, радостным и творческим. С другой стороны, любовь без послушания Богу легко превращается в «похоть плоти», «похоть очей» и «гордость житейскую» (1 Ин. 2 : 16). Это та любовь, которую искал, которой жил, например, Дон Жуан и которая, в конце концов, уничтожила его. Только послушание Богу, единому Господу творения, дает любви ее истинное направление, исполняет ее любовью Божьего.
Таким образом, только в этом ответе Богу, только когда становится жизнь самоотдачей Богу и послушанием Богу, исполняет она себя как подлинная человеческая жизнь. Носительницей же этой любви–ответа является женщина. Мужчина предлагает, женщина принимает. Это не пассивное принятие рабой приказания рабовладельца. Это не слепое подчинение, а любовь. Она «дает жизнь» предложению, она исполняет его… Вот почему все творение, вся Церковь, а не одни только женщины, в равной мере находят в пречистой Деве Марии выражение своего ответа и послушания Богу, вот почему Церковь есть неиссякаемая радость о Марии. Ибо только тогда, когда все мы, мужчины, и женщины, отвечаем Богу в любви и послушании, когда мы воспринимаем то, что я назвал выше женственностью творения, только тогда мы исполняем свое человеческое призвание и преодолеваем нашу ограниченность как «только» мужчин и «только» женщин. Ибо подлинным мужчиной, царем творения, мужчина может стать только, если он не претендует быть собственником творения, его неограниченным хозяином, а в любви и в послушании принимает волю Божию о себе. Также и женщина перестает быть «только» женщиной, когда полностью отдавая себя другому, и сама становится воплощением радости и полноты жизни, становится той, которую в Песне Песней царь вводит в брачный чертог со словами: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе» (Песня песней, 4:7).
Предание называет Пречистую Деву новой Евой. Ева по–еврейски означает жизнь. Ева не захотела, не сумела быть поистине женщиной, воплотить «женственность» творения в себе. Она проявила «инициативу» и вот искривилась, померкла любовь и превратилась в безрадостную «войну полов», в которой цель, т. е. обладание другим, есть, в последнем итоге, не что иное, как стремление убить постыдную, но никогда не умирающую, похоть.
А Мария не проявила инициативы. В любви и послушании она ожидала инициативы Другого. И когда дождалась, она приняла его не слепо, ибо спросила: «Как сие будет?», а со всей честностью, радостью и доверчивостью любви. Свет вечной весны осеняет нас, когда за всенощной под Благовещание мы слышим Архангельский глас: «Вопием Ти, Чистая, Радуйся! И паки реку: радуйся». Все человечество, вся Церковь, вся тварь узнает эти слова, в которых выражена наша истинная сущность — наше обручение тому, кто от века возлюбил нас… Мария — Дева. Но приснодевство Ее — не отрицание, не отсутствие чего–то. Это полнота и цельность самой любви. Это полнота ее самоотдачи Богу, полная неразделенность ее. Ибо любовь — это всегда жажда цельности, абсолютности, полноты, неразделимости. В конце веков Церковь, по словам Ап. Павла, предстанет Христу чистою девой (2 Кор. 11:2). Эту девственность утерял человек в своем падении, ее, как цель творения, как конечную победу, являет Бог в Приснодеве Марии. В Ее лице мы все обручены Жениху Церкви, составляя одно Тело с Ним, соединены с Ним навеки… И все же только Бог исполняет и венчает это послушание, принятие и любовь. «Дух Святой найдет на тебя и сила всевышнего осенит тебя… Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» (Лк. 1 : 35–37). Он один являет Девой ту, которая отдала Ему всю полноту человеческой любви. Мария — Матерь. В материнстве исполняется женственность мира, любви, как послушания и ответа. Отдавая себя, любовь дарует жизнь. И она не нуждается в оправдании. Она не только потому благо, что дарует жизнь, а потому жизнь дарует, что сама есть величайшее благо, данное человеку. И потому для веры —тайна материнства Марии не противоречит тайне ее приснодевства. Это одна и та же тайна. Материнство Марии — не «несмотря» на ее девственность. Одно исполняется в другом, ибо есть полнота одной и той же Божественной любви.
Мария — Мать Христа, сына Божьего, вочеловечившегося «нас ради человек и нашего ради спасения». И вся Церковь и все творение радуется о ней, потому что она являет тайну спасения как соединения со Христом, принятие Им нашей жизни, дарование Им нам своей жизни… И незачем опасаться, что эта радость о Марии, пронизывающая собою всю жизнь Церкви отнимает что–то у Христа, отвлекает наше внутреннее внимание от Него. Ибо не о каком–то «культе Марии идет здесь речь, а о том, что в Марии «культ Церкви» становится движением радости и благодарения, принятия и послушания, обручением Христу.
3.
Мы можем теперь вернуться к таинству брака. Ибо в свете сказанного понятным становится, что истинный смысл и сущность его не в том только, чтобы дать «религиозную санкцию» на брак и на семейную жизнь и подкрепить семейные добродетели сверхъестественной благодатью. Сущность таинства этого в том, что «естественное» супружество оно вводит в «великую тайну Христа и Церкви», наделяет супружество новым смыслом. И преображает оно не только супружество как таковое, но и всю человеческую любовь.
В ранней Церкви особого чина бракосочетания не существовало. Брачущаяся пара получала благословение Епископа, само же таинство совершалось участием ее в Евхаристии и причастием Св. Крови и Плоти Христовым. Затем, по мере включения Церкви в жизнь общества и взятия ею на себя «религиозно–социальных» функций — записи крещений, погребений и т. д. — постепенно возник и развился, сначала обряд обручения, а затем и чин венчания.
Даже и теперь, когда связь между таинством брака и Евхаристией де факто утеряна, служба бракосочетания распадается и по смыслу и по форме на два чина. Обручение совершается не в самом храме, а в притворе. Священник благословляет кольцами, которыми затем обмениваются жених и невеста. Кольца, как символ брака, существовали задолго до христианства, так что «обручение» есть как бы «христианизированная» форма брака дохристианского, который поэтому и совершается в притворе. Однако, с самого начала Церковь относит брак к христианскому его содержанию: «Господи, Боже наш, —- возглашает священник, — Предобручивый Церковь — как чистую деву из язык, Благослови обречение сие И соедини это обручение И сохрани рабов Твоих в мире и единомыслии…»
Это естественный брак, имеющий быть соединенным со Христом в великой тайне Христа и Церкви». Но и он — от Бога, от «добро зело» Божественной любви.
После обручения священник торжественно вводит брачущихся в храм и ставит их в самом центре его. Это вхождение, в сущности, и есть основная форма таинства. Ибо, как сама Церковь исполняет себя в евхаристическом восхождении «на небо», к трапезе Христовой, так и таинство брака совершается тем же восхождением, тем же возношением этого брака в духовную реальность царства Божьего. С торжественного благословения Царства и начинается священнодействие. Сначала читаются три длинных молитвы, в которых как бы поминается перед Богом все измерения совершаемого таинства — от создания мира до наших дней. Это райское происхождение мира. Это — царское достоинство человека. Это — создание жены Адаму, это перечисление ветхозаветных и новозаветных семей и их места в приуготовлении пришествия в мир Христа. Слушая эти молитвы, мы понимаем космические и эсхатологические измерения таинства, величие и красоту брака, как не только «семьи», но и как участия в спасительном деле Христовом.
Завершаются эти молитвы, это благодарение и ходатайство венчанием. Обычай этот возник сравнительно поздно, но как нельзя лучше выражает и поистине венчает суть брака, раскрытую в молитвах.
«Господи, Боже наш, славою и честию венчай я (их)!» — возглашает священник, возлагая венцы на новобрачных. Это, во–первых, слава и честь человека как царя творения — «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею и владычествуйте…» (Быт. 1,25). И действительно, каждый брак, каждая семья есть, пускай и маленькое и незаметное, царство. Я всегда думаю об этом, проезжая вечером через пригороды и смотря на тысячи, десятки тысяч светящихся окон огромных городских зданий. Они все одинаковы, но вот за каждым из них — чье–то особое, свое царство. На деле оно может быть адом и смертью. Но может и не быть. Этот шанс может быть упущен в первый же день. Но в момент возложения венцов возможность эта еще существует. И, если несмотря на все падения, продолжают жить муж и жена вместе, хоть плохо, но» вместе и друг для друга, они, пускай и невидимо для мира, да и для самих себя, остаются «царством». В журналах и кинофильмах «образ супружества» — это всегда молодая, красивая пара, только что длинным поцелуем «начавшая» свою брачную жизнь. Но я помню, как однажды в погожий осенний день я увидел в сквере парижского рабочего предместья на скамейке престарелую и очевидно бедную пару. Они сидели молча, взявшись за руки, и так явно наслаждались бледным светом и теплом этого осеннего вечернего дня. Они молчали, все слова были сказаны, страсти изжиты, бури утихомирены. Жизнь была позади, но она была сейчас и здесь — в этом молчании, в этом свете, в этом тепле, в этих безмолвно соединенных руках. Это была жизнь, готовая для вечности, созревшая для радости. И это навсегда осталось для меня образом брака, его поистине небесной красотой…
И еще означают брачные венцы славу и честь мученичества. Ибо путь к Царству всегда мученичество, т. е. подвиг свидетельства о Христе (мученичество — этим словом переводят славянские церкви греческое слово martyria— свидетельство). Наше время есть страшное время распада семьи, все умножающихся разводов, все более частых уходов детей из семьи. И это потому, что от брака так сказать требуют «счастья» и при малейшей трудности бегут в развод, забывая, что брак, если понимать его по–христиански, есть всегда подвиг, всегда борьба, всегда усилие. И только Крест Христов может преодолеть нашу слабость и наше малодушие, но «крестом прииде радость всему миру» и тот, кто испытал это, знает, что супружеский обет дается не «покуда разлучит нас смерть», а покуда смерть и переход в вечность не соединит навеки.
А отсюда и третий, последний, смысл венцов — это венцы царства, символ, знак, предвосхищение той последней реальности, того, чем стало все в «мире сем» во Христе. И, снимая венцы, священник молится: «Восприми венцы их во Царствии Твоем нескверны, и непорочны, и ненаветны соблюдали, во веки веков…»
«Общая чаша», из которой новобрачные пьют вино сразу после венчания, в наши дни объясняется, как символ «общей жизни». На деле, чаша эта осталась символом завершения бракосочетания — участием новобрачных в Евхаристии и причастием Тела и Крови Христовых. Увы, ни одно таинство так не десакрализовалось, как именно таинство брака, благодаря выпадению его из Евхаристии. Причастие перестало восприниматься как последняя печать исполнения супружества во Христе.
Завершается бракосочетание процессией. Взявшись за руки, новобрачные, ведомые священником, обходят трижды аналой, на котором лежат крест и евангелие. Круг — это всегда символ вечности, в эту вечность, к этому концу, претворяемому в начало, и направлен брак, там — в Царстве Божием — конечная цель и исполнение брака, как и всей нашей земной жизни.
4.
Смысл таинства брака, как таинства любви ни в чем так ясно не выражается, как в его литургическом сходстве с рукоположением священника, с таинством священства. На этом сходстве, вернее, на смысле его, я и хочу остановиться, заканчивая эту главу.
Века «клерикализма», т. е. безраздельного владычества в Церкви и над Церковью духовенства, постепенно в сознании мирян превратили священнослужителя в некое «особое существо», коренным образом отличное от мирян. Это последнее слово заменило собою древнее наименование не состоящих в церковном клире верующих лаиков (от греческого лаикос, т. е. принадлежащих к народу Божиему — лаос. Слово лаикос — положительное, а слово «мирянин» — отрицательное, ибо означает оно, прежде всего, не принадлежность мирянина к священству. В ответ на это, уже в нашу эпоху, в церкви стал нарастать — «антиклерикализм», своего рода восстание против духовенства и борьба за «права» мирян в Церкви.
Все это весьма печально, ибо вносит в Церковь разделение, а главное, глубоко искажает церковное сознание и само понимание как «духовенства», так и «мирянства». Прежде всего искажается тут подлинный смысл священства. Выше мы неоднократно говорили о священстве, как — вместе с царственностью и пророчеством — составляющем сущность человечности, человеческого призвания в мире, как о принесении Богу жертвы хваления и, тем самым, претворении мира в общении с Богом. Это «царственное священство» дано в Церкви всем: «но вы, — обращается Ап. Петр к Церкви, — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел…» (1 Петр. 2,9–10). И только по отношению к этому всеобщему и царскому священству и можно понять место и смысл в Церкви священства, которое, в отличие от всеобщего и царского священства, можно определить как священство институциональное. Это священство есть священство Христово, продолжение и актуализация Его личного служения, которым Он спасает мир.
Для этого служения Христос сам призвал Двенадцать Апостолов, а они рукоположили других, причем цель и содержание этого священства в заботе о Церкви, в сохранении полноты ее. И поскольку, повторяю, это священство Христово, то и совершение таинства поручено тем, кто в это священство Христово посвящен, кому оно поручено. И если в Церкви поставлены священники, если нет Церкви без этого священства Христова, то назначение его в том, как раз, чтобы во всяком человеческом призвании раскрыть его «священническую сущность», сделать так, чтобы жизнь каждого человека стала «литургией», служением Богу и Его делу в мире. И священники необходимы, потому что и Церковь и все мы все еще в «мире сем», который как «мир сей» Царством не станет. Церковь — «в мире сем, но не от мира сего». И потому ни одно призвание «в мире сем» не может исполнить себя, как священство, и следовательно, должен существовать некто, чье особое призвание состоит в том, чтобы не иметь никакого призвания, кроме свидетельства о Христе и сохранения полноты Церкви.
Никто не может сам себя «сделать» священником, «заслужить» это своими талантами, знаниями, качествами и т. д. Это призвание всегда приходит свыше — по Божественному предопределению и повелению. «Паси агнцы Мои, паси овцы Моя…» И не «священство», как какую–то особую силу принимает священник при рукоположении, а дар Христовой любви, той любви, которая сделала Христа единственным Священником и которая этим единственным священством наполняет тех, кого Он посылает Церкви.
Вот почему таинство рукоположения в каком–то смысле тождественно таинству брака. Оба таинства суть таинства любви, как содержания жизни и как содержания Царства. Как каждый брак возносится в тайну Христа и Церкви, точно также в тайну эту возносится и священство.
И последнее замечание: одни из нас состоят в браке, другие — нет. Одни призваны к священству, другие нет. И все же таинство брака и священства касаются всех нас, относятся ко всем. Ибо они являют нашу жизнь как призвание следовать Христу в полноте его Любви.
Одноименная глава книги: Протоиерей Александр Шмеман. За жизнь мира. М.: «Весть»
Церковь после апостолов
Десятилетия, отделяющие апостольское «начало» Церкви от середины II в., оставили нам очень мало памятников. Мы почти ничего не знаем о росте Церкви, о первоначальном развитии ее организации, учения, богослужения. Это дало возможность всевозможным «реформаторам» христианства или же «научной» критике строить об этой эпохе всевозможные гипотезы, по–своему восстанавливать и толковать ее. В ней обязательно хотели усмотреть какую–то «метаморфозу» Церкви, разрыв с первоначальной «идеей» христианства, отраженной в Евангелии. Организованная Церковь с иерархией, учением, дисциплиной — какой мы снова видим ее в середине II в. — есть–де продукт всех этих кризисов, «применения» к социальным условиям. Расплавленная, расплывчатая вера волей–неволей отлилась будто бы в формы мысли той эпохи, «эллинизировалась», отразила в себе влияние и потребности принявшего ее общества.
Но в последнее время все эти теории все очевиднее вскрывают свою несостоятельность. И со все большим вниманием вслушиваются ученые в голос предания Церкви, еще так недавно представлявшегося им тенденциозной, почти злонамеренной выдумкой. Евангелие невозможно, оказывается, отделить от Церкви: оно в ней и для нее написано, есть свидетельство о вере Церкви, о ее живом опыте, и вне этого опыта его нельзя понять. Отрывки молитв, знаки и символы на стенах катакомб, несколько посланий одних Церквей к другим — все это оживает сейчас в новом свете, раскрывается как единое развитие, а не чередование кризисов и разрывов. Не записанное могло таинственно жить и сохраняться в непрерванной памяти Церкви, в самой ее жизни, и быть записанным иногда лишь столетиями позже. Так все очевиднее становится, что Церковь и есть первичная сущность христианства, что не ее нужно «восстанавливать» и «оправдывать» на основании дошедших до нас отрывков, а что только в ней, то есть в признании ее «первичности» сами эти отрывки приобретают смысл и могут быть правильно истолкованы. Начав с разрушительной критики церковного Предания, наука приходит постепенно к обратному результату: утверждает это Предание как самый надежный, самый авторитетный источник наших знаний о прошлом христианства.
Что же мы знаем об этих первых десятилетиях, об этих церквах, рассеянных теперь по всей Римской Империи?
Опять, как и в самый первый день в Иерусалиме, мы прежде всего видим христиан, «собранных в Церковь» — для Крещения и Евхаристии. Этой двуединой мистерией: рождением от воды и Духа и преломлением хлеба определяется вся жизнь Церкви и жизнь каждого из ее членов. Это не один из «аспектов» церковной жизни, не просто богослужение, это источник, содержание и вершина всего в Церкви, само сердце «первохристианства».
«Христианами не рождаются, а становятся», — эти слова Тертуллиана объясняют нам, почему о крещении и евхаристии больше всего говорят редкие памятники той эпохи. Христианами становились. А это значит, что в памяти каждого из них не мог не быть запечатлен тот день, когда после таинственного роста семени, брошенного в душу проповедью, после сомнений, проверок, мучений — он подходил, наконец, к воде Таинства. В ней должна была умереть старая жизнь, чтобы началась новая. В ней давалось сразу все: прощение грехов, соединение со Христом, уверенность в смерти самой смерти, опыт воскресения и вечной радости, которой никто уже не мог отнять. И все это было не абстракцией, не «идеологией», а действительностью: выйдя из святой воды, новокрещенный не оставался один. Она вводила его в братство, в единство любви, в непрестанное общение. Таков вечный смысл Евхаристии: всегда через Христа с братьями. Один Хлеб, одна Чаша, разделяемые всеми и всех соединяющие в одно. Воспоминание, претворяемое в действительность; ожидание — в Присутствие. И как должны были звучать тогда слова Благодарения, дошедшие до нас из этой древней юности Церкви, которые произносил предстоятель над принесенными дарами: «Благодарим Тебя, Отче наш, за жизнь и вéдение, которые Ты явил нам через Своего Отрока Иисуса. Тебе слава во веки. Как этот хлеб был рассеян по холмам и, будучи собран, стал единым, так да будет собрана Церковь Твоя от концов земли в Твое Царство <…> Помяни ее, чтобы избавить ее от всякого зла и усовершить ее в любви Твоей, собери ее освященную, от четырех ветров в Свое Царство, которое Ты уготовал ей».
От воскресения до воскресения, от Евхаристии до Евхаристии: вся жизнь крещеного была отныне отмечена этим ожиданием собрания, встречи, общения, радостного исполнения любви. Пускай внешне все осталось по–прежнему, пускай делами и заботами была, как и раньше, наполнена жизнь. В опыте Крещения и Евхаристии все теперь освещено было новым светом, наполнено новым смыслом, преображено любовию. Каждый день, всякое дело в нем, были шагом на пути к последней победе Грядущего Господа, каждое собрание уже предвосхищало конечное единство в любви — за трапезой в невечернем дне Царства.
И потому только евхаристическим собранием — этим средоточием общины — и можно по–настоящему объяснить само устройство Церкви, «организационный» аспект ее жизни. Только в свете Таинства эта организация воспринимается христианами не как простая, человеческая организация — с начальством и подчиненными, авторитетом и послушанием, а как живой организм, напоенный Духом Святым. В нем все человеческие «служения», все человеческие взаимоотношения становятся проявлением того же и единого Духа, служением Самого Христа в братьях Своих.
Во главе общины стоит Епископ. Его власть совсем особенная. Поставленный апостолами или их преемниками — другими епископами, он для своей Церкви есть образ Самого Христа — Главы и Источника всей ее жизни. Без него ничего не должно делаться в Церкви, потому что его служение, его особый дар в том и состоит, чтобы собрание христиан через Таинства преображалось в Тело Христово, соединяясь в неразрывное единство новой жизни. Он совершает крещение, приносит Евхаристию, раздает Дары в собрании. А со властью совершать Таинство неразрывно связана и власть учительства: он учит в собрании не от себя, а в Духе; он хранитель апостольского предания, свидетель вселенского единства Церкви. И из того же источника вытекает и дар пастырства: епископ — как Христос — имеет заботу о всех вместе и о каждом в отдельности, он — живое средоточие братства и общения христиан между собою. «На епископа нужно взирать, как на самого Господа, — пишет св. Игнатий Антиохийский (начало II в.), — ибо епископы, поставленные до концов вселенной, одно с Духом Иисуса Христа». Поэтому: «ничего не делайте без епископа в церкви. Только та Евхаристия действительна, на которой он предстоит или им поставленный. Всюду где епископ, пусть там будет и община, подобно тому как где Христос Иисус, там и кафолическая Церковь».
Епископу в управлении церковью помогают пресвитеры — «старейшие». Если епископов св. Игнатий уподобляет Христу, то в пресвитерах видит он апостолов. Поставленные, рукоположенные епископом, они помогают ему во всем, передают общине его учение, заботу, распоряжения. Христианство распространялось сначала почти исключительно по городам, и потому первоначальная Церковь - это именно городская община, собрание христиан в одно место вокруг епископа. Позднее, когда число христиан увеличится и такое единое собрание станет невозможным, городская община как бы выделит из себя сеть подчиненных ей пригородных общин, или «приходов». Тогда пресвитеры заменят в них епископа, станут его полномочными представителями, как бы связующим звеном между ним и приходом. Таким образом через таинство епископского рукоположения все общины сохраняют свою органическую связь с Епископом как благодатным «органом» церковного единства.
За епископом и пресвитерами следуют диаконы — «служители». Они — «уши», «руки», «глаза» епископа, его живая связь с его народом. Сейчас почти совсем забыто «социальное» содержание общины. Единство современного прихода ограничивается богослужебным собранием. Но в ранней Церкви единство в богослужении было неотрываемо от самой реальной взаимопомощи, братства, общей заботы о бедных, о вдовах, о погребении братьев, о сиротах. Нельзя участвовать в приношении Евхаристии, не принося реально своего «дара»: хлеб, претворяемый в Тело Христово, отделяется от того «насущного» хлеба, от тех плодов, что приносят христиане в собрание — для общей трапезы и в помощь неимущим. И это не милостыня, не благотворительность, а первейшее условие самой христианской жизни. На диаконах же лежит забота о распределении даров, о помощи бедным, об организации «агап» — вечерей любви, словом, о том действительном единстве христиан, которое вытекает из их общения в таинстве.
Но если, по словам св. Игнатия Антиохийского, «без епископа, пресвитеров и диаконов нет Церкви», это не значит, что одна иерархия «активна» в ней. Каждый член ее имеет свое служение и все они дополняют друг друга в нерасторжимом единстве. «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же <…> производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу <…> Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, — так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело <…> и все напоены одним Духом» (1 Кор 12:4–7,12–13). Вот этот идеал целого, в котором оно не подчиняет себе личности, но сама личность раскрывается, находит себя только в служении братьям, и есть идеал ранней Церкви, в свете которого нужно понимать различные формы ее организации.
Уже в посланиях апостола Павла слово «Церковь» употребляется для обозначения как каждой отдельной общины, так и всех вообще христиан — то есть Церкви всемирной. И это так потому, что каждая община, как бы ни была она малочисленна, в единстве епископа, клира и народа сознает себя как воплощение всей Церкви, всего Тела Христова в этом месте, явлением и пребыванием — здесь — единого Христа. Каждая такая местная церковь убеждена в тождественности своей веры, своего учения, своей жизни с верой, учением и жизнью всех других церквей, «рассеянных до концов вселенной». Куда бы ни пришел христианин, он всюду найдет тот же преломляемый Хлеб — «раздробляемый, но не разделяемый», услышит то же благовестие, «включится» в то же единство. Один и тот же Христос всюду собирает братьев и во всей полноте Своей жизни и Своих даров присутствует среди них. Все церкви имеют один источник и одну норму: апостольское предание; каждая может через своих епископов возвести себя к первому явлению Церкви: к чуду Пятидесятницы и к Иерусалимской первообщине, поэтому каждая в отдельности и все вместе имеют одну неразделимую жизнь и связаны одной любовью.
И это вселенское единство всех церквей в свою очередь также выражается в постоянном контакте, в непрерывной заботе всех о всех. Антиохийский епископ Игнатий своими посланиями предупреждает другие церкви против возникающих лжеучений, епископ Поликарп из своей Смирнской церкви пишет Филиппийцам и едет в Рим, чтобы решить вопрос о праздновании Пасхи, римские христиане заботятся об умиротворении Коринфской общины… Христиане всюду сознают себя новым народом, собранным из всех народов, но от всех отличным: «Они не живут в отдельных городах, — говорит послание к Диогнету, анонимный первохристианский памятник, — они не имеют особого языка или отличной от других жизни <…> Они обитают каждый в своем отечестве, но как бы временно. Ибо всякая чужбина для них отечество, и всякое отечество чужбина».
Конечно, еще далеко от окончательного «оформления» церковного устройства. В разных Церквах употребляются разные слова, наименования, определения. Но и за этой словесной неустойчивостью так очевидно вырисовывается стройный контур кафолической — то есть вселенской и единой Церкви. Она будет расти и развиваться. Но это рост жизни, рост дерева из семени, брошенного в землю, а не игра исторических случайностей, к какой так часто хотели это развитие свести.
Опубликовано в «Канадском Православном календаре на 1964 г.» (Торонто)
Школа русского богословия
В итоге средневековой драмы и всех несчастий, постигших православную Церковь на Востоке, богословие, как живая культурная и школьная традиция, было прервано. Голубинский говорит даже, что древнерусские богословы были всего лишь грамотеями, но это неверно. До татарского нашествия на Руси начала нарождаться своя оригинальная традиция. Профессор Федотов в книге «The Russian Religious Mind» доказывает, что именно Киевская, а не Московская Русь, есть золотой век русской православной культуры. Его можно определить как побеги византинизма, привитые на русской почве. О том же говорит и прот. Г.Флоровский в «Путях русского богословия».
Как русский язык, или, вернее, славянский, был осколком греческого, так и русская душа была, по выражению проф. Вейдле, как бы оформлена византийской культурой — благодаря значительнейшему культурному акту Кирилла и Мефодия, составивших славянскую азбуку и переведших греческие книги на славянские языки. Такие слова, как «благодушие», «благообразие», которым нет эквивалента в западных языках, суть слова, переведенные с греческого и являющиеся отображением греческой стихии и греческого способа мышления. И если в домонгольский период Русь не успела создать своей богословской системы, то она, во всяком случае, была близка к этому. Есть много свидетельств того, какие замечательные побеги дало в православной культуре крещение русского народа. Наличие одного такого произведения, как «Слово о полку Игореве», уже показывает, как высоко была в то время способна подняться русская душа.
Исторические события сделали из России военно–сторожевую цепь, которая, волею судьбы, защищала Европу от вторжения азиатских орд. Это превратило Россию в тоталитарное государство с крепостным правом и всеми его последствиями, за спиной которого Западная Европа могла продолжать благодушно развиваться. В России же всякое самостоятельное развитие мысли было прервано. Оставались живая вера и благочестие русского народа, чему свидетельством является как сонм русских подвижников, оставивших нам свой опыт богопознания, так и русская икона, показывающая, что опыт Церкви продолжал питать русские души изнутри, несмотря на отсутствие школьного опыта. Результатом этого явился религиозный крах, ознаменовавшийся в XVII в. старообрядчеством. Старообрядчество было именно продуктом отсутствия у нас богословской науки, богословского размышления. Сейчас споры о том, как писать: «Исус» или «Иисус», могут показаться нелепыми. На самом же деле, старообрядчество имело законченную систему, которую нельзя было трогать без того, чтобы она не разрушилась и не потеряла ценность.
Таким образом создавалась особая русская культура, в которой отсутствует школьное богословие, но зато имеется прекрасное, законченное богослужение, канон иконы, освященный быт. Но так долго продолжаться не могло (что и показало старообрядчество), и еще задолго до Петра начались встречи с Западом, сближение с которым Петр лишь завершил. Уже при Алексее Михайловиче Россию наводняла масса европейцев и назревал кризис культуры, ознаменовавшийся таким бурным переломом. И тут, на его пороге, произошла богословская встреча с западным христианством.
Эта встреча имела место в Киеве. Западнорусское христианство было поставлено в другие условия, нежели те, которые существовали в Москве, выдерживая напор воинствующего богословия католиков и протестантов, продукта недавней Реформации. Польшу наводнили иезуиты, в связи с чем в Малороссии очень рано почувствовалась необходимость сражаться за свое православие. Стали выковываться богословские школы, т. к. со стоявшими на большой богословской высоте иезуитами надо было сражаться тем же оружием. Большую роль в этой борьбе сыграла Киевская академия, связанная, в свою очередь, с именем Петра Могилы. Он создал свою школу, которая получила известность как «могилянское богословие». Шляхтич Могила много лет учился у иезуитов и был проникнут этой системой и даже манерой думать, богословие в Киевской академии преподавалось по–латыни. Вследствие этого Петр Могила ввел в свою защиту православия западную манеру. Но, несмотря на это, православие в Киеве было очищено и защищено от ереси римского католицизма.
В XVII в. многие киевские ученые приезжают в Москву. Среди них наиболее выдающимися могут считаться Симеон Полоцкий и Вишневецкий, продукты ополяченного дворянства, явившиеся родоначальниками первой духовной школы, открытой в Москве. Вскоре там открывается и академия, которая получила название «словено–греко–латинской»; преподавание в ней, так же, как и в киевской, велось на латинском языке. Ее возникновение положило начало целой сети духовных академий, семинарий и школ, покрывшей всю Россию. Система преподавания в них была целиком перенята с Запада; еще сто лет назад, до середины XIX в., наши сельские священники учились по–латыни. Митрополит Филарет Московский всю свою «богословию ", как тогда выражались, учил на этом языке. От языка же многое зависит. Поэтому, как говорил о. Г.Флоровский, люди «молились по–славянски, а думали и богословствовали по–латыни». Язык Церкви стал не языком школы, а язык школы не языком Церкви, в результате чего между ними возникло разделение, и школу приучились искать на Западе. Даже фамилии поступавших в духовные семинарии студентов переделывали на латинский лад (например, Беневоленский, Бенедиктов, Бенефактов); отсюда пошли как «поповские» фамилии, так и особый «поповский» язык. Само слово «семинария» было взято с Запада. Оттуда же был взят и весь особый мир духовной школы, и между ним и жизнью Церкви получился разрыв.
Богословие, которое сложилось в результате этих влияний, можно охарактеризовать двумя чертами.
Во–первых, это специфически школьная наука без намека на другую, кроме развития ума, роль, что является чисто западным влиянием. Для святых отцов богословие не есть лишь наука, но нечто иное. В семинариях же того времени целью ставилось просто приобретение некоторого запаса знаний. Все старые школьные богословские учебники, катехизисы писались под влиянием западной традиции. Она ощущается в этой области и по сей день, начиная с системы вопросов и ответов наших катехизисов: «Что есть Закон Божий?» — задается вопрос ребенку.
Во–вторых, в это школьное богословие проникло и содержание западного богословия. Суть знаменитой диссертации Самарина, посвященной Феофану Прокоповичу и Стефану Яворскому, сводится к тому, что Яворский–католик и Феофан–протестант крушили друг друга, один — католическими, а другой — протестантскими аргументами, и о православии мыслили с протестантско–католической точки зрения. Даже такая фигура, как святитель Тихон Задонский, пользовалась книгами западного богословия, например, «Подражанием Христу» Фомы Кемпийского или работами Арндта. И если Тихон Задонский сумел переварить эти западные влияния, то исключительно благодаря тому, чем билось его сердце, как внутренне православного человека. Архиепископ Димитрий Ростовский тоже перенес на себе влияние западного богословия.
И все–таки, попадая на русскую православную почву, методы западного богословия оставались чуждыми духу Православия, даже если и воспринимались умом. Сам же ум, однако, формировался как тем, каким образом ставились богословские вопросы, так и тем, какие ответы давались на них. Возьмем, например, догмат искупления, один из центральных догматов нашей веры. Кому была принесена жертва Христова? — задает вопрос западное богословие. Отцы Церкви так вопроса бы не поставили. Но такая постановка вопроса до сих пор может быть присуща православному сознанию, чему примером служит хотя бы книга на тему об Искуплении, написанная недавно митр. Антонием Храповицким. То же можно сказать и по поводу других вопросов нашей веры. Каковы атрибуты Бога? Каковы свойства Божьей справедливости? и т. е. — подобного рода схоластическая постановка вопросов искажала то, что было выращено Православием, и постепенно удаляла русских богословов от истоков православного богословия.
Подлинное Православие оставалось жить в быту. Никому до собора 1917 г. не приходило в голову, что богослужение само по себе (литургия или всенощное бдение) может быть источником богословия, — настолько ум привык искать его лишь в учебниках. Но надо отдать справедливость поколению Бенефактовых и Туберозовых, над которым теперь подсмеиваются, — если бы его представители, увлекаясь «модным» богословием, забыли то, что хранилось их предками, может быть, до нас бы и не дошло все ценное, что мы имеем сейчас. Ибо, несмотря на западные влияния, это поколение сохранило для нас — через быт и богослужение — нечто исконно православное, что легло в основу нашего школьного богословия, пусть и облеченного в то время в латинские одежды.
Помимо латинских каналов, по которым к нам проникало школьное богословие, была еще вторая струя школьного богословия, которую можно назвать богословием светским. Постепенное выделение священства в особую касту было естественным следствием распределения по сословиям всего русского населения (факта, скрепленного даже государственным законом). Единство культуры и Церкви, которое существовало на Московской Руси, нарушилось. Русская культура после пресловутого окна в Европу, прорубленного Петром, была поставлена на другие рельсы. От Церкви же оставалась скорее ее бытовая сторона, и никто не связывал с ней какой–либо культурной проблематики. В середине XIX в. в связи с философским пробуждением в Германии, под влиянием Фихте, Гегеля, Шеллинга в России тоже начинается пробуждение философских интересов. В 40–х годах не Саровская пустынь привлекает русскую интеллигенцию и является для нее духовным центром, а Берлинский университет, где кафедру философии занимают представители идеалистического направления в немецкой философии. Сами проблемы идеалистической философии ставятся так, что рождают вопросы историософского характера: о смысле исторического процесса, о задачах отдельных стран и народов (см. Чижевский «Гегель в России»). И молодые русские студенты, окружавшие кафедры немецких профессоров, начинают задумываться над судьбами России и ее загадкой. Появляются славянофилы и западники, старавшиеся, каждый по–своему, дать ответы на вопросы, волновавшие современные русские умы. Славянофилы (А.С.Хомяков и др.) считали, что судьба России неотделима от Православия; западники (В.Г.Белинский и пр.) думали, что судьба России должна быть слита с судьбами западных стран. Так германская философия совсем по–новому оплодотворяла русскую мысль. Этим путем прошли сначала старшие, а потом и младшие славянофилы. Русская интеллигенция стала интересоваться Церковью, и, начиная с А.С.Хомякова, у нас появляется светское богословие (Владимир Соловьев и уже в наши дни — Н.Бердяев, о. С.Булгаков). Таким образом, любящие противопоставлять А.С.Хомякова и др. «гнилому Западу», неправы, ибо они забывают, что само славянофильство выросло из западной философии.
Одним из волнующих фактов, происшедших на наших глазах, явилась встреча путей, бывших столь долго разъединенными: пути Церкви и пути культуры. Произошло это в апокалиптические годы русской революции, и в наши дни мы видим сочетание священства и профессуры в одном лице (например, о. В.Зеньковский), как некий символ участия русских культурных сил в жизни Церкви.
Богословие не является чем–то раз и навсегда готовым и очерченным, как бы упавшим с неба. Оно есть продукт непрерывного творческого процесса, который можно охарактеризовать как «творимая современность». Богословие всегда будет зависеть как от наших духовных потребностей, так и от степени слияния его с православной Церковью и проникновения той Истиной, которую Церковь с собой несет.
Протоиерей Александр Шмеман. Введение в богословие.
Курс лекций по догматическому богословию 1949–1950 гг.
Православный Свято–Сергиевский Богословский Институт в Париже.
Дети и Церковь
Как правило, детям нравится ходить в Церковь, и это инстинктивное влечение и интерес к церковному богослужению должны быть тем фундаментом, на котором строится наше религиозное образование. Когда родители беспокоятся, что дети не смогут выстоять всю службу и жалеют их, они подсознательно выражают чувства не своих детей, а свои собственные. Дети намного легче, чем взрослые, проникают в мир обрядового, литургического символизма. Они чувствуют и понимают атмосферу церковного богослужения. Опыт святости, чувство встречи с Тем, Кто над повседневной жизнью, mysterium tremendum (священный трепет), который лежит в основе всех религий и является центром нашего богослужения, более понятны детям, чем нам. «Будьте как дети», — эти слова обращены к восприимчивости, непредубежденности, естественности, которые мы теряем, вырастая из детства. Как много людей отдают свою жизнь служению Богу и посвящают себя Церкви, потому что из своего детства вынесли они любовь к дому молитвы и радость литургического общения! Поэтому первая обязанность родителей и воспитателей — «пустить детей и не препятствовать им» (Мф. 19: 14) приходить в Церковь. Прежде всего, в Церкви дети должны слышать слово Божие. Находясь в школьном классе, это слово трудно понять, оно остается абстрактным, но в церкви оно «в своей стихии». В детстве у нас есть возможность понимать, не умом, но всем существом, что нет большей радости на земле, чем быть в Церкви, принимать участие в церковных богослужениях, вдыхать благоухание Царства Небесного, которое «мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14: 17).
Посещение Церкви должно с первых дней дополняться домашней атмосферой, которая предваряет и продолжает внутреннее настроение Церкви. Например, воскресное утро. Как ребенок сможет почувствовать святость этого утра и того, что он увидит в Церкви, если дом наполнен шумом радио или телевидения, родители курят и читают газеты и царствует общая профанирующая атмосфера? Идти в Церковь нужно с чувством собранности, спокойно и очень серьезно. Свет лампад перед иконами, чтение Евангелия, чистая и свежая одежда, празднично убранные комнаты — так часто родители не соблюдают этих необходимых форм религиозного понимания ребенка, которые оставят такой след, что его потом не изгладят любые бедствия. Накануне вечером и в воскресные дни, а также в дни церковных праздников, на протяжении Великого Поста, в те дни, когда мы готовимся к Исповеди и Причастию, дом должен напоминать Церковь, должен быть освещен светом, который мы приносим с собой с богослужения.
И еще давайте поговорим о школе. Для меня кажется само собой разумеющимся, что проведение так называемой «Воскресной школы» в дни Божественной Литургии находится в глубоком противоречии с духом Православия. Воскресная Литургия — это радостное собрание церковной общины, и ребенок должен знать и чувствовать это задолго до того, как он постигнет глубинный смысл этого собрания. Мне кажется, что воскресенье — не лучший день для занятий в церковной школе. Воскресенье — это, прежде всего, литургический день, поэтому он должен быть связан в первую очередь с Церковью, с Литургией. Намного лучше будет провести занятия в субботу перед Всенощной или Вечерней. Тот аргумент, что родители не могут приводить детей в церковь два раза в неделю, просто свидетельствует о лености и греховной небрежности по отношению к тому, что так важно нашим детям. Субботний вечер — это начало воскресенья, и он должен быть литургически освящен, как и воскресное утро. Ведь поэтому во всех православных церквях во всем мире Вечерня и Всенощная служатся вечером накануне праздников и воскресенья. И нет причин, по которым мы не сможем устроить нашу церковную жизнь по тому же укладу: школа — Вечерня — Литургия, когда школа будет для детей необходимой подготовкой и введением в День Господень, Его Воскресение.
Пер. с английского Наталии Безбородовой
notes
Примечания
1
Все иное. — Прим. пер.
2
А оно нигде так наглядно не проявляется, как в классическом аргументе живущих по старому календарю: 25 декабря мы вполне можем отмечать секуляризованное западное Рождество — собираться за праздничным столом под елкой, дарить подарки, а 7 января у нас будет наше, настоящее, церковное Рождество. Приверженцы такого взгляда, конечно, не понимают, что если бы ранняя Церковь могла разделить такое понимание ее отношения к миру, она никогда не установила бы праздник Рождества, целью которого было заменить, преобразовать и христианизировать существующий языческий праздник.
3
Более подробно об этом см. в приложении 2 к 4–му изданию книги о. Александра Шмемана «За жизнь мира» — «Таинство и символ«. — Прим. ред.
4
См.: Протопресвитер А. Шмеман «Введение в литургическое богословие» (Киев: «Пролог», 2003).
5
Здесь и далее под «leitourgia» подразумевается общественное служение Церкви в широком смысле. Говоря о богослужении, в том числе я о Божественной литургии, автор использует термин «liturgy».
6
Ср.: Nicolas Afanassiev (прот. Николай Афанасьев). Le Concile dans la theologie orthodoxe nisse // Irenikon. 35 (1952). P.316—339.
7
Евсевии. Церковная история, V, 16, 10.
8
Покровский А. И. Соборы первых трех веков. Сергиев Посад, 1914. С. 14.
9
См. мою статью «The Idea of Primacy in Orthodox theology» в кн. «The Primacy of Peter», L. The Faith Press, 1963. P. 30—56.
10
См. мою статью «Богословие и Евхаристия» // St. Vladimir's Theological Quarterly. Vol. 5. (1961). № 4. P. 10f. — Примеч. автора.
11
Ibidem. P. 14.
12
епископ в Церкви и Церковь в епископе (лат.).
13
Подразумеваются церковные общины главных городов римских провинции.
14
См. цитированную выше статью «Idea of primacy in Orthodox Ecclesiobgy».
15
Католический историк M. Jugie так определяет цезаропапизм: «Le cеsaropapisme, comme le mot l'indique, c'est Сеsar, c'est l'Etat totali taire s'adjugeant un pouvoir absolu aussi bien sur le temporel, ignorant pratiquement la distinction du pouvoir civil et du pouvoir spirituel, ou tout au moins subordonnant celui–ci 9а celui–l9а». (Le schisme byzantin. Paris, 1941. P. 3).
16
Pargoire J. L'Eglise byzantine. Paris, 1923.
17
Cesaropapismi vero doctores imperatores habent ut visibile Ecclesiae supremum caput in ordine regiminis et jurisdiсtionis ab ipso Deo et Christo constitutum. M. Jugie. Theologia dogmatica Christianorum orientalium. Paris, 1931. T. IV. P. 605.
18
См., например: Лебедев А. П. Очерки истории Византийской Восточной Церкви.
19
Безобразов П. В. Очерки византийской культуры. Петроград, 1919. С. 61.
20
Bury J. B. A history of the Eastern Roman Empire. (802–867). London, 1912. P. 207.
21
Противоречие в определении, логическая нелепость, бессмыслица (лат.).
22
Энотикон (форма единения, греч.) — название указа императора Зенона (482 год), установившего, что единственным Символом веры должно признавать Никео–Цареградский.
Типос (образец веры, греч.) — название указа императора Константина II (648 год).
Экфесис (изложение веры, греч.) — название указа императора Ираклия (639 год).
23
Здесь: принадлежность (нем.).
24
Здесь: «правило» веры (лат.).
25
Страшилище, пугало (фр.).
26
Здесь: верховной власти (лат.).
27
Разумное основание, смысл (фр.).
28
Una Sancta (лат.) — Единая Святая. — Ред.
29
Ad malem partem (лат.) — в дурном смысле. — Ред.
30
Ex traditione (лат.) — исходя из традиции. — Ред.
31
In solidum (лат.) — совместно. — Ред.
32
Jus (лат.) — право, закон. — Ред.
33
Sacerdotium (лат.) — священство. — Ред.
34
Statu quo, им. п. ед. ч. status quo (лат.) — реальное положение дел. — Ред.
35
Фанарские семьи, или фанариоты — греческая денежная аристократия, живущая в стамбульском районе Фанар, близ Патриархата, в XVII–XIX вв. непосредственно влиявшая на избрание Патриарха; затем — собирательное обозначение кругов, близких Патриарху и наконец — стамбульских христиан–греков. — Ред.
36
Sui generis (лат.) — своего рода. — Ред.
37
Ipso facto (лат.) — зд. тем самым. — Ред.
38
Terminus ad quem (лат) — предельный рубеж — Ред.
39
Nota Ecclesiae (лат.) — признак Церкви, ее отличительная особенность. — Ред.
40
Jure divino (лат.) — по Божественному праву. — Ред.
41
Оригинал опубликован в St. Vladimir's Theological Quarterly 13, 1969, стр. 212 — 217.
42
Этот ответ господину В. Жардин Грисбруку появился в том же выпуске St. Vladimir's Theological Quarterly 13, 1969, стр. 217 — 224.
43
сим побеждай.
44
в пути, т. е. Церковью «воинствующей»
45
в отечестве, т. е. как Церковь «торжествующая»
46
букв.: способным к Богу; выражение бл. Августина
47
Кардинал Джон Генри Ньюман (1801–1890) — английский религиозный деятель, один из выдающихся религиозных мыслителей и литераторов Х1Х века. 22 января 1991 г. папа Иоанн Павел Il назвал его «преподобным». — Примеч. перев.
48
См.: Рим. 11:4–5. — Примеч. перев.
49
Theology and Eucharist// St. Vladimir's Theological Quarterly. Vol. 5 (1961). № 4. Р. 22 — Примеч. автора.
50
«в нюже предаяшеся, паче же Сам Себе предаяше за мирский живот (за жизнь мира) — евхаристическая молитва на литургии св. Иоанна Златоуста.
51
«Еще приносим Та словесную сию службу о иже в вере почивших, праотцех, отцех, патриарсех, пророцех, апосто–лех, проповедницех, евангелистех, мученицех, исповедни–цех, воздержницех и о всяком дусе праведнем, в вере скончавшемся» — из тайной молитвы на литургии св. Иоанна Златоустого.
52
Timothy Ware, Eustratios Argenti, A Study of the Greek Church under Turkish Rule (Oxford: Clarendon Press, 1964), pp. 7f.
53
G. P. Fedotov, The Russian Religious Mind, Vol. I. Kievan Christianity (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1946).
54
N. Zernov, The Russian Religious Renaissance of the Twentieth Century (New York: 1963).
55
О положении Русской церкви после 1917 см. N. Struve, Christians in contemporary Russia (London: Harvill Press, 1967), и William C. Fletcher, A Study in Survival (N. Y.: 1965). Также Religion in USSR, publ. by the Institute for the Study of the USSR (Munich: 1960).
56
О Свято–Сергиевском институт, его истории и значении, см. D. A. Lowrie, St. Sergius in Paris (N. Y.: 1952), полная библиография его публикаций в.: List of the Writings of Professors of the Russian Theological Institute in Paris, Vol. I (1925–1932), Vol. II (1932–1936), Vol. III (1936–1947), Vol. IV (после 1947), edited by L. A. Zander.
57
A. Schmemann, «The Revival of Theological Studies in the USSR " in Religion in the USSR (Munich: 1960), pp. 29–43. В течение десятилетия 1960–70 хорошие обзоры и библиографии были в Irйnikon, бенедектинском обзоре, издаваемом в Chevetogne, Belgium, в ISTINA, издаваемом доминиканским
58
См. N. Struve, «Five Years of Religious Persecution in Russia ," St. Vladimir's Seminary Quarterly, VIII, 4 (1964), p. 221.
59
А.В. Карташев, Ветхозаветная библейская критика, (Paris: YMCA Press, 1947), p. 10.
60
См. соответствующие главы Георгия Флоровского «The Lost Scriptural Mind» и «Revelation and Interpretation» в Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View, Collected Works of Georges Florovsky, Vol. I (Belmont, Mass.: Nordland, 1972).
61
А.В. Карташев. op. cit.
62
Н. Глубоковский, Св. Апостол Лука, (София: 1932), и Евангелия и Апостольские постановления, (София: 1935).
63
Besobrasov, La Pentecôte Johannique (Jo. XX, 19–23), (Valence–sur–Rhône: 1939); «Принципы православного изучения св. Писания», Путь, 13, 1928, сс. 3–18; «Евангелисты как историки», Православная мысль, 1, 1928; «Церковное предание. Новозаветная наука», Живое предание, (Paris: 1936), pp. 153–170. Полную библиографию см. в: List of Writings, Vol. I–IV.
64
А. Князев, «О богодухновенности Писания», Православна мысль, 8, 1951, сс. 113–128; см. библиографию в List of Writings, IV, pp. 97sq.
65
Г. Флоровский, quoted in discussion following «The lesson of history on the controversy concerning the nature of Christ," by Archbishop Tiran Nersoyan, The Greek Orthodox Theological Review, X, 2 (1964–65), p. 132.
66
Г. Флоровский. Пути русского богословия, (Париж: 1937), p. 509.
67
Об уникальном месте Вл. Соловьева в русской философии, см. В.Зеньковский, История русской философии, том II (Нью–Йорк: 1953).
68
О П. Флорнском см. Зеньковский, op. cit., т. II.
69
Агнец Божий, (Париж: 1933).
70
Утешитель, (Париж: 1936).
71
Невеста Агнца, (Париж: 1945).
72
Купина Неопалимая, (Париж: 1927).
73
Лествица Иакова, (Париж: 1929), и Друг Жениха о Св. Иоанне Крестителе (Париж: 1929).
74
Икона и иконопочитание, (Париж: 1931).
75
«Евхаристический догмат», Путь, 20–21, 1930.
Полную библиографию работ Булгакова см. Л.А. Зандер, Бог Mir. . Философия и богословие о. Сергия Булгакова), 2 издание (Париж: 1948). Введение в софиологию на английском яз., см. в: S. Bulgakov, The Wisdom of God — A Brief Summary of Sophiology (New York: 1937).
76
О Зандере, см. информацию в Ecumenical Theology, infra.
77
В.В. Зеньковский, профессор философии и апологетики Свято–Сергиевского института (+ 1963) писал главным образом в области философии. См., однако, его богословские эссе: «Об образеБожием в человеке», Прав. мысль, 2, 1930; " Проблема Космоса в Христианстве ", Живое предание, (Париж: 1936); Das Bild von Menschen in der Ostkirche (Stuttgart: 1951).
78
Б.П. Вышеславцев, профессор нравственного богословия Свято–Сергиевского института (+ 1954), прежде профессор Московского Университета. С богословской точки зрения важно следующее: Этика преображенногоа эроса, (Париж: 1931); Das Ebenbild Gottes im Wesen des Menschen» in Kirche, Staat und Mensch (Geneva: 1937); «Миф первородного греха», Путь, 34, 1932. См. информацию Christian Social Ethics, infra.
79
Бердяев, наиболее известный русский мыслитель на Западе всегда возражал против его идентификации с официальным православным богословием. Его философия, однако, близко связана с главными темами русской богословской мысли. См. B. Зеньковский, История русской философии, том II.
80
О месте о. Флоровского в современном русском богословии, см. G. H. Williams: «G. V. Florovsky: His American Career," The Greek Orthodox Theological Review, XI, 1 (1965), pp. 7–107; также Y. N. Lelouvier, Perspectives Russes Sur L'Eglise. Un Théologien Contemporain: Georges Florovsky (Paris: Editions Du Centurion, 1968).
81
«Тварь и тварность», Прав. мысль, 1, 1928.
82
«О смерти крестной», Прав. мысль, 2, 1930; «The Lamb of God," Scottish Journal of Theology, IV, 1951, pp. 13–28.
83
«The Work of the Holy Spirit in Revelation," The Christian East, XIII, 2 (1932). См. также «Богословские отрывки», Путь, 31, 1931.
84
«The Resurrection of Life," Bulletin of the Harvard University Divinity School , XLIX, 8 (1952), pp. 5–26.
85
The Mystical Theology of the Eastern Church ( London : 1957).
86
The Vision of God ( London : 1963). См. также его монуменальную докторскую диссертацию: Théologie négative et Connaissance de Dieu ches Maître Eckhart ( Paris , 1960). О Лосском, см. «Memorial Vladimir Lossky," Le Messager du Patriarche Russe en Europe Occidentale, 30–31 (1959).
87
Бог и человек, (N. Y.: 1953); см. также «Procession of the Holy Spirit According to the Orthodox Doctrine of the Holy Trinity," St. Vladimir's Seminary Quarterly, Fall, 1953, pp. 12–26; «Some Theological Reflections on Chalcedon ," St. Vladimir's Seminary Quarterly, Winter, 1958, pp. 2–12
88
См. P. Stanislas Jaki, Les tendances nouvelles de l'ecclesiologie ( Rome : 1957); R. Slenczka, Ostkirche und Okumene (Die Einheit der Kirche als dogmatische Problem en der neuern ostkirchlichen Theologie), ( Gottingen : 1962). Also, A. Gratieux, A. S. Khomiakov et le mouvement slavophile, 2 Vols., ( Paris : 1939).
89
Наиболее важные работы Афанасьева: «Каноны и каноническое сознание», Путь, 1933; " Две идеи вселенской церкви», Путь, 45, 1934; " Неизменное и временное в церковных канонах», Живое предание, (Париж: 1936); Трапеза Господня, (Париж: 1952); Служение мирян в Церкви, (Париж: 1955), Церковь Святого Духа, (Париж: 1972).
90
См. особенно, «The Catholicity of the Church," The Church of God, An Anglo–Russian Symposium (London: 1934); «The Limits of the Church," Church Quarterly Review, 97, 1933; «The Sacrament of Pentecost» (A Russian View on Apostolic Succession), The Journal of the Fellowship of St. Alban and St. Sergius, 1934; «The Ethos of the Orthodox Church," Orthodoxy, A Faith and Order Dialogue, Faith and Order Papers, No. 30 (Geneva: World Council of Churches, 1960); «The Church: Her Nature and Task," The Universal Church in God's Design, Vol. I ( London : 1948), pp. 42–58; «Le Corps du Christ Vivant: une interprétation orthodoxe de I'Eglise," La Sainte Eglise Universelle (Neuchâtel–Paris: 1948); «Scripture and Tradition," Dialog, II, 1963, pp. 288–293; «The Function of Tradition in the Ancient Church ," The Greek Orthodox Theological Review, IX (1963), pp. 181–200. См. также Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View, Collected Works of George Florovsky, Vol. I (Belmont, Mass.: Nordland, 1972).
91
The Primacy of Peter in the Orthodox Church с эссе Иоанна Мейендорфа («St. Peter in Byzantine Theology»), Александра Шмемана («The Idea of Primacy in Orthodox Ecclesiology»), Н.Афанасьева («The Church Which Presides in Love»), и Н. Куломзина («Peter's Place in the Early Church»), (London: 1963).
92
Toward An American Orthodox Church: The Establishment of an Autocephalous Orthodox Church, (New York: 1963). Экклезиологические статьи, вызванные юридическими и каноническими спорами в пределах русской диаспоры очень многочисленны и рассеяны в различных епархиальных изданиях. Они требовали бы специального изучения. Общие вопросы также рассмотрены в: «Perspectives Ecclesiologiques» В. Лосского и О. Клемана, Contacts, Revue Française de l'Orthodoxie, 42, 1963; А. Шмеман: «Theology and Eucharist," St. Vladimir's Seminary Quarterly, V, 4 (1961); «Towards a Theology of Councils," ibid. VI, 4. (1962); и в важном собрании эссе И. Мейендорфа Orthodoxy and Catholicity (New York: 1966).
93
Цитируется у Киприана Керна, Les Traductions Russes des Textes Patristiques (Chevetogne: Guide Bibliographique. Editions de Chevetogne, 1957), p. 11.
94
К. Керн, op. cit., дает полную историю и полный список патристических переводов в России.
95
Восточные Отцы IV–V века, (Париж: 1931).
96
Византийские Отцы V–VIII века, (Париж: 1933). См. также «Patristics and Theology," in Procès–verbaux du Premier Congrés de Théologie Orthodoxe à Athènes (Athens: 1939), pp. 238–242; «Origen, Eusebius and the Iconoclastic Controversy," Church History, XIX, 2 (1950), pp. 77–96; «Patristic Theology of the Church," The Greek Orthodox Theological Review, II, 1 (1956), pp. 121–123.
97
«The Ascetic and Theological Teaching of Gregory Palamas," The Eastern Churches Quarterly, 4, 1938.
98
Антропология Св. Григория Паламы (Париж: 1950).
99
Более современные достижения в исследовании Паламы, см. Grégoire Palamas, Défense des Saints Hésychastes, Introduction, texte critique, traduction et notes par J. Meyendorff, Spicilegium Sacrum Lovaniense, 30–31 (1959); J. Meyendorff, A Study of Gregory Palamas ( London : 1964), and St. Grégoire Palamas et la Mystique Orthodoxe ( Paris : 1959).
100
Наиболее важными являются: Л.П. Карсавин. Святые Отцы и Учители Церкви, (Париж: 1925); Myrra Lot–Borodine, Un Maître de la Spiritualité Byzantine au XIV–e siècle: Nicolas Cabasilas (Paris: 1958); «La Mystagogie de St. Maxime Ia Confesseur," Irenikon (1936), pp. 466sq; V. Lossky: «Darkness and Light in the Knowledge of God," Eastern Churches Quarterly, VIII (1950), pp. 460–471, «Le probleme de la vision 'face à face' et la tradition patristique de Byzance," Studia Patristica, II (Berlin: 1957), «La notion des Analogies chez Denys," Archives Doctrinales du Moyen Age (1930); В.Д. Сарычев, «Святоотеческое учение о Богопознании»", Богословские труды, 3. Изд. Московского патриархата М., 1964.
101
См. особенно Sources chrétiennes, 96 (1963), где приведена дополнительная библиография. . Архиепископ Василий Кривошеин часто пишет по различным богословским темам в Вестнике русского Патриаршего экзархата во Франции.
102
Igor Smolitsch: Leben und Lehre der Starzen ( Vienna : 1936); Das alt Russische Mönchtum ( Wurzburg : 1940); Russisches Mönchtum ( Wurzburg : 1953).
103
Сергий Четвериков: Оптина пустынь, (Париж: 1926); Паисий Величковский (Печеры, Эстония: 1938).
104
Николай Арсеньев: Жажда подлинного бытия, (Берлин: 1922); Mysticism and Eastern Church (London: 1927); Из жизни духа, (Варшава: 1935); Преображение мира и жизни, (Нью–Йорк: 1959); Revelation of Life Eternal, (New York: 1963); Russian Piety (London: 1965). Полная библиография работ профессора Арсеньева была издана Свято–Владимирской семинарией в 1965.
105
Nadejda Gorodetzkaya: The Humiliated Christ in Russian Literature (London: 1938); St. Tikhon Zadonsky, Inspirer of Dostoyevsky (London: 1951).
106
См., например, исследование М. Курдюмова: В. Розанов (Париж: 1929), (по–русски), и Сердце смятенное (о Чехове), (Париж: 1934); L. Zander, Dostoyevsky (London: 1948); P. Evdokimov, Gogol et Dostoyevsky (Paris: 1961).
107
Его многочисленные письма теперь собираются. Появились два тома: я. I. Листья Древа, (Сан–Франциско: 1964); II. Книга Свидетельств, (Сан–Франциско: 1965).
108
Дневники и записи о. Александра Ельчанинова (+ в Париже в 1934): Записи, (Paris: 1935), английский перевод, The Diary of a Russian Priest (London: 1967).
109
П. Иванов, Смирение во Христе, (Paris: 1925).
110
Archimandrite Sofrony, The Undistorted Image, Staretz Silouan ( London : 1958). См. также Александр Семенов — Тян–Шанский, Отец Иоанн Кронштадтский, (N. Y.: 1955). Archbishop Antony Bloom: Living Prayer (Springfield, Ill.: Templegate, 1966); Meditations (Denville, N. J.: Dimension Books, 1971); God and Man (London: Danton, Longman and Todd, 1971).
111
Киприан Керн, Евхаристия, (Париж: 1947).
112
Б. Сове, «Евхаристия в древней церкви и современная практика», Живое предание, (Париж: 1936), pp. 171–195; Н. Арсеньев, Таинство Евхаристии, (Париж: б.д.).
113
Киприан Керн, Крины молитвенные — Эссе о суточном круге), (Белград: 1928); В.Н. Ильин. Всенощное бдение.
114
В.Н. Ильин. Запечатленный гроб — Объяснение Страстной недели и Пасхи); A. Schmemann, Sacraments and Orthodoxy (New York: 1965). См. ряд интересных литургических статей в Журнале Московской патриархии: Епископ Исидор, «Рождество Девы» 5, 1947; Д. Боголюбов, «Богоявление», 1, 1952; «Сретение», 2, 1953; В. Никонов, «Пост», 2, 1953; А. Ястребов, «Преображение», 8, 1953; С. Савинский, «Пасха», 4, 1953; Н. Попов, «Введение во Храму, " 11, 1953. На более популярном уровне — эссе Valentina Zander: La Fête de I'Epiphanie (Troyes: 1947); La Pentecôte (Troyes: 1948); La Fête de Noël (Troyes: 1949).
115
В.Н. Ильин, «Основные проблемы символизма Креста Господня» Прав. мысль, 1, 1928; Ф. Спасский, «Святое предание в богослужебных книгах», Богословская Мысль, (Париж: 1942); Русское литургическое творчество, (Париж: 1951); A. Schmemann, Introduction to Liturgical Theology, (London: 1966); A. Kniazev: «La Lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament dans le Rite Byzantin," La Prière des Heures, Lex Orandi 35 (Paris: 1963), «La Place de Marie dans la piété orthodoxe," Mariologie et Ecumenisme, Bulletin de la Société Française d'Etudes Mariales (Paris: 1962), «La Theotokos dans les offices byzantins du temps pascal," Irénikon, 1, 1961; Mariologie Biblique et liturgie byzantine (Chevetogne: 1955); P. L'Huillier, «Théologie de l'Epiclèse," Verbum Caro, 56, 1960.
116
Святой Филипп Метрополит Московский, (Париж: 1928); " Св. Женевьева и Симеон Столпник», Путь, 8, 1927; «Св. Мартин Турский — подвижник аскезы», Прав. мысль, 1, 1928; «Житие и терпение св. Авраамия Смоленского», Прав. мысль, 2, 1930; Святые Древней Руси, (Париж: 1921).
117
«Трагедия древне–русской святости», Путь, 27, 1931; Стихи духовные, (Париж: 1935); «Мать Земля», Путь, 46, 1935, (по–немецки, Orient und Occident, 3, 1936).
118
The Russian Religious Mind, Vol. I, Kievan Christianity (Cambridge, Mass.: 1946); Vol. II, The Middle Ages (Cambridge: 1966). See also A Treasury of Russian Spirituality (New York: 1950).
119
Наиболее важные работы: В.Н. Ильин. Св. Серафим Саровский, (Париж: 1925); Н.А. Клепинин, Св. князь Александр Невский, (Париж: 1927); N. M. Zernov, St. Sergius, Builder of Russia (London: 1939).
120
См., например Г. Звенигородский, «Русские святые» 11, 1953; В. Ганецкий, " Св. Димитрий Ростовский» 6, 1953; Н. Волнянский, «Св. Серафим» 8, 1953.
121
А. Карташев. Очерки по истории русской Церкви, 2 тома (Париж: 1959), и Вселенские Соборы, (Париж: 1963).
122
Igor Smolitsch, Geschichte der Russischen Kirche 1700–1917, Т. 1, (Лейден: 1964).
123
Г.В. Флоровский, Пути русского богословия, (Париж: 1938).
124
В.В. Зеньковский, История русской философии, английский перевод Kline, 2 тт. (N. Y.: 1953).
125
N. М. Zernov, The Russian Religious Renaissance of the Twentieth Century, (N. Y.: 1963); см. также: Moscow the Third Rome ( London : 1937); The Russians and Their Church ( London : 1945).
126
О русских миссиях, см. G. Florovsky, «Russian Missions: A Historical Sketch," The Church Overseas, 6, 1933; S. N. Bolshakov, The Foreign Missions of the Russian Orthodox Church ( London : 1943). Общее историческое введение в православие: A. Schmemann, The Historical Road of Eastern Orthodoxy (New York: 1963); J. Meyendorff, The Orthodox Church, Its Past and Its Role in the World Today (New York: 1962). On the Church in Soviet Russia: N. S. Timashev, Religion in Soviet Russia, 1917–1942 (New York: 1942); А.А. Боголепов, Церковь под властью коммунизма (Munich: Institute for the Study of the USSR, 1958); . И.М. Андреев. Краткий обзор истории русской церкви от революции до наших дней, (Jordanville, N. Y.: Holy Trinity Monastery, 1952); N. A. Struve, Les Chrétiens en USSR (Paris: 1963).
127
О Хомякове, в этом отношении, см. P. K. Christoff, An Introduction to Nineteenth Century Russian Slavophilism, Vol. I, A. S. Xomjakov (S. Gravenhage: 1961). О Соловьеве, см. К.В. Мочульский. Владимир Соловьев (Париж: 1936). О Федорове см. A. Schmemann, Ultimate Questions, An Anthology of Russian Religious Thought (New York: 1964), pp. 173sq.).
128
См. N. Zernov, The Russian Religious Renaissance, pp. 111 sq.
129
Его наиболее важные книги в этой области — The Destiny of Man (London: 1937) и Freedom and the Spirit (London: 1935). См. O. F. Clarke, Introduction to Berdyaev ( London : 1950), и Зеньковский, История. Т. II.
130
Б.П. Вышеславцев. Этика преображенного эроса, (Париж: 1931).
131
См. С.В. Троицкий, Философия христианского брака, (Париж: 1933); P. Evdokimov: Le Mariage, Sacrement de I'Amour (Lyon: 1944); La Femme et le Salut du Monde (Tournai–Paris: 1958); Sacrement de l'Amour (Paris: 1962).
132
Только несколько наиболее важных работ можно здесь упомянуть: N. A. Berdyaev, NThe Origin of Russian Communism (London: 1937); Н.В. Спекторский, Христианство и культура, (Prague: 1925); С.Л. Франк. Духовные основы общества, (Paris: 1930); Н.Н. Алексеев, Религия, право и нравственность, (Paris: 1930); В.В. Зеньковский, Наша эпоха (Paris: 1955); И.А. Ильин. Основа христианской культуры, (Geneva: 1937); F. A. Stepun, The Russian Soul and Revolution (London: 1936); Г.П. Федотов, Христианин в революции, (Paris: 1957); С.С. Верховский, ред. Православие в жизни, (New York: 1953).
133
См. V. Weidle, The Dilemma of Arts (London: 1948); Н.К. Метнер, Муза и мода, (Париж: 1935).
134
G. Florovsky, «Orthodox Ecumenicism in the 19th Century," St. Vladimir's Seminary Quarterly, IV, 3–4 (1956). Это расширенная глава из: A History of The Ecumenical Movement, ed. by R. Rouse and S. C. Neill (London–New York: 1954), pp. 169–215.
135
N. Zernov , «The Eastern Churches and the Ecumenical Movement in the 20th Century," A History of the Ecumenical Movement, pp. 667sq.
136
S. Bulgakov: «By Jacob's Well» (On the Actual Unity of the Divided Church in Faith, Prayer and Sacraments), Journal of the Fellowship of St. Alban and St. Sergius, 22, 1933; «Ways to Church Reunion ," Sobornost, 2, 1935; «Spiritual Intercommunion," Sobornost, 4, 1935.
137
L. Zander: Vision and Action ( London : 1952); «Let us in unity praise the All–Holy Spirit," Student World, 2, 1937, pp. 157–168; «What is Unity," Student World, 2, 1939, pp. 153–164; «Mouvement Ecuménique," Irénikon, 6, 1937, pp. 1–53.
138
N. Zernov, The Reintegration of the Church ( London : 1952); Orthodox Encounter (The Christian East and the Ecumenical Movement), ( London : 1961).
139
P. N. Evdokimov, «Notes preliminaires pour une théologie oecuménique," Foi et Vie, 6, ( Paris : 1947), pp. 541–570, and L'Orthodoxie (Neuchâtel–Paris: 1959), pp. 334sq.
140
Florovsky: «Une Vue sur l'Assemblée d'Amsterdam," Irénikon, XXII, 1 (1949); «The Orthodox Church and the WCC," St. Vladimir's Seminary Quarterly, II, 4 (1954); «The Challenge of Disunity," ibid., III, 1–2 (1955), pp. 31–36; «Obedience and Witness," The Sufficiency of God: Essays in Honor of W. A. Visser 't Hooft, ed. R. C. Mackie and Charles C. West (London: 1963); «Confessional Loyalty in the Ecumenical Movement," Student World, 43, 1; «The Eastern Orthodox Church and the Ecumenical Movement," Theology Today, VII, 1 (1950); см. также обзор Флоровским книги Зандера Vision and Action in St. Vladimir 's Seminary Quarterly, I, 2 (1953), pp. 28–34.
141
См. Деяния Совещания глав и представителей автокефальных православных церквей 8–18 июля 1948 года. Т. I-. II. М., 1948. Также: J. Meyendorff, ed., Les Relations Extérieures du Patriarchat de Moscou (1945–51), Notes et Etudes Documentaires, No. 1, 624 ( Paris ).
142
См., например: The Russian Orthodox Church, Organization, Situation, Activity ( Moscow : 1958), и множество докладов на экуменических конференциях и встречах в Журнале Московской патриархии, особенно начиная с Нью–Дели, 1961.
143
См. A. Schmemann, «Moment of Truth for Orthodoxy," Unity in Mid–Career, An Ecumenical Critique, ed., K. R. Bridston and W. D. Wagoner (New York: 1963), pp. 47–56, and "'Unity,' 'Division,' 'Reunion' in the Light of Orthodox Ecclesiology," Theologia, XXII, 2 (Athens: 1951), pp. 242–245.
144
См. Г. Флоровский в Vers l'Unité Chrétienne, 12, 1959, pp. 33–36; глава И. Мейендорфа о Втором Ватиканском соборе в его Orthodoxy and Catholicity (New York: 1966); N. Afanassiev, «Una Sancta," Irénikon, 4, 1963, pp. 436–475.
145
Для В.В. Зеньковского (История русской философии, т. II) Франк — «величайщее достижение, высшая точка в развитии русской филосовии». Биографию, полную библиографию и общую оценку см. в: С.Л. Франк 1877–1950, под ред., В. Зеньковского (особенно эссе Флоровского»Религиозная метафизика С.Л. Франка»), (Munich: 1954).
146
О Н.О. Лоском см. В. Зеньковский, История, Т. II.
147
Бердяев хорошо известен и почитаем на Западе. См. биографию и библиографию в: D. A. Lowrie, Rebellious Prophet, A Life of Nicholas Berdyaev (New York: 1960). Русские обычно более критичны: см. Зеньковский, История, и Флоровский, Пути.
148
В. Зеньковский дал систематическое представление своей философии в: Основы христианской философии. Т. I, (Frankfurt/Main: 1960), и т. II (Христианская космология), (Paris: 1964). О религиозном вдохновении и темах в русской философии см. также Б.П. Вышеславцев. Временное и вечное в русской философии, (New York: 1955).
149
Жизнеспособность даже «официального» богословия может быть замечена по шести томам Богословских трудов, изданных Московской патриархией: Т. I (1959), т. II (1961), т. III (1964), т. IV (1968), т. V (1970), т. VI (1971).
150
См. английский перевод этого письма в St. Vladimir 's Seminary Quarterly, X, 1–2 (1966), pp. 67ff.
151
См. Nikita Struve, Christians in the USSR; см. также Situation des Chrétiens en Union Soviétique, II, Documents, published by Comité d' Information sur Ia situation des Chrétiens en Union Soviétique and distributed by Esprit (Paris: 1965); Studies on the Soviet Union, Institute for the Study of the USSR, Munich, New Series, V, 4 (1966).
152
О православии в Америке см. специальный выпуск St. Vladimir's Seminary Quarterly, «The Orthodox Church in America , Past and Future," V, 1–2 (1961), и также мои статьи о проблемах православия в Америке: «The Canonical Problem," ibid., VIII, 2 (1964), «The Liturgical Problem," ibid.,
153
Замечательный пример этого роста единства — работа Комиссии православного христианского образования, чьи руководства и материалы охватывают фактически всю область религиозного образования.
154
Два богословских периодических издания, издаваемых в Америке, St. Vladimir 's Seminary Quarterly (с 1952) (переименован в St. Vladimir's Theological Quarterly в 1969), и The Greek Orthodox Theological Review (с 1954), никогда не ограничивали себя работами православных богословов никакой определенной национальной группы.
155
среди них, Timothy Ware (Eustratios Angenti, и The Orthodox Church [Baltimore: 1963]), и Olivier Clément (Transfigurer le Temps [Neuchâtel–Paris: 1959]).
156
Так, в сентябре 1966 была проведена первая конференция православных богословов Америки, в результате было основано православное богословского общество Америки — см. мою статью «Задача православного Богословия в Америке сегодня», «St. Vladimir 's Seminary Quarterly, X, 3 (1966). Вторая такая конференция состоялась в Свято–Владимирской семинарии в сентябре 1972. Статьи, которые читали и обсуждали на первой конференции, были изданы в The Greek Theological Review, XVII, 1 (Spring, 1972).. Материалы второй конференции будут изданы в St. Vladimir 's Theological Quarterly, XVII (1973).
157
Altizer Т. Mircea Eliade and the dialectic of the sacred. Philadelphia. Westminster Press, 1963. P. 112.
158
Ibidem. P. 111.
159
Цит. по: Хомяков А. С. Сущность западного христианства. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу брошюры г. Лоранси. [Монреаль] Изд. Братства прел. Иова Почаевского, 1974. С. 30.
160
Цит. по: Хомяков А. С. Сущность западного христианства. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу брошюры г. Лоранси. [Монреаль] Изд. Братства прел. Иова Почаевского, 1974. С. 30.
161
См.: Верховской С. Бог и человек. Нью–Йорк. Изд. Чехова, 1956. С. 367 (текст приводится в обратном переводе с англ.).
162
Ultimate Questions: An Anthology of Modern Russian religious thought / Ed. by A. Schmemann. N. Y., Holt; Rinchart. and Winston, 1985. P. 54 (текст приводится в обратном переводе с англ.).
163
Эти замечания включают в себя отдельные части моего Доклада об Исповеди и Причастии, представленного Священному Синоду Православной Церкви в Америке и одобренного Синодом 17 февраля 1971 года. Доклад вместе с решением Синода был опубликован в Documents of the OCA (Документах ПЦА). (Прим. автора.)
164
Alexander Schmemann, «Problems of Orthodoxy in America: III. The Spiritual Problem». St. Vladimir's Seminary Quarterly, 9:4 (1965).
165
Ibid., pp. 173—174.
166
«Евхаристия как цель христианской жизни». Путь, № 22, Париж, 1930, с. 3—23.
167
См. «Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе». СПб., Синодальное издательство, 1906, Т. I, с. 548, Т. II, с. 562.
168
См. Борис Сове, «Евхаристия в древней Церкви и современная практика». Живое Предание, М., 1997, с. 194—222.
169
Архимандрит Киприан Керн, «Евхаристия». Париж, 1992, с. 304. См. правила: Ант. 2; Апост. 2; Трулл. 80. См. также: Никодим Милаш, Каноны Православной Церкви с толкованиями. Издание ТСЛ, 1996, Т. I, с. 60.
170
См. молитву перед Мvропомазанием: «Сам Владыко, Всецарю благоутробне, даруй тому (т. е. новокрещенному) и печать дара Святого и Всесильного, и Покланяемого Твоего Духа и причащение Святаго Тела и Честныя Крове Христа Твоего».
171
См. например, И. Покровский, «Брачные молитвы и благоСловения Древней Церкви (I—Х вв.)», Сборник статей в память столетия Московской Духовной Академии. Москва, 1913, Т. II, особенно с. 577—592.
172
См. Сове, с. 199.
173
См. Св. Иоанн Златоуст, Беседа на Послание Ефесянам 3:4, P. G. 62, 29; Беседа на 1 Послание Тимофею 5:3, P. G. 62, 529 ff.; Беседа на Послание Евреям 17:4, P. G. 63, 131 ff.; Св. Амвросий Медиоланский, De Sacramentis, T. IV, 25; Сове, с. 178; Киприан, с. 323—324.
174
«Третье собеседование Аввы Феоны о желании добра и делании зла», Гл. 21.
175
Беседа на II Послание Коринфянам 18:3.
176
42, P. G. 150, 460В.
177
«Евхаристия и соборность». Путь, № 19, Париж, 1929, с. 3—23.
178
Молитвы Крещальной Литургии.
179
36, P. G. 150, 449 С.
180
4, 3. См. P. Palmer, «Sacraments and Forgiveness», Sources of Christian Theology (Westminster: Newman Press, 1959), T. 2, c. 13 и далее.
181
См. Palmer, с. 71 и далее.
182
449 В.
183
См. мою статью: «Some Reflections on Confession», St. Vladimir's Seminary Quarterly, 5:3 (1961), c. 38—44.
184
S. Salaville, «Messe et Communion d'apres les Typia monastiques byzantins du X au XIV s.», Orientalia Christiana Periodica, 13: 1—2, c. 282—298.
185
Впервые опубликовано в: D. Costanelos, ed., Orthodox Theology and Diakonia, Festschrift Iakovos, Brookline, MA, Hellenic College Press, 1981, pp. 91–102.
186
См.: R. Taft, The Great Entrance, A History of the Transfer of Gifts and Other Pre–Anaforal Rites of the Liturgy of St John Chrysostom, Orientalia Christiana Analecta 200, Rome, 1975.
187
R. Bornert, Les Commentaries Byzantins de la divine liturgie du VIIe au Xve siecle, Archives de l'Orient Chretien, Paris, 1966.
188
Шмеман А., прот. Введение в литургическое богословие. М., Крутицкое Патриаршее Подворье, 1996. См. также мое эссе «Sacrament and Symbol» в: For the Life of the World, Crestwood, NY, 1973, pp. 135–151 (Рус. пер.: За жизнь мира. New York, RBR, 1983).
189
Bornert, Les Commentaries, p. 162. См. также: N. Borgia, ed. Il Commentario liturgico di S. Germano Patriarca Constantinopolitano e la versione latina de Anastasio Bibliotecario, Studi Liturgici 1, Grottaferrata, 1912.
190
Подробнее см.: J. Mateos, la celebration de la parole dans la liturgie Byzantine, Orientalia Christiana Analecta 191, Rome, 1971. А также: J. Mateos, ed., le Typicon de la Grande Eglise, Orientalia Christiana Analecta 165–166, Rome, 1962–1963.